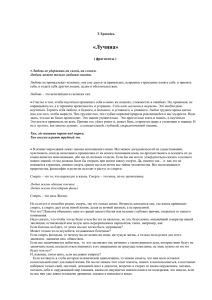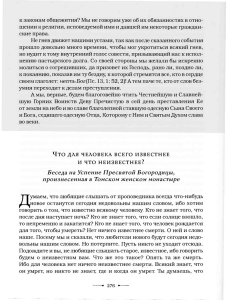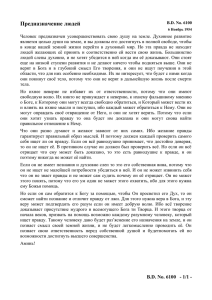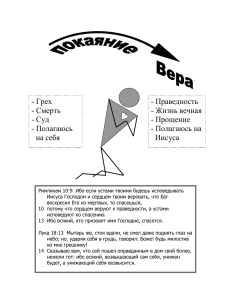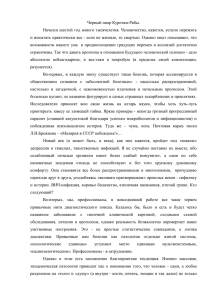- Другое небо
advertisement
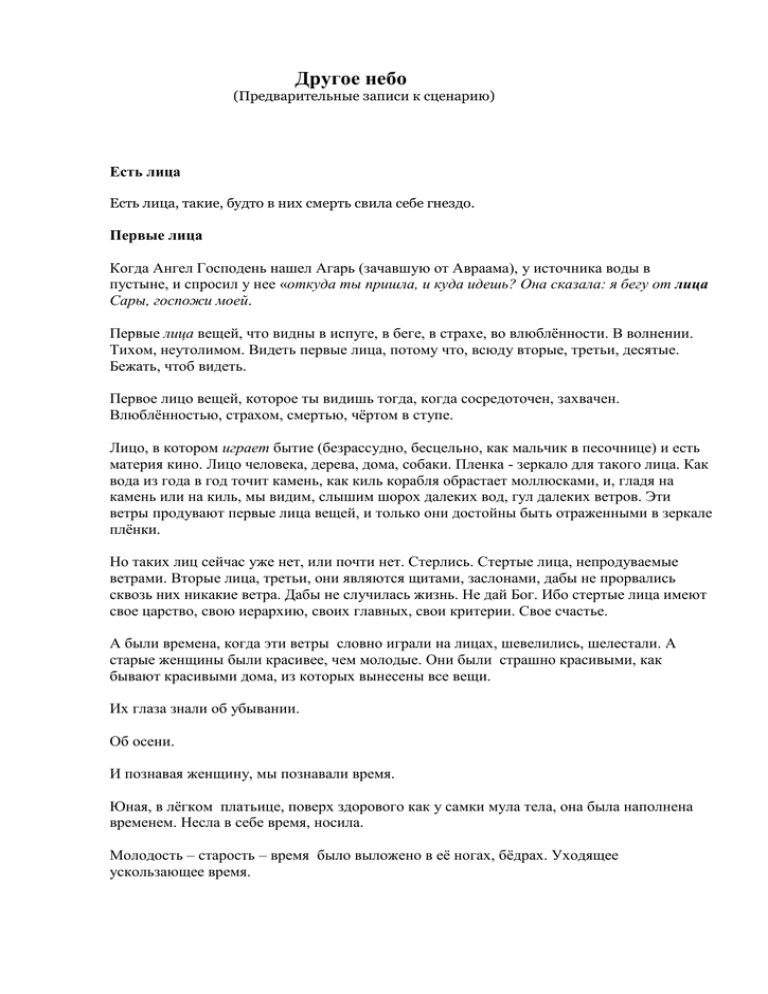
Другое небо (Предварительные записи к сценарию) Есть лица Есть лица, такие, будто в них смерть свила себе гнездо. Первые лица Когда Ангел Господень нашел Агарь (зачавшую от Авраама), у источника воды в пустыне, и спросил у нее «откуда ты пришла, и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Первые лица вещей, что видны в испуге, в беге, в страхе, во влюблённости. В волнении. Тихом, неутолимом. Видеть первые лица, потому что, всюду вторые, третьи, десятые. Бежать, чтоб видеть. Первое лицо вещей, которое ты видишь тогда, когда сосредоточен, захвачен. Влюблённостью, страхом, смертью, чёртом в ступе. Лицо, в котором играет бытие (безрассудно, бесцельно, как мальчик в песочнице) и есть материя кино. Лицо человека, дерева, дома, собаки. Пленка - зеркало для такого лица. Как вода из года в год точит камень, как киль корабля обрастает моллюсками, и, гладя на камень или на киль, мы видим, слышим шорох далеких вод, гул далеких ветров. Эти ветры продувают первые лица вещей, и только они достойны быть отраженными в зеркале плёнки. Но таких лиц сейчас уже нет, или почти нет. Стерлись. Стертые лица, непродуваемые ветрами. Вторые лица, третьи, они являются щитами, заслонами, дабы не прорвались сквозь них никакие ветра. Дабы не случилась жизнь. Не дай Бог. Ибо стертые лица имеют свое царство, свою иерархию, своих главных, свои критерии. Свое счастье. А были времена, когда эти ветры словно играли на лицах, шевелились, шелестали. А старые женщины были красивее, чем молодые. Они были страшно красивыми, как бывают красивыми дома, из которых вынесены все вещи. Их глаза знали об убывании. Об осени. И познавая женщину, мы познавали время. Юная, в лёгком платьице, поверх здорового как у самки мула тела, она была наполнена временем. Несла в себе время, носила. Молодость – старость – время было выложено в её ногах, бёдрах. Уходящее ускользающее время. Золотой век кино застал эти лица и эти бедра. Запечатлел, заметил. И что делать во времена стертых лиц? Вторых, заслоняющих ветры? Ветры бытия Ветры бытия несутся с севера. И тогда ими продуты деревья. Есть скалы продутые ветрами. Есть дома. Ландшафты продутые ветрами. Комнаты. Коридоры. Бутыли, старые мутно зеленого цвета. Тазы, столы, шкафы. Есть лица, продутые этими ветрами. Глаза. Башмаки. Лица. Тела, с их осанкой. Наклонистые, сухие. Или здоровые, как у самок. Что-то продуто этими ветрами. Не все действительно. Есть вещи, лица, тела – непродутые ветрами. И тогда их нет. Их нет в «человеческом» мире. То есть они есть, их много – они только и есть в мире «Безчеловечном». Пустые, обладающие только абрисами и не имеющие плоти. Бесплотные. Деревья. Скалы. Дома. Ландшафты. Лица. Тела. И что это за ветры. Кто их дует. Кто тот, кто выдувает из своих лёгких эти живые ветра. Как стеклодув в стекло, наделяя его поверхность теплом и смирением своих губ. Что это за ветер, который избирательно входит в дома, в деревья, в собак, в лица, наделяя их теплом, неистовством. Внедряясь в скулы, в колени, в бедра. Как стеклодув выбирающий стекло, чтобы отдать ему свой дух, свою жизнь, свою смерть, делая мир прозрачным. И видимым для сумеречных глаз, ибо только они со-гласны северу. И тогда сами вещи, угадав в себе далекие ветра, сознают себя прозрачными, голыми, ни теми, что есть, другими. Как душевнобольная сестра Ришелье воображала, что у неё стеклянная спина. Ибо когда продута ветром, духом, смертью – всегда стеклянная. И в этом душевная болезнь. В стекле. В прозрачности. Стеклянные спины И по прозрачности спин можно распознавать эти ветры. Далёкие. Зачинающиеся кем то, там где зачинается смерть. Стеклянные спины домов. Деревьев. Скал. Стеклянные спины женщин. Мужчин. Продутые, где нет разницы между жизнью и смертью. Смотрящие сумеречными глазами. Смотрящие всегда. Как совы. Глазами сов. Открытыми. Неморгающими. У тех, у кого стеклянные спины, у них же – неморгающие глаза. Стеклянные. Только смотрящие. Изливающие на тебя свою смерть. Дома, квартиры деревья, скалы с неморгающими глазами. Смотрящие своей смертью. И тем живые. Лица, тела, обнимающие теплом своей смерти. Этим особым теплом, которым можно хватать как руками. Брать, подбирать с земли как прирученных птиц. Прирученных смертью. Ибо ничто другое не может приручить птицу, только смерть, зачатая где-то… Жесты огня Андрей Белый говорил, что «жесты огня повторяют себя в лепестках цветов». Лицо Пришедший за тридевять земель, чтобы найти жену, он увидел лицо. За тридевять земель всегда одно лицо – лицо смерти. Вопрос сном сморенной женщины Сном сморило женщину, и тогда спросила она у говорящего – отчего тот говорит? И заспорили глаза говорящего с его сердцем. И наполнились его глаза отчаянием, а сердце надеждой. И тогда он сказал, что мечтает выронить слово, такое чтобы проникло в нее как вирус. Чтобы продолжило жить в ее крови, в сосудах, в сухожилиях, разлагало бы её и уничтожало, вне ее ведома, как неведомый, неназначенный паразит. Чтобы погрузило ее в беспредметные страхи и судороги. И тогда, в миг, когда оно (это слово) съест ее, когда изничтожит ее коллективную суть, тогда эта женщина, явится на свет в своем изумительном свечении, недоступном человеческому взору, словно вещая птица Анка. И тогда, подобная райской птице, прозрачная и видимая только для сумеречных глаз, она откроет свою неблагосклонную суть, и будет так прекрасна, как первая луна, и косы ее и щеки, горящие неведомым светом словно факелы, будут терзать сердца благородных мужей, и солнце в небе плененное ее единичностью будет вторить каждому ее движению, мельчайшему, ибо в этих движениях в ней будет подниматься земля, несущая за собой вечную непреходящую женственность. Рыба Рыба – существо, чью суть должен содержать наш герой. Неясная, темная. Два глаза, но нет в них опознавательного, животного. Не животное, но рыбье. Уводящее в миф. Чтобы не зацепиться за знакомое. Рыбье, ибо нет в ней ничего человеческого. Только фасад. Два глаза. Рот. Дыхание. Не опознаются мотивы, на уровне идентичности, как может случится с животным. Человек, без опознаваемого человеческого. Рыбьи человек. Гнев Али все время ходит. Будто ходьба должна привести его к цели. И даже тогда, когда он сидит, он все равно ходит; кажется, сейчас он сорвется с места и быстро пойдет. Он словно встает на стражу эфемерного бытия своей жены. Пока он ходит (ищет), она есть. Али – он закрыт и суров. Все время находится во внутреннем гневе, тихом невидимом, и тем больше неутолимом. Он ищет. Всегда ищет. Он только ищет и ждет. Ничего иного не происходит в его жизни. У Алистера Кроули: «Смерть погоняет верблюда посвящения». Иов Иов находится под наблюдением. За ним глаз. Он жертва чудовищного (божественного) эксперимента. Бог и сатана смотрят на Иова. Это смотрение – оно есть материя искусства. Приближаться к феноменам (уходя от психологии) чтобы ворожить глаза. Те глаза - что снаружи. Добиться того состояния, когда смотрят. По сцене передвигается герой, а из-за кулис глаз. Это присутствие кулис самое важное для искусства. Только оно должно обусловливать реализм произведения. Другое, лакейский реализм проявленный без остатка. Проданный. Из этого мира. Коррумпированный. Ибо все коррумпировано, что из этого мира. События Иова стенографичны. Ибо важны не события. Важен глаз. Что снаружи. И вот посланы Иову тысячи бед. «И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его». Он подобно пешке передвигается по какой-то неведомой доске. Будто путем его передвижении должны быть познаны, какие-то истины. Он ничто. Его позы, его действия, жесты – иероглифы, для зрения (узрения) чего-то другого. Любовь Что ведет нашего героя? Что обрекает его на столь длинные и безнадежные поиски? Любовь. Она такова, какова есть. В его суровых скулах она невидима. Она не проступает даже в его черных, как уголь глазах. Но она есть. Она ведет его, несет. Нежная, как сердце ребенка, она открывает для него тайну своего страшного несоответствия. «Любовь» не соответствует жизни – эта старая Дантова тайна делает его знающим. Письмо Путешествие нашего героя это своего рода письмо, каллиграфия. Он передвигается в исключающем его мире. Он должен сделать какой-то набор движении, чтобы придти к концу. К исключению. Уже в начале картины лежит ее завершение. Неотвратимое. Она уже есть – «картина». Картина смерти, ибо нет на свете других картин. Только эта. И вот она дана, как проблеск. Как молния. Как бутон цветка, который будет цвести. Цветка? Какого? Это необычный цветок. Его вид – проблеск. Мгновенное непостижимое мерцание. Конец в начале. Дальше этот конец (всегда один) развертывается. Раскручивается как клубок вязальной нити. И вот клубок пошел. Сцены дублируют друг друга. Повторяют. Словно вторят какому-то глубоко запрятанному мотиву. Одно и то же. Одни и те же знаки. Там и тут. Герой во власти этих знаков. В плену. Нет никакой возможности вырваться, ускользнуть. Ибо тот, кто расставил столбцы, он страшнее судьбы. Он положил эти знаки (знаки смерти) в определенном порядке, расставил. Клубок раскручивается. Герой своим телом, своей мимикой, жестикуляцией попадает во власть этих иероглифов. Он читает. Он чтец. Скорее ни он. Кто-то читает посредством его тела. Читает текст. Единственный текст. Он должен быть дочитан. Клубок должен быть раскручен. Сцены наскакивают друг на друга. Одно и то же. Один и тот же мотив. Когда же это кончится? Клубок застревает. Он должен быть распутан. Должна быть распутана первая «картина». Что она значила. Что значили глаза, рот, руки? Движение, непрекращаемое движение в сторону распутывания. Передвижение, чтобы видеть. Путешествие закончено. Закончена его пристрастная одиссея. Путь пройден. Клубок судьбы распутан. Наш герой снова возвращается к поверхности земли. Но уже под ним лежит другая земля и над ним другое небо. Он ищет что-то, то, что названо «женой». Женой? А могла ли быть у него жена? Он ищет не жену, он ищет нечто, как будто в этом «нечто» кроется непостижимый максимум человеческих желании. Али нужно совершить путешествие (это страшное паломничество) чтобы выжить, и, в конце концов, он теряет то, чего у него и не было – жизнь. Он оказывается во власти тавтологии. Историк Делая картину, излагать события, будто ты историк, интересуясь фактами и последствиями. Это важно; не литератор, не художник, а историк. Нигде не давать характеристик. Не пользоваться «прилагательными». Герой должен быть окаймлен теменью. О долине удивления По свидетельству Аттара, так сказал он Хазрату Хусейну Бен Юсуфу: «Не отвлекай меня беседой, потому что я нахожусь сейчас в Долине Удивления». Сказав так, он умер. Короткая мера Всякая речь и всякое искусство сегодня превращено в «дело». А дело не знает удивления. В нём течет другое время – время производства и успеха. Это «время» лавочников и профессионалов. Они не знают тоски и уныния. Знают только свою короткую жизнь, и пытаются соразмерить все происшествия с этой мерой. И когда где-то рядом, ни дай Бог, случаются смерть или любовь, они тут же умаляют её, вовлекая эти события в свою «короткую» жизнь и в свою «короткую» меру. Всё для них привычно, ибо все в кругу жизни, и ничего нет вне «круга». Но чтобы узнать любовь и смерть, нужно уйти в эту долину. И не смотреть назад. Но для верных сынов своего времени, для них, всё – в порядке вещей. Они пристрастно верят в установленный человеческой мерой этот незыблемый порядок. И всякое удивление идущее из других, чужих, неведомых миров может только разрушить этот короткий порядок, где произрастают их малое счастье и их малая жизнь. Не зная текучести и скорби они вытаскивают из происшествия его сердце, словно выдергивают из жемчужного ожерелья нить. Их смерти и их любови скудны и бездольны. Но только ими полнится их короткий и расчетливый мир. Но это их мир – как хотят, так и строят. Хозяева в своём доме, раскладывают всё «по своим местам». Это знание, «знание жизни» доводит их до полного остывания мыслей и чувств, и, наконец, их души доходят до такой степени несостоятельности, которая дает им возможность занимать места в системе таких же, как они прохвостов. Как вьющееся растение обхватывает своим телом ствол дуба, и душит его своей маленькой растительностью, так они обхватили все живые тела и забрали из них все соки. Умалив, дав им место внутри своего предустановленного порядка. Смерть Кощея Кино, подобное работе археолога. Исследование слоев, погружающее вглубь материи, варварской, первобытной, языческой, не тронутой культурой и психологией. Как в археологии, каждый предыдущий слой должен являться уликой для распознания последующего. Так, чтобы добраться до смерти Кощея, надо проникнуть в сундук, который на дереве, достать из него зайца, извлечь из зайца утку, затем из утки яйцо, из яйца иголку, и только тут в игле заключена смерть Кощея. Картина Шилле «Eduard Kosmark». Список Повествование должно иметь строгий стиль. Канцелярский. И только временами перемежевываться чисто документальными сценами, отличающимися длиннотами Канцелярский (картографический) стиль изложения. Фильм похожий на список. Косная речь Косная речь, а не прямая. Есть вещи, которые не даются прямому зрению, а только боковому. Обман Невидимый рисунок, который как зеркало вбирал бы в себя информацию. Конкретный, а не символичный, не метафоричный (символ и метафора начисто уничтожают все живое, делая его умопостигаемым, трактуемым). Нужно облекать его в реальные формы, чтобы было похоже на действительность. Это не реалистическое кино. Реалистичность это фасад, обман, чтобы впитать, вобрать в себя нечто иное, что не связано с реальностью. Узелки Не нужно завязывать все узелки. Повествование, когда первый узелок завязывается, и, натянув веревку, тут же развязывает восьмой. Идешь завязывать восьмой, развязывается третий, завязываешь третий, развязывается шестнадцатый, и так все время. Не успеваешь завязывать. Мастодонты и фарисей завязывают все веревки. Накрепко зажав все узлы, они спят спокойно в самодовольствии и пакости. Дожидание Дожидание. Это если бы мы поставили камеру напротив стола, где лежали бы свежие сочные яблоки, и держали бы ее (камеру) так долго (месяц, два), пока не дождались бы их увядания, гниения, растворения. Яблоки сначала теряли бы цвет, затем морщились бы, затем увядали бы, их кожа покрывалась бы трещинами. Потом они стали бы меньше. Потом еще меньше. Потом растеклись бы в тарелке в аморфную жижу. Камера дождалась бы их конца, запечатлев все фазы их медленного и таинственного «ухода». И вот стоило бы погрузиться в атмосферу подобного «дожидания», когда на миг в лице другого человека может возникнуть эта страшная кромешная суть. Лицо жены Случилось то, что должно было случится; И вот остановка. Наш герой смотрит – мир остановился. Он смотрит… Он смотрит на остановившийся мир. Бывают мгновения, когда все события жизни сходятся в одно, в одну точку. Ты видишь себя (не думаешь, не сравниваешь, а видишь) молниеносно, так что разум не успевает постичь. Видишь какую-то квинтэссенцию даже не себя, а того, что ты есть до себя, чем ты станешь, чем ты был и есть, что бы ты не делал и как бы не пытался противостоять этому кромешному знанию. Словно окунаешься в глубину не своей, другой жизни, имеющей свои каноны. Мгновение этого безропотного тождества. Мгновение, готовящееся тайными перипетиями твоей собственной жизни, которое вдруг, когда события одно за другим выкладываются в канон какой-то неведомой тебе, несусветной драматургии, молниеносно высвечивают твою жизнь как другую. Ощутить канон. Будто ты отделен от своей жизни, от своей физики. И это мгновение, заторможенное в маске чужого лица, внезапно высвечивает в тебе это тайное знание. Знание о жизни, недоступное размышлениям и рефлексиям, неуловимое, неописуемое, почти непередаваемое, извергающееся только из таких внезапных несусветных точек. Какое лицо мог увидеть наш ловкий хозяин стад? Когда факты его жизни сложились в этот причудливый пасьянс, когда его глаза были готовы для зрения, что он мог увидеть? И что он увидел? Его глаза были готовы, ибо, кажется, он закончил свои нескончаемые штудии. Стал равен смерти. Обрел зрение. В такие мгновения глаза видят лицо. Ибо все лицо. Только лицо. Рука – лицо. Затылок лицо. Дом лицо. Дерево лицо. Крупный план, возникший из глубин раззадоренного сознания. Призрак Наш герой словно призрак, блуждающий возле призрака той, которую ищет, ушедшей, в другое время, где только тени и призраки, и эта страшная обреченность нашего героя ходить кругами вокруг той которой уже нет. Pecunia alter sanguis (деньги – разновидность крови (лат.)) Наш герой не смог попасть в морг. Нужны были деньги. Санитар запросил деньги, которых у нашего героя не было. Чтобы опознать, увидеть лицо мертвого сына, нужно платить деньги. Лицо живого можно лицезреть бесплатно, лицо же мертвого только за плату. Ибо мертвый продает нам информацию о месте. И эта информация дорого стоит. Очень дорого. Это другие деньги. Особые деньги. Наш герой меняет кровь на деньги, чтобы купить лицо мертвого сына. Продает кровь, свою настоящую кровь, и на вырученные настоящие деньги, не бумажные, не фальшивые, какими, как правило, бывают деньги, он покупает лицо сына. У живого нет лица, лицо есть у мертвого. Его глаза видят лицо сына (раннее за провинность, он бьет сына именно в лицо). И это мертвое лицо тоже деньги. Он покупает на них потерянную, утраченную жену. Как в сказке: Кровь меняет на лицо, лицо меняет на то, что искал – жену, женщину. когда он видит ее впервые (мы тоже видим ее впервые, это очень важно), она смотрит. Она поднимает голову, словно возвращаясь из другого (онирического) мира в этот, и смотрит, изливая на «этот» мир свою вопиющую праздность. Он покупает за «настоящие» деньги этот взгляд. Взгляд – большие, немереные деньги. Безумные деньги. Валюта. Эта валюта жжет ему руки. Опять, во второй раз обмен не по курсу. Неэквивалентный обмен. Невыгодный курс, или напротив выгодный. И нужно продать этот взгляд. Нужно совершить, наконец, эквивалентный обмен, чтобы замкнуть, наконец, этот губительный круг. Герой должен обрести свою суверенную неслучайную смерть. Он должен купить свою смерть, заплатить за нее ценой. Своя, суверенная смерть стоит очень дорого. И ему приходится все время крутиться, ловчить, разменивать, переводить одни деньги в другие, другие в третьи, и так до тех пор, пока не будет накоплена надлежащая сумма. Движение вниз Наш герой, регрессирует. Он опускается. Его движение – это движение вниз. У Цветаевой в записной книжке: «Для меня опасны слиш(ком) выявл(енные) города и страны. Отвлекают. Стихии не подробны». О металлических птицах И пройдя прямо, там, где кончается дорога и начинаются заросли, если внезапно поднять глаза – можно увидеть металлических птиц, которые, машут крылами, нагоняя страх подобный страху, нагоняемому листами жести, что используют для имитации грома в провинциальных театрах. Ноябрь-Декабрь 2008 г.