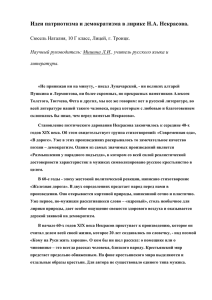Итак, после долгих размышлений отец мой решился отправить
advertisement
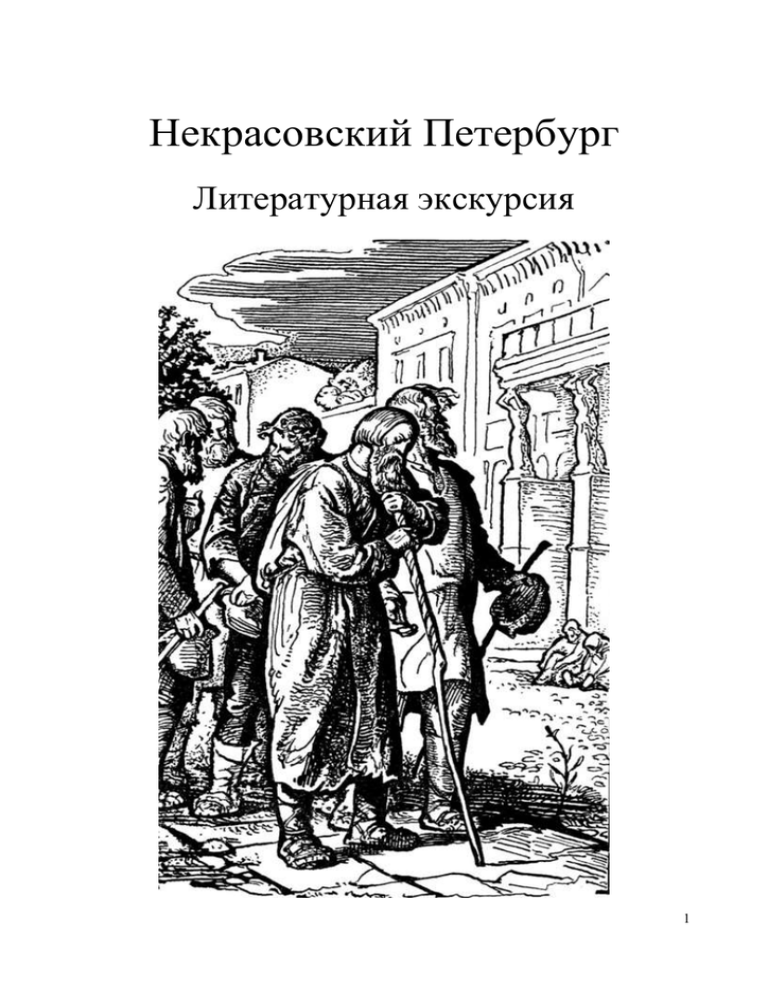
Некрасовский Петербург Литературная экскурсия 1 Петербург Н.А. Некрасова: маршрут 1. Музей-квартира Н.А. Некрасова, Литейный проспект, 36 2. Гостиный двор 3. Сенная площадь 4. Бывший Большой театр (сейчас Консерватория) 2 Некрасов в Петербурге: краткий биографический очерк В Петербург Некрасов приехал в 1838 году. Он намеревался поступать в университет вопреки желанию отца, лишившего его материальной поддержки. Начальный период жизни в Петербурге отмечен скитаниями по петербургским углам (сменил множество адресов, в том числе Свечной переулок 12/20, Разъезжая улица, 24), поисками литературного заработка. Первый сборник стихов «Мечты и звуки», изданный Некрасовым в Петербурге в 1840 г. на собственные средства, успеха не имел, подвергся резкой критике В.Г. Белинского, с которым Некрасов сблизился позже, в 1842—43, в период сотрудничества в «Отечественных записках». Во многих стихотворных фельетонах, рассказах, водевилях Некрасова начала 40-х гг. отразились его личные впечатления от Петербурга — большого города, увиденного глазами провинциала. В дальнейшем тема города, столь значимая в поэзии Некрасова, воплотилась в образе Петербурга, не всегда названного, но всегда узнаваемого. В 1845—46 гг. Некрасов жил в Поварском переулке, 13, на набережной р. Фонтанки, 19. В стихотворениях «Провинциальный подьячий в Петербурге», «Говорун. Записки петербургского жителя А.Ф. Белопяткина» в балагурно-водевильном тоне звучали сатирические нотки в обрисовке типа петербургского обывателячиновника, быстро постигающего науку угождать начальству и обходить законы. На обширном бытовом и культурном, в том числе петербургском, фоне развиваются события в автобиографическом романе Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (1843—45). В своем раннем творчестве Некрасов создает образ «низового» Петербурга, противостоящий официальному образу державной столицы. Петербург в творчестве Некрасова — средоточие резких социальных контрастов, город парадных фасадов, роскоши центральных проспектов и грязных задворок; город равнодушных вельмож, сановных взяточников, казнокрадов и «благонамеренных» чиновников «средней руки», одержимых страстью к наживе и чинам, с лицемерной ханжеской моралью; некрасовский Петербург — это город пьяных мастеровых, униженного и нищего крепостного люда (стихотворения «Современная ода», «Нравственный человек», «На улице», «Размышления у парадного подъезда», «О погоде», поэмы «Несчастные», «Современники»). В 1847—66 Некрасов — редактор журнала «Современник»; вместе с Н.Г. Чернышевским и Н.А. Добролюбовым превратил его в трибуну революционной демократии. Репутацию органа передовой общественно-политической мысли приобрёл и другой руководимый Некрасовым (в 1868—77) журнал — «Отечественные записки». Последняя петербургская квартира Некрасова — на Литейном проспекте, 36/2 (мемориальная доска), где он жил с 1857 вместе с Панаевым и А.Я. Панаевой (в 1847—64 — гражданская жена Некрасова), одновременно была редакцией «Современника» и местом дружеских собраний. 3 Провинциальный подьячий в Петербурге (1840) 1. Ох, времечко! Скорехонько Летишь ты, хоть без крыл. Уж двадцать лет ровнехонько, Как в Питере я был. В питейном департаменте Служение имел, На каменном фундаменте Домишком я владел. С особами отличными В знакомстве состоял, Поклонами приличными Начальству угождал. Как всё переменилося! Мне Питер стал чужой; Всё новое явилося, Чуть пахнет стариной! <…> Гречанка "Инвалид". Он в красках всё прелестнейших Представил напоказ; Таких вещей чудеснейших И в Пскове нет у нас! Не ждал, чтоб ум в кондитере Был сметлив так, клянусь... Уж подлинно, что в Питере Во всем изящный вкус... Трубой какой-то внутренней На Невский из земли Светящий до заутренней Газ немцы провели. Накрыт стеклянной шапкою, Огонь большой такой Горит гусиной лапкою! Ну так... что день-деньской! <…> До Павловска катался я Железной мостовой, Парами восхищался я Не столько быстротой! В воксале, в упоении, Прослушал я цыган: Вот, доложу, уж пение Что палкинский орган! .. <…> На Невском у механика Казал мне кум Антип Картины, в виде пряника, То есть - дагерротип. Божуся вам сурьезно я: Их солнышко печет; Ну, штука прекурьезная: Немецкий всё расчет! Ходил я в Академию "Помпею" ту смотреть, За что Брюллову премию Пришлося возыметь. Вот это прелесть сущая! Картина вся в огнях, Народу там тьма-тьмущая Пешком и на конях. И видно, что с постели их Весь Невский, чудо Питера, На ваньке облетел; На вывеске кондитера Я диво усмотрел: Там в "Пчелку" с умилением Турецкий франт глядит, Читает с наслаждением 4 Спугнул всех ночью страх: Иные без сапог из них, Иные в колпаках. Там мальчик, такой душенька, На улице лежит И точно мой Петрушенька Глазенками глядит. Там деньги, ради прибыли, Сбирает с мостовой, Согнувшись в три погибели, Кащей такой седой. На псковского подьячего Похож, ни дать, ни взять, Теперь с того не для чего Портрета рисовать. Там дама авантажная Катилась впопыхах; Хоть одноколка важная, А вся расшиблась в прах. Сумятица ужасная! Помпея же в пожар Уселася, несчастная, Одна на тротуар. Какой-то хват пригоженький С собой старушку звал: Куда! - Отнялись ноженьки: Последний день настал. Отменно нарисовано, Отличнейшая вещь! Я был к ней как прикованный, Впился в нее как клещ. Так живо представляется, Что хоть рукой бы взять. Брюллов наш отличается, Уж нечего сказать!.. <…> Создатель! Что за множество Там разных этих зал; Я всякого художества Там пропасть повстречал. А лучше всех красуется Статуя мужика: Он важно в бабки дуется, И видно, что битка! По выходе из комнат сих Я мимо сфинок шел И было не заметил их, Да надпись вдруг прочел: "Мемноновым представлены В святый наш Петроград, На пристань здесь поставлены". Действительно, стоят. Скажу, огромные сии Две сфинки - чудеса: В фалборках, как из кисеи, Закрыты волоса. Таких чудных окроме я Не видел отродясь: У них физиономия Такая, как у нас! <…> Намедни, кажись в пятницу, Иду повеся нос, Встречаю вдруг сумятицу И вижу: тут курьез. Коляска самокатная Катит без лошадей: Работа деликатная, Не русских, знать, затей... И лодка б так не плавала На полных парусах Как будто бы два дьявола Уселись в колесах... Итак - мое почтение! Готовый быть по гроб У вас во услужении (Феклист Онуфрич Боб) 1840 год 5 О погоде Уличные впечатления Что за славная столица Развеселый Петербург! (Лакейская песня) Утренняя прогулка Слава богу, стрелять перестали! Ни минуты мы нынче не спали, И едва ли кто в городе спал: Ночью пушечный гром грохотал, Не до сна! Вся столица молилась, Чтоб Нева в берега воротилась, И минула большая беда Понемногу сбывает вода. Начинается день безобразный Мутный, ветреный, темный и грязный. Ах, еще бы на мир нам с улыбкой смотреть! Мы глядим на него через тусклую сеть, Что как слезы струится по окнам домов От туманов сырых, от дождей и снегов! Злость берет, сокрушает хандра, Так и просятся слезы из глаз. Нет! Я лучше уйду со двора... Я ушел - и наткнулся как раз На тяжелую сцену. Везли на погост Чей-то вохрой окрашенный гроб Через длинный Исакиев мост. Перед гробом не шли ни родные, ни поп, Не лежала на нем золотая парча, Только, в крышу дощатого гроба стуча, Прыгал град да извозчик-палач Бил кургузым кнутом спотыкавшихся кляч, И вдоль спин побелевших удары кнута Полосами ложились. Съезжая с моста, Зацепила за дроги коляска, стремглав С офицером, кричавшим: "Пошел!"- проскакав, Гроб упал и раскрылся. "Сердечный ты мой! Натерпелся ты горя живой, Да пришлося терпеть и по смерти... 0 То случится проклятый пожар, То теперь наскакали вдруг - черти! Вот уж подлинно бедный Макар! Дом-то, где его тело стояло, Загорелся, - забыли о нем,Я схватилась: побились немало, Да спасли-таки гроб целиком, Так опять неудача сегодня! Видно, участь его такова... Расходилась рука-то господня, Не удержишь!.." Такие слова Говорила бездушно и звонко, Подбежав к мертвецу впопыхах, Провожавшая гроб старушонка, В кацавейке, в мужских сапогах. "Вишь, проклятые! Ехать им тесно!" -"Кто он был?" - я старуху спросил. "Кто он был? да чиновник, известно; В департаментах разных служил. Петербург ему солон достался: В наводненье жену потерял, Целый век по квартирам таскался И четырнадцать раз погорал. А уж службой себя как неволил! В будни сиднем сидел да писал, А по праздникам ноги мозолил Всё начальство свое поздравлял. Вот и кончилось тем - простудился!" -"И тебе его будто не жаль?" -"Что жалеть! нам жалеть недосужно. Что жалеть! хоронить теперь нужно. Эка, батюшка, страшная даль! Эко времечко!.. господи боже! Как ни дорого бедному жить, Умирать ему вдвое дороже: На кладбище-то место купить, Да попу, да на гроб, да на свечи..." 27 декабря 1858 1 «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (отрывки) После семидневного путешествия мы наконец завидели Петербург. Расспросив ямщика, в какой части города дешевле квартиры, мы приказали ему ехать в Ямскую. Здесь заняли мы общую комнату в доме коллежского асессора Завитаева и перетащили в нее пожитки свои. Мещанин бросился в дегтярный ряд, поручик отправился в баню, а я завалился спать на единственной ветхой кровати, покрытой дырявым матрасом, который к тому же издавал какой-то неестественный запах. Мне было не до того, чтоб добиваться, чем именно пахнул матрас: глаза мои, красные от пыли и долгой бессонницы, невольно слипались, со лба, щек и носа кусками лупилась кожа, все члены мои болели и громко просили успокоения. Я спал осьмнадцать часов. Думаю, что я проспал бы и двадцать четыре, если б не одно обстоятельство: среди самого сладкого сновидения я вдруг почувствовал чрезвычайную жгучую боль во всем теле, как будто в мое тело воткнули тысячу иголок самых тонких и вострых; сначала я стал кататься на своей постели, всё еще стараясь удержаться в приятном самозабвении, в котором находился; наконец вскочил с нее и тотчас же опять сел на нее, страшно вытаращив глаза, чем напугал и чуть не отправил на тот свет поручика, который в ту самую минуту разжевывал огромный кусок бифштекса, чрезвычайно твердого. Проснувшись наконец совершенно, я, кроме сильной боли, почувствовал дрожь,– что обыкновенно бывает после продолжительного путешествия на телеге,– шея моя тряслась, как у столетнего старика, зубы стучали; во всем теле заметно было постепенно затихавшее колыхание, подобное тому, какое бывает с деревом после бури. Эта дрожь была мучительна и заставила меня на минуту забыть боль, от которой я проснулся. Но когда она затихла, с ужасом увидел я по всему телу своему большие красные пятна; на лице, на руках и ногах моих в большом количестве ползали вонючие красные гадины, подушка, на которой я за минуту лежал, была усеяна теми же гадинами и покрыта пятнами свежей крови... увы! моей собственной крови, которую я, может быть, собственными губами выдавил из зловонных отвратительных гадин! 2 <…> По приезде в Петербург, не более как через десять дней, я надеялся иметь кучи золота и громкое имя. Здесь время сказать, что ко всем дурным наклонностям, которые волновали мою бурную, необузданную юность, с некоторых пор присоединилась еще одна – именно страсть сочинять стихи. Чтение романов не имело на меня такого влияния, какое имеет оно над большею частию молодых, неопытных голов: я не сделался ни безотчетным мечтателем, который живет на земле только для того, что бренное тело его приковано к этой "юдоли плача". Я не сделался пламенным идеалистом, которые за множеством выспренних идей и высших взглядов забывают даже обедать; нет, романтическое настроение, к которому несколько настроило меня чтение романов, не заглушало во мне голоса жизни положительной; я всегда был более человек положительный, нежели мечтатель; фантазия моя, как бы широко и свободно ни разгулялась она, никогда не загащивалась в "туманной дали" долее того срока, который нужен человеку для сварения пищи: желудок напоминал ей очень исправно свои потребности,– и фантазировать натощак мне казалось делом до крайности неблагоразумным. Однако ж чтение романов развило во мне идеализм настолько, что одних ежедневных житейских мелочей мне казалось недостаточно для наполнения пустоты жизни, и я скоро почувствовал стремление к невещественным интересам: с детской доверчивостью к собственным силам принялся я писать стихи... и, боже мой!.. чего не писал я... и сатиры, и элегии, и поэмы... и драмы... и повести... и... и всё это, не имея понятия ни о сатире, ни об элегии, ни о повести, ни о драме. На что я ни жаловался в своих стихах: и на любовь, которой я не чувствовал и не мог по молодости лет чувствовать; и на измену друзей, которых не имел и настоящего значения их не понимал; и на холодность и жестокость "братии", которые обращали внимания на меня столько же, сколько на собаку, бессознательно лающую; и на "милую", которую подвергал проклятиям; мало того: я пел даже "деву неги", "восторги сладострастья", которых не чувствовал… 3 «Несчастные» (1856) (отрывок) Ликует сердце молодое В восторге юноша. Постой! Ты будешь говорить другое, Родство постигнув роковое Меж этим блеском и тобой! Пройдут года в борьбе бесплодной, И на красивые плиты, Как из машины винт негодный, Быть может, брошен будешь ты! Счастлив, кому мила дорога Стяжанья, кто ей верен был И в жизни ни однажды бога В пустой груди не ощутил. Но если той тревоги смутной Не чуждо сердце - пропадешь! В глухую полночь, бесприютный, По стогнам города пойдешь: Громадный, стройный и суровый, Тогда предстанет он иным, И, опоясанный гробами, Своими пышными дворцами, Величьем царственным своим Не будет радовать. Невольно Припомнишь бедный городок, Где солнца каждому довольно. <…> Домишки малы, пусты лавки, Собор, четыре кабака, Тюрьма, шлагбаум полосатый, Дом судный, госпиталь дощатый И площадь... площадь велика: Кругом не видно ей границы, И, слышно, осенью на ней Чудак, заезжий из столицы, Успешно ищет дупелей. Ну, всё как надо, как известно, Над чем столичные давно Острят то глупо, то умно. Зато покойно - и не тесно... 4 «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (отрывки) Когда отчаяние мое несколько поутихло, я взглянул на тощий свой кошелек, на голые степы квартиры, с которою сердце мое предчувствовало скорую разлуку, на сапоги, которым угрожало скорое разрушение, и крепко призадумался о своем положении. Я был одинодинехонек в огромном городе, наполненном полумиллионом людей, которым решительно не было до меня никакой нужды. Горькое раскаяние овладело мною. Я упрекал себя в беспечности, глупости и расточал себе множество неприличных названий, на которые так щедр человек, недовольный собою. <…> Целый день лежал я среди полу на ковре, в крайней задумчивости, окруженный совершенною темнотою. Надобно знать, что квартира моя была в нижнем этаже, окнами на улицу. В первые три дня, когда ставни были отворены, прохожие останавливались и с диким любопытством продолжительно рассматривали мою комнату, совершенно пустую, в которой среди полу лежал человек. Однажды даже заметил я, что какой-то человек, по-видимому наблюдатель нравов, в коричневой шинели и небесноголубых брюках, очень долго стоял у окошка, пристально разглядывая мою квартиру, и по временам что-то записывал. Мне сделалось стыдно: я велел запирать ставни и с тех пор их не отпирал. Наконец я вскочил с необыкновенною быстротою, достал огня и, засветив единственный бывший у меня огарок, присел, поджавши ноги потурецки, к трехногому стулу и начал вписывать в тетрадь стихи, сочиненные в Петербурге... Я писал до тех пор, пока огарок догорел совершенно и в комнате распространилась прежняя темнота; другой свечки не было (да и купить ее было не на что), и потому я принужден был лечь спать. Но мне не спалось: луч вспыхнувшей надежды осветил дотоле темное мое будущее; я вспомнил все прежние мечты мои и надежды на поэтическую известность и снова предался им безотчетно. Нетерпеливо ждал я наступления дня; наконец свет мелькнул в щелях ставен; я вскочил и начал одеваться… Одевшись, я взял тетрадь с своими стихотворениями и пошел на Невский проспект. Я переходил из одной книжной лавки в другую, предлагая свои стихотворения, но везде получал один и тот же ответ: "Не надо-с". Некоторые спрашивали меня, имею ли я какую-нибудь известность и к которой партии принадлежу и на покровительство какого журнала я имею 5 надежду. Я отвечал, что решительно ее имею сношения ни с каким журналом и думаю, что моя стихи, если я не ошибаюсь, заслужат равное от всех журналов одобрение. Приказчики двусмысленно улыбались и советовали мне предварительно напечатать несколько своих стихотворений в журнале, назначая каждый своего журналиста и жестоко порицая всех остальных. Наконец я пришел в один великолепный магазин с библиотекой для чтения, занимавший целый этаж на лучшем месте Невского проспекта. Хозяин этого магазина, довольно толстый человечек невысокого роста с телячьим простодушием в физиономии, осмотрел меня с ног до головы каким-то полупрезрительным, полусожалительным взглядом, взял мою тетрадь, привесил ее на руке и сказал, что он покажет ее редактору. Я оставил ему тетрадь и через три дня явился за ответом. Но тетрадь еще была у редактора. Едва в три недели я успел вытребовать у него назад тетрадь мою, которая провалялась у него в магазине. Он с гневом бросил ее на прилавок и сказал: "И не такие литераторы у нас ждут по месяцу! У нас такого хламу валяется целая кладовая!" и пр. <…> – Я имею, господа, привычку, когда у меня нет денег,– что случается двадцать девять раз в месяц,– прогуливаться по отдаленным петербургским улицам и заглядывать в окошки нижних этажей: это очень забавляет меня и нередко доставляет мне материалы для моих фельетонов. Не можете представить, какие иногда приходится чудеса видеть: иногда, проходя мимо какого-нибудь окошка, в одну минуту, одним мимолетным взглядом, увидишь сюжет для целой драмы, иногда – прекрасную водевильную сцену. В тот день, о котором я хочу говорить, я видел очень много забавных и странных вещей. Представьте себе панораму, в которой виды беспрестанно меняются, и тогда только вы поймете всё разнообразие, всю прелесть моего наслаждения. Мастеровой у станка, согнувшись, опиливает какуюнибудь мелкую принадлежность своей работы; жена, подкравшись сзади, целует его в колпак и в то же время делает глазки подмастерью, который сидит у другого окошка; цирюльник держит за нос толстого, красного господина, которому, как ребенку, под горло подвязана салфетка или целая простыня; титулярный советник целует свою кухарку, которая в знак особенной нежности колотит его по спине жирными, красными руками, засученными по локоть; чиновник в пестром халате, красной ермолке, перевернувшись на окошке вверх брюхом, старается кинуть на балкон второго этажа, где мелькает белое 6 платьице, стройная ножка и черный локон, записку, сложенную хитро и красиво <…> Петербург – город великолепный и обширный! Как полюбил я тебя, когда в первый раз увидел твои огромные домы, в которых, казалось мне, могло жить только счастие, твои красивые магазины, из окон которых метались мне в глаза дорогие ткани, серебро и сверкающие каменья, твои театры, балы и всякие сборища, где встречай я только довольные лица, твои больницы и богадельни, как дворцы роскошные и огромные!.. Столько богатства и роскоши, столько всяких удобств увидел я, что не верилось мне, чтоб нашелся здесь бесприютный. – не по доброй воле, голодный – не по расстроенности желудка, недовольный – не по сварливой причудливости характера. Беден и жалок показался мне мой родной городок,– городок серый и низменный, с деревянными домами и заборами, с унылым звоном единственной церкви, с вечным воем голодных собак на пустых и грязных улицах… Посмеялся я над добродушием добрых людей, довольствующихся такою жизнию, и пошлою показалась мне жизнь их. "Здесь,– думал я,– настоящая жизнь, здесь и нигде более счастие!" – и как ребенок радовался, что я в Петербурге. Но прошло несколько лет... Я узнал, что у великолепных и огромных домов, в которых замечал я прежде только бархат и золото, дорогие изваяния и картины, есть чердаки и подвалы, где воздух сыр и зловреден, где душно и темно и где на голых досках, на полусгнившей соломе в грязи, стуже и голоде влачатся нищета, несчастье и преступление. Узнал, что есть несчастливцы, которым нет места даже на чердаках и подвалах, потому что есть счастливцы, которым тесны целые домы... И я спустился в душные те подвалы, поднялся под крыши высоких домов и увидел нищету падающую и падшую, нищету, стыдливо прикрывающую лохмотья свои, и нищету, с отвратительным расчетом выносящую их напоказ. Я увидел мать, продающую честь своей дочери, чтоб поддержать жалкое существование свое, и другую мать, продавшую себя в безответное рабство, чтоб спасти честь дочери. На смертном одре увидел я бедного труженика, измученного тяжкой и неблагодарной работой, и у одра его – бессмысленных и голодных детей, которые протягивали к нему ручонки и просили хлеба. И я прочел в судорожно сжатых, безмолвных и бледных губах его а в предсмертном сверкании глаз, как тяжело было ему умирать, как сильно хотелось жить, чтоб пригвоздить себя к рабочему станку и добыть детям хлеба. <…> И сильней поразили меня такие картины, неизбежные в больших и кипящих народонаселением городах, глубже 7 запали в душу, чем блеск и ботатства твои, обманчивый Петербург! И не веселят уже меня твои гордые здания и всё, что есть в тебе блестящего и поразительного!.. О погоде Уличные впечатления Сумерки Говорят, еще день. Правда, я не видал, Чтобы месяц свой рог золотой показал, Но и солнца не видел никто. Без его даровых, благодатных лучей Золоченые куполы пышных церквей И вся роскошь столицы — ничто. Надо всем, что ни есть: над дворцом и тюрьмой, И над медным Петром, и над грозной Невой, До чугунных коней на воротах застав (Что хотят ускакать из столицы стремглав) — Надо всем распростерся туман. Душный, стройный, угрюмый, гнилой, Некрасив в эту пору наш город большой, Как изношенный фат без румян... Наша улица — улиц столичных краса, В ней дома всё в четыре этажа, Не лазурны над ней небеса, Да зато процветает продажа. Сверху донизу вывески сплошь Покрывают громадные стены, Сколько хочешь тут немцев найдешь — Из Берлина, из Риги, из Вены. Всё соблазны, помилуй нас бог! Там перчатка с руки великана, Там торчит Веллингтонов сапог, Там с открытою грудью Диана… <…> В нашей улице жизнь трудовая: Начинают ни свет ни заря 8 Свой ужасный концерт, припевая, Токари, резчики, слесаря, А в ответ им гремит мостовая! Дикий крик продавца-мужика, И шарманка с пронзительным воем, И кондуктор с трубой, и войска, С барабанным идущие боем, Понуканье измученных кляч, Чуть живых, окровавленных, грязных, И детей раздирающий плач На руках у старух безобразных — Всё сливается, стонет, гудет, Как-то глухо и грозно рокочет, Словно цепи куют на несчастный народ, Словно город обрушиться хочет. Давка, говор... (о чем голоса? Всё о деньгах, о нужде, о хлебе) Смрад и копоть. Глядишь в небеса, Но отрады не встретишь и в небе. <…> На спине ли дрова ты несешь на чердак, Через лоб протянувши веревку, Грош ли просишь, идешь ли в кабак, Задают ли тебе потасовку — Ты знаком уже нам, петербургский бедняк, Нарисованный ловкою кистью В модной книге, — угрюмый, худой, Обессмысленный дикой корыстью, Страхом, голодом, мелкой борьбой. Мы довольно похвал расточали, И довольно сплели мы венков Тем, которые нам рисовали Любопытную жизнь бедняков. Где ж плоды той работы полезной? Увидав, как читатель иной Льет над книгою слезы рекой, Так и хочешь сказать: «Друг любезный, Не сочувствуй ты горю людей, Не читай ты гуманных книжонок, 9 Но не ставь за каретой гвоздей, Чтоб, вскочив, накололся ребенок!» 10 Напротив квартиры Некрасова на Литейном проспекте находился особняк, где жил министр государственных имуществ М.Н. Муравьев. Каждое утро писатель мог наблюдать, как бедные посетители, в основном крестьяне, стояли и сидели у крыльца этого особняка с самого раннего утра, очевидно желая подать какое-то прошение министру. И каждый раз на крыльцо выходил швейцар и прогонял несчастных бедняков. После того как А.Я. Панаева, с которой тогда жил Некрасов, показала ему эту сцену, он и написал свое знаменитое стихотворение «Размышления у парадного подъезда». Размышления у парадного подъезда Вот парадный подъезд. По торжественным дням, Одержимый холопским недугом, Целый город с каким-то испугом Подъезжает к заветным дверям; Записав свое имя и званье, Разъезжаются гости домой, Так глубоко довольны собой, Что подумаешь - в том их призванье! А в обычные дни этот пышный подъезд Осаждают убогие лица: Прожектеры, искатели мест, И преклонный старик, и вдовица. От него и к нему то и знай по утрам Всё курьеры с бумагами скачут. Возвращаясь, иной напевает "трам-трам", А иные просители плачут. Раз я видел, сюда мужики подошли, Деревенские русские люди, Помолились на церковь и стали вдали, Свесив русые головы к груди; Показался швейцар ."Допусти",- говорят С выраженьем надежды и муки. Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд! Загорелые лица и руки, Армячишка худой на плечах. По котомке на спинах согнутых, Крест на шее и кровь на ногах, В самодельные лапти обутых (Знать, брели-то долгонько они Из каких-нибудь дальних губерний). 11 Кто-то крикнул швейцару: "Гони! Наш не любит оборванной черни!" И захлопнулась дверь. Постояв, Развязали кошли пилигримы, Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв, И пошли они, солнцем палимы, Повторяя: "Суди его бог!", Разводя безнадежно руками, И, покуда я видеть их мог, С непокрытыми шли головами... <…> Назови мне такую обитель, Я такого угла не видал, Где бы сеятель твой и хранитель, Где бы русский мужик не стонал? Стонет он по полям, по дорогам, Стонет он по тюрьмам, по острогам, В рудниках, на железной цепи; Стонет он под овином, под стогом, Под телегой, ночуя в степи; Стонет в собственном бедном домишке, Свету божьего солнца не рад; Стонет в каждом глухом городишке, У подъезда судов и палат. Выдь на Волгу: чей стон раздается Над великою русской рекой? Этот стон у нас песней зовется То бурлаки идут бечевой!.. Волга! Волга!.. Весной многоводной Ты не так заливаешь поля, Как великою скорбью народной Переполнилась наша земля, Где народ, там и стон... Эх, сердечный! Что же значит твой стон бесконечный? Ты проснешься ль, исполненный сил, Иль, судеб повинуясь закону, Всё, что мог, ты уже совершил, Создал песню, подобную стону, И духовно навеки почил?.. 1858 год 12 Говорун (1845) Записки петербургского жителя А.Ф. Белопяткина Столица наша чудная Богата через край, Житье в ней нищим трудное, Миллионерам - рай. Здесь всюду наслаждения Для сердца и очей. Здесь все без исключения Возможно для людей: При деньгах вдвое вырасти, Чертовски разжиреть, От голода и сырости Без денег умереть <…> С большими здесь и с малыми В одном дому живешь И рядом с генералами По Невскому идешь. Захочешь позабавиться Берешь газетный лист, Задумаешь прославиться На то есть журналист: Хвалы он всем славнейшие Печатно раздает, И как - душа добрейшая Недорого берет! Чего б здесь не увидели, Чего бы не нашли? Портные, сочинители, Купцы со всей земли, Найлучшие сапожники, Актеры, повара, С шарманками художники Такие, что - ура!.. Я в них влюблен решительно И здесь их воспою... Проехав мимо нашего Гостиного двора, Я чуть, задетый заживо, Не закричал: "ура!". Бывало, день колотишься На службе так и сяк, А чуть домой воротишься, Поешь - и день иссяк: Нет входа в лавки русские! Берешь жену и дочь И едешь во французские, Где грабят день и ночь. Теперь - о восхищение Для сердца и для глаз! В Гостином освещение: Проводят в лавки газ! Ликуй, все человечество! Решилось, в пользу дам, Российское купечество Сидеть по вечерам И газ распространяется Скорехонько с тех пор: Ну, точно, просвещается У нас Гостиный двор! Извел бы десть бумаги я, Чтоб только описать, Какую Боско магию Умеет представлять. Ломал он вещи целые На мелкие куски, Вставлял середки белые В пунцовые платки, Бог весть куда забрасывал И кольца и перстни И так смешно рассказывал, Где явятся они. Ну, словом: Боско рублики, Как фокусник и враль, Выманивал у публики Так ловко, что не жаль! 13 Вор Спеша на званый пир по улице прегрязной, Вчера был поражен я сценой безобразной: Торгаш, у коего украден был калач, Вздрогнув и побледнев, вдруг поднял вой и плач И, бросясь от лотка, кричал: "Держите вора!" И вор был окружен и остановлен скоро. Закушенный калач дрожал в его руке; Он был без сапогов, в дырявом сертуке; Лицо являло след недавнего недуга, Стыда, отчаянья, моленья и испуга... Пришел городовой, подчаска подозвал, По пунктам отобрал допрос отменно строгой, И вора повели торжественно в квартал. Я крикнул кучеру: «Пошел своей дорогой!» — И богу поспешил молебствие принесть За то, что у меня наследственное есть... * * * Вчерашний день, часу в шестом, Зашел я на Сенную; Там били женщину кнутом, Крестьянку молодую. Ни звука из ее груди, Лишь бич свистал, играя... И Музе я сказал: "Гляди! Сестра твоя родная!" 0 Говорун (1845) Записки петербургского жителя А.Ф. Белопяткина Когда беда случилася И хочешь, чтоб в груди Веселье пробудилося, В Большой театр иди. Так ножки разлетаются, Так зала там блестит, Так платья развеваются Величественный вид!.. Ох!.. много с трубкой зрительной Тут можно увидать! Ее бы "подозрительной" Приличней называть. Недавно там поставили Чудесную "Жизель" И в ней плясать заставили Приезжую мамзель. Прекрасно! восхитительно! Виват, девица Гран! В партере все решительно Кричали: "Се шарман!" Во мне зажглася заново Поэзией душа... А впрочем, Андреянова Тут тоже хороша! В душе моей остылую, Лишенную всех сил, "Русланом и Людмилою" Жизнь Глинка разбудил. Поэма музыкальная Исполнена красот, Но самое печальное Либретто: уши рвет! Отменно мне понравилась Полкана голова: Едва в театр уставилась И горлом здорова! Искусно всем украшена От глаз и до усов. Как слышал я, посажено В ней несколько певцов (Должно быть, для политики, Чтоб петь ее слова) Не скажут тут и критики: "Пустая голова!.." 1 О погоде Кому холодно, кому жарко! Свечерело. В предместиях дальных, Где, как черные змеи, летят Клубы дыма из труб колоссальных, Где сплошными огнями горят Красных фабрик громадные стены, Окаймляя столицу кругом,Начинаются мрачные сцены. Но в предместия мы не пойдем. Нам зимою приятней столица Там, где ярко горят фонари, Где гуляют довольные лица, Где катаются сами цари. <…> Чистоты, чистоты, чистоты! Грязны улицы, лавки, мосты, Каждый дом золотухой страдает; Штукатурка валится - и бьет Тротуаром идущий народ, А для едущих есть мостовая, Не щадящая бедных боков; Летом взроют ее, починяя, Да наставят зловонных костров; Как дорогой бросаются в очи На зеленом лугу огоньки, Ты заметишь в туманные ночи На вершине костров светляки, Берегись!.. В дополнение, с мая, Не весьма-то чиста и всегда, От природы отстать не желая, Зацветает в каналах вода... (Наша муза парит невысоко, Но мы пишем не легкий сонет, Наше дело исчерпать глубоко Воспеваемый нами предмет.) 1 Уж давно в тебя летней порою Не случалося нам заглянуть, Милый город! где трудной борьбою Надорвали мы смолоду грудь, Но того мы еще не забыли, Что в июле пропитан ты весь Смесью водки, конюшни и пыли Характерная русская смесь. Но зимой - дышишь вольно; для глаза Роскошь! Улицы, зданья, мосты При волшебном сиянии газа Получают печать красоты. Как проворно по хрупкому снегу Мчится тысячный, кровный рысак! Даже клячи извозчичьи бегу Прибавляют теперь. Каждый шаг, Каждый звук так отчетливо слышен, Всё свежо, всё эффектно: зимой, Словно весь посеребренный, пышен Петербург самобытной красой! По каналам, что летом зловонны, Блещет лед, ожидая коньков, Серебром отливают колонны, Орнаменты ворот и мостов; В серебре лошадиные гривы, Шапки, бороды, брови людей, И, как бабочек крылья, красивы Ореолы вокруг фонарей! Пусть с какой-то тоской безотрадной Месяц с ясного неба глядит На Неву, что гробницей громадной В берегах освещенных лежит, И на шпиль, за угрюмой Невою, Перед длинной стеной крепостною, Наводящей унынье и сплин. Мы не тужим. У русской столицы, Кроме мрачной Невы и темницы, Есть довольно и светлых картин. Между 1863 и 1865 2 Из поэмы «Несчастные» О город, город роковой! С певцом громад твоих красивых, Твоей ограды вековой, Твоих солдат, коней ретивых И всей потехи боевой, Плененный лирой сладкострунной, Не спорю я: прекрасен ты В безмолвьи полночи безлунной, В движеньи гордой суеты! ................... . Пусть солнце тусклое, скупое Глядится в невские струи; Пусть, теша буйство удалое И сея плевелы свои, Толпы пустых, надменных, праздных, Полны пороков безобразных, В тебе кишат. В стенах твоих И есть и были в стары годы Друзья народа и свободы, А посреди могил немых Найдутся громкие могилы. Ты дорог нам, - ты был всегда Ареной деятельной силы, Пытливой мысли и труда! Всё так. Но если ненароком В твои пределы загляну, Купаясь в омуте глубоком, Переживая старину, Душа болит. Не в залах бальных, Где торжествует суета, В приютах нищеты печальных Блуждает грустная мечта. Не лучезарный, золотистый, Но редкий солнца луч... о нет! Твой день больной, твой вечер мглистый, Туманный, медленный рассвет Воображенье мне рисует... 3 Московское стихотворение (1859) На дальнем севере, в гиперборейском крае, Где солнце тусклое, показываясь в мае, Скрывается опять до лета в сентябре, Столица новая возникла при Петре. Возникнув с помощью чухонского народа Из топей и болот в каких-нибудь два года, Она до наших дней с Россией не срослась: В употреблении там гнусный рижский квас, С немецким языком там перемешан русский, И над обоими господствует французский, А речи истинно народный оборот Там редок столько же, как честный патриот! Да, патриота там наищешься со свечкой: Подбиться к сильному, прикинуться овечкой, Местечка теплого добиться, и потом Безбожно торговать и честью и умом — Таков там человек! Но впрочем, без сомненья, Спешу оговорить, найдутся исключенья. Забота промысла о людях такова, Что если где растет негодная трава, Там есть и добрая: вот, например, Жуковский,— Хоть в Петербурге жил, но был с душой московской. Театры и дворцы, Нева и корабли, Несущие туда со всех сторон земли Затеи роскоши; музеи просвещенья, Музеи древностей — «все признаки ученья» В том городе найдешь; нет одного: души! Там высох человек, погрязнув в барыши, Улыбка на устах, а на уме коварность: Святого ничего — одна утилитарность! Итак, друзья мои! кляну тщеславный град! Рыдаю и кляну… Прогрессу он не рад. В то время как Москва надеждами пылает, Он погружается по-прежнему в разврат И против гласности стишонки сочиняет!.. 4