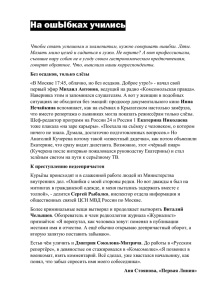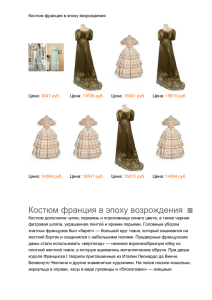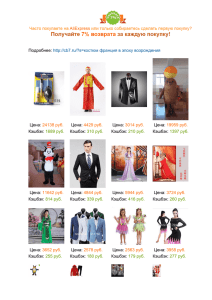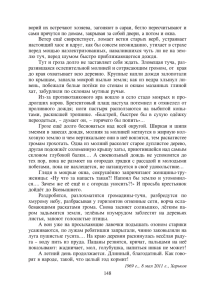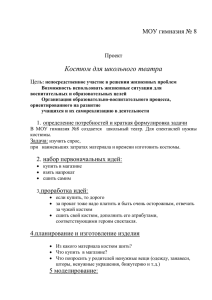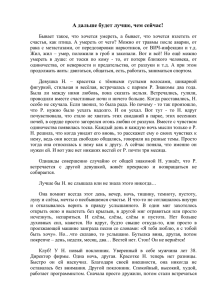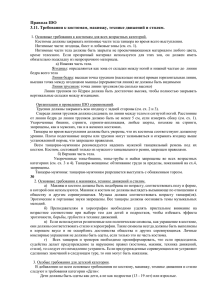Самое хорошее умирает тоже
advertisement
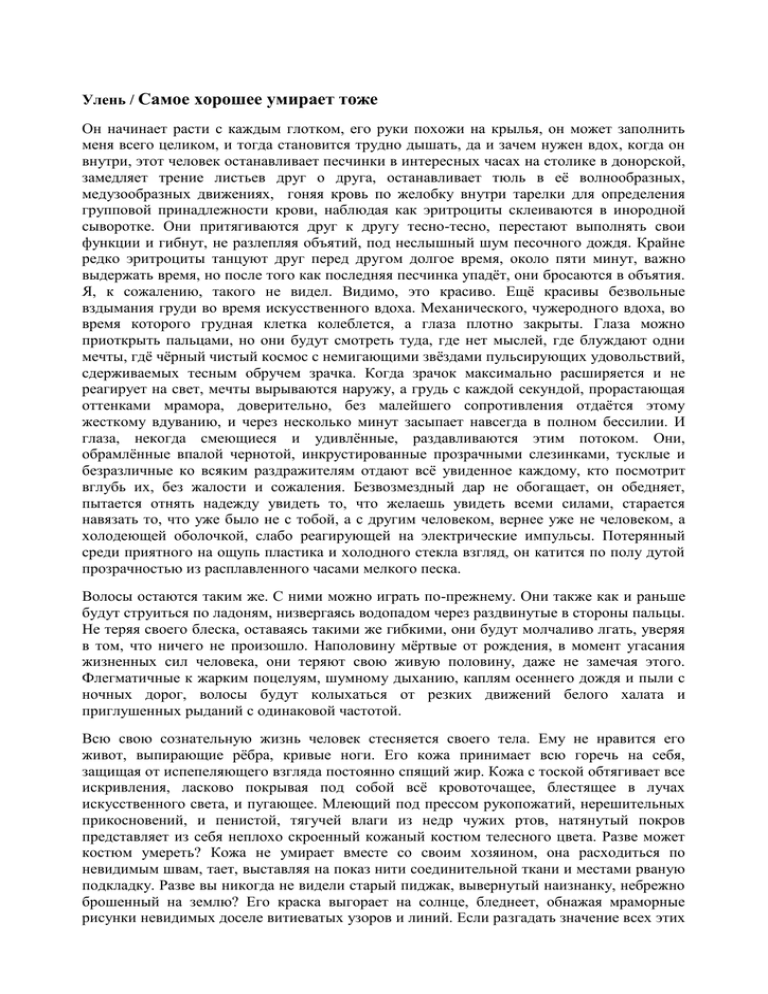
Улень / Самое хорошее умирает тоже Он начинает расти с каждым глотком, его руки похожи на крылья, он может заполнить меня всего целиком, и тогда становится трудно дышать, да и зачем нужен вдох, когда он внутри, этот человек останавливает песчинки в интересных часах на столике в донорской, замедляет трение листьев друг о друга, останавливает тюль в её волнообразных, медузообразных движениях, гоняя кровь по желобку внутри тарелки для определения групповой принадлежности крови, наблюдая как эритроциты склеиваются в инородной сыворотке. Они притягиваются друг к другу тесно-тесно, перестают выполнять свои функции и гибнут, не разлепляя объятий, под неслышный шум песочного дождя. Крайне редко эритроциты танцуют друг перед другом долгое время, около пяти минут, важно выдержать время, но после того как последняя песчинка упадёт, они бросаются в объятия. Я, к сожалению, такого не видел. Видимо, это красиво. Ещё красивы безвольные вздымания груди во время искусственного вдоха. Механического, чужеродного вдоха, во время которого грудная клетка колеблется, а глаза плотно закрыты. Глаза можно приоткрыть пальцами, но они будут смотреть туда, где нет мыслей, где блуждают одни мечты, гдё чёрный чистый космос с немигающими звёздами пульсирующих удовольствий, сдерживаемых тесным обручем зрачка. Когда зрачок максимально расширяется и не реагирует на свет, мечты вырываются наружу, а грудь с каждой секундой, прорастающая оттенками мрамора, доверительно, без малейшего сопротивления отдаётся этому жесткому вдуванию, и через несколько минут засыпает навсегда в полном бессилии. И глаза, некогда смеющиеся и удивлённые, раздавливаются этим потоком. Они, обрамлённые впалой чернотой, инкрустированные прозрачными слезинками, тусклые и безразличные ко всяким раздражителям отдают всё увиденное каждому, кто посмотрит вглубь их, без жалости и сожаления. Безвозмездный дар не обогащает, он обедняет, пытается отнять надежду увидеть то, что желаешь увидеть всеми силами, старается навязать то, что уже было не с тобой, а с другим человеком, вернее уже не человеком, а холодеющей оболочкой, слабо реагирующей на электрические импульсы. Потерянный среди приятного на ощупь пластика и холодного стекла взгляд, он катится по полу дутой прозрачностью из расплавленного часами мелкого песка. Волосы остаются таким же. С ними можно играть по-прежнему. Они также как и раньше будут струиться по ладоням, низвергаясь водопадом через раздвинутые в стороны пальцы. Не теряя своего блеска, оставаясь такими же гибкими, они будут молчаливо лгать, уверяя в том, что ничего не произошло. Наполовину мёртвые от рождения, в момент угасания жизненных сил человека, они теряют свою живую половину, даже не замечая этого. Флегматичные к жарким поцелуям, шумному дыханию, каплям осеннего дождя и пыли с ночных дорог, волосы будут колыхаться от резких движений белого халата и приглушенных рыданий с одинаковой частотой. Всю свою сознательную жизнь человек стесняется своего тела. Ему не нравится его живот, выпирающие рёбра, кривые ноги. Его кожа принимает всю горечь на себя, защищая от испепеляющего взгляда постоянно спящий жир. Кожа с тоской обтягивает все искривления, ласково покрывая под собой всё кровоточащее, блестящее в лучах искусственного света, и пугающее. Млеющий под прессом рукопожатий, нерешительных прикосновений, и пенистой, тягучей влаги из недр чужих ртов, натянутый покров представляет из себя неплохо скроенный кожаный костюм телесного цвета. Разве может костюм умереть? Кожа не умирает вместе со своим хозяином, она расходиться по невидимым швам, тает, выставляя на показ нити соединительной ткани и местами рваную подкладку. Разве вы никогда не видели старый пиджак, вывернутый наизнанку, небрежно брошенный на землю? Его краска выгорает на солнце, бледнеет, обнажая мраморные рисунки невидимых доселе витиеватых узоров и линий. Если разгадать значение всех этих линий, то можно разгадать смысл поиска смысла во всём. Но это никогда никому не удавалось. Прошедший с вечера дождь наутро вспучивает ткань пиджака, перетасовывая распухающие на глазах узоры. Сердце стучит, бьётся, сбоит, замирает, заходится, бежит, останавливается. Наши сердца бьются в мясных клетках, в кромешной темноте в судорогах, несущих нам жизненные силы. Маленькие, заживо замурованные рабы с затяжными подергиваниями вместо игрушек. Сердца каменеют, разбиваются, горят, падают в пятки. Они всего лишь стучаться всеми частями своего тельца о мягкие прутья тесной тюрьмы. Нет ничего хуже мягких оков, они нестабильны и обманчивы. После припадка всегда наступает глубокий сон, сон после бесчисленного количества подёргиваний, заслуженное право на отдых. Слёзы. Они берутся ниоткуда. Они знают всё. Они следят за каждым движением человека, который пересаживается с одного поезда на другой. Они ясно выделяют стук его каблуков из тысячи других звуков казанского вокзала. Невидимыми ручейками плывут по рельсам под усталыми и запоздалыми поездами, испаряясь от тридцатиградусной жары и, испарившись, замирают над железным навесом, провожая взглядом одинокую фигуру. Они рождаются неожиданно, то от взгляда на таксофонную карту в 25 единиц, то от прикосновения к махровому полотенцу, хранящему какие-то частицы того, кто собирается через несколько часов пересесть в другой поезд. Новорождённые слёзы в первые секунды не вызывают ничего, кроме чувства стыдливости и слабости, но, научившись катиться по отвесным поверхностям, они оставляют после себя пылающие следы, согревающие в холодном помещении с искусственным освещением. Хотя, большинство слёз рождаются именно у окон. Вчера я видел сон, будто я стою на дне огромного и высохшего бассейна с уходящими вдаль разделительными линиями и нанизанными на них поплавками из пенопласта. А в стенах давно не функционирующего бассейна кто-то прорубил окна, именно для того, что бы рождались слёзы. Мне нужно было идти вперёд, по чуть влажному от рождения блестящих капель дну, вперёд, без стеснения всматриваясь в окна с обретённым вдруг сочувствием к плачущим людям. Вперёд, где тихо плачут усталые и чуть пьяные проводницы прицепных вагонов, где в раскачивающихся туалетах кто-то пытается тоненькой иголкой впустить в себя часть радости, часть тепла, которая осушит его лицо. Гибель голоса мучительна. Несказанные слова умирают раньше, чем хотелось бы. Слабый организм молчаливо скорбит, беззвучно кричит, впервые ощутив себя немым. И вперив взгляд в серое небо, скрученное канатами отяжелевших облаков, чтобы обрести жёсткую опору, подобие стабильности, он подползает с закинутой головой вплотную к стене высотного дома. В сгущающихся сумерках стена кажется белоснежной, она не требует никаких объяснений, на неё можно опереться и всего лишь только слушать шум прогибающихся под ветром деревьев, слушать пока стена не потемнеет. Потерять боль. Оставить её в жаркой ночи под навесом душного кафе, или в прохладное и безлюдное утро выкинуть её в переполненный мусорный контейнер. Прогулки по тихим улицам с двухэтажными домами и остановившейся на несколько лет жизнью их жильцов готовят к этой потере. Когда, проходя мимо ржавого водонапорного крана с сочащейся изпод него водой, становится трудно стоять на ногах, и листья клёнов, вымытые мыльной водой, начинают отворачиваться от тебя, то болевые ощущения медленно перемещаются в специально продырявленный пальцем карман. Скучно и расслабленно сидеть в теньке, не чувствуя невесомых рук, ленясь доползти до ближайшей лужи, чтобы утолить не тревожащую больше жажду. Теперь уже привычное головокружение и прикрытые веки, запах земли после дождя, крупинки присохшей к открытым ампулам грязи, отвлекают и приучают жить в этой тишине без боли. Внимательность и чуткость стареют, их беззубые рты бормочут что-то, но уже умершие голоса тонут в рёве машин и крике продавцов маленьких рынков, всплывая через некоторое время в рассвете опухшими лицами бомжей, расцветающими над прохладными проспектами столицы. Люди, глядящие на днище пластикового стаканчика, ценники со следами губной помады, валяющийся ничейный бюстгальтер, уже бледнеющий в свете будущего дня курс валют на электронном экране, уставшие переливаться цветами радуги игровые автоматы. Густой грим благополучия смывается в подъездах и под мостами, под мутными потоками равнодушия, обнажая надписи на кафельной плитке «смысл жизни в самом процессе» и, вымывая страницы со строчками «смерть – это то, что происходит с другими». Лавочки и чтение на них Хьюберта Селби под ритмичное вздрагивание метлы, отчего его рассказы кажутся ещё более реалистичными. Тонны мертвецов в облаках небрежных бросков их на металлические столы, слабость, что заставляет дрожать рёберный нож, хорошо скроенный костюм телесного цвета – всё это искрится в пузырящихся лучах равнодушного солнца у меня перед глазами. Умирая, я стою на балконе чужого дома, внимательно разглядывая горе, затерявшееся под ногами траурной процессии.