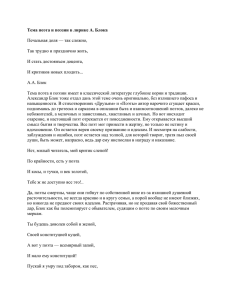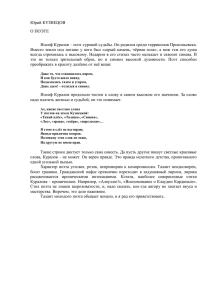Раздел III. Литературоведение Раздел III. Литературоведение В
advertisement
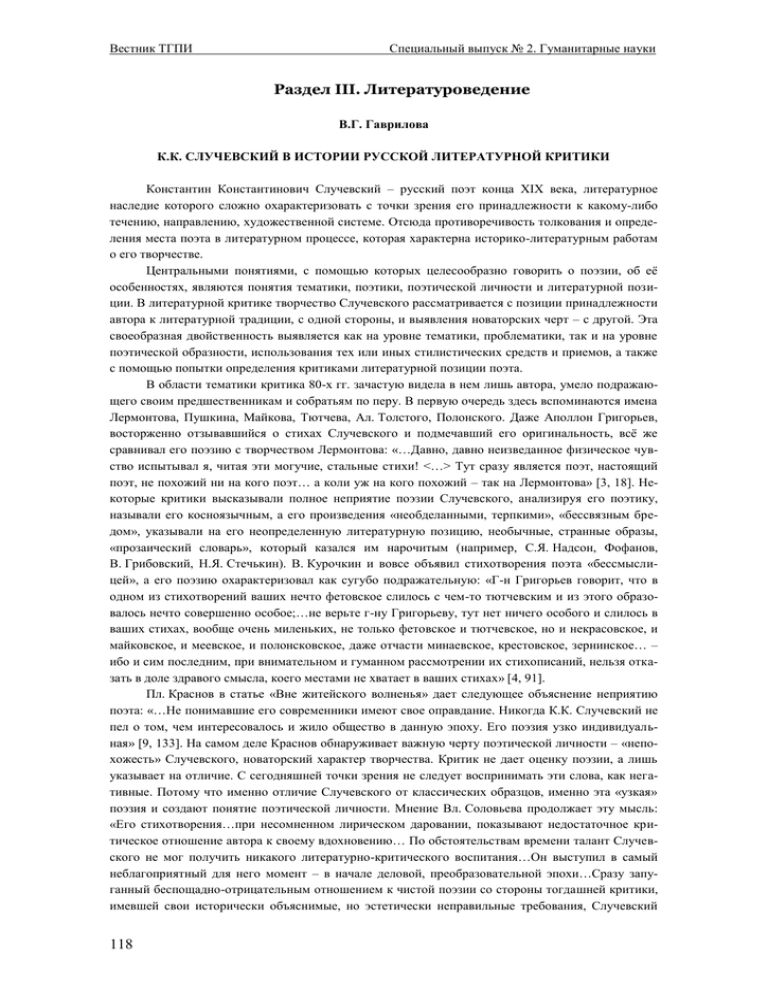
Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки Раздел III. Литературоведение В.Г. Гаврилова К.К. СЛУЧЕВСКИЙ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ Константин Константинович Случевский – русский поэт конца XIX века, литературное наследие которого сложно охарактеризовать с точки зрения его принадлежности к какому-либо течению, направлению, художественной системе. Отсюда противоречивость толкования и определения места поэта в литературном процессе, которая характерна историко-литературным работам о его творчестве. Центральными понятиями, с помощью которых целесообразно говорить о поэзии, об её особенностях, являются понятия тематики, поэтики, поэтической личности и литературной позиции. В литературной критике творчество Случевского рассматривается с позиции принадлежности автора к литературной традиции, с одной стороны, и выявления новаторских черт – с другой. Эта своеобразная двойственность выявляется как на уровне тематики, проблематики, так и на уровне поэтической образности, использования тех или иных стилистических средств и приемов, а также с помощью попытки определения критиками литературной позиции поэта. В области тематики критика 80-х гг. зачастую видела в нем лишь автора, умело подражающего своим предшественникам и собратьям по перу. В первую очередь здесь вспоминаются имена Лермонтова, Пушкина, Майкова, Тютчева, Ал. Толстого, Полонского. Даже Аполлон Григорьев, восторженно отзывавшийся о стихах Случевского и подмечавший его оригинальность, всё же сравнивал его поэзию с творчеством Лермонтова: «…Давно, давно неизведанное физическое чувство испытывал я, читая эти могучие, стальные стихи! <…> Тут сразу является поэт, настоящий поэт, не похожий ни на кого поэт… а коли уж на кого похожий – так на Лермонтова» [3, 18]. Некоторые критики высказывали полное неприятие поэзии Случевского, анализируя его поэтику, называли его косноязычным, а его произведения «необделанными, терпкими», «бессвязным бредом», указывали на его неопределенную литературную позицию, необычные, странные образы, «прозаический словарь», который казался им нарочитым (например, С.Я. Надсон, Фофанов, В. Грибовский, Н.Я. Стечькин). В. Курочкин и вовсе объявил стихотворения поэта «бессмыслицей», а его поэзию охарактеризовал как сугубо подражательную: «Г-н Григорьев говорит, что в одном из стихотворений ваших нечто фетовское слилось с чем-то тютчевским и из этого образовалось нечто совершенно особое;…не верьте г-ну Григорьеву, тут нет ничего особого и слилось в ваших стихах, вообще очень миленьких, не только фетовское и тютчевское, но и некрасовское, и майковское, и меевское, и полонсковское, даже отчасти минаевское, крестовское, зернинское… – ибо и сим последним, при внимательном и гуманном рассмотрении их стихописаний, нельзя отказать в доле здравого смысла, коего местами не хватает в ваших стихах» [4, 91]. Пл. Краснов в статье «Вне житейского волненья» дает следующее объяснение неприятию поэта: «…Не понимавшие его современники имеют свое оправдание. Никогда К.К. Случевский не пел о том, чем интересовалось и жило общество в данную эпоху. Его поэзия узко индивидуальная» [9, 133]. На самом деле Краснов обнаруживает важную черту поэтической личности – «непохожесть» Случевского, новаторский характер творчества. Критик не дает оценку поэзии, а лишь указывает на отличие. С сегодняшней точки зрения не следует воспринимать эти слова, как негативные. Потому что именно отличие Случевского от классических образцов, именно эта «узкая» поэзия и создают понятие поэтической личности. Мнение Вл. Соловьева продолжает эту мысль: «Его стихотворения…при несомненном лирическом даровании, показывают недостаточное критическое отношение автора к своему вдохновению… По обстоятельствам времени талант Случевского не мог получить никакого литературно-критического воспитания…Он выступил в самый неблагоприятный для него момент – в начале деловой, преобразовательной эпохи…Сразу запуганный беспощадно-отрицательным отношением к чистой поэзии со стороны тогдашней критики, имевшей свои исторически объяснимые, но эстетически неправильные требования, Случевский 118 Раздел III. Литературоведение литературно замкнулся в себе…» [17, 2]. Попытка критиков охарактеризовать поэзию Случевского в рамках «чистого искусства» не отвечает содержанию поэзии автора. А.В. Федоров, рассматривая творчество Случевского как попытку выйти из «всеобъемлющего пессимизма эпохи» [20, 19], говорит о том, что поэта волновали не только субъективные переживания, строй мироздания и отражение их в поэзии, но и окружающая жизнь, факты общественного порядка. Эта точка зрения нам кажется верной ввиду того, что во всем поэтическом наследии Случевского прослеживается двойственность внутреннего мира поэта, выраженная в противоречиях между идеальным и реальным, верой и безверием. Что же касается «косноязычия», «бессмыслицы» и тому подобных определений критиков, то следует отметить, что тематика и поэтика произведений Случевского, которые имели явно новаторский характер, воспринимаются совершенно по-иному в XX веке: с приходом на поэтическую арену символистов и футуристов. Символисты по достоинству оценили оригинальность поэта, дали обстоятельный анализ его стиля и признали его «своим», что дало пищу для размышления многим критикам. Известный символист Вяч. Иванов уловил преемственность поэзии Случевского и новой русской лирики и обращался к нему как к вдохновителю: Тебе, о тень Случевского, привет! В кругу тобой излюбленных поэтов Я был тебе неведомый поэт, Как звездочка средь сумеречных светов, <…> В те дни, скиталец одинокий, Я за тобой следил издалека… Как дорог был бы мне твой выбор быстроокий И похвала твоя сладка! В. Брюсов, хотя и оценил поэзию Случевского, отметил стилистическую нестройность языка поэта: «…Менее всего Случевский был художник. Он писал свои стихи как-то по-детски, каракулями, – не почерка, а выражений. В поэзии он был косноязычен, как Моисей <…> все у него выходило как-то нескладно, почти смешно, и вместе с тем часто пророчески сильно, огненно ярко. В самых увлекательных местах своих стихотворений он вдруг сбивался на прозу, неуместно вставленным словцом разбивал все очарование и, может быть, именно этим достигал совершенно особого, ему одному свойственного, впечатления. Стихи Случевского часто безобразны, но это то же безобразие, как у искривленных кактусов или у чудовищных рыб-телескопов. Это – безобразие, в котором нет ничего пошлого, ничего низкого, скорее своеобразие, хотя и чуждое красивости…» [1, 231]. Безусловно, высказывание Брюсова в какой-то мере справедливо, но все эти особенности языка поэта, которые совершенно противоположны «поэтизмам» традиционной лирики, говорили не о его плохом вкусе или неумении подобрать нужные слова; они были предпосылками расширения границ изображаемого в лирике будущего столетия, а именно в поэтической практике поэтовфутуристов. Об этом писали Андрей Федоров, Б. Бухштаб. А.А. Измайлов назвал поэта «первенцем русского декаданса» [6, 2]. Анализируя особенности поэтического выражения, Лидия Гинзбург характеризует поэтическую личность, утратившую внятность, определенность мировосприятия и сознающую свою литературную позицию, отличную от традиционной: «Случевский – это уже декадентство. Сплошь поэтические формулы: розы, облака и прочее, но совершенно все разболталось, все скрепы – система гниющих лирических штампов…на этом фоне можно все что угодно» [2, 34]. Отметим, что размытость мировоззрения и эстетических установок – характерная черта всего литературного процесса конца XIX века. Как отмечает И. Роднянская, Случевский – «энциклопедия возможностей» [15]. И эти возможности имели подчас противоположное направление. Недаром ещё В. Брюсов, характеризуя двойственность поэтической личности Случевского, писал: «Мировоззрение Случевского исполнено тех же внутренних противоречий и противоборствий, непримиренных между собою сил, несоглашенных хоров, диссонансы которых образуют иногда, как бы случайно, неожиданную, ещё не узнанную гармонию» [1, 233]. Поэтому-то и такая сложность в определении автора в ту или иную нишу. По этой причине критики не спешат определять место и роль Случевского в литературе, ограничиваясь лишь 119 Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки замечаниями о том, что он «предтеча «новой» русской поэзии» [11, 67], поэт пограничной эпохи «безвременья» [7, 147]. Современный исследователь творчества Случевского А.Ю. Ипполитова отмечает близость поэзии символизму не только тематически, но и формальной стороной: тяготением к символической образности. Безусловно, какие-то черты данного течения в поэзии автора присутствуют, но они имеются лишь в зародыше. Для того, чтобы описать особенности поэтической личности автора следует проанализировать его творчество, опираясь на образную систему символизма с одной стороны, и учитывая наличие тематики и поэтики, сближающих произведения автора с классической литературой. Среди литературно-критических работ есть и такие, которые базируются на рассмотрении творчества поэта с точки зрения постромантизма или неоромантизма. В.Н. Аношкина прямо называет Случевского постромантиком, опираясь на рассмотрение его поэзии, в которой исследователь «за вещной реальностью узревает реальность духовную» [8, 638]. Имея ввиду суждения Вл. Соловьева о поэзии Случевского [18, 241], отметим, что вслед за усмотрением духовной реальности, поэт её осмысливает интеллектуально, что дает нам основания мыслить его литературное творчество в рамках совершенно иных течений в литературе, нежели постромантизм, литературная позиция автора гораздо сложнее. З.Г. Минц, описывая литературный процесс конца ХIХ века, предшествующий эпохе модернизма, называет его термином «неоромантизм» и выявляет типологические признаки этого явления: «1) отказ от установки на полное бытовое правдоподобие, повышение меры художественной условности текста, интерес к фольклору и литературной легенде; 2) поиски универсальной картины мира, основанной на глобальных антиномиях бытия (цель и бесцельность существования, жизнь и смерть, я и мир, добро и зло и т. п.); 3) тяготение стиля, с одной стороны, к повышенной эмоциональности, экспрессивности и, с другой стороны, стремление к «прозаичности», к натуралистичной мелочности описания. Очень часто две эти разнонаправленные тенденции сосуществовали в стиле одного поэта, создавая эффект диссонанса, открытого столкновения контрастов, подчеркнутого стилевого сбоя» [8, 149]. И хотя исследователь дает общую характеристику литературы 80-90-х годов, все эти черты можно найти в произведениях Константина Константиновича. В современной критической литературе так и не решен четко вопрос о месте Случевского в литературном процессе, об особенностях его поэтической личности. Исследователей по сей день волнует вопрос о литературных источниках творчества поэта. Этому посвящены работы А. Федорова, который заявляет что в творчестве Константина Случевского, «сочетавшем в себе субъективный идеализм и религиозное мировоззрение с философским скептицизмом и критикой современной ему действительности, преломились традиции поэзии М.Ю. Лермонтова» [10, 176]. Е.А. Тахо-Годи фактически развивает и углубляет эту мысль в ряде своих статей, вопросу о лермонтовской традиции в творчестве К.К. Случевского посвящен параграф ее монографии «Константин Случевский. Портрет на Пушкинском фоне». Исследователь отмечает ряд важнейших образов, мотивов и идей, повторяющихся в поэзии и прозе поэта. Действительно, реминисценций из Лермонтова в поэзии Случевского немало. К тому же лермонтовское воздействие на творчество поэта проявляется не только в реминисценциях, аллюзиях, парафразах. В его произведениях встречаются и сами лермонтовские образы, их своеобразное применение и развитие. Е.А. Тахо-Годи, анализируя творчество поэта, выясняет, что демонический герой встречается как в различных стихотворениях, лирическом цикле «Мефистофель», так и в прозе. Она рассматривает его повесть «Виртуозы» в сравнении с неоконченным романом М.Ю. Лермонтова «Княгиня Лиговская». Выявляется тематическое сходство двух произведений, отмечается такой прием, как прямое цитирование Случевским лермонтовских поэтических строк в повести. Но не только лермонтовские мотивы и образы, по мнению исследователя, имеются в произведениях Константина Константиновича. В работах разных лет Елена Аркадьевна находит точки соприкосновения поэзии и прозы Случевского как с античными авторами, поэмой Альфреда де Виньи, так и с произведениями классиков русской литературы. Современный исследователь Л. Пильд также 120 Раздел III. Литературоведение строит свою работу о Случевском на сопоставлении и выявлении литературных источников поэтического цикла «Мефистофель» [14]. Вопросу о влиянии Пушкина на все литературное творчество Случевского посвящена монография Е.А. Тахо-Годи «Константин Случевский. Портрет на Пушкинском фоне» [19]. Наряду с биографическим описанием, в работе прослеживаются литературные связи поэта с современниками, дается анализ некоторых его произведений сквозь призму пушкинской традиции. Вопросу о влиянии А.С. Пушкина на поэзию Случевского посвящена также статья Н.Н. Нартыева, в которой автор говорит о том, что именно в Пушкине Случевский видит «тот духовный источник, в котором можно «почерпнуть» энергию для сдерживания всеохватывающего чувства иронии, безнадежности и безверия, столь хорошо знакомого большинству поэтов 80–90-х годов» [13]. Безусловно, литературная традиция оказала свое неоспоримое влияние на творчество поэта, но сводить анализ его творчества лишь к перечислению фактов литературных заимствований и перекличек, на наш взгляд, несправедливо. Исследования поэтического творчества Случевского становятся сложнее, глубже. Среди критических работ, содержащих подробный текстологический анализ поэзии можно отметить работу О.В. Мирошниковой, где дается развернутая интерпретация лирического цикла «Мефистофель» и определяется жанровая природа персонажного цикла, анализируются конкретные образцы изучения отдельных стихотворений, их связей [12]. В последнее время возрос интерес к поэтическому наследию автора: защищаются диссертации [16], пишутся книги и статьи в журналах. В диссертации С. Сапожкова представлен широкий «подсистемный» спектр поэтических кружков и объединений, сыгравших свою роль в определении эстетических позиций многих лириков того времени, в том числе и Случевского. Диссертация Н. Мадигожиной рассматривает проблему полифонизма и прозаизации лирики поэта. Среди последних работ особо хотелось бы отметить работу А.Ю. Ипполитовой, которая посвящена изучению взаимосвязи системы философских идей и поэтики в творчестве К.К. Случевского, что на наш взгляд является закономерным в постижении литературного наследия автора. В работе так же, как и в предшествующих, рассматривается роль литературной традиции, характер обращения к мифопоэтическим схемам, система мотивов. Особенностью данного исследования является анализ лексико-стилистических сторон циклов и книг поэта с целью выявления единого философского сюжета, объединяющего основные этапы творчества поэта. Отдельным аспектом исследования является описание философских воззрений поэта. По нашему мнению, анализ творчества на основе философских взглядов автора является плодотворным, но не охватывает полностью все стороны поэтической личности. Среди работ, помогающих выявить основные черты поэтической личности Случевского, анализ которых может стать материалом для дальнейшего исследования, является книга Татьяны Смородинской «Константин Случевский. Несвоевременный поэт». В ней поэт рассматривается как прозаик и эссеист, государственный деятель и философ. На наш взгляд в книге удачно дается попытка описать контекст поисков Случевского, продемонстрировать эстетическую значимость его творчества, выявить конкретные параллели с творчеством других поэтов, а также представить творческую биографию поэта. Автор исследования приводит конкретные примеры непосредственного влияния творчества поэта на таких авторов, как Блок, Гумилев, Бальмонт, Ахматова, Цветаева, Хлебников, Пастернак, Заболоцкий, Анненский, Высоцкий; проводится сопоставительный анализ произведений указанных авторов и Случевского. Особого внимания заслуживает мысль Смородинской о сложной системе взаимовлияний и эволюции русской поэзии конца XIX – начала XX века и особой роли Случевского в истории русского стихосложения. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что творчество Случевского рассматривается в контексте реминисценций, аллюзий, парафраз, в рамках воздействия на него литературной традиции, с одной стороны, и как нечто новое, со своими отличительными чертами и признаками, как «платформа» для зарождающихся литературных течений (символизма, футуризма). 121 Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки Приведенные выше литературно-критические заключения требуют дальнейшего аналитического рассмотрения и синтеза, так как, на наш взгляд, одной из особенностей поэтической личности Случевского как раз и является диалектическая соотнесенность традиционного, классического мировосприятия и субъективное, интеллектуальное выражение мыслей в поэзии. Этот синтез может быть достигнут с помощью нового взгляда на литературный процесс, а также с помощью точного определения таких понятий экзистенциального литературоведения, как поэтическая практика, поэтическая личность. Исходя из нового понимания литературного процесса, С.Н. Зотов дает следующее определение: «Поэтическая практика – это способ поэтического самоопределения человека-творца, обнаруживающий средствами литературы возможности смыслообразования, характерные для преобладающего в данную эпоху типа рациональности <…> Поэтическую практику следует осознать в качестве основополагающей категории, по отношению к которой и приобретают подлинный смысл представления о так называемой «действительности», вопросы о литературной традиции и о подражательности поэзии» [5, 252]. Поэтическая практика Случевского базируется на переходном этапе от классики к модернизму, поэтическая личность осуществляется в переходный период, и это нужно учитывать при анализе его творчества. Эта переходность становится качеством поэтической личности. Само же понятие поэтической личности является центральным, обобщающим, способным показать единство творчества Случевского. Случевский – фигура самостоятельная, что отмечалось исследователями его творчества. Поэтому целесообразно анализировать его литературное наследие не только путем сравнения с предшественниками, но и с помощью рассмотрения особенностей самой поэтической личности и её влияния на дальнейшее развитие литературного процесса. Ведь до сих пор творчество поэта не смогли определить в рамки какого-либо литературного течения. Оно имеет свои специфические черты, позволяющие говорить об оригинальности и дающие почву для дальнейшего исследования. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Брюсов В. Собр. соч.: в 7 т. Т. 6. Статьи и рецензии. 1893-1924. М.: Худ. лит-ра, 1975. 2. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л.: Советский писатель, 1974. 3. Григорьев А. Литературная критика. М.: Худ. лит-ра, 1967. 4. Знаменский Н. Критик, романтик и лирик. Опыт дидактической комедии в прозе, без интриги и без действия // Искра. 1860. № 8. 5. Зотов С.Н. К пониманию смысла поэтической практики русского модернизма // Русская литература XX – XXI веков: vат-лы Второй Междунар. науч. конф. 16-17 ноября 2006 года. М.: Изд-во Москов. ун-та, 2006. 6. Измайлов А.А. Памяти К.К. Случевского. Некролог // Биржевые ведомости. 1904. № 493. 7. История русской литературы ХIХ века: в 3 т. / под ред. В.И. Коровина. М., 2005. Т. 3. 8. История русской литературы XIX века. 70-90-е гг. М.: ОНИКС, 2006. 9. Краснов Пл. Вне житейского волненья // Книжки недели. 1898. Сентябрь. 10. Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1981. 11. Маковский С. К. Случевский (1837-1904) // На Парнасе Серебряного века. Екатеринбург, 2000. 12. Мирошникова О.В. Цикл Случевского «Мефистофель»: проблематика, структура, жанр // Проблема метода и жанра. Томск, 1989. Вып.15. 13. Нартыев Н.Н. Праздник божиим веленьем (анализ стихотворения К. Случевского «Тост Пушкину») // Вестник ВолГУ. Серия 2: Филология. Вып. 4. 1999. 14. Пильд Л. О литературных подтекстах поэтического цикла Случевского «Мефистофель». Режим доступа: http://www.toronto slavic quarterly.htm 15. Роднянская И. Глубокая борозда. К. Случевский: через голову Серебряного века // Арион. 2005. № 3. 16. Сапожков С.В. Русская поэзия 1880–1890-х годов в свете системного анализа: От С.Я. Надсона к К.К. Случевскому (течения, кружки, стили): автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1999. 21 с.; Мадигожина Н.В. Поэтика К.К. Случевского: (пробл. полифонизма и прозаизации лирики): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1991. 18 с. 17. Соловьев В.C. Разбор книги К.К. Случевского «Исторические картинки. Разные рассказы». СПб., 1896. 18. Соловьев В.С. Стихотворения. Эстетика. Литературная критика. М., 1990. 19. Тахо-Годи Е.А. Константин Случевский. Портрет на Пушкинском фоне. СПб., 2000. 122 Раздел III. Литературоведение 20. Федоров А.В. Поэтическое творчество К.К.Случевского // Случевский К. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1962. Л.Л. Дроботова, Т.В. Лыкова ПРИТЧЕВЫЙ ХАРАКТЕР РАССКАЗА А.П. ЧЕХОВА «ПАРИ» Тайна непостижимой гармонии чеховской прозы в сочетании взаимоисключающих на первый взгляд особенностей: глубины содержания и небольшой формы, афористичности и простоты, узнаваемости сюжета и непредсказуемости его развития. Сколько мудрости передал нам писатель, если каждый его рассказ – это конкретный жизненный эпизод и одновременно притча, в которой словам тесно, а мыслям просторно. Спустя более века язык А.П. Чехова поражает современностью, удивительным единством строгой лапидарности и неисчерпаемой мысли. Писатель как будто предвосхитил век жутких скоростей, острого дефицита времени, сжатости пространства и соответственно нового пользователя языка, требовательного и взыскательного, нуждающегося в интеллектуально насыщенной и эстетически совершенной информации. Лаконизм чеховского стиля основан на творческом подходе к слову и доверительном отношении к читателю, время которого, с одной стороны, действительно сберегается, а с другой – диктует более неспешное, вдумчивое погружение в смысл короткого эпизода, дающего представление о целой жизни. Активное сотворчество с автором в постижении его слова сделало А.П. Чехова самым востребованным писателем XXI века. Чеховская насмешка, добрая или злая, вполне отражает парадоксальность нашего бытия. Ирония оказалась той формой бытия, которая, как ни странно, помогает человеку жить и выживать в современном мире. Чеховские герои, совмещая в себе высокое и низкое, как будто балансируют между добром и злом, правдой и вымыслом, духом и плотью. Они живые и узнаваемые. И при этом в его прозе, как в Библии, можно найти если не утешение, то понимание. На страницах чеховских рассказов нет явно положительных и отрицательных персонажей, как нет их и среди людей, обреченных на метание между Богом и Дьяволом. Писатель изображает реальные поступки, измеряемые высотой духа и низостью падения личности. Он не пытается объять необъятное, никогда не характеризует человека вообще, оценивая всю его большую жизнь, он показывает его в предлагаемых обстоятельствах, объясняя выбор персонажа в каждом конкретном случае, всегда давая ему шанс стать лучше. Насмешка, сарказм, а иногда даже и откровенный цинизм по отношению к своим героям не дают автору повода для их резкого противопоставления: он понимает его условность и зыбкость, отказываясь быть судьей. Характер чеховских героев отражает взгляд писателя на мир, который он никогда не рисует в черно-белом цвете. Его персонажи узнаваемы, его ирония предполагает самоиронию, автор видит себя не над миром людей, а среди них, помогая легко и без обиды принять его тревожно-критический взгляд на мироустройство. Его правда отражает суровую диалектику жизни, жутковатую в своем единстве и борьбе противоположностей: человеку дан весь набор инстинктов самосохранения, свойственный животному, а в придачу еще и нечто такое, что должно вытеснять в нем зверя. В этой беспощадной борьбе с переменной победой то одного, то другого начала проходит время, отведенное каждому. Имея удивительный талант видеть основные коллизии жизни, которые он изображал смешными, печально-смешными и даже трагическими, Чехов полагал, что его рассказы будут читать лет восемь, а потом забудут. Трудно судить о причинах такого пророчества. Возможно, это надежда на то, что жизнь действительно станет чище, красивее, возвышенней, что в ней не останется места уродливым карикатурам на неё, а значит, изображение их станет неинтересным для читателя. Так или иначе, но это была единственная ошибка великого мастера слова и тонкого психолога, талант которого, вопреки его предсказаниям, оказался вечным, вневременным и всё более востребованным. В любом, даже очень коротком рассказе А.П. Чехова всё живо, от волнующей темы до лаконичного, емкого, парадоксального языка. Писатель любит слово, он делает с ним то же, что ювелир с алмазом, – бриллиант, и оно начинает блистать всеми своими гранями, поражая совре- 123 Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки менностью и глубинной связью с вечными истинами. Рассказ «Пари» – это притча, в которой ставится вопрос о целесообразности смертной казни. Его непреходящая актуальность придает особую остроту сюжету. Целесообразность того или другого наказания живо обсуждается и сегодня, но достичь такой глубины погружения в тему, с такой потрясающей убедительностью ответить на вопрос, нужна ли смертная казнь, не оставляя оппонентам ни одного шанса на успех, не смог никто и более века спустя после выхода в свет чеховского рассказа. Разговор о смертной казни начинает старый банкир темной, осенней ночью (не может же он вестись лучезарным весенним утром!), вспоминая о споре пятнадцатилетней давности, который тоже происходил осенью, во время званого вечера [2, VII, 229]. Природа создает фон рассказа. В числе изобразительных средств контекстуальные синонимы, характеризующие ночь и определяющие диффузный характер употребления прилагательного темный: 1) ‘лишенный света’; 2) ‘близкий черному цвету’; 3) ‘мрачный, безрадостный, печальный’ [1, 15, 252-254]. Два коротких первых предложения создают настроение для обсуждения непростой темы. Безупречен по своей смысловой глубине и ряд авторских синонимов, содержащих оценку обсуждаемой смертной казни теми, кто её не принимает: «Они находили этот способ наказания устаревшим, непригодным для христианских государств и безнравственным» [2, VII, 229]. Важным семантическим катализатором в синтагме взаимодействующих характеристик является замечание о христианском государстве. Под его влиянием атрибут устаревший не только означает несоответствие факта лишения жизни человеческим представлениям о наказании, но и возвращает читателя к временам с дохристианским представлением о борьбе добра и зла, где отсутствовала одна из важнейших евангельских заповедей – не убий. Отрицание всех видов наказания откровенно несостоятельно. Утверждение: «То и другое одинаково безнравственно <…> потому что имеет одну и ту же цель – отнятие жизни. Государство – не Бог. Оно не имеет права отнимать то, чего не может вернуть, если захочет» [2, VII, 229], – не обеспечено реальной каузальностью модального сопровождения действия, выраженного глаголом вернуть, поскольку заключение всегда можно отменить. Алогично в этом рассуждении и противопоставление государства Богу. В Евангелии, как известно, одному и другому отводятся несовместимые роли: Богу – Богово, Кесарю – Кесарево. Голос, выступающий против всех наказаний, нарушает и логические, и Божьи, и социальные законы, его нельзя воспринимать всерьез, потому что изоляция одного человека ради свободы большинства – прерогатива именно государства, которое может вернуть свободу узнику при появлении каких-то новых обстоятельств в его деле или в жизни. Апелляция к Богу так или иначе напоминает о том, что без его участия трудно решить вопрос, в центре которого дилемма смертная казнь – пожизненное заключение. Существительные, её составляющие, не противопоставлены в системе языка, но в тексте являются контекстуальными антонимами, обогащаясь дополнительными смыслами, за которым скрывается принципиальная философская позиция сторон. Эта антитеза становится главной интригой рассказа. Банкир выражает сомнение по поводу гуманности пожизненного заключения, считая смертную казнь нравственней. Его мотивация связана с различием в характере физических ощущений наказуемого: «Казнь убивает сразу, а пожизненное заключение медленно. Какой же палач человечнее? Тот ли, который убивает вас в несколько минут, или тот, который вытягивает из вас жизнь в продолжение многих лет?» [2, VII, 229]. Противопоставленность обсуждаемых понятий подчеркивается антонимами сразу – медленно, в несколько минут – в продолжение многих лет, контекстуальными антонимами убивает сразу – вытягивает жизнь. Главная же авторская мысль спрятана в оксюмороне палач человечнее. Характеристика палача, значительно усиленная формой сравнительной степени прилагательного в условиях неполного предложения, парадоксальна. Другая, более скрытая несовместимость связана с тем, что человек, непосредственно осуществляющий процедуру заключения осужденного в тюрьму, тоже именуется палачом. Это заставляет воспринимать и это слово в диффузном значении: 1) лицо, приводящее в исполнение смертную казнь или тяжелые телесные наказания, и 2) лицо, так или иначе способствующее гибели [1, 9, 48]. Рассказ убеждает в необходимости да- 124 Раздел III. Литературоведение вать любому человеку шанс на возрождение. Симптоматично, что наиболее здравая мысль, которую, вероятно, разделяет сам автор, звучит из уст юриста, молодого человека лет двадцати пяти, который пытается поставить себя на место осужденного: «И смертная казнь и пожизненное заключение одинаково безнравственны, но если бы мне предложили выбирать между казнью и пожизненным заключением, то, конечно, я выбрал бы второе. Жить как-нибудь лучше, чем никак» [2, VII, 229]. К уже отмеченным антонимам здесь прибавляется оценочная оппозиция: как-нибудь – никак. За местоименными словами, которые подвергаются текстовой адвербиализации, прочитывается мысль, разделяемая двадцативосьмилетним автором, высказанная им не без иронии, но абсолютно неоспоримо. Жить действительно всегда лучше, чем не жить. Впоследствии этот вывод получит объективные и существенные доказательства своей целесообразности, продуктивности и гуманности. Завязка рассказа заключается в уверенности банкира, бывшего тогда помоложе, в том, что никто не высидит в каземате и пяти лет. Юрист же готов отсидеть за два миллиона не пять, а пятнадцать лет. Главной антитезой этого фрагмента текста становится оппозиция свобода – миллионы: «Согласен! Вы ставите миллионы, а я свою свободу!» [2, VII, 230]. Решение молодого человека поставить на кон свою свободу вряд ли разделяет автор. Впрочем, отдавая отчет себе в том, как непостоянен успех, он скептически относится и к эйфории банкира, не знавшего тогда счета своим миллионам. Позиция его в споре слаба еще и потому, что в его доводах проявляется излишняя самоуверенность и близорукость, исключающая в оппоненте наличие внутреннего императива, более сильного, чем внешний диктат: «Не забывайте также, несчастный, что добровольное заточение гораздо тяжелее обязательного. Мысль, что каждую минуту вы имеете право выйти на свободу, отравит вам в каземате всё ваше существование. Мне жаль вас!» [2, VII, 230]. Противопоставляя два вида заточения – добровольное и обязательное, – миллионер не подозревает, что в одиночестве узник может приобрести сильную мотивацию добровольного заточения. Она проявляется сразу в выборе из ряда дозволенных ему возможностей: «Ему разрешалось иметь музыкальный инструмент, читать книги, писать письма, пить вино и курить табак. С внешним миром, по условию, он мог сноситься не иначе, как молча, через маленькое окно, нарочно устроенное для этого. Всё, что нужно, книги, ноты, вино и прочее, он мог получать по записке в каком угодно количестве, но только через окно» [2, VII, 230-231]. Приоритетные предпочтения юриста определили его победу. В первый же год заключения он, несмотря на то, что сильно страдал от одиночества и скуки, отказался от вина и табаку, благоразумно заключив: «Вино <…> возбуждает желания, а желания – первые враги узника; к тому же нет ничего скучнее, как пить хорошее вино и никого не видеть. А табак портит в его комнате воздух» [2, VII, 231]. Дальнейший способ времяпрепровождения подтверждает движение узника по пути к подлинной духовности: «После десятого года юрист неподвижно сидел за столом и читал одно только Евангелие» [2, VII, 232]. Банкир же в очередной раз проявляет неискушенность: ему кажется странным, что «человек, одолевший в четыре года шестьсот мудреных томов, потратил около года на чтение одной удобопонятной и не толстой книги» [2, VII, 232]. Антонимы мудреный – удобопонятный, шестьсот томов – одна книга показывают всю меру заблуждений наивного миллионера, не видящего иного соотношения между сравниваемыми им источниками знаний: шестьсот мудреных томов как раз и стали для узника необходимой подготовкой к прочтению одной, не толстой книги, удобопонятность которой явно преувеличена. По мере приближения финала характер противопоставленности спорщиков изменяется всё более очевидно. Банкир лишается своих миллионов, ему грозит банкротство и возможное заточение, а юрист приобретает духовность, внутреннюю свободу, заставляющую его добровольно отказаться от миллионов и выйти до окончания спора из флигеля. Сила духа победила власть денег. По мере развития сюжета меняются антитезы повествования, вытесняясь главной для автора, основополагающей оппозицией – духовность и бездуховность, но и она претерпевает значительные изменения в финале рассказа, демонстрирующем условность и зыбкость этого противопоставления. Спор заканчивается неожиданно для обоих. Узник обрел ясность бытия в добровольном пятнадцатилетнем заключении на спор и отказался от денег, банкир озверел до такой степени, что, 125 Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки лишившись своих миллионов, готов стать убийцей. Но еще более неожиданно выглядит эпилог рассказа, в котором противопоставленность героев заметно стирается. Духовное возрождение узника, приговоренного разорившимся банкиром к смерти, но добровольно отказавшегося от миллионов, спасает его от физического уничтожения, а потенциальному палачу даёт шанс изменить своё отношение к жизни. Автор показывает метаморфозы, происходящие в только что готовом к убийству человеке, утверждая, что борьба духовного и бездуховного сопровождается более сложными последствиями, чем победа добра над злом. Значимость развязки не только в том, что узник обрел ясность бытия в добровольном пятнадцатилетнем заключении на спор и отказался от денег, но и в состоянии банкира, которое дает возможность надеяться еще на один его финал, связанный с письмом узника: Прочитав письмо, банкир положил лист на стол, поцеловал странного человека в голову, заплакал и вышел из флигеля. Никогда в другое время, даже после сильных проигрышей на бирже, он не чувствовал такого презрения к самому себе, как теперь. Придя домой, он лег в постель, но волнение и слезы долго не давали ему уснуть... На другой день утром прибежали бледные сторожа и сообщили ему, что они видели, как человек, живущий во флигеле, пролез через окно в сад, пошел к воротам, затем куда-то скрылся. Вместе со слугами банкир тотчас же отправился во флигель и удостоверил бегство своего узника. Чтобы не возбуждать лишних толков, он взял со стола лист с отречением и, вернувшись к себе, запер его в несгораемый шкап [2, VII, 235]. Главным богатством оказались не деньги в сейфе, имеющие способность исчезать так же, как и появляться, а письмо, положенное в несгораемый шкап. Рассказ, благодаря неожиданному концу, становится поучительной, глубокой по содержанию притчей. Из двоих поспоривших на прочность человеческого духа побеждает узник, но не проигрывает и судья, переживший некий катарсис под воздействием странного поступка, упредившего еще более низкое падение банкира. В рассказе становится ясной действенная правда не всегда понимаемой евангельской заповеди: если ударили по одной щеке, подставь другую. Связь жертвы и палача проявляется еще и в том, что мощь человеческого духа одного способна спасти не только себя, но другого. Возрождение банкира, проявляющееся в неожиданных для него переживаниях, настолько пронзительно, что каждому дает повод почувствовать презрение к самому себе, заставляет волноваться по поводу собственной человеческой ущербности и плакать о чем-то высоком, настоящем и несостоявшемся. Финал чеховской притчи однозначно и раз навсегда разрешает бесконечный спор о надобности смертной казни. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. М.; Л.: АН СССР, 1950-1965. 2. Чехов А.П. Полное собр. соч. писем. М.: Наука, 1974-1982. Т.В. Скрипка А.П. ЧЕХОВ В ОЦЕНКЕ В.В. МАЯКОВСКОГО Рассматривая проблему «Чехов и ХХ век», В. Гульченко сопоставляет драматургические открытия автора «Чайки» с сюрреалистическим театром Э. Ионеско, С. Беккета [4]; о творческих связях Чехова с искусством авангарда пишет В. Шмид [10]. С. Комаров размышляет над вопросами влияния Чехова-драматурга на новаторский театр Маяковского [6]. Полемично, но не безынтересно наблюдение В. Саянова: «У обоих та же чистота во всем – и во внешнем облике, и в отношениях с людьми. Та же глубоко спрятанная нежность, прикрытая улыбкой иронии» [3, 521]. Анализируя соотношение прозаического и поэтического механизмов в повествовательном наследии писателя, исследователь говорит о принципах стихотворного текста, нашедших отражение в прозе Чехова. О. Табачникова подтверждает эту мысль, замечая, что писатель «сократил разрыв между прозой и поэзией, а именно как бы насытил поэзией прозу» [9, 239]. В отношении 126 Раздел III. Литературоведение Маяковского мы также можем говорить о прозаизации лирики, использовании разговорного языка в высоких поэтических жанрах. Большинство исследователей творчества Чехова (В.Б. Катаев, А.П. Чудаков, И.Н. Сухих, В.И. Тюпа) отмечают такую черту художественного мира писателя и драматурга, как антропоцентричность [1]. Об антропоцентрическом характере творчества поэта пишут многие маяковеды: В. Альфонсов, Л. Кацис, Ф. Пицкель. Экзистенциальная проблематика также роднит обоих литераторов. Их интересуют вопросы одиночества, незащищенности, неустойчивости человеч еского существования, вины и ответственности, страха и свободы, смерти и бессмертия, долга и человеческого счастья, личного самоосуществления. Хорошо известно отношение авангардистского искусства к литературной традиции. Отрицая классическое наследие, оно стремилось противопоставить прежним эстетическим принципам новые каноны. И все же признание авторитетности некоторых писателей давало возможность определить свою позицию в сложной литературной жизни серебряного века. В 1913 «веселом году» литературное движение футуристов набирало силу: издание манифестов, олимпиады, концерты. «Футуристическое отрицание неба и традиции» (Ф. Степун) нашло отражение в эстетических декларациях, над которыми работал в это время Маяковский. В статье «Театр, кинематограф, футуризм» (1913), заявляя о гибели современного сценического искусства, «поработителя слова и поэта», он представил свою мечту о театре будущего, связанном с именами Чехова и Горького. Выступая в серии статей против обстановочного реализма наивных драматургов прошлого, поэт говорил о новом слове футуристов во всех областях творчества. «Вечную задачу искусства» он видел в «свободной игре познавательных способностей» [7, 17]. Очерк Маяковского «Два Чехова» (1914), приуроченный к десятой годовщине памяти писателя, представляет собой образец яркого эстетического манифеста нового искусства. Поэтавангардист, с присущей ему смелостью, приглашает писателя и драматурга в союзники фут уризма. Чехов хрестоматийный противопоставляется Чехову живому. Маяковский в духе того времени включает Чехова в династию «Королей Слова». Главная заслуга писателя, по Маяковскому, состоит в том, что он «внес в литературу грубые имена грубых вещей», дав возможность словесному выражению жизни «торгующей России» [7, 26]. С пылом полемиста Маяковский вступает в заочный спор с мнимым критиком старого толка, который видит в Чехове «певца сумерек», «защитника униженных и оскорбленных» [7, 22]. Его читатели, подобные героям Чехова, вешают на автора привычные ярлыки: «обличительсатирик», «юморист». Поэт-оратор заявляет прямо: «…я говорю о другом Чехове». Чехов становится для Маяковского знаменем борьбы за новую литературу, т.к. творчество писателя и драматурга может быть оценено как переходный этап от классической к неклассической системе эстетических координат, недаром существует мнение, что наследие Чехова открывает серебряный век русской культуры. Многие мысли очерка перекликаются с лозунгами футуристических деклараций «Слово как таковое», «Садок судей I, II». Маяковский продолжает ниспровергать признанные авторитеты реалистов XIX века: «Литература до Чехова, это – оранжерея при роскошном особняке «дворянина». Тургенев ли, все, кроме роз бравший в перчатках, Толстой ли, зажавши нос, ушедший в народ, – все за слова брались лишь как за средство перетащить за ограду особняка зрелище новых пейзажей, забавляющую интригу или развлекающую филантропов идею» [7, 26]. Называя Чехова «автором разночинцев», Маяковский видит в нем прежде всего новатора тем и языка. Превращая Чехова чуть ли не предтечу русского авангарда, поэт утверждает: «Все произведения Чехова – это решение только словесных задач» [7, 27]. «Чехов высшую драму дает простыми «серыми» словами» [7, 28]. Автор «Чайки» приглашается в соратники авангардному искусству»: «Под стук топоров по вишневым садам распродали с аукциона вместе с гобеленами, с красной мебелью в стиле полутора дюжины людовиков и гардероб изношенных слов». «Воспитанному уху, привыкшему принимать аристократические имена Онегиных, Ленских, Болконских, 127 Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки конечно, как больно заколачиваемый гвоздь, все эти Курицыны, Козулины, Кошкодавленки» [7, 26]. В очерке «Два Чехова» с наибольшей силой проявляет себя унаследованное от футуристической юности свободное и фамильярное обращение с авторитетами. Чехов Маяковского – «сильный, веселый художник слова», «эстет разночинцев» – противопоставлен искусству XIX века. Перед нами крайне субъективная и вместе с тем высокая оценка творчества А.П. Чехова, признание прежде всего его формального мастерства: «Рядом с щелчками чеховских фраз витиеватая речь стариков, например, Гоголя, уже кажется неповоротливым бурсацким косноязычием. Язык Чехова определен, как «здравствуйте», прост, как «дайте стакан чаю» [7, 28]. Существенное значение приобретает гражданская позиция Маяковского – защитника «живых» писателей, выступающего против литературы о них: «Разменяют писателей по хрестоматиям и этимологиям и не настоящих, живших, а этих, выдуманных, лишенных крови и тела, украсят лаврами» [7, 23]. Разбираясь в процессе творчества и влияния его на жизнь, поэт-авангардист отмечает: «Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помои – безразлично» [7, 27]. Анализируя современные ему постановки чеховских пьес, Маяковский с горечью констатирует, что режиссеры пользуются старым языком Островского, тогда как театр Чехова требует нового словесного выражения. Выступая на диспуте «Художник в современном театре» 3 января 1921 года, поэт иронизирует: «…валяй, декоратор; видел, как весной вишневый сад цветет? <…> Это потому, что пришедшие сюда пять-десять тысяч человек требуют здесь прежде всего зрелища, а не того, что дает Чехов» [7, 130-131]. Создавая новую концепцию театрального искусства, Маяковский представляет поэта-актера, унифицирующего старую драму. В. Розанов приписал больному Чехову мысль: «Люблю смотреть, как человек умирает», Маяковский сделал ее отправным тезисом своего стихотворения «Я люблю смотреть, как умирают дети» (цикл «Я»). Самая скандальная строчка, истолкованная как эстетическая провокация, проявление скоморошества, шутовства и даже «извращенное чувство садиста-авангардиста», восходит, по мнению Л. Кациса, к произведению И. Анненского «Трилистник тоски» [5, 26]. Почитание смерти ребенка через призму религиозной традиции получает глубокий символический подтекст: дети умирают безгрешными, и Бог любит смотреть на их кончину. Л. Брик писала по этому поводу в «Анти-Перцове»: «Смысл этого стихотворения: жизнь полна страданий, и тоски, и ощущения одиночества. Чем раньше кончится такая жизнь, тем лучше для человека» [2, 61]. В знаменитом стихотворении Маяковского «А вы могли бы?», как полагает О. Табачникова, звучит вопрос, который мог быть задан Чеховым и Довлатовым [9, 254]. В нем сублимировалась сущность восприятия жизни и искусства писателями и поэтом. Им действительно было дано больше, чем обычным людям, и они оправдали свое предназначение. Изучены творческие взаимосвязи Чехова и Толстого, Чехова и Бунина, Чехова и Горького. Литературные отношения Чехова и Маяковского еще нуждаются во вдумчивом рассмотрении. И пусть Маяковский ведет лишь заочный диалог с Чеховым, это не умаляет его значения в контексте большой литературы. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Чехов А.П.: pro et contra. Творчество А.П. Чехова в русской мысли конца XIX – начала XX века (1887–1914). Антология / сост., предисл., общая ред. И.Н. Сухих; послесл., примеч. А.Д. Степанова. СПб.: РХГИ, 2002. (Серия «Русский путь»). 2. Брик Л. Из материалов о В.В. Маяковском // Литературное обозрение. № 6. 1993. 3. Маяковский В.В. в воспоминаниях современников. М.: Гослитиздат, 1963. 4. Гульченко В.В. Чехов и ХХ век // Искусство. Приложение к газете «Первое сентября», 1998. № 19 (91), май. Специальный выпуск. 5. Кацис Л.Ф. Владимир Маяковский. Поэт в интеллектуальном контексте эпохи. М.: Языки русской кул ьтуры, 2000. 6. Комаров С.А. А. Чехов – В. Маяковский: комедиограф в диалоге с русской культурой конца ХIX – первой трети ХХ в. Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2002. 128 Раздел III. Литературоведение 7. Маяковский В.В. Собр. соч.: в 12 т. М.: Правда, 1978. Т. 11. 8. Розанов В.В. Чехов А.П. // bibliotekar/ru/rus-Rozanov/63htm. 9. Табачникова О. От Чехова к Довлатову: «прославление бесцельности», или поэтика, оказывающая с опротивление тирании // Философия Чехова: мат-лы Междунар. науч. конф. Иркутск. 27 июня – 2 июля 2006 г. / под ред. А.С. Собенникова. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2006. 10. Шмид В. Проза как поэзия: Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард. СПб.: ИНА-ПРЕСС, 1998. Б.М. Слуцкий НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ЖУРНАЛИСТИКЕ Попытки найти в различных учебных пособиях и даже солидных монографиях по теории журналистики обстоятельный раздел, посвященный научной проблематике в СМИ, как правило, терпят неудачу. Иными словами, тема научной проблематики в журналистике разработана слабо. Ученые в этом обвиняют теоретиков журналистики, те, в свою очередь, ссылаются на некую закрытость научного сообщества. Между тем, сами ученые нередко сетуют на недостаточную активность и компетентность СМИ в защите интересов науки. Но ведь отворяют дверь тому, кто в нее стучит. Хотя всем очевидна ведущая роль науки в современном мире. И чем больше она возрастает, тем больше возникает проблем. Эти проблемы можно выделить в следующие блоки. 1. Собственно научные проблемы. Они разрешаются самой наукой в процессе исследований фундаментальных и прикладных с выходом на внедрение. 2. Проблемы организации науки, управления научно-исследовательскими и опытноконструкторскими разработками, финансирования науки. 3. Проблемы популяризации науки, решение которых преследует цели просвещения масс. Вспомним крылатую фразу К.Маркса: наука становится материальной силой, когда идеями овладевают массы. В принципе это высказывание тождественно постулатам Бекона – «Знание – сила», и Декарта – «Идеи правят миром». 4. Нравственные проблемы науки, которые должны разрешаться на основе гиппократовского принципа «Не навреди!», хотя многие ученые считают, что наука, тем более естественная, никакого отношения к нравственности не имеет. 5. Проблемы профессиональной этики науки. Они особенно актуальны в условиях рынка, на котором достижения научной мысли становятся товаром. 6. Правовые проблемы науки. Развитие законодательной базы для повышения роли и значения науки, защита авторских и смежных прав, патентоведение, информационная безопасность. Как видим, для научной журналистики есть обширное поле деятельности. А теория молчит и рекомендаций не дает, как развивать это направление. И не только в специализированных научных журналах, но и в массовых СМИ. Возникает парадоксальная ситуация. С одной стороны, общеизвестно, что научная журналистика существует многие века – сначала как просветительская, популяризаторская, затем в качестве ее ответвления родилась специализированная, ориентированная на внутренние проблемы науки, обслуживая интересы сообщества ученых. С другой стороны, ни рубрики и разделы науки в массовых СМИ, ни многочисленные научные журналы не стали объектом теоретического анализа наряду с проблематикой политической, экономической, социальной т.д. Больше того, многие специалисты, занимающиеся историей журналистики, склонны считать, что профессия научного обозревателя в наше время вырождается. Журналистика, по их мнению, больше заинтересована освещать науку в ее практическом, прикладном значении. Что касается фундаментальных исследований, то это, мол, внутреннее дело самого сообщества ученых. Этот парадокс имеет свои причины и вполне объясним. Дело в том, что на всем протяжении истории человечества, вплоть до второй половины ХХ века наука была служанкой политики и экономики и не имела самостоятельного значения. Впервые о возрастающей роли науки в обществе заговорили марксисты, выдвинув идею управления обществом на научной основе. Однако эта идея дискредитирована самой практикой строительства социализма, суть которой заключалась в том, что, во-первых, в верховенстве по- 129 Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки литэкономии, во-вторых, игнорировались мнения ученых при принятии судьбоносных решений. Или брались на вооружение псевдонаучные теории и гипотезы, в основе которых лежала идеология, а не научная истина. К чему это привело – общеизвестно. Что касается западной цивилизации, то у нее наука – в гораздо большей чести, но опять же – в роли служанки и используется она в основном опять же в прикладных целях. Возникает вопрос: наука так и останется Золушкой в услужении у барынь или станет принцессой – ведущей силой развития цивилизации независимо от форм ее общественного устройства? Для правильного ответа на этот вопрос обратимся к трем глобальным революциям. Первая – аграрная, позволившая человечеству перейти от примитивного, по существу первобытного способа добывания средств существования к технологии, основанной на познании законов природы. Так родились агротехника и селекция, снявшие проблему дефицита продовольствия и другой продукции сельского хозяйства. Вторая революция – промышленная, в результате которой пройдены два принципиально важных исторических этапа. Их можно свести к диаметрально противоположным системам: «Машина – человек», в которой человек обслуживает машины и механизмы и в которой превалирует физический труд, и «Человек - машина», в которой человек управляет машинами, механизмами, технологическими линиями и в которой превалирует интеллектуальный труд. В ходе развития промышленной революции эффективно использовались достижения фундаментальной и прикладной науки, она, в свою очередь, утрачивала энциклопедизм, разветвляясь на многочисленные дисциплины и направления. На втором этапе, ознаменованном рождением индустриального общества, специализация научной деятельности стала массовым явлением. По мере становления и развития многочисленных дисциплин увеличивался объем научной информации, в ХХ веке он приобрел характер информационного взрыва, возрастая по геометрической прогрессии. Это привело к внедрению информационных технологий с применением кибернетики и математического моделирования. Человечество вступило в постиндустриальное общество, которое переживает третью революцию – информационную или научную, понятия, ставшие в наше время идентичными. Еще говорят о «третьей волне» развития цивилизации. Заметим: это очень важное явление. Однако эти процессы породили ряд интересных феноменов и проблем, на которых в рамках нашей темы следует остановиться. 1. Использование большого объема информации в процессе научных исследований привело к поистине вавилонскому столпотворению в мире науки, когда узкая специализация породила разноречие среди ученых, скажем, специалисты, работающие в разных областях физики, не понимают друг друга, не говоря уже об отсутствии взаимопонимания представителей не только разных отраслей знания, но и смежных дисциплин. Издание огромного количества научных журналов, обмен базой данных по компьютерным сетям, всякого рода симпозиумы и научные конференции лишь отчасти компенсировали дефицит актуальной научной информации в огромном океане избыточной. 2. Информация стала не только ведущим инструментом науки, но и общества в целом. Тем самым сбылись пророческие слова отца кибернетики Норберта Винера: «Кто владеет информацией, тот владеет всем миром». Чем не Архимедов рычаг, с помощью которого можно перевернуть весь мир? Кстати, уместно и другое глубокое по смыслу замечание Винера: человек имеет огромное преимущество перед коровой потому, что располагает большим объемом информации. 3. Парадокс дефицита актуальной информации на фоне информационного взрыва стал проблемой не только для научного мира, но всей цивилизации в целом. Сложившиеся десятилетиями стандарты образа жизни, системы управления, образования, межличностных отношений положение не спасают. Динамичное развитие человечества в глобальном масштабе требует принципиально нового подхода к получению, обработке и использованию информации во всех сферах деятельности. Итак, если энциклопедизм был возможен вплоть до второй половины XIX века, то затем на смену ему пришло принципиально новое – специализированное знание. И не только в области науки. 130 Раздел III. Литературоведение Как на эти феноменальные изменения реагировали сами ученые, литераторы, журналисты? Приведу только несколько имен: поэта Бориса Слуцкого, английского физика и писателя Сноу, литературного критика Владимира Турбина, французского физика и философа Абраама Моля. Итак, где и когда состоялись публичные выступления поэтов-шестидесятников – Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского? Правильно: в Москве, в Политехническом музее, в 60-е годы. Это глубоко символично. Лирики оказались в лоне святая святых научно-технического прогресса. Казалось, вот оно единство лириков и физиков, еще и потому, что среди слушателей большинство были представителями научной и технической интеллигенции. Но такое духовное единство не снимало противоречий между двумя потоками информации – научной и обыденной, общечеловеческой. На это обратил внимание Сноу в своей нашумевшей Кембриджской лекции «Две культуры»: «На одном полюсе – культура, созданная наукой. Она действительно существует как определенная культура не только в интеллектуальном, но и в антропологическом смысле. Это значит, что те, кто к ней причастен, не нуждаются в том, чтобы полностью понимать друг друга, что и случается довольно часто. Биологи, например, сплошь и рядом не имеют ни малейшего представления о современной физике. Но биологов и физиков объединяет общее отношение к миру; у них одинаковый стиль и одинаковые нормы поведения, аналогичные подходы к проблемам и родственные исходные позиции. Эта общность удивительно широка и глубока. Она прокладывает себе путь наперекор всем другим внутренним связям: религиозным, политическим, классовым». Сноу рассказывает о встрече ученого с литератором. На вопрос, в чем суть современной картины мира, ученый резонно ответил, что вряд ли из его рассуждений что-либо возможно понять. Тогда литератор предложил: «Давайте говорить стихами». Они перешли к сонетам Шекспира и сразу нашли общий язык. Сноу, соединивший в себе талант ученого и писателя и понимая причины противоречий между двумя культурами – культурой, созданной естественными науками, и культурой гуманитарной, созданной общественными науками, литературой и искусством, говорил в своей лекции о том, что пропасть между ними увеличивается. Если раньше любой писатель был в курсе основных открытий в науке, а ученый знаком с новинками литературы, то теперь оба они обитают в разных отсеках и не понимают друг друга. Такое противоречие нашло отражение в острой дискуссии «физиков» с «лириками», спровоцированной в конце 60-х годов поэтом Борисом Слуцким и литературоведом Владимиром Турбиным. Первый – стихотворением «Физики и лирики», второй – публицистическим эссе «Товарищ время и товарищ искусство». Физики и лирики Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе. Значит, что-то не раскрыли мы, что следовало нам бы! Значит, слабенькие крылья наши сладенькие ямбы, и в пегасовом полете не взлетают наши кони... То-то физики в почете, то-то лирики в загоне. Это самоочевидно. Спорить просто бесполезно. Так что даже не обидно, а скорее интересно наблюдать, как, словно пена, 131 Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки опадают наши рифмы и величие степенно отступает в логарифмы. Поэт обращает внимание на очевидный факт: рост авторитета и популярности физиков продиктован логикой мирового закона – мощным вторжением научно-технического прогресса в размеренную жизнь планеты. Литература и поэзия, как ее часть, прозевали, не раскрыли то, что всегда доселе делали, оперативно откликаясь на все значительные перемены или, еще лучше, предвосхищая их. Лирик упорно продолжал копаться в собственной душе, не замечая грохота космодромов, наивно полагая, что зеленая трава у дома своего является неизменным символом эпохи. Журналистика, напротив, эти перемены увидела. В СМИ тех лет развернулись дискуссии о путях развития человечества. Они опубликовали ряд резких высказываний молодых ученых о бесперспективности влияния искусства на умы и сердца миллионов людей, заявив, что в век освоения космоса и ядерной энергией другие открытия будут волновать человека. Поэтому, как возвестил на страницах «Комсомольской правды» инженер Полетаев, космонавты не будут брать с собой в полет веточку сирени. Публиковались призывы особо горячих поклонников науки и техники сбросить за борт современности Пушкина, Блока и Есенина. Многомесячная дискуссия ученых, писателей, философов, просто рядовых читателей на тему «Нужна ли ветка сирени в космосе?» завершилась открытым письмом Ильи Эренбурга. Мнение писателя оказалось понятным и простым: пока человек жив на земле со своими страстями, чувствами, мыслями, ему будет дорога и ветка сирени, и поэзия души, и романтика подвигов. Конечно, если на смену ему придет человеко-робот, или как сейчас говорят, терминатор, тогда не только смерть – искусству, но и науке тоже, потому что великие открытия невозможны без человеческих эмоций. Несколько с другой стороны подошел к обсуждаемой проблеме Владимир Турбин. Сопоставляя поэзию футуристов, в частности Маяковского, живопись кубистов, раннего Пикассо, с поэзией Андрея Вознесенского, Турбин убеждал читателей, что у литературы, искусства много общего с наукой, они по - своему отражают перемены, привнесенные научно-техническим прогрессом. Иными словами, литература, искусство и журналистика позволяют смотреть на мир в свете научных открытий. И, следовательно, жить в этом мире надо по-новому, отказываясь от сложившихся веками стереотипов мышления. Весьма характерен и такой факт. Крупный специалист в области филологии, пушкинист Борис Мейлах стал инициатором исследований искусства и литературы методами естественных наук, для чего привлек большую группу ученых с мировым именем. Под его редакцией вышли коллективные монографии. Тем самым, он доказал, что между наукой и искусством нет непреодолимой преграды. Все дело – во взаимопонимании и в общих целях. Действительно, в наше перенасыщенное информацией время трудно провести грань между двумя культурами. В те же годы вышла фундаментальная работа Абраама Моля «Социодинамика культуры». На обширном статистическом материале он показал, что, – во-первых, мы имеем дело с мозаичной культурой, с хаотичными вкраплениями в нее разноплановых элементов двух культур, носителем которой является практически каждый мало-мальски образованный человек; – во- вторых, подавляющее большинство ученых черпает информацию об открытиях в разных отраслях знания не из научных журналов, а из СМИ, что объясняется самой спецификой журналистики – оперативно информировать о настоящих сенсациях, не вдаваясь в детали. Если раскрыта суть открытия и назван адресат, то ученому не составляет большого труда разобраться во всем остальном. Тем самым, французский физик и философ подвел итог дискуссиям о том, кто сегодня в доме хозяин, доказав мнимость самого конфликта и высоко оценив роль СМИ в обмене научной информацией. Какие выводы мы можем сделать? 1. Так как человечество вступает в эпоху информационного общества, журналист принимает непосредственное участие в его эволюционном развитии. А также сама журналистика находится 132 Раздел III. Литературоведение в потоке изменений в науке и призвана выполнять мощную коммуникативную функцию в этом процессе. 2. В ходе своего динамичного роста наука заняла ведущее место в современном мире. Это очевидный факт. Поэтому те государства, которые считают развитие науки своим главным приоритетом и оказывают ей финансовую, организационную, правовую поддержку, естественно, имеют большие перспективы. Но для этого недостаточно политической воли, надо располагать соответствующими ресурсами. СМИ в данной ситуации становятся не только пропагандистами государственной политики в сфере науки, но и обеспечивают общественный контроль за реализацией крупных проектов, причем не только на федеральном уровне, но на региональном, в том числе и на муниципальном. Таганрог, несмотря на серьезные издержки перестройки и экономический кризис, сегодня располагает солидным научно-техническим комплексом. Поэтому для местных СМИ есть немало возможностей влиять на эти процессы. Теперь более конкретно остановимся на основных направлениях научной проблематики в СМИ. Собственно научные проблемы Имеются в виду направления научно-исследовательской деятельности. Они многообразны, имеют свою методологию и методику, приоритеты, проекты, инструментарий, кадры, производственно-техническую базу. Задача СМИ заключается в широком и компетентном освещении этой работы в следующих целях: – привлечения внимания широкой общественности к магистральным направлениям научноисследовательской деятельности, тенденциям и перспективам развития науки; – оценки эффективности науки, последствий ее деятельности; – повышения познавательного интереса своей аудитории. Как отмечают многие критики, качественную научную журналистику можно встретить все реже, в СМИ преобладает создание упрощенных, банальных и нарочито сенсационных новостей. Всюду новости, больше новостей, чем громче и пошлее заголовок, тем лучше. Достаточно и одних заголовков. Наука в заголовках. Можно подумать, что научная журналистика превратилась исключительно в поставщика сенсаций, вместо того, чтобы вдумчиво информировать публику о возможностях новых технологий и предупреждать о возможных последствиях, вникая во все детали научной работы. Впрочем, мировой рынок быстро уловил тенденцию и приспособился к такому положению вещей: новости и поверхностные статьи, которые пишутся на коленке за два часа, менее затратные. Формат новостного агентства выгоднее в данном случае, нежели полноценный научнопопулярный журнал или раздел о науке в газете. Последние требуют содержать штат профессионалов, которые готовят качественные репортажи о сложных исследованиях с переднего края науки. А профессионалам надо хорошо платить. Ученые давно уже говорят о том, что СМИ плохо освещают научные достижения, а вскоре они рискуют вообще не увидеть никакого ее освещения. Джим Корнелл, президент Международной ассоциации научных писателей , заметил, что критический жанр почти отсутствует в научной журналистике. В то время как он нужен. Множество людей и целые народы сегодня зависят от достижений науки и техники, которые помогают улучшить здоровье, экономику и поднять в целом качество жизни. научная журналистика упустила свои шансы, не поспевая за быстрыми изменениями в науке и обществе, в итоге ее место заняли другие поставщики информации, альтернативные. Люди удовлетворяют свой интерес к науке через нетрадиционные медиа в интернете, блоги, частные СМИ, которые выпускаются группами с определенными интересами, а потому не могут претендовать на объективность. Традиционный научпоп больше не нужен: тиражи журналов и рейтинги программ о науке на радио и ТВ падают. Такое положение дел угрожает существованию научной журналистики. Заставляет задуматься над ее будущим. Надо что-то менять, но что именно? Научной журналистике нужны литераторы и иллюстраторы Спасение научной журналистики – в применении повествовательного жанра. Хороший литературный стиль и умение рассказывать истории таят в себе неисчерпаемые возможности. Различные литературные приемы из арсенала писателей, включая красочное описание мест и полно- 133 Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки ценную характеристику людей, расширяют функции рассказа. С их помощью можно не только оповещать и образовывать, но и развлекать людей, одновременно разъясняя научные теории и показывая сложный, полный нюансов портрет ученых. Недостатки повествовательной журналистики, когда эмоциональная субъективность заменяет холодную объективность, очевидны: преувеличение, передергивание фактов и неточности. Точность пересказа приносится в жертву описательности и яркости истории. Даже учитывая строгий редакционный контроль качества, повествовательная журналистика требует тесного сотрудничества с учеными. Ученые по доброй воле становятся активными участниками коммуникативного процесса, и что важнее всего, разделяют свои чувства и эмоции с репортерами и соответственно с широкой публикой. Что каждый журналист должен знать о науке? По большому счету, нет какой-то отдельной научной журналистики, так же как нет балетной журналистики или страховой журналистики. Журналист должен уметь писать на любую тему одинаково хорошо. Существует множество изданий и программ, где журналист освещает сразу несколько тем, среди которых и наука, у него нет времени штудировать научные монографии, пролистывать научную периодику и вести долгие беседы с академиками. Тем не менее, сегодня он рассказывает про сверхпроводимость, а завтра про магниторезонансную томографию. Значит, чтото о науке и ученых он знать все-таки должен? Кому и зачем нужна популяризация науки в журналистике? Наука – это коллективная познавательная деятельность человечества. Поскольку она ведётся уже много веков, успеха в ней, как правило, могут достичь только специалисты, потратившие много лет на профессиональную подготовку. В своей работе они пользуются специальным языком, который зачастую только им и понятен. И тем не менее, свою познавательную деятельность они ведут в интересах всего человечества, что выражается в преимущественно общественном финансировании науки. Популяризация науки – это перевод добытых в ходе научного поиска знаний на язык, доступный неспециалистам. В такой форме общественная познавательная миссия науки достигает реализации. И поэтому наука обязана содействовать такому переводу, то есть популяризации. В противном случае у неё нет морального права претендовать на государственное финансирование в демократическом обществе. Многие учёные считают, что замечательных достижений науки и техники достаточно, чтобы навечно обеспечить интерес и уважение публики к науке. Это заблуждение. Поведение публики подчиняется закономерностям массовой психологии – то, о чём постоянно не напоминают, выпадает из её внимания, то, что не обновляется, становится для нее скучным. Итак, кому и зачем нужна популяризация науки в СМИ: 1. Науке – для оправдания своего существования в глазах общества (общая популяризация); для поддержания взаимопонимания между учёными разных специальностей и для привлечения в науку новых кадров (специальная популяризация). 2. Государству – для повышения уровня адекватности принятия решении, как на ответственных постах, так и при изъявлении общественного мнения. 3. Бизнесу – в стратегическом плане для обеспечения притока квалифицированных кадров. 4. Обществу – для удовлетворения фундаментальной потребности каждого человека знать, в каком мире нам всем довелось провести жизнь; для поддержания стандартов критического мышления, которые являются первоосновой устойчивого развития общества. На кого она должна быть в первую очередь рассчитана? На учащуюся молодёжь (потенциальное будущее науки), на учёных из разных областей (как консолидирующий элемент), на широкую публику? В настоящее время главной должна быть направленность на широкую публику. Специальная популяризация в той или иной мере ещё осуществляется в университетах и в хороших школах. Главная угроза науке в России – это даже не недостаток финансирования, а стремительная утрата интереса и доверия к ней у населения и подмена критического научного мышления псевдонауч- 134 Раздел III. Литературоведение ными и псевдорелигиозными мифами. Этот процесс зашёл уже достаточно далеко и стал оказывать заметное влияние на работу органов власти и самой науки. Индустрия развлечения заметно теснит и даже подменяет собой в журналистике культурно-познавательную функцию. Легализация НЛО, астрологии, оккультизма и т.п., выдвижение в СМИ безответственных гипотез (вроде новой исторической хронологии) стали медиаповседневностью. Более того: первый признак лженаучных «открытий», по авторитетному мнению академика Э. Круглякова, в том и состоит, что они «становятся достоянием общественности исключительно через СМИ, а не через специализированную научную прессу» (Огонек. 2003. № 16. С. 34). В итоге же получается так, что журналисты своими руками ведут людей к одичанию. Существует, правда, Комиссия по борьбе с лженаукой АН РФ, представители которой время от времени высказываются публично (например, в «Комсомольской правде», том же «Огоньке»), однако влиятельность их выступлений сравнительно невелика. Сегодня научное просветительство в СМИ становится всё более приземленным, прикладным, информационно-практическим, и неудивительно, что на передний план выдвигается популяризация экономических, юридических и медицинских знаний, подаваемых в гуманитарнопрагматической плоскости. Т.Г. Чиковани ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА И ЕГО ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ В последние годы творчество поэта Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) вызывает все больший интерес, что обусловлено многогранностью и глубиной его деятельности, охватывающей области как искусства и литературы, так и философии и культуры в целом. Многогранность творчества поэта предопределяет некоторые особенности того положения, которое он занимает в литературном процессе рубежа XIX – XX веков. Его литературное наследие представляет собой сложное художественное единство, которое трудно подвергнуть анализу, не нарушая целостности, отсюда сложности в его рассмотрении. Так, на всем протяжении изучения творчества поэта неизменно подчеркивалась особая позиция автора – «над схваткой», наиболее ярко проявившаяся в годы гражданской войны, с той лишь разницей, что советское литературоведение резко осуждало такой подход к изображению исторических событий, утверждая, что «Аполитичность помешала поэту прикоснуться к советской нови, накладывала на его произведения печать архаики» [10]. В 90-е же годы она, напротив, нашла отклик и понимание, как позиция человека в полной мере осознавшего глубину трагедии, разыгравшейся в его Отечестве [9]. Однако позиция «над схваткой», рассматриваемая как идеологический аспект творчества Волошина, лишь один из общепринятых пунктов, не вызывающий сомнения. В остальном же исследователи так и не приходят к желанному единству. Литературное наследие Волошина рассматривается эпизодически, фрагментарно, в связи с определенными биографическими подробностями, либо узко тематически. В.П. Купченко утверждал, что на судьбу Волошина повлияли три обстоятельства, которые и меняли направленность его поэзии, однако акцент он делал на внешних событиях и не рассматривал сложной внутренней работы, происходящей в сознании поэта. Вот эти обстоятельства: – жизнь в Париже и увлечение творчеством поэтов-парнасцев, под влиянием которых поэзия Волошина этого периода представляет собой «не столько признания души, сколько создание искусства» (В. Брюсов); – первая мировая война, когда поэт глубоко переживал трагедию, охватившую народы Европы и «молился о том, чтоб "не разлюбить врага"» [13]; – и, наконец, русская революция, когда позиция «над схваткой» нашла свой выход в стихах. С ними и соотносит Купченко периодизацию творчества поэта, опираясь на факты биографии Волошина и исторические изменения, происходившие на государственном и общечеловече- 135 Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки ском уровне в этот период. Безусловно, названные выше факторы повлияли на судьбу Волошина как поэта. Но нам бы хотелось отвлечься от социально-политических условий и обратить внимание на внутренние, неявные причины изменений в поэзии М.А. Волошина. В учебном пособии Л.А. Колобаевой творчество Волошина представлено как творчество поэта исключительно аполлонического типа и противопоставлено творчеству поэта дионисического – Вяч. Иванова. «Символисты (прежде всего Вяч. Иванов) разработали целую своеобразную теорию «дионисизма» и «аполлонизма» как двух способов отношения к миру, двух важнейших сторон человеческого духа, извечно ему свойственных» [11], – пишет она в своей работе «Русский символизм». Нам хорошо известно, что основополагающую роль в выявлении этих двух начал искусства сыграла работа Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1869–1871) [14]. Две стихии, занимающие человеческое существо и получившие индивидуализацию в образах античных богов Аполлона (сила порядка) и Диониса (стихия хаоса), интересуют философа. Ницше раскрывает нам природу этих божеств, как способ объяснения мира в античной мифологии. С этих же позиций он объясняет нам и природу творчества. Ницше рассматривает его как аполлоническое сновидение, в котором творец может видеть себя, охваченным дионисическим порывом, и осознавать это состояние. Это «символическое подобие сновидения», воплощенное в искусстве, примиряет два, на первый взгляд, взаимоисключающие начала: только посредством аполлонического может быть осознано и выражено дионисическое, в то же время, утратив дионисическую глубину, аполлоническое искусство рискует стать холодным и безжизненным. Л.А. Колобаева, исходя из этого положения, отмечает, что аполлоническое и дионисическое начала способны соединяться в творчестве одного поэта, «уступая друг другу первенство» [11], и в зависимости от преобладающего признака она выделяет дионисический тип лиризма и аполлонический. Безусловно, в определенный момент в творчестве Волошина ярко проявились черты аполлонизма, склонность к гармонии и взаимообусловленности формы и содержания. Однако, одним этим не исчерпывается вся глубина его поэзии и, отсылая нас к определенному эпизоду творческой биографии Волошина, Колобаева не дает нам представления о дальнейшем развитии поэта. М.А. Яковлев рассматривает эволюцию творчества Волошина на уровне темы и системы образов. Он выделяет три периода в творческой биографии поэта, которые можно представить как последовательное развитие основных тем: темы культуры, темы человека как «странника по вселенным» и темы Земли [9]. Они, по мнению автора, последовательно раскрываются в первые два периода творчества поэта, которые связаны с книгами лирики «Годы странствий» и «Selva oscura», относимые им к первому периоду творчества, и книгой о войне и революции «Неопалимая Купина», которую он относит ко второму периоду. Впоследствии эти темы складываются в сложный образ Родины, объединяющий в себе все устремления поэта, осознающего свою причастность к судьбе России и невозможность иного пути, кроме как разделить вместе с ней ее участь. «Окончательное знание, образ пути и судьбы России раскрывается в поэзии Волошина третьего периода, который связан с произведениями, созданными после 1924 г.», – пишет Яковлев. Он подчеркивает метаисторичность взгляда Волошина на судьбу России, которую он видит как «крестный» путь искупления и очищения для всего человечества через пожары войн и революций. Образ Родины здесь соединяется с образом Богоматери, который для Волошина есть символ веры. Яковлев, прослеживая развитие основных тем поэзии Волошина, отмечает структурно-тематическую связанность всего его творчества. Важным в его концепции является то, что он представляет тему в эстетике символизма «своеобразным сверхсимволом, «телеосом» (греч.) – причиной, расположенной не в начале пути, а в конце, т. е. духовным образом, который пытается обрести и воплотить поэт в своем творчестве» [9]. И творчество Волошина он предлагает рассматривать через развитие «центральных художественных символов» его поэзии. При этом Яковлев подчеркивает тесную связь содержания и формы в поэзии Волошина. По его мнению, поэт стремится к «оформлению» содержания и ведет поиск достойной формы. В первый период это выражается в пристрастии к форме сонета, во второй – в обращении к верлибру, «творческое «освобождение» от привычной поэтической формы, преодоление ее «содержательной» наполненностью стиха» [9]. Другая важная особенность творчества поэта, которую отмечает Яковлев, – телесность образов. Лирика Волошина не 136 Раздел III. Литературоведение «музыкальна», как лирика большинства символистов, она направлена на зрительное восприятие. Это больше поэзия мыслителя и живописца, чем лирика и музыканта. Несомненно, все вышесказанное верно. Однако, опираясь лишь на одну из сторон в рассмотрении творческой судьбы Волошина, мы неизбежно утрачиваем ощущение той целостности, которая и составляет неповторимую особенность творчества поэта. Толкование его, опирающееся лишь на факты биографии и исторической обстановки, сужает возможности понимания, так же как и объяснение его произведений, основанное лишь на анализе достоинств средств образности и новизне того или иного художественных приема. С.С. Аверинцев считает, что поэзию невозможно объяснить из одной лишь биографии поэта, так же как и «творчество есть творчество постольку, поскольку, ориентируясь на внутрилитературные координаты, оно к ним не сводится» [1]. Мы не вправе рассматривать творчество как автоматическое подражание действительности и последовательное соблюдение тех или иных приемов того или иного течения в искусстве. Это всегда нечто большее. Нам хотелось бы уловить взаимосвязь творца и творения, их взаимообусловленность. Для Волошина поэт – это прежде всего «зеркало» своей эпохи. Я – глаз, лишенный век. Я брошено на землю, Чтоб этот мир дробить и отражать... – пишет он в своем стихотворении «Зеркало» 1905 года [5]. Посредством творчества художника эпоха и соответствующая ей культурная парадигма находят свое художественное воплощение и утверждаются в жизни. Но, с другой стороны, он, художник, неповторимая индивидуальность и то, что он изображает, неизбежно проходит сквозь призму его миропонимания, его представления. Таким образом, в искусстве раскрывается мир не такой, какой он есть, а такой, каким его видит творец. Собственный внутренний мир художника изменяет изображаемое и позволяет читателю взглянуть на вещи по-иному, так, как стало возможно лишь благодаря ему. Искусство и весь мир становятся в его осмыслении неизбежно иными, такими, какими их увидел автор. Художник наполняет жизнь новым смыслом, творит новую действительность. Это тот же самый мир, действительность в ее особом измерении, которое расширяет пространство действительного. Эту тонкую взаимосвязь внешнего мира и внутреннего, эту целостность поэтической личности мы бы и хотели раскрыть, говоря о судьбе Волошина, как поэта. Взаимовлияние творчества и судьбы художника может быть понято с помощью понятия литературная позиция, в котором раскрывается взаимовлияние творчества и судьбы художника. «Литературная позиция – это необходимое литературное понятие, которое обозначает новую исследовательскую интенцию: предметом понимания становится не столько творческий путь художника, опредмеченный поэтическими достижениями, сколько иное этого пути – творческая индивидуальность его избирающая» [7]. Таким образом, произведение предстает как единственная для поэта возможность самореализации и самовыражения. Литературная позиция художника будет рассматриваться нами как «миропонимание посредством литературы, литература как способ жизнеутверждения» [7]. В этом смысле Волошин предоставляет нам уникальную возможность, проследить весь этот процесс. Чем ближе мы знакомимся с его произведениями, тем больше нас охватывает подозрение, что все, что создавалось художником, складывается в одну книгу с комментариями: почти к каждому стихотворению или циклу можем мы найти подробное объяснение в его критических работах и многочисленных дневниках; все творчество поэта ложится ровным узором, сплетенным из стихотворений, литературных эссе и воспоминаний. Помимо этого поэт сам пытается обозначить целостность своего творчества и поэтической судьбы в Автобиографии 1925 года. Подобную попытку предпринял Александр Блок в 1915 году. Блок обозначил вехи своей творческой биографии, свои пристрастия в литературе, вкусы, то есть останавливается на фактографической стороне дела. Волошин подходит к задуманному с несколько иных позиций. Для него важно, чтобы его жизнь была правильно прочитана, понята. Поэт делит весь свой жизненный путь на семь семилетий, приписывая ему некую композиционную оформленность. Семилетия имеют собственные названия, четкие границы: 137 Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки Детство (1877–1884); Отрочество (1884–1891); Юность (1891–1898); Годы странствий (1898–1905); Блуждания (1905–1912); Война (1912–1919); Зрелость [Неопалимая Купина] (1919–1926) [Путями Каина]. Внешние события собственной биографии Волошин пытается осмыслить как вехи становления его как художника и придает им вид художественного произведения. Жизнь рассматривается им как книга, сюжет которой его собственная судьба, герой – он сам, человек Максимилиан Волошин. Подобное деление мы встречаем в «Первых воспоминаниях» Л.Н. Толстого. Иван Бунин в своей статье «Освобождение Толстого» приводит следующие слова классика: «соответственно семилетиям телесной жизни человека, признаваемым даже и некоторыми физиологами, можно установить и семилетия в развитии жизни духовной» [3]. Андрей Белый в связи со смертью Толстого говорит о совмещении в его судьбе гения жизни и гения слова, о стремлении его как художника к слиянию двух начал: творческого и жизненного [2]. Не к этому ли стремится и Волошин, приводя в той же Автобиографии 1925 года содержание еще одного тома – книги своего творчества. Автору не безразлична последовательность, в которой должны находиться его книги: «Вот в каком порядке мои стихи должны бы были быть изданы: Две книги лирики: 1) Годы странствий (1900–1910) 2) Selva oscura – (1910–1914) Книга о войне и Революции: Неопалимая Купина (1914–1924) Путями Каина (1922–?)» [6], – пишет он. Книга критических статей «Лики творчества» выделена отдельно. Таким образом, свое творчество поэт также представляет читателю как текст единого произведения, книги – главы его, оно слагалось на протяжении всей жизни поэта и являет собой его судьбу, его единственную возможность самовыражения. При этом текст может иметь разночтения, но творец в праве направлять своего читателя. Это стремление придать своим произведениям некий законченный, оформленный вид отражает внутреннее, авторское стремление к осмыслению и самоопределению в культурном пространстве эпохи. Мы непроизвольно совмещаем книгу жизни и книгу творчества, как две стороны одной медали, поскольку даже название жизненного цикла и цикла поэтического, созданного в этот период, совпадают. Такое необычное отношение к собственной жизни и творчеству не только вызывает аналогии с построением художественного произведения, но и подсказывает, как тесно переплетены жизненные и творческие начала в судьбе Волошина, какое огромное место занимало в жизни поэта его творчество. Можно сказать, что творчество и было его жизнью. Оно становится для него его действительностью, единственной возможностью самовыражения, самовоплощения: «Поэтическое есть сторона жизни, ее модус. Этот смысл, обнаруженный, произведенный творческим движением, и есть действительность, в которой возможен человек культуры» [8]. Именно к этой мысли автор и пытается подвести своего читателя. Такое экзистенциальное понимание своей судьбы ставит Волошина в особое положение среди поэтов эпохи символизма, которые часто связывали свою деятельность с какими-либо идеями, школами, кружками. Волошин в этом смысле отказывается принять готовую истину. Он стоит вне литературных группировок и направлений. Собственно, так и принято рассматривать его творчество в современном литературоведении, как творчество поэта вне литературных группировок [12, 15]. Недаром одной из тем его поэзии остается тема странничества. Он ищет, он в пути, он «путник по вселенным». И его творчество это не декламация каких-то отвлеченных идей, а поиск самого себя, осознание места своего жизнетворчества в художественной традиции, его самоопределение. «Читатель! – обращается Волошин к своему современнику, а вместе с ним и к нам, – Вот книга лирики. Я писал ее десять лет. В ней нет иного единства, чем единство моего Я. Оно менялось и преображалось. Вместе с ним менялись стихи. Так что у всей книги нет иного имени, чем 138 Раздел III. Литературоведение мое собственное» [5]. Это обращение к читателю из неопубликованного предисловия к стихотворениям 1910 года можно вполне отнести ко всему творческому пути поэта. Оно лишь подтверждает наше предположение о необходимости рассматривать творчество и судьбу художника в их взаимопроникновении и взаимовлиянии. И в нашем случае автор всячески облегчает эту задачу. Мы вправе рассматривать предложенные Волошиным положения относительно собственного творчества как изложение своей литературной позиции. Такое доверительное отношение к своему читателю вообще свойственно для его работ. Мы не встретим в наследии поэта традиционного для XIX века противопоставления поэта и толпы. Для Волошина читатель не безликая масса, не чернь, но словно всякий раз отдельно взятый человек, способный понять и оценить его труд. Собственно именно понимания и ждет автор. Все его творчество обращено к этому отдельно взятому читателю. Автор словно направляет, предлагает ему совершить «воскрешение» своего собственного «Я», вновь переживая его в процессе прочтения. И в этом смысле судьба поэта – это судьба его произведения, которая целиком зависит от того, найдет ли оно отклик в душе читателя. В связи со всем вышеперечисленным мы можем отметить, что из поэзии Максимилиана Волошина исчезает такой компонент, как лирический герой, который рассматривается в отечественном литературоведении, как «наличие некоего «единства авторского сознания», сосредоточенного «в определенном кругу проблем» и обличенного «устойчивыми чертами – биографическими, психологическими, сюжетными» [4], при этом лирический герой должен являться и субъектом и объектом произведения одновременно, т. е. выражая некую позицию автора все же оставаться литературным героем, ограниченным рамками произведения. В этом смысле «он открыто стоит между читателем и изображенным миром» [4]. В нашем же случае мы говорим о поэтической личности, которая является нам посредством своего творчества в мире культуры. Это понятие экзистенциальное. Поэт Волошин в своей автобиографии пытается осознать свое положение в культурном пространстве эпохи и по существу сам становится его феноменом. В этом случае факты биографии или анализ отдельных произведений утрачивают свой смысл. Поэтическая личность Волошина побуждает нас к целостному восприятию его творчества, как жизнетворчества, как феномена культуры рубежа XIX – XX вв., который невозможно постичь, не принимая во внимание все выше сказанное. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 1. Аверинцев С.С. Поэты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 364 с. 2. Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма: в 2 т. / вступ. ст., сост. А.Л. Казин, коммент. А.Л. Казин, Н.В. Кудряшева. М.: Искусство, 1994. Т. 1. 478 с. 3. Бунин И.А. Собр. соч.: в 6 т. Т. 6. Освобождение Толстого; О Чехове; Воспоминания; Дневники; Статьи / подгот. текста, статья-послесл. и коммент. О. Михайлова. М.: Худ. лит., 1988. 719 с. 4.Введение в литературоведение: учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др.; под ред. Л.В. Чернец. М.: Высш. шк., 2004. 680 с. 5. Волошин М.А. Собр. соч. Т. 1. Стихотворения и поэмы 1899-1926 / сост. и подгот. текста В.П. Купченко, А.В. Лаврова; коммент. В.П. Купченко. М.: Эллис Лак 2000, 2003. 608 с. 6. Волошин М.А. Собр. соч. Т. 7, кн. 2. Дневники 1891-1932. Автобиографии. Анкеты. Воспоминания / сост., подгот. текста, коммент В.П. Купченко, Р.П. Хрулевой, К.М. Азадовского, А.В. Лаврова, Р.Д. Бименчика. М.: Эллс Лак, 2008. 768 с. 7. Зотов С.Н. Художественное пространство – мир Лермонтова. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2001. 322 с. 8. Зотов С.Н. Поэтическая практика и изучение жанров лирики (к пониманию экзистенциального смысла литературы) // Литературные жанры: теоретические и историко-литературные аспекты изучения: мат-лы Междунар. науч. конф. VII Поспеловские чтения 2005. М.: МАКС Пресс, 2008. С. 262-268. 9. История русской литературы XX века: в 4 кн.: учеб. пособие. Кн. 1: 1910-1930 годы / Л.Ф. Алексеева, И.А. Биккулова, Н.М. Малыгина и др.; под ред. Л.Ф. Алексеевой. М.: Высш. шк., 2005. 366 с. 10. История русской советской литературы (1917–1940): учебник для студ-тов пед. ин-тов / А.И. Метченко, В.В. Гура, Л.И. Тимофеев и др.; под ред. А.И. Метченко, С.М. Петрова. 2-е изд. М.: Просвещение, 1983. 511 с. 11. Колобаева Л.А. Русский символизм. М.: Изд-во Москов. гос. ун-та, 2000. 296 с. 12. Кузьмина С.Ф. История русской литературы XX века: Поэзия Серебряного века: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2004. 400 с. 13. Купченко В.П. Максимилиан Волошин. История моей души. Режим доступа: 139 Вестник ТГПИ Специальный выпуск № 2. Гуманитарные науки http://lingua.russianplanet.ru/library/mvoloshin/kv_pref.htm (дата обращения: 27.02.2010). 14. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки: пер. с нем. Г.А. Рачинского. СПб.: Азбука-классика, 2005. 203 с. 15. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX – начала XX века: учеб. пособие. 4-е изд., доп. и перераб. М.: Высш. шк.: Изд. центр Академия, 2000. 432 с. 140