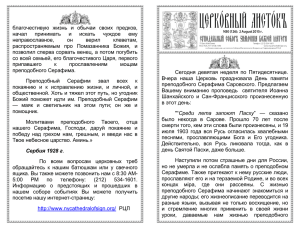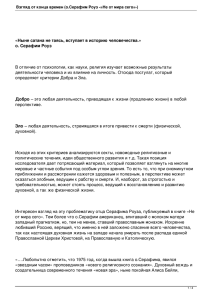Серафим
advertisement

УДК 821.111.1.09, 82.09(882) Горбачевский Ч.А., кандидат филологических наук, Южно-Уральский государственный университет (Челябинск), факультет журналистики, кафедра русского языка и литературы СЕМЕЙНАЯ ДРАМА И ПРОБЛЕМА САМОУБИЙСТВА В РАССКАЗЕ В.Т. ШАЛАМОВА «СЕРАФИМ» Самоубийцами в документально-художественном мире Шаламова чаще всего становится наиболее бесправная часть тюремно-лагерной системы – заключённые-доходяги, но иногда самоубийства совершают и вольнонаемные, оказавшиеся в непосредственной близости к подневольному миру арестантов и столкнувшиеся лицом к лицу с блатарским «подземным» бытием колымского запроволочного мира. Один из таких случаев описан Шаламовым в рассказе «Серафим» (1959). Действие рассказа, как и остальных тридцати двух текстов в цикле «Колымские рассказы», происходит на Дальнем Северо-Востоке страны. Заглавный персонаж рассказа – вольнонаёмный работник Серафим. О прежней «доколымской» жизни Серафима читателю известно мало, самое важное становится понятным лишь из ряда косвенных упоминаний повествователя. Так мы узнаём, что семейная драма Серафима разыгралась дома, в Москве, ещё до его устройства на работу на Дальний Северо-Восток страны. Зловещим символом последующих событий становится полученное Серафимом от жены письмо из дома. Повествователь фокусирует внимание на детали-сравнении, которой в рассказе суждено будет сыграть ключевую роль: «Письмо лежало на чёрном закопчённом столе как льдинка» [6, 109]. То, что письмо-льдинка – предзнаменование самоубийства, станет понятным чуть позже, но ощущение тревоги возникает у читателя с первых же строк рассказа: «Вот он (Серафим. – Ч. Г.) уехал за двенадцать тысяч вёрст, за высокие горы, за синие моря, желая всё забыть и всё простить, а прошлое не хочет оставить его в покое. Из-за гор пришло письмо, письмо с того, не забытого ещё света» [6, 110]. Уехавший «за двенадцать тысяч вёрст», Серафим как бы переносится на другую планету, на которой расстояние не властно над его памятью, а колымский хронотоп не может заглушить его боли, становясь причиной новой боли. В первом же абзаце рассказа, кроме символа-письма, появляются тревожные указания на сложное психологическое состояние персонажа: «Серафим испугался (письма-льдинки. – Ч. Г.) <…>» [6, 109], «Серафим боялся писем, особенно бесплатных, с казёнными штампами. Он вырос в деревне, где до сих пор полученная или отправленная, “отбитая”, телеграмма говорит о событии трагическом: похоронах, смерти, тяжёлой болезни…» [6, 109 – 110]. По мере развития сюжета состояние внутренней тревоги Серафима и атмосфера трагической безысходности усиливаются. Не последнюю роль в таком развитии сюжета играет колымский запроволочный мир, только на первый взгляд и в самом начале рассказа не имеющий прямого отношения к судьбе заглавного персонажа. Показательно, что льдинка-письмо не тает даже перед раскрытыми железными дверцами печки-бочки со рдеющим в ней углем. Подобным же образом рдеет память Серафима о своей беде. Льдинка-письмо приводит его в оцепенение. После года работы на Севере, он вдруг понимает, что память сильнее его желания всё забыть, а «в сердце <…> всё оставалось по-прежнему, и он втайне дивился прочности своего чувства» [6, 110]. Это чувство и ведёт Серафима к роковому шагу, которого, возможно, и не случилось бы, если бы не реалии Колымы. Появившаяся в тексте рассказа вслед за письмом-льдинкой электрическая лампа, тускло освещающая мрачную лабораторию, напоминавшую склеп, в котором работает Серафим, тоже становится символическим предвестником одной из бесчисленных колымских трагедий: «Жёлтая электролампа под колпаком свешивалась с деревянной балки, как самоубийца» [6, 110]. В поэтическом цикле Шаламова «Сумка почтальона» есть стихотворение, рядом мотивов и образов – печка, иней на письме, письмо-льдинка; таяние букв, таяние письма; тоска по дому – перекликающееся с рассказом «Серафим»: Скоро мне при свете свечки В полуденной тьме Греть твои слова у печки. Иней на письме. Онемело от мороза Бедное письмо. Тают буквы, точат слёзы И зовут домой [8, 81]. Но в отличие от письма стихотворения, письмо-льдинка домой не зовёт. Безусловно, тоска и одиночество Серафима усиливаются как общей гнетущей атмосферой отдалённой малознакомой северной местности, так и устоявшимися колымскими «традициями» и «законами тайги». По своему социальному статусу вольнонаемного работника Серафим как будто ближе к вольнонаёмным, чем к заключённым, но колымский туземный колорит жизни расставляет свои акценты этого предельно контрастного двуполярного мира, в котором полюса способны парадоксально меняться своими местами. Постепенно, приспосабливаясь к этому миру, Серафим начинает понимать суть туземных порядков, его резкое социальное расслоение: «<…> сословия у нас были упразднены декретом в ноябре 1917 г. и де-юре сословий не существовало, сословные привилегии по наследству не передавались, а де-факто, тут уж, извините, что было, то было» [3, 138], – пишет один из бывших колымских заключённых. Характерна небольшая зарисовка повествователя на эту тему: «Были жёны высоких начальников – общественного класса, необычайно далёкого от лаборанта Серафима. Каждая раскормленная дама считала себя красавицей, и такие дамы жили в посёлках, где было больше развлечений, и ценители их прелестей были побогаче» [6, 110]. Конечно, такое положение дел усугубляло одиночество и вовсе не способствовало состраданию и стремлению понять ближнего, тем более понять беду какого-то лаборанта. Впрочем, сам Серафим не особенно стремился к тому, чтобы его кто-то понял, слишком он был погружён в свою idée fixe и переживал её в себе, ни с кем не делясь своими воспоминаниями. В связи с этим показательна своеобразная эволюция понимания Серафимом происходящих событий за пределами его лаборантского кабинета. Повествователь с самого начала акцентирует внимание на погружённости Серафима в свою беду, за всем вокруг он наблюдает отстранённо, особо не вникая в происходящее и не желая его понимать. Отсюда его подозрительнонедоверчивое отношение к заключённым инженерам, с которыми он в течение года «<…> и десятком слов на посторонние темы не обменялся <…>. С дневальным же и ночным сторожем Серафим и вовсе ничего не говорил» [6, 111]. Начальник Серафима, заведующий лабораторией комсомолец Пресняков, научил лаборанта главному – бдительности и осмотрительности к «врагам народа». Ещё в Москве при найме на Дальний Север, Серафиму внушили, что там опасные государственные преступники. И Серафим поверил наветам московских начальников, а потом и недвусмысленным напутствиям Преснякова. С арестантами, работающими на шахте, Серафим не только боялся перемолвиться словом, но и не решался принести им голодным кусок сахару или белого хлеба. Описываемое повествователем недоверие – это широко распространённая санкция против «врагов народа» эпохи тотальной подозрительности. Об этом пишет в своих воспоминаниях прибывшая в 1940 году в качестве вольнонаёмного врача на Колыму Н.В. Савоева, которой хорошо запомнилась речь начальника Дальстроя И.В. Никишова. Никишов среди пёстрого состава заключённых (бандитов, грабителей, убийц, насильников и бытовиков), особо выделил «врагов народа», т. е. «изменников Родины», «шпионов», «диверсантов», «вредителей» и «террористов», с которыми советовал быть «в высшей степени осторожными, строгими и бдительными» [4, 12]. Вскоре после упомянутой речи в транзитном лагере с Ниной Владимировной произошёл случай, наглядно характеризующий действенность слов о бдительности: «В руках у нас (группы вновь прибывших. – Ч. Г.) были хлеб, масло, консервы. Недалеко от тропы, по которой мы шли, заключённые рыли траншею. Когда мы проходили мимо них, из траншеи показалось несколько голов, заключённые что-то кричали, делали какие-то знаки руками. Надо сказать, мы страшно перепугались и бросились в сторону нашей транзитки. Прибежали в барак бледные и запыхавшиеся, рассказали подругам о своих страхах. И только позже, на прииске, когда я встретилась с лагерем лицом к лицу, я поняла, что скорее всего просили хлеба и покурить <...>» [4, 12]. То, что в сюжете рассказа Шаламова постепенно происходит с заглавным персонажем, становится совпадением определённых обстоятельств и закономерностью «живой жизни» Колымы, в которой Серафим обрёл не душевное спокойствие, но совершенно противоположное психологическое состояние – отчаяние. Проработав год на Севере, Серафим получил возможность посетить «соседний поселок, всего за сто километров, – чтонибудь купить, сходить в кино, пообедать в настоящей столовой, “посмотреть на баб”, побриться в парикмахерской» [6, 111]. Однако до соседнего посёлка он не доехал, поскольку на пути грузовика возник оперпост с двумя вохровцами. До этого момента вохровцев Серафим воспринимал как «своих», ведь это не «враги народа», а представители закона, не имеющие ничего общего с какимито уголовниками. Именно эта встреча всё для Серафима переворачивает с ног на голову. После того, как вохровцы не обнаружили забытые Серафимом в лаборатории документы, они тут же без всяких колебаний причислили его к беглецам. Показательно, что 28 июля 1941 года в самом Магадане, в Главном Управлении строительства Дальнего Севера НКВД СССР вышел приказ за № 078, подписанный Никишовым. Суть приказа в усилении борьбы с заключёнными-беглецами из лагерей СВИТЛ НКВД: «Приказываю: предоставить всему личному составу оперпостов, застав и оперативным, патрульным группам военизированной охраны в районе деятельности Дальстроя право на проверку документов у всех граждан» [1, 353]. И хотя в анализируемом тексте Шаламова нет точных указаний на время действия, тем не менее, не трудно понять, что вохровцы руководствовались именно этим приказом, добавляя к нему частичку собственного понимания ситуации. Те вполне абсурдные с точки зрения логики нормального человека события, которые происходят с Серафимом в дальнейшем, вовсе не являются необычными в колымском государстве с его правителями, т. е. местными царьками и подцарьками. По этим нормам – всё в порядке вещей: избитого вохрой Серафима силой водворяют в местный изолятор. Он пытается сопротивляться, но его протесты довольно быстро гаснут от затрещины, удара ногой в солнечное сплетение и удара прикладом в лоб. Во всём текстовом пространстве рассказа Серафим едва обмолвился несколькими фразами-ответами на незамысловатые вопросы. По своей сути, диалоги, в которых чаще всего вынужденно участвует Серафим, свидетельствуют о его «выключенности» из этой жизни, он как будто всё время там – за «двенадцать тысяч вёрст», в Москве: «– Откуда бежал? – Ниоткуда» [6, 111]. «– Табак есть? – спросил кто-то из темноты. – Нет. Я некурящий, – виновато сказал Серафим. – Ну и дурак. Есть у него что-нибудь? <…>». – У меня были деньги, – сказал Серафим. – Вот именно “были”» [6, 112]. «– А д-деньги? – замычал Серафим, упираясь и отталкивая Преснякова. – Какие деньги? – металлом зазвенел голос начальника. – Две тысячи рублей. Я брал с собой» [6, 113]. Приезд на шестой день начальника Преснякова, после нахождения Серафима в карцере в течение пяти суток на трёхстах граммах хлеба, кружке воды и семи килограммах дров, справедливости не восстановил. Пресняков «слегка ахнул, увидя Серафима: под правым глазом был синий кровоподтёк, на голове – рваная грязная матерчатая шапка без завязок вместо украденной вохрой своей шапки. Серафим был в тесной изорванной телогрейке без пуговиц, заросший бородой, грязный – шубу пришлось оставить в карцере, – с красными, воспалёнными глазами. Он произвёл сильное впечатление» [6, 110]. Пресняков, очевидно, догадывался, что на самом деле произошло с его подчинённым, но сделать ничего не мог и не пытался, понимая, что «со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Серафим после водворения в изолятор ещё находил в себе силы чему-то радоваться, так как надеялся, что отобранные при ошибочном аресте конвоирами деньги будут обязательно возвращены – ведь он не уголовник, не арестант, а законопослушный гражданин. Даже после избиения его конвоирами он всё ещё находится под влиянием иллюзии, что сейчас заключённые его главные потенциальные обидчики. Только позже, слегка соприкоснувшись с «лагерным лихом», Серафим осознает, что не Пресняков и вохровцы, а бесправные зэка способны ему сопереживать. Версия вохровца о случившемся стала последней каплей в чаше терпения Серафима: «Я же вам рассказывал. В пьяном виде, без шапки…» [6, 113]. Именно после этих слов Серафим осознаёт безнадёжность своего положения, теряет способность сопротивляться и всякое желание жить. Вместе с этим приходит к нему и осознание истинного положения заключённых и одновременно непонимание того, почему они продолжают такую жизнь, почему не хотят умереть: «– Как же вы? Как же вы живёте? – горячо шептал Серафим» [6, 114]. Заключённый инженер пытается ответить на этот вопрос Серафима: «– Да, жизнь арестанта – сплошная цепь унижений с той минуты, когда он откроет глаза и уши и до начала благодетельного сна. Да, всё это верно, но ко всему привыкаешь. И тут бывают дни лучше и дни хуже, дни безнадёжности сменяются днями надежды. Человек живёт не потому, что он во что-то верит, на что-то надеется. Инстинкт жизни хранит его, как инстинкт хранит любое животное. Да и любое дерево, и любой камень могли бы повторить то же самое. Берегитесь, когда приходится бороться за жизнь в самом себе, когда нервы подтянуты, воспалены, берегитесь обнажить своё сердце, свой ум с какой-нибудь неожиданной стороны. Сосредоточив остатки силы против чего-либо, берегитесь удара сзади. На новую, непривычную борьбу сил может не хватить. Всякое самоубийство обязательный результат двойного воздействия, двух, по крайней мере, причин. Вы поняли меня? Серафим понимал» [6, 114]. В 1945 году Альбер Камю писал в одной из своих тетрадей «Записной книжки»: «Люди всегда полагают, что самоубийцы кончают с собой по какой-то одной причине. Но ведь можно покончить с собой и по двум (выделено автором цитаты. – Ч. Г.) причинам» [2, 419]. Очевидно, что в самоубийстве персонажа Шаламова свою решающую роль сыграла не только семейная драма, но и «живая жизнь» Колымы. Тех заключённых, вползающих в начале смены в штольню и выползающих из неё после смены, Серафим теперь видит другим зрением – Колыма открылась для него со своей неожиданной стороны. С новым пониманием происходящего и воспоминаниями о своей праздной и никчёмной поездке в соседний посёлок к Серафиму пришло чувство стыда, чувство тяжёлой ответственности за свои поступки. Нечто схожее происходит с персонажем рассказа Шаламова «Домино» (1959), заключённым, оказавшимся волей случая в палате «врача-волшебника» Андрея Михайловича. От неожиданной удачи (угощаясь чаем, папиросами, хлебом и кашей) он абсолютно забыл о своих обездоленных товарищах «по нарам»: «Мне стало стыдно своей жадности, стыдно, что я не подумал ни о Козлике и ни о ком другом в палате, чтобы принести им окурок, корку хлеба, горсть каши» [6, 124]. Как голодный и обманутый заглавный персонаж предыдущего в цикле рассказа «Васька Денисов, похититель свиней» (1958), разрывающий на мелкие кусочки ненужную трехрублёвку [6, 108], Серафим собирается разорвать ещё не прочитанное письмо, заранее зная о его содержании, но всё же письмо прочитывает, подойдя к той самой лампочке, висевшей как самоубийца: «Жена писала ему о разводе» [6, 115]. Сообщение выводит Серафима из оцепенения, он начинает решительно действовать: выпивает кислоту и ждёт смерти: «Он просидел, глядя на часы ходики, ни о чём не вспоминая» [6, 115], но смерть не приходила. Не наступила смерть и после вскрытия на руке вены. Тогда Серафим начинает вспоминать о том, чтó нужно сделать для того, чтобы умереть наверняка. Он вспомнил прошлогоднюю историю, когда какой-то заключённый безуспешно пытался в мёрзлой реке поймать утку («Сейчас же он вспомнил, что надо сделать»; «Серафим вспомнил, как в прошлом году поздней осенью выпал первый снег и тонким ледком затянуло реку»; «Серафим вспомнил, как выбежал на лёд человек»; «Серафим вспомнил, как он тогда пытался представить себе смерть утки, как она бьётся в воде головой об лёд и как сквозь лёд видит голубое небо. Сейчас Серафим бежал к этому самому месту реки» [6, 115 – 116]). В памяти Серафима в решающий момент всплывает образ несчастного зэка, смешно растопырившего руки. Этот образ становится своеобразным маяком для Серафима, направляя его к промоине «в ледяную дымящуюся воду» [6, 116]. Но и на этот раз попытка самоубийства оказалась неудачной – кто-то успел схватить его за волосы, вытянуть из воды и донести до больницы. И всё же все дальнейшие попытки врача и хирурга спасти Серафима оказались тщетными, стремление уйти из жизни было сильнее. Смерть наступила от выпитой до прыжка в ручей кислоты. Вышеприведённые слова инженера из заключённых о двух причинах, ведущих к самоубийству, явились невольным пророчеством вскоре появившегося у Серафима намерения свести счёты с жизнью. Первой причиной, как было отмечено, стало сообщение жены о разводе, второй – случившееся с ним в поездке за пределы лаборатории. Ко второй причине добавилось осознание нечеловеческого положения на Колыме арестантов, сострадание к ним с одновременным пониманием невозможности что-либо изменить в этом ходе вещей. Не случайно Шаламовым выбрано имя для своего персонажа: этимологически Серафим соотносится с древнееврейским словом со значением «ангел, находящийся на высшей ступени небесной иерархии» [5, 552]. Самоубийце Серафиму путь к Богу оказался заказан. В рассказе Шаламова «Боль» (1967) в ангельском чине отказано Марине, совершившей самоубийство из-за любви к мужу, отправленному в колымские лагеря: «Чем Марина не богородица, чем не святая? Чем? Почему столько женщин – святые, равноапостольные, великомученицы, а Марина – только актриса, актриса, положившая голову под поезд? Или православная религия не принимает в ангельский чин самоубийц?» [7, 170]. Нельзя не отметить и то, что повествователь Шаламова, выступающий от лица бесправных зэка, во всём текстовом пространстве – это один из немногих персонажей рассказа, сострадающий Серафиму и всецело понимающий его. Литература 1. Бацаев И.Д., Козлов, А.Г. Дальстрой и Севвостлаг НКВД СССР в цифрах и документах: в 2-х ч. Ч. 2. (1941 – 1945) / И.Д. Бацаев, А.Г. Козлов. – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 2002. – 428 с. Достоевский Ф.М. Записки из Мёртвого дома / Ф.М. Достоевский // полн. собр. соч. в 30 т. – Л. : Наука, 1972. – Т. 4. – 327 с. 2. Камю А. Творчество и свобода. Сборник / А. Камю // пер. с франц. Составление и предисловие К. Долгова. Комментарий С. Зенкина. – М. : Радуга, 1990. – 608 с. 3. Прядилов А.Н. Записки контрреволюционера / А.Н. Прядилов. – М. : Б. и., 1999. – 152 с. 4. Савоева Н. В. Я выбрала Колыму / Н.В. Савоева. – Магадан : МАОБТИ, 1996. – 48 с. 5. Современный словарь иностранных слов : ок. 20 000 слов. – М. : Рус. яз., 1992. – 740 с. 6. Шаламов В.Т. Собрание сочинений : в 4 т. / В.Т. Шаламов // сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. – М. : Худож. лит., 1998. – Т. 1. – 620 с. 7. Шаламов В.Т. Собрание сочинений : в 4 т. / В.Т. Шаламов // сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. – М. : Худож. лит., 1998. – Т. 2. – 509 с. 8. Шаламов В.Т. Собрание сочинений : в 4 т. / В.Т. Шаламов // сост., подгот. текста и примеч. И. Сиротинской. – М. : Худож. лит., 1998. – Т. 3. – 526 с. Аннотация Семейная драма и проблема самоубийства в рассказе В.Т. Шаламова «Серафим». Статья посвящена анализу рассказа «Серафим», заглавный персонаж которого прибывает в качестве вольнонаёмного работника на Колыму. Здесь Серафим безуспешно пытается забыть свою семейную драму. Происходит худшее – Серафим совершает самоубийство «в результате двух причин». Ключевые самоубийство. слова: персонаж, сюжет, символ, память, Колыма, Summary Family tragedy and suicidal problem in Shalamov’s tale “Seraphim”. The article is devoted to an analysis of the problem human life attitude on Kolyma. Seraphim have made an attempt to forget his own family tragedy, but he does not do it. The worst was done – Seraphim committed suicide because of two reasons: divorce with his wife and cruel Kolyma laws. Keywords: character, plot, symbol, memory, Kolyma, suicide.