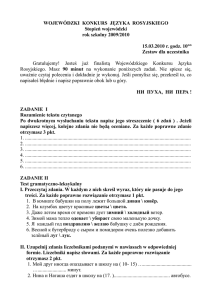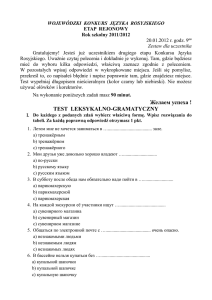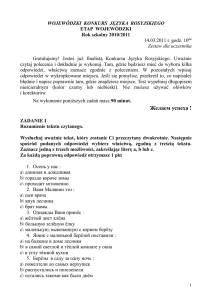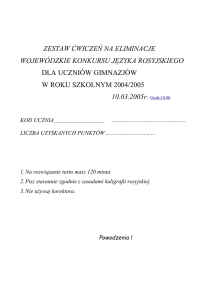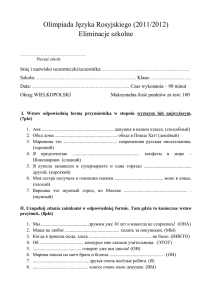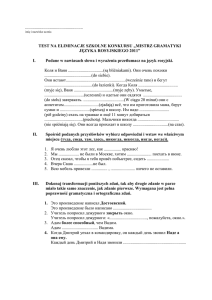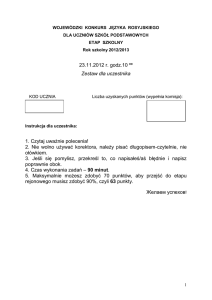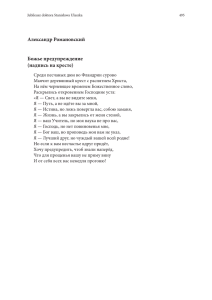Герчиньска Д. Литературоведческие аспекты перевода на
advertisement

Данута Герчиньска (Слупск, Польша) ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА НА ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. РАСПУТИНА Критики считают, что в Польше В. Распутину исключительно повезло на переводчиков, так как все переводы его произведений были хорошими, хотя и жаль, что каждую повесть переводил кто-то другой: «Последний срок» – Тадеуш Госк, «Живи и помни» – Ежи Паньски, «Прощание с Матерой» – Ежи Литвинюк. «Таким образом, — констатирует Я. Войцеховски, — каждый из переводчиков должен с самого начала знакомиться со спецификой авторского языка, стилистикой – иначе не избежать каких-то неумелых решений, не выступающих при переводческой непрерывности» [1, c. 130]. Огромную роль в реализации художественного замысла произведений Распутина играют реалии крестьянского быта и использование местной, народно-диалектной лексики и фразеологии. В основе перевода повести «Последний срок» лежит прежде всего внелитературная лексика и способы ее воспроизведения в переводимом тексте. Проявления местной сибирской речи в данной повести многочисленны и затрагивают все ярусы языка. Это и лексические, и семантические, и фразеологические диалектизмы. Местный колорит окрашивает речь всех персонажей повести. Но количество диалектизмов, их структурно-языковая специфика неодинаковы в речи каждого из героев повести. Шутливо-иронический и фамильярный тон диалогов старухи Анны со «старинной» подругой Миронихой воссоздан переводчиком в более нейтральном разговорном стиле – «Тебя пошто смерть-то не берет?» [2, т. 1, c. 340-341] — „Czego to cię śmierć nie bierze?”[3, c.105]; «думаю, она, как добрая, уж укостыляла (...) – „myślę, ze jak kto dobry dawno już zesztywniała (...)”; «как была ты вредительша, так и осталась» — „jakeś była wredna, taka i zostałaś”; «чтоб вместе в одну домовину лягчи» - „żeby razem do jednego dołu położyli”; «Это ты мне надоела. Хуже горькой редьки. Скорей бы уж ты померла, че ли. Ослобонилась бы я от тебя» — „Lepiej na mnie nie czekaj, sama się zabieraj”. Юмор некоторых диалогов (например, о старичке и родилке) в польском языке потерян, так как эта часть диалога отстутствует в переводном тексте. Знакомство с русскими реалиями все же не уберегло Т. Госка от некоторых существенных ошибок. Во-первых, переводчик неточно передал на польском языке имя самой младшей дочери старухи Анны – Таньчоры. Выразительной сибирской увеличительной форме «Таньчора», не отвечает польская переслащенная, уменьшительная форма – «Taniusza». Во-вторых, амбар, в котором Михаил и Илья пьянствовали, — это не «chlew», как пишет переводчик, а «spichrz»: «После этого Михаил на время приспособил под баню крайний амбар». В переводе читаем: „Wtedy Michał urządził na razie łaźnię w chlewiku”. Определение «chlew» слишком сильно намекает на моральный упадок этих двух членов семьи. Высокую оценку польской критики получил перевод повести Распутина «Живи и помни». Первое издание повести в переводе Ежи Паньского появляется в 1977 г., второе – в 1979 г. Ежи Паньски воссоздал выразительный и неповторимый язык каждого из персонажй повести. Речь Настены: «Если бы не он (отец), давно бы всех коней порешили. Он один только и смотрит. Тоже сдал. Кряхтит все, устает сильно. А тут еще я его позавчера оглоушила. (...) – Подписка была на заем. Я с дуру и бухнула: две тыщи. Куда как простая: не пожалела, чего нет. А он сном-слыхом не чуял – ну и обрадовался, конечно, похвалил меня» [2,t.2,с.47]. „ – Gdyby nie on, dawno by pomarnowali wszystkie konie. On jeden ich dogląda. Też się posunął. Postękuje ciągle, męczy się bardzo. A onegdaj ja sama jeszczem mu dołożyła, jak obuchem po głowie. (...) – Na pożyczkę się zapisywałi. A na mnie jakby zaćmienie naszło i rąbnęłam: dwa tysiące. Jak jaka głupia: nie żal jej, czego nie ma. A tamtemu nawet się nie śniło, no i naturalnie ucieszył się i jeszcze mnie pochwalił” [4,c.61-62]. Чтобы сохранить эмоционально-эстетический эффект высказывания, переводчик прибегает к приему «усиления»: «А тут еще я его позавчера и оглоушила» — «A onegdaj ja sama jeszczem dołożyła”. В исходном тексте отсутствует выражение «jak obuchem po głowie”. Этот фразеологический оборот нужен был переводчику, чтобы доказать, каким внезапным и неожиданным было известие Настены. В речи Андрея часто появляются поговорки и пословицы, с их помощью он как бы обобщает свои личные наблюдения. Например, когда отгоняет от себя мысли о запоздалом раскаянии, он думает: «Близко локоть, да не укусишь. Как-то вспомнив эту поговорку, он схватил другой рукой локоть и изо всех сил потянулся к нему зубами – вдруг укусишь? – но, не дотянувшись, свернув до боли шею, засмеялся, довольный: правильно говорят. Кусали, значит, и до него, да не тут-то было» [2,c.55]. „Łokieć blisko, a ugryźć go nie sposób. Przypomniało mu się to przysłowie i chwycił się drugą ręką za łokieć, z całych sił nagiął do niego zęby – a nuż dosięgnie? – ale nie dosięgnął, tylko skręcił sobie szyję aż do bólu i roześmiał się zadowolony: prawdę mówi przysłowie. Widocznie już inni przed nim próbowali, ale nic z tego” [4,c.72]. Русская поговорка воссоздана адекватными выразительными средствами: „Łokieć blisko, a ugryźć go nie sposób”. Е. Паньски сохраняет смысловой инвариант оригинала, когда писатель заставляет своего героя как бы реализовать заключенный в поговорке исконный смысл. И еще один пример, когда бездеятельность и страх толкают Гуськова на шаг, которым он переступил грань нормального психического состояния застав у своей двери волка, он начинает пугать его, подражая волчьему вою: «Ну что ж, вот и еще одна исполненная по своему прямому назначению правда: с волками жить – по-волчьи выть» [2,с.56]. „No cóż, oto ziściła się jeszcze jedna prawda: kto wilkiem żyje, ten jak wilki wyje” [4,c.74]. В польском языке очень трудно передать лаконичность пословицы и поэтому переводчик прибегает к инверсии, особенно часто выступающей в разговорной речи. В речи Андрея и Настены встречаются средства художественной выразительности, идущие от фольклора. Они способствуют созданию своеобразного контраста между явлением, которое эти средства выражают и устойчивым народно-поэтическим образом. Например, в диалоге, происходящем между Настеной и Андреем: «... Я уж сегодня из Карды прикатила, пока ты тут спал. Кое-чего привезла тебе на черный день. – У меня теперь все дни черные, — впервые отозвался он» [2,с.38]. „Prosto z Kardy dziś tu przyjechałam, kiedyś ty jeszcze spał. Coś tam ci przywiozłam na czarną godzinę. – Wszystkie moje godziny są teraz czarne” [4,c.49]. Переводчик правильно подметил, что русскому фольклорному эпитету «черный день» отвечает польское фразеологическое выражение „czarna godzina”, обозначающее период самых больших трудностей, хлопот, особенно материальных. Местная сибирская речь, окрашенная диалектизмами, свойственна не только главным героям повести, но и всем персонажам, живущим в деревне Атамановка. Специфика речи Семеновны (матери Андрея) осознается самим писателем: «Мать была из низовских, из-под Братска, где цокают и шипят: «крыноцка с молоцком на полоцке», «лешу у наш много», «жимой морож». На Ангаре всего несколько деревень с таким выговором» [2, с. 111]. „Matka pochodziła z okolic dolnego biegu Angary, spod Bracka, gdzie zamiast „cz” mówią „c” i seplenią: „podaj mi garnusek z mleckiem” i „lasz u nasz gęszty”, „zimą mróż”. Tylko kilka wsi nad Angarą ma taką wymowę” [4, c. 151]. Переводчик с большим тактом передает характеристику речи Семеновны – манеру «цокать» объясняет: „gdzie zamiast „cz” mówią „c”, «шипеть» — передает эквивалентом „seplenią”. Затем в тексте Е. Паньски придерживается данного объяснения и во всех высказываниях Семеновны сохраняет звуковую адекватность фраз, например: « — Шуцка! – выкрикнула потом она, и Настена не сразу поняла, что это «сучка». (...) – Шуцка! Ой-е-е-е-ей! – заголосила она, хватаясь за голову. – Штыд, штыд како-ой! Гошподи! Прешвятая богородица! Покарай ты ее, покарай на меште. Побежала! Не дождалашь! И живет, притихла, шуцка такая! (...) Да штоб у тебя там цервяки завелишь! Штоб тебе вовек не опроштатьша!» [2,с.183]. „ – Szuka! – zawołała potem i Nasta nie od razu zrozumiała, że miało to oznaczać „suka”. (...) – Szuka! Och! och! – jęczała chwytając się za głowę. – Wstyd, jaki wstyd, Boże jedyny! Panienko Przenajświętsza! Ześlij na nią karę, żeby sczezła! Nie wytrzymała, nie wyczekała! I żyje sobie dalej jakby nigdy nic, szuka jedna! (...) A żeby ci się tam w brzuchu robaki zalęgły! Do końca życia żebyś się ich nie pozbyła!” [4,c.252]. Речь Семеновны представляет собой весьма своеобразную лексическую систему, которая беря за основу диалектную лексику, изменяет ее почти до неузнаваемости путем «цокания» и «шипения». Высокую экспрессивность высказывания переводчик воссоздает формами просторечной лексики, лишь в начале сохраняя «шипение»: „szuka”. При выборе языковых и тематических средств Е. Паньски всегда выражает стилистические свойства оригинала. Колоритная сибирская речь, полная диалектизмов и просторечных выражений, передается переводчиком эквивалентными формами, которые никогда не нарушают стилистической тональности текста принимающего языка. В польском варианте этой повести Е. Паньски должен был также решить проблему передачи фольклорных и мифологических образов. Распутин вводит в ткань повести образы из народной демонологии (оборотень, леший), которые являются для него активным средством пополнения образной системы произведения: — «не оборотень ли это с ней был?» [2, c. 19] - „nie wilkołak jaki tu był?”[4, c. 22] — «как леший» [2, c. 40] — «jak wilkołak”[4, c. 51]. В обоих случаях (оборотень, леший) переводчик пользуется только одним определением wilkołak, что является вполне обоснованным. В восточнославянской демонологии «оборотнями оказываются леший, домовой, черт, принимающие облик родственника или знакомого” [6, c. 235]. В польской мифологии наиболее характерным образом оборотня является „человек-оборотень, становящийся волком” [7, c. 184]. Похожие образы находим в повести Прощание с Матерой: — домовой: «как домовой сделался» [2, т. 2, c. 359] - „zrobił się jak ten strach domowy”[5, c. 172]. В этом случае Ежи Литвинюк правильно подметил явное сравнение старика Егора с образом из народной демонологии, и поэтому воспользовался определением «strach domowy”, наиболее полным смысловым эквивалентом. — леший: (о Богодуле) «не человек — леший» [2, c. 317] — „nie człowiek, ale jakieś licho leśne” [5, c. 128]. «Лешим» в польской мифологии может быть: wilkołak, когда человек превращается в «лешего», или czort, ancychryst. Поскольку в начале фразы появляется упоминание «ни черта и ни дьявола», Е. Литвинюк безошибочно подобрал функциональный эквивалент licho leśne. — Баба-яга: Сравнение старухи Дарьи с «бабой-ягой» является понятным польскому читателю, так как в русских и польских сказках образ этот имеет одну и ту же функциональную нагрузку. — Кощей: «А ежели в гроб тебя, как кащею, кладут – дак ить глядеть страшно» [2, c. 273] — „A jak cię kładą do trumny nikiej Kościeja Nieśmiertelnego, to i patrzeć strach” [5,c.80]. Поскольку в польских сказках нет образа «Кощея», переводчик решил раскрыть сравнение «как кащею» полным названием «Kościej Nieśmiertelny», улучшая его коммуникативность. Проблема передачи фольклорных и мифологических реалий на родственный славянский язык теоретически недостаточно разработана. Такой перевод вызывает наибольшие трудности, так как каждый фольклорный и мифологический образ, наряду со своим общим значением, обладает национальной спецификой и образностью. ____________________ 1. Wojciechowski, J. Korzenie. / J. Wojciechowski. Miesięcznik Literacki. — 1980, № 2 2. Распутин, В. Избранные произведения: В 2 т. / W. Rasputin. — М., 1990, Т. 1—2. 3. Rasputin, W. W ostatnią godzinę. (Przeł. T. Gosk). / W. Rasputin. — Warszawa, 1974. 4. Rasputin, W. Żyj i pamiętaj. (Przeł. J. Pański). / W. Rasputin. — Warszawa, 1979. 5. Rasputin, W. Pożegnanie z Matiorą. (Przeł. J. Litwiniuk). / W. Rasputin. — Warszawa, 1980. 6. Мифы народов мира: В 2 т. — М., 1980—1982. Т. 2. 7. Bruckner, A. Mitologia słowiańska i polska. / A. Bruckner. — Warszawa, 1985.