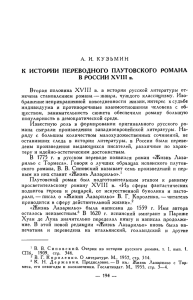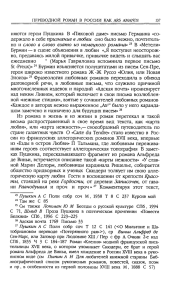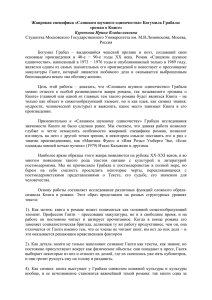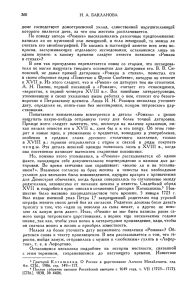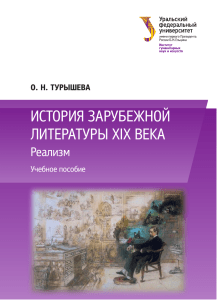Роб-Грийе, А. Путь для будущего романа - nataly
advertisement
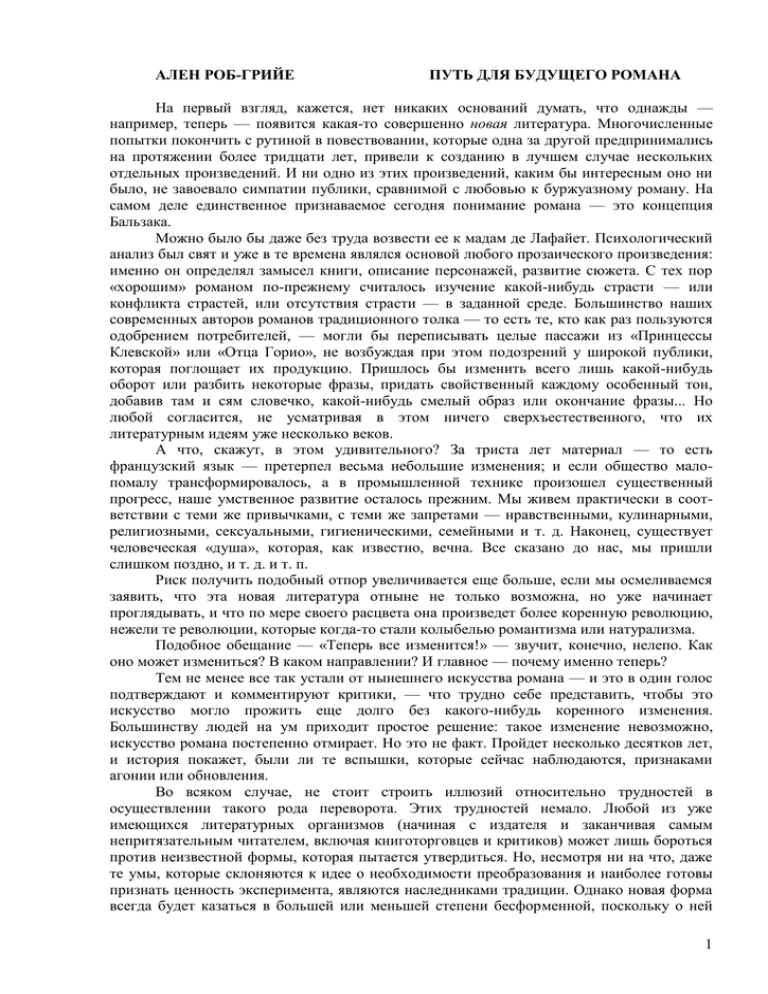
АЛЕН РОБ-ГРИЙЕ ПУТЬ ДЛЯ БУДУЩЕГО РОМАНА На первый взгляд, кажется, нет никаких оснований думать, что однажды — например, теперь — появится какая-то совершенно новая литература. Многочисленные попытки покончить с рутиной в повествовании, которые одна за другой предпринимались на протяжении более тридцати лет, привели к созданию в лучшем случае нескольких отдельных произведений. И ни одно из этих произведений, каким бы интересным оно ни было, не завоевало симпатии публики, сравнимой с любовью к буржуазному роману. На самом деле единственное признаваемое сегодня понимание романа — это концепция Бальзака. Можно было бы даже без труда возвести ее к мадам де Лафайет. Психологический анализ был свят и уже в те времена являлся основой любого прозаического произведения: именно он определял замысел книги, описание персонажей, развитие сюжета. С тех пор «хорошим» романом по-прежнему считалось изучение какой-нибудь страсти — или конфликта страстей, или отсутствия страсти — в заданной среде. Большинство наших современных авторов романов традиционного толка — то есть те, кто как раз пользуются одобрением потребителей, — могли бы переписывать целые пассажи из «Принцессы Клевской» или «Отца Горио», не возбуждая при этом подозрений у широкой публики, которая поглощает их продукцию. Пришлось бы изменить всего лишь какой-нибудь оборот или разбить некоторые фразы, придать свойственный каждому особенный тон, добавив там и сям словечко, какой-нибудь смелый образ или окончание фразы... Но любой согласится, не усматривая в этом ничего сверхъестественного, что их литературным идеям уже несколько веков. А что, скажут, в этом удивительного? За триста лет материал — то есть французский язык — претерпел весьма небольшие изменения; и если общество малопомалу трансформировалось, а в промышленной технике произошел существенный прогресс, наше умственное развитие осталось прежним. Мы живем практически в соответствии с теми же привычками, с теми же запретами — нравственными, кулинарными, религиозными, сексуальными, гигиеническими, семейными и т. д. Наконец, существует человеческая «душа», которая, как известно, вечна. Все сказано до нас, мы пришли слишком поздно, и т. д. и т. п. Риск получить подобный отпор увеличивается еще больше, если мы осмеливаемся заявить, что эта новая литература отныне не только возможна, но уже начинает проглядывать, и что по мере своего расцвета она произведет более коренную революцию, нежели те революции, которые когда-то стали колыбелью романтизма или натурализма. Подобное обещание — «Теперь все изменится!» — звучит, конечно, нелепо. Как оно может измениться? В каком направлении? И главное — почему именно теперь? Тем не менее все так устали от нынешнего искусства романа — и это в один голос подтверждают и комментируют критики, — что трудно себе представить, чтобы это искусство могло прожить еще долго без какого-нибудь коренного изменения. Большинству людей на ум приходит простое решение: такое изменение невозможно, искусство романа постепенно отмирает. Но это не факт. Пройдет несколько десятков лет, и история покажет, были ли те вспышки, которые сейчас наблюдаются, признаками агонии или обновления. Во всяком случае, не стоит строить иллюзий относительно трудностей в осуществлении такого рода переворота. Этих трудностей немало. Любой из уже имеющихся литературных организмов (начиная с издателя и заканчивая самым непритязательным читателем, включая книготорговцев и критиков) может лишь бороться против неизвестной формы, которая пытается утвердиться. Но, несмотря ни на что, даже те умы, которые склоняются к идее о необходимости преобразования и наиболее готовы признать ценность эксперимента, являются наследниками традиции. Однако новая форма всегда будет казаться в большей или меньшей степени бесформенной, поскольку о ней 1 подсознательно судят, опираясь на формы привычные. А ведь в одной из наших самых известных энциклопедий в статье о Шенберге мы читаем: «Автор смелых произведений, не заботившийся ни о каких правилах»! Эта краткая характеристика находится в разделе Музыка, который, очевидно, был составлен специалистом. На бессвязно бормочущего новорожденного всегда будут смотреть как на какое-то непонятное чудо далее те, кого привлекает эксперимент. Они будут выражать любопытство, заинтересованность и сдержанность в отношении будущего. Большинство из них, рассыпаясь в искренних похвалах, обратятся к поискам следов; ушедших времен, всех тех связей, которые произведение еще не успело порвать и которые отчаянно тянут его назад. Ибо, если настоящее измеряется нормами прошлого, они же и создают это настоящее. Сам писатель, несмотря на его стремление к независимости, находится в среде интеллектуальной культуры, в среде литературы, которые неизбежно принадлежат прошлому. Он не может в один прекрасный день освободиться от той традиции, из которой он сам вышел. Порой даже те элементы, против которых он чаще всего пытался бороться, наоборот, проступают отчетливее, чем где бы то ни было, именно там, где, как ему казалось, он одержал над ними окончательную победу; и все, разумеется, вздохнут с облегчением и похвалят его за то, что он культивировал их с таким упорством. Таким образом, несомненно, именно специалистам в области романа (писателям, критикам или очень вдумчивым читателям) будет труднее всего выбраться из наезженной колеи. Самый независимый из наблюдателей уже не способен видеть окружающий мир непредвзято. Сразу же уточним, что речь здесь не идет о наивном стремлении к объективности, над которым так легко насмехались исследователи (субъективной) души. Объективность — в обычном понимании этого слова: полная обезличенность взгляда — является очевидной химерой. Но должна же по крайней мере существовать возможность свободы, а ее тоже нет. К вещам поминутно пристраиваются культурные составляющие (психология, мораль, метафизика и т. д.), которые придают им вид менее странный, более понятный и внушающий больше доверия. Иногда остается одна маскировка: поступок стирается из нашего сознания, вытесняемый теми чувствами, которые, как предполагается, были его причиной; мы отмечаем, что пейзаж «суровый» или «спокойный», но не можем выделить из него ни одной черточки, ни одной существенной детали. И даже если у нас сразу возникает мысль: «Это же литература», мы не пытаемся бунтовать. Мы привыкли, что эта литература (слово, ставшее уничижительным), как решетка со вставленными в нее разноцветными стеклами, разбивает поле нашего восприятия на мелкие квадраты, которые легко усваиваются. А если что-то не желает встраиваться в эту систему, если какая-то частичка мира выбивает стекло, поскольку не находит себе места в решетке толкования, у нас в запасе есть еще весьма удобное понятие абсурда, в котором растворится этот неудобоваримый остаток. Но мир не является ни значимым, ни абсурдным. Он просто есть. Во всяком случае, именно этим он наиболее примечателен. И внезапно очевидность этого факта поражает нас с такой силой, против которой мы не можем устоять. Вмиг вся прекрасная конструкция рушится: неожиданно открыв глаза, мы еще раз испытали шок от встречи с этой упрямой реальностью, которую мы притворно считали до конца изученной. Вокруг нас, бросая вызов своре наших животных или обиходно-бытовых прилагательных, присутствуют вещи. Их поверхность чиста и ровна, нетронута, лишена двусмысленного блеска и прозрачности. И вся наша литература до сих пор не смогла ни приоткрыть малейшего ее уголка, ни выровнять малейшего ее изгиба. Бесчисленные экранизации романов, которые наводнили наши кинотеатры, дарят нам возможность когда угодно вновь пережить этот удивительный опыт. Кино, которое также унаследовало психологическую и натуралистическую традиции, чаще всего имеет целью лишь перенесение повествования в ряд образов: оно стремится только представить 2 зрителю посредством нескольких тщательно отобранных эпизодов то значение, которое для читателя свободно выражалось в предложениях. Однако киноповествование то и дело вырывает нас из внутреннего комфорта, чтобы бросить в этот предлагаемый мир с такой силой, которую вряд ли найдешь в соответствующем ему письменном тексте — романе или сценарии. Каждый может обнаружить, в чем именно заключается смысл произошедшего изменения. Первоначально в романе объекты, поступки персонажей, служившие опорой интриги, полностью растворялись, уступая место своим значениям: незанятое кресло означало только отсутствие или ожидание, рука, положенная на плечо, была только знаком симпатии, оконные переплеты символизировали невозможность бегства... И вот теперь читатель видит кресло, движение руки, крестообразную форму переплета. Значение остается очевидным, но, вместо того чтобы поглощать наше внимание, оно как бы дается в качестве добавления, даже в качестве излишнего добавления, поскольку то, что доходит до нас и остается в нашей памяти, представая как нечто существенно важное и несводимое к расплывчатым мыслительным понятиям, — это сами поступки и объекты, перемещения и контуры, которым их образ, не желая этого, возвращает реальность. Может показаться странным, что эти фрагменты нетронутой действительности, которые киноповествование предоставляет нам невольно и безотчетно, поражают нас так сильно, тогда как идентичных сцен, происходящих в реальной жизни, недостаточно, чтобы заставить нас прозреть. И в самом деле, все происходит как если бы условность фотографического изображения (два измерения, черно-белая гамма, ограниченность рамками кадра, различия в масштабе между планами) помогала нам освободиться от условности наших собственных представлений. Несколько необычный облик воспроизведенного таким образом мира открывает нам в то же время необычный характер мира, окружающего нас: необычный в той мере, в какой он отказывается соответствовать нашим привычным суждениям и нашему порядку. На месте этой вселенной «значений» (психологических, социальных, функциональных) необходимо, следовательно, выстроить более прочный, более непосредственный мир. Пусть объекты и поступки воздействуют в первую очередь своим присутствием, к пусть это присутствие господствует и далее над любой теорией, созданной в целях объяснения и стремящейся замкнуть их внутри некоей знаковой системы — эмоциональной, социологической, фрейдистской, метафизической или любой другой. В будущих романных построениях действия и объекты; будут наличествовать, прежде чем стать чел-то; и они будут наличествовать и впоследствии, весомые, неизменные, всегда присутствующие, как бы насмехающиеся над собственным смыслом — тем самым, что напрасно старается свести их к роли случайных орудий, к роли недолговечного и постыдного материала, которому всего лишь придает форму — причем произвольно — высшая истина, озвученная человеком и воплощенная в ней, чтобы тут же отбросить это не слишком удобное вспомогательное средство обратно в забвение, во мрак. Отныне же, напротив, объекты понемногу будут лишаться присущего им непостоянства, таинственности, потеряют фальшиво-загадочный вид, ту внутреннюю непонятность, которую один эссеист назвал «романтической сердцевиной вещей». Вещи перестанут быть неясным отражением неясной души героя, отзвуком его страданий, тенью его желаний. Или, скорее, если вещам случится на какой-то миг послужить человеческим страстям, то это будет их временным состоянием, и они склонятся под игом значений лишь внешне, как бы в насмешку, дабы лучше продемонстрировать, до чего же они остаются чужды людям. Что до персонажей романов, то они обогатятся большим количеством возможных истолкований; они предоставят каждому читателю — в соответствии с его интересами — простор для любых комментариев, психологического, психиатрического, религиозного 3 или политического свойства. Но скоро все заметят их безразличие в отношении к этому мнимому богатству. В то время как традиционно предлагаемые автором интерпретации перекраивали на свой лад, поглощали, уничтожали героя, без конца отбрасывая его в гдето там — нематериальное и зыбкое, с каждой минутой все более далекое, с каждой минутой все более расплывчатое, — грядущий герой, напротив, будет наличествовать именно здесь. А где-то там останутся комментарии; перед лицом неопровержимого присутствия героя они покажутся ненужными, поверхностными и даже недобросовестными. Положение с вещественными доказательствами в детективных произведениях представляет собой, как ни странно, довольно верное отражение сложившейся ситуации. Элементы, собранные воедино следователем, — оставленный на месте преступления предмет, запечатленное на фотокарточке движение, услышанная свидетелем фраза, – прежде всего и главным образом призывают дать объяснение, существуя только для выполнения определенной функции в деле, далеко не сводимом к ним самим. И вот уже начинается нагромождение теорий: судья пытается установить логическую и необходимую связь между разрозненными элементами; нам кажется, что все сведется к банальному сцеплению причин и следствий, намерений и случайностей... Но события вдруг развиваются самым тревожным образом: свидетели противоречат друг другу, у обвиняемого одно за другим множатся алиби, открываются новые, не учтенные ранее подробности... И всегда нужно держаться четко выраженных указаний: точное положение предметов мебели, форма и количество отпечатков пальцев, слово, проскользнувшее в записке. Все больше и больше складывается впечатление, что это — единственное, что есть истинного. Такого рода элементы „могут прятать тайну или ее раскрывать; можно выстроить из них некую систему, но на деле они обладают лишь одним подлинным, неопровержимым качеством — они наличествуют: То же самое — и в окружающем нас мире. Ранее представлялось, что предел всему — придать миру некий смысл, и все искусство романа, в частности, как будто подчинялось этой цели. Но здесь имелось обманчивое упрощение: из мира, который не становился ни более понятным, ни более близким нам, в то же время понемногу уходила жизнь. Ведь именно в присутствии и есть местопребывание действительности; сегодня речь идет, следовательно, о создании литературы, которая считалась бы с этим фактом. Возможно, все это показалось бы обманчивым теоретизированием, если бы нечто не менялось сейчас — самым решительным и, вероятно, окончательным образом — в отношениях между нами и мирозданием. Поэтому у нас уже есть ответ на этот вопрос, полный иронии: «Почему сейчас?» Да, сегодня и вправду появилось кое-что новое, что отделяет нас — и на этот раз бесповоротно — от Бальзака, как и от Жида, и от мадам де Лафайет: это крушение старого мифа о «глубине». Известно, что весь жанр романа покоился на этом мифе, и только на нем. Роль писателя традиционно состояла в том, чтобы проникать в глубь вселенной все дальше и дальше, забираться в самые потайные уголки — и, наконец, в один прекрасный день вытащить на свет частичку волнующей загадки. Спускаясь в пропасти людских страстей, он посылал в мир, спокойный с виду (то есть на поверхности), победные реляции с описанием тайн, до которых он смог дотронуться кончиком пальца. Священное опьянение, возникавшее у читателя, совершенно не порождало в нем чувства тревоги или тошноты, а, напротив, укрепляло его в уверенности, что он — повелитель мира. Да, конечно, существуют пещеры, подводные впадины, — но благодаря мужественным первопроходцам всегда можно достичь их предела. При таком положении дел нет ничего удивительного в том, что суть феномена литературы заключалась во всеобъемлющем, единственном определении, которое пыталось вобрать в себя все внутренние качества, всю сокрытую от взгляда душу вещей. Слово действовало поэтому как ловушка, поставленная писателем: туда попадала вселенная, а затем она выставлялась на всеобщее обозрение. 4 Произошедшая революция поистине грандиозна: мы не только не рассматриваем больше мир как свое имущество, частную собственность, приспособленную к нашим нуждам и легко видоизменяемую, — но мы не верим теперь в его глубину. Тогда как эссенциалистские теории терпели крах, а идея «условности» заменяла идею «вселенной», внешняя сторона вещей перестала быть для нас маской их внутренней сущности — а это представление и служило основой для метафизических разговоров о «потусторонности». Итак, должен измениться сам язык, используемый в литературе; он уже меняется. Мы отмечаем возрастающее день ото дня неприятие, питаемое наиболее сознательными из нас по отношению к словам интуитивного, аналогического или магического характера. И одновременно распространение терминов оптического, описательного свойства, которые довольствуются тем, что измеряют, расставляют по местам, ограничивают и дают определения, указывает, вероятно, нелегкий путь для нового искусства романа. 1956 5