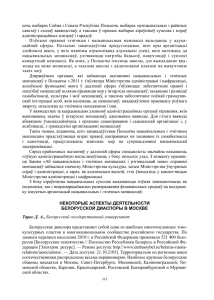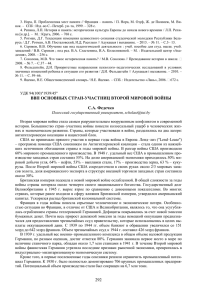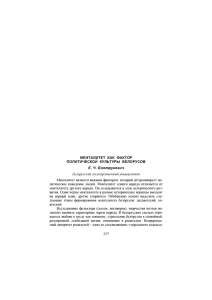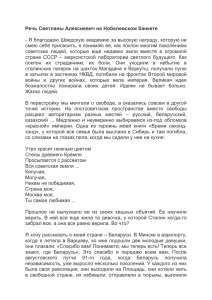Чернявская Ю.В., Белорусы. От тутэйшых
advertisement
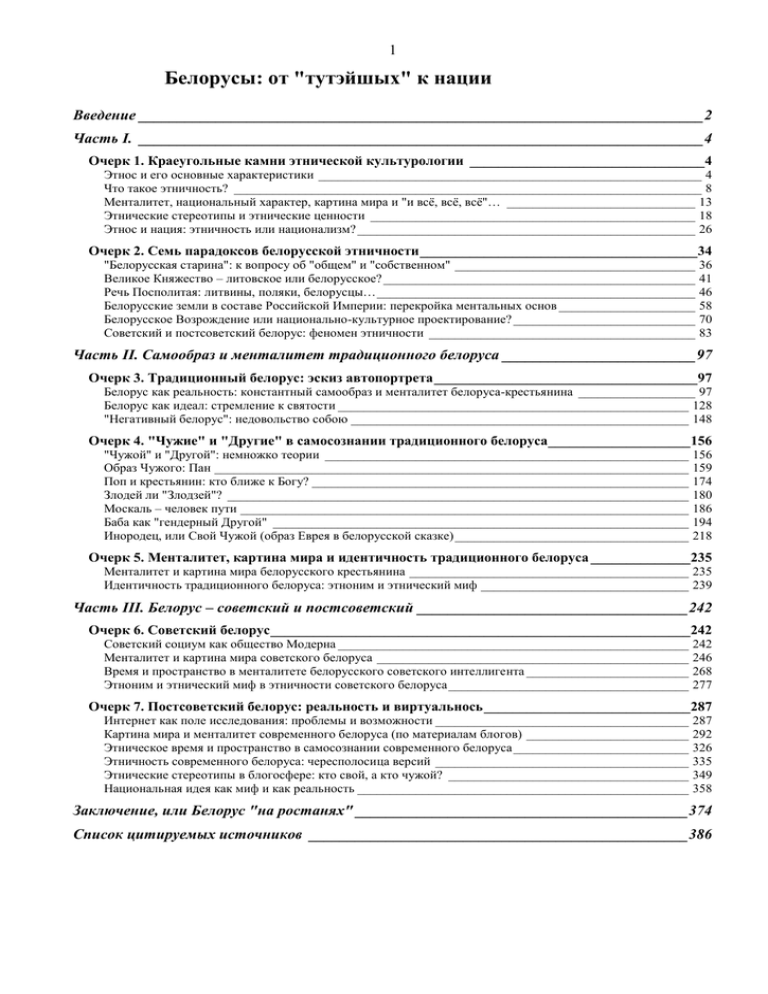
1 Белорусы: от "тутэйшых" к нации Введение _________________________________________________________________________2 Часть I. _________________________________________________________________________4 Очерк 1. Краеугольные камни этнической культурологии _________________________________4 Этнос и его основные характеристики ___________________________________________________________ 4 Что такое этничность? ________________________________________________________________________ 8 Менталитет, национальный характер, картина мира и "и всё, всё, всё"… _____________________________ 13 Этнические стереотипы и этнические ценности __________________________________________________ 18 Этнос и нация: этничность или национализм? ____________________________________________________ 26 Очерк 2. Семь парадоксов белорусской этничности _______________________________________34 "Белорусская старина": к вопросу об "общем" и "собственном" _____________________________________ Великое Княжество – литовское или белорусское? ________________________________________________ Речь Посполитая: литвины, поляки, белорусцы… _________________________________________________ Белорусские земли в составе Российской Империи: перекройка ментальных основ _____________________ Белорусское Возрождение или национально-культурное проектирование? ____________________________ Советский и постсоветский белорус: феномен этничности _________________________________________ 36 41 46 58 70 83 Часть II. Самообраз и менталитет традиционного белоруса _________________________97 Очерк 3. Традиционный белорус: эскиз автопортрета _____________________________________97 Белорус как реальность: константный самообраз и менталитет белоруса-крестьянина __________________ 97 Белорус как идеал: стремление к святости ______________________________________________________ 128 "Негативный белорус": недовольство собою ____________________________________________________ 148 Очерк 4. "Чужие" и "Другие" в самосознании традиционного белоруса____________________156 "Чужой" и "Другой": немножко теории ________________________________________________________ Образ Чужого: Пан _________________________________________________________________________ Поп и крестьянин: кто ближе к Богу? __________________________________________________________ Злодей ли "Злодзей"? _______________________________________________________________________ Москаль – человек пути _____________________________________________________________________ Баба как "гендерный Другой" ________________________________________________________________ Инородец, или Свой Чужой (образ Еврея в белорусской сказке) ____________________________________ 156 159 174 180 186 194 218 Очерк 5. Менталитет, картина мира и идентичность традиционного белоруса ______________235 Менталитет и картина мира белорусского крестьянина ___________________________________________ 235 Идентичность традиционного белоруса: этноним и этнический миф ________________________________ 239 Часть III. Белорус – советский и постсоветский ___________________________________242 Очерк 6. Советский белорус ___________________________________________________________242 Советский социум как общество Модерна ______________________________________________________ Менталитет и картина мира советского белоруса ________________________________________________ Время и пространство в менталитете белорусского советского интеллигента _________________________ Этноним и этнический миф в этничности советского белоруса _____________________________________ 242 246 268 277 Очерк 7. Постсоветский белорус: реальность и виртуальнось _____________________________287 Интернет как поле исследования: проблемы и возможности _______________________________________ Картина мира и менталитет современного белоруса (по материалам блогов) _________________________ Этническое время и пространство в самосознании современного белоруса ___________________________ Этничность современного белоруса: чересполосица версий _______________________________________ Этнические стереотипы в блогосфере: кто свой, а кто чужой? _____________________________________ Национальная идея как миф и как реальность ___________________________________________________ 287 292 326 335 349 358 Заключение, или Белорус "на ростанях" ___________________________________________374 Список цитируемых источников _________________________________________________386 2 Моей семье Введение Создавая концепцию, автор выстраивает своего рода дом, имеющий все, что положено иметь дому – стены, крышу, но главное – фундамент. И, разумеется, краеугольные камни, "фундамент фундамента". Нередко бывает так: то, что на первый взгляд кажется нам красивым и прочным строением, рассыпается в пыль именно потому, что плохо держат краеугольные камни. При анализе особенностей этнической общности "дом" теории часто рушится из-за неуклюжего обращения с понятиями "этнос", "нация", "этническая территория" и мн. др. Впрочем, иногда причина – не в неловкости или безграмотности, а в сознательном стремлении исследователя представить свой народ "самым-самым" – самым древним, самым генетически "чистым", самым культурно развитым, самым достойным. Иногда это делается в самых "патриотических" целях, например, для роста самосознания представителей этноса. Но, увы, в этом случае исследование подменяется мифотворчеством, и мы обнаруживаем, что Будда является украинцем (В. Бебик), что именно украинцы создали санскрит и учили неграмотных индийцев Ведам (В. Кобылюх), или что грузины были европейцами еще с тех пор, как Ясон ступил на территорию нынешней Грузии, а Прометея приковали к скале (М. Саакашвили). Как правило, претензии на исключительную древность и почетное происхождение своего народа поддерживаются и усиливаются доказательствами "непочетного" и "недревнего" происхождения народов-контактеров… Впрочем, зачастую даже доказательств не требуются. В этом случае, например, автор-армянин, только что говоривший о недопустимости межнациональной вражды, раз за разом повторяет клише о звериной сущности турок – и именно через эту призму рассматривает мораль и ценности сегодняшних турок. Все это – пусть крайние, но примеры непонимания (а еще чаще – намеренной подмены) самых простых вещей: например, того, что наличие санскритских корней в родном языке вовсе не означает, что именно твоим народом санскрит и создан; что древнее население той или иной территории не стоит отождествлять с сегодняшним этносом, что не бывает "аристократических" и "плебейских", "добрых" и "злых" народов, хотя бы потому что не стоит отождествлять человека (или даже группу) и весь народ… Для того, чтобы разобраться в этом, следует четко понимать, что такое этнос и чем он отличается от нации; в каких аспектах эти понятия следует различать, а в каких они являются синонимами; что такое этнические стереотипы и бывает ли так, чтобы какой-то народ был нравственно ниже, глупее и бездарнее другого народа; что такое 3 "душа народа", "национальный характер" или менталитет – и как он передается (через "общую кровь", священные традиции, школу, семью или какими-то другими путями?); что такое "этничность", "этническая картина мира" и т.д. Разумеется, это нужно именно тем, кто хочет разобраться, а не тем, кто хочет найти в книгах подтверждение тому, что собственный народ (белорусский, русский, украинский, еврейский или любой другой) – лучше, древнее и "аристократичнее" других. И наконец последнее в этом введении, но далеко не последнее по сути. В начале ХХ века немецкий социолог Макс Вебер создал важнейший исследовательский принцип – метод "идеального типа". Что это значит? То, что предпринимаемая ученым попытка зафиксировать черты какого-нибудь явления (в нашем случае, белорусской этничности и менталитета) – никогда не может претендовать на единственную истину и, тем более, истину на века. Этому множество причин: и то, что мир беспределен, а человек ограничен своим маленьким участком в нем; и то, что мир бесконечен, а человек смертен, и потому его выводы всегда "предварительны". А значит, ученый никогда не может претендовать на полный охват предмета, который он анализирует. Любое (а тем более, гуманитарное) исследование – не более чем конструкт: ведь факты, лежащие в его основе, могут быть истолкованы совершенно различными способами и с различных точек зрения. Таким конструктом и является идеальный тип. Именно поэтому любая концепция требует дополнений, исходящих от других авторов, других концепций. Не знаю, действительно ли в споре рождается истина (мне кажется, что спор – чересчур жесткое и недоброе место для рождения не только истины, но и смысла), но уверена: истина рождается только в диалоге. Потому здесь и сейчас я буду говорить об этничности, менталитете, картине мира белоруса исключительно с позиций собственного идеального типа, не только допуская, но и приветствуя другие точки зрения – лишь бы они были аргументированы. Основой для создания "идеального типа" белорусского менталитета и особенностей этничности крестьян XIX – начала ХХ вв. послужат социально-бытовые сказки; исследование "белорусско-советского" менталитета будет строиться на материале личных писем белорусского советского интеллигента; анализ современной этничности – на материале интернет-блогов (преимущественно "Живого Журнала"). __________________________________ И наконец, я хочу выразить благодарность тем, кто – прямо или косвенно – помогал мне в работе над этой книгой. Я благодарю: Моего мужа, Юрия Зиссера – за постоянное внимание, интерес к книге и консультации по вопросам, связанным с интернетом. 4 Мою мать Александру Чернявскую и мою дочь Евгению Чернявскую – за веру в меня. Моих учеников – Вячеслава Сащеко, Екатерину Савицкую, Елену Спирину, Веронику Русакову – за доброе отношение и поддержку в тяжелые времена. Екатерину Савицкую дополнительно – за оформление обложки. Галину Сушко, Ольгу Василенок, Ирину Корнееву, Елену Руденко, Елену Потехину, Вадима Казначеева – за дружбу. Олега Айзберга – за долгие интересные беседы. Анатолия Тараса, без которого эта книга не появилась бы. Блоггеров байнета, чьи тексты я использовала в этой работе. Блоггера macsim_by за доброжелательное отношение к книге и советы по усовершенствованию последней главы. ____________________________________________________________ Преамбула закончена. Что ж, как говорится, с Богом… Часть I. Очерк 1. Краеугольные камни этнической культурологии Этнос и его основные характеристики В культурологическом аспекте термин "этнос" употребляется в узком и широком смысле. В широком смысле "этнос" – собирательное понятие, включающее в себя все типы этнических общностей (от крошечного племени до многомиллионной нации). А в узком смысле слова этнос – одна из форм этнической общности; исторически сложившаяся межпоколенная общность людей, обладающих специфическими особенностями культуры, относительно стабильными моделями деятельности, мышления и поведения, а также этническим самосознанием, позволяющим членам этноса (этнофорам) отделять свою общность от всех иных народов. Что бросается в глаза в этом определении? То, что в числе наиболее значимых характеристик этноса нет ни кровнородственной связи (пресловутого "общего происхождения", переходящего из учебника в учебник и из монографии в монографию), ни территории, ни языка, ни религии. И это при том, что на момент возникновения общности, да и позже все эти обычно называемые "объективными" факторы играли существенную роль. Почему же они не включены в определение этноса? Рассмотрим на примерах. 5 Родство по крови. В древности считалось, что каждый этнос возник от некоего реального или фантастического предка. Эти воззрения до сих пор влиятельны, только на место "священных предков" – это может быть человек, зверь, мифическое существо – ставится какое-либо племя. Понятие этноса при этом подменяется понятием расы или кровного родства. Раса – это значительная группа людей, обладающая общими физическими свойствами, передаваемыми по наследству и поддерживающимися в данной группе в ходе отбора. Средство передачи таких признаков – ген. Механизм существования рас кроется в передаче генетической информации. Механизм существования этносов основан на передаче совершенно другого типа информации – коммуникативнокультурной. Если люди определенной расы связаны родством "по крови" (т.е. физиоантропологическими характеристиками), то члены этноса –"родством по культуре". Самым ярким возражением расовой теории служит известный факт: на протяжении истории происходило смещение рас, достаточно вспомнить хотя бы эпоху великого переселения народов. Уже к середине Средних веков ни один народ Европы не состоял из представителей одной кровно-родственной общности. Так, предки англичан – саксы, кельты, римляне, норманны и др.; французов – галлы, иберы, греки, римляне и (в целом 24 этнических группы). Латиноамериканские и ряд азиатских и арабских этносов – итог межрасовых миксаций. Белорусы – результат балто-славянского смешения. Так что благодаря метисации, миграциям и социальным изменениям, использование термина "раса" и даже "общее происхождение" в отношении к этносам ведет к неверным и опасным умозаключениям. "Родство – слишком узкая социальная база для больших этносов и для наций" [193, с. 357], и кровно-родственное самоопределение в них имеет не реальный, а скорее, символический характер. Поэтому представление о расовой уникальности сегодня процветает у меньшинств и в молодых государствах, для которых "кровная отличительность" – ресурс чувства этнического достоинства, автономии и привилегий. Но в этом случае понятие "расовой однородности" перестает быть научным понятием и становится понятием идеологическим – современной мифологемой, созданной вовсе не для научных целей. Как же тогда понимать часто прилагаемый к понятию "этнос" оборот "кровное родство? Основное смысловое значение, связанное с понятием "крови" –начало жизни. Именно эту роль она играет в древних обрядах инициации, в магии плодородия, в жертвоприношении. Именно поэтому символ крови ассоциируется с "началом" этноса. Но символ остается символом. Этническая общность не предполагает генетического 6 "родства по крови". Скорее метафора "крови" означает здесь близость поведенческих характеристик членов этноса, культурное родство и сходное самосознание этнофоров. Территория. Для того, чтобы этнос сложился, необходимо, чтобы его члены жили на единой территории. Но территория формирования вовсе не всегда совпадает с территорией развития этноса. Причины – расширение земель (арабский халифат, римская империя, российская империя, Британия и др.); морские миграции, повлекшие разрывы между группами, которые стали отдельными этносами (англичане, французы, испанцы, португальцы и мн. др.); изгнание целых народов (евреи) и их части (армяне); сокращение территорий из-за войн, эпидемий и т.д.; ассимиляция; феномен диаспоры (евреи в Европе, украинцы и белорусы в Канаде и США и др.). Известно, что сейчас в Азербайджане живут лишь 40% азербайджанцев, а их большая часть – в Иране. Лишь 50% армян проживает в Армении, остальные в Нагорном Карабахе, в России, Грузии, США, Франции. Возникает дилемма: либо мы не считаем современные общности этносами, либо отказываемся от идеи, что территория является основополагающим этническим признаком. Ряд исследователей настаивает на том, что важную роль для этничности играет дпже не столько общность территории, сколько особенности ландшафта и климатической зоны. Первым эту мысль высказал Аристотель, а разработал Ш. Монтескье. Именно с этой точки зрения Н. Бердяев писал о влиянии необъятных российских пространств на "душу" русского народа. Не будем пока касаться правомерности термина "русская душа", как и в целом "душа народа". Что касается влияния ландшафта на менталитет этноса, то это – вопрос сложный: ландшафты западных областей России, Беларуси и Литвы схожи, но так ли схожи этнические менталитеты? Общий язык. Третий – и наиболее фундаментальный "объективный" признак народа – язык. Этнос предполагает коммуникативное единство, консенсус людей, а прежде чем договариваться, надо иметь средства и возможности для того, чтобы прийти к такому консенсусу. В человеческой общности такие средства и возможности дает язык. Потому языковой фактор – один из основополагающих при формировании любого этноса. Но остается ли он основополагающей этнической характеристикой в последующем развитии этноса? Уже более полувека назад великий социолог П.А.Сорокин отрицал это, указывая на неопределенность языка по сравнению с диалектами и наречиями, а также на ситуацию (еще более распространившуюся в наши дни), когда разные этносы говорят на одном языке [195, с. 244-248]. Ныне последний тезис можно расширить, говоря в целом о несовпадении языка и границ общности: не 7 только разные этносы говорят на одном языке (английский – язык более, чем 450 млн. людей), но и один и тот же говорит на разных (шотландцы, валлийцы, евреи). Приведу несколько примеров обеих тенденций. Итак, испанский язык – родной не только для самих испанцев, но и для колумбийцев, мексиканцев, венесуэльцев, чилийцев, перуанцев и др. По-французски говорят не только французы, но и франкоканадцы, франко-швейцарцы, валлоны Бельгии. Множество различных этносов считают арабский язык и хинди своими собственными. Встречается и обратная картина: существует немало народов, отдельные группы которых говорят на различных языках. К примеру, шотландцы в общей массе говорят по-английски. Но группа населения наряду с английским пользуется особым языком кельтской группы (гэльским). В Великобритании живет и другой народ кельтской языковой группы – валлийцы, который тоже является двуязычным (разговаривает и по-английски, и по-валлийски). Или, например, мордва: половина этого народа использует язык эрзя, немногим более трети говорит на мокшанском, а остальные группы перешли на русский язык. В силу глобализационных процессов (следствием которых, например, явилось то, что за последние 20 лет число людей, считающих английский язык родным, увеличилось на 70 млн.) эта ситуация только усугубляется: языковой фактор становится все менее значимым для этнической идентичности не только человека или группы, но и даже целых народов. Однако не следует сбрасывать его со счетов. Здесь показателен следующий пример: по данным переписи 1985 г. 70% этнических белорусов признали своим разговорным белорусский язык. Поскольку в тот период белорусский язык сохранялся преимущественно в деревнях, а их количество было почти вдвое ниже указанного процента, возникает вопрос о том, чем руководствовались люди, указавшие в качестве родного именно белорусский язык, а не русский, на котором они разговаривали в быту. Дело в том, что роль языка усиливается по мере того, как он обретает символическое значение "крови народа": яркий пример тому – история воссоздания иврита Бен Иегудой. Так было и с белорусами в конце ХХ века. Но пытаясь перевести эту роль из символической сферы в сферу реальности (язык как главный признак этноса), мы непременно сталкиваемся с несовпадением этнических и языковых границ. Итак, этничность более связана с символическим значением языка, чем с его фактическим употреблением всеми членами группы. Мифология и религия. Для того, чтобы этнос сложился, было необходимо единство священных начал, которое объединяло бы членов общности под "патронажем" высшей силы – языческих божеств и духов, Единого (Дао, Брахмы и т.д.) и, наконец, Бога в нашем нынешнем монотеистическом понимании. 8 Но стоит ли абсолютизировать этот фактор сегодня? Ведь существует большое количество этносов, представители которых исповедуют разные религии (или разные конфессии), и напротив – множество этносов, чьи представители исповедуют одну и ту же религию (например, ислам, христианство, буддизм). То же касается и морали: заповедь "Не убий" является первой во всех вероучениях мира, что не мешает их различиям. Кроме того, религия может служить не только этнической интеграции (объединению), но и дифференциации (разъединению: например, противостояние католиков и гугенотов, приведшее к распаду Голландии и возникновению нового этноса – бельгийцев). Предварительные выводы. Итак, рассмотрев так называемые "объективные признаки" этноса, мы приходим к выводу, что они – во всяком случае, в современном мире – зачастую "не срабатывают". Но если объективные "признаки этноса" вовсе не так действенны, как принято было считать еще несколько десятилетий назад (на них, за исключением религии, базировалась советская теория этноса), то что же удерживает этнос в веках? Вероятно, в случае каждого отдельного народа можно говорить об уникальном сплетении разных факторов, среди которых есть объективные и субъективные. Но на вершине этой пирамиды находится не объективный, а субъетивный фактор – этническое самосознание, или – в более современном словоупотреблении – этничность. Что такое этничность? Этничность как проблема. В вопросах, связанных с этничностью, мы сталкиваемся с нешуточной проблемой. В первую очередь, с тем, что этничность нельзя измерить линейкой или попробовать "на зуб": она неощутима и неуловима. Более того: в вопросах, связанных с этничностью, не следует слишком уж доверяться статистическим выкладкам и социологическим исследованиям: ведь представления людей о своей и чужой этничности меняются – порой очень быстро, в течение жизни одного-двух поколений – в силу социальных, политических, экономических, статусных и других причин. Например, в советские годы большая часть народов русского севера – в основном молодежь – устойчиво идентифицировала себя как русских (В.Г. Бабаков), сейчас же они во многом дистанциируются от "русского компонента" культуры, пытаясь развивать самобытные "основы". Можно вспомнить и советские анекдоты, касающиеся пресловутой "пятой графы" (графа о национальности) и преимущественно относящиеся к евреям или к выходцам из смешанных русско-еврейских семей: "Завтра у нас делегация из дружественного Ирана. Абрамович, Рабинович и ты, Иванов по матери, в школу не приходите". Или увещевание гадалки: "Позолоти ручку, всю правду скажу, да 9 ты не бойся, я не цыганка, я – молдаванка (или румынка)". Все эти, да и многие другие примеры показывают, что представления о своей этнической принадлежности у человека или у группы могут меняться (или, по крайней мере, по-разному акцентироваться) в зависимости от социальных и культурных факторов. Еще более проблематичной категорию "этничность" делает то, что исследователи вкладывают в этот термин совершенно разные смыслы. Под ним часто понимают самосознание всего народа (нередко и ошибочно отождествляя его с "менталитетом" или "ментальностью"). Другие понимают этничность как пристрастие к родному языку и автохтонной культуре, третьи – как этническую идентичность личности. Все чаще – это уже касается, главным образом западных ученых, – под этничностью подразумевают протестные настроения групп, дискриминируемых по этническому признаку. Словом, разнобой налицо. А ведь я не перечислила и малой толики определений этничности… Этничность, как и этнос, можно понимать в широком и в узком смыслах. В широком смысле этничность – это представление народа о собственной сущности, о своем месте во взаимодействиях с другими народами, о своей роли в истории человечества (и связанных с этим ценностях, идеалах и культурных смыслах этноса). В узком смысле этничность предполагает представление этнофоров о своей отличительности от членов других этносов, причем эта отличительность понимается как ценность. В этом, последнем смысле понятие этничности тождественно понятию "этнической идентичности", т.е. принадлежности человека к тому или иному этносу. Черты этничности. Что важно понимать, когда берешься анализировать этничность – собственную или чужую? Первое: этничность изменяема, процессуальна. "Взглянем, например, на Англию. Разве можно узнать потомка свирепого сакса, убивавшего кельтских ребятишек, в веселом браконьере Робин Гуде или в стрелке из "Белого отряда", а его прямого потомка – в матросе-корсаре Френсиса Дрейка или в "железнобоком" солдате Кромвеля?... А ведь Англия всегда была страной консервативной. Что же говорить о других этносах, на облик которых влияет не только внутреннее развитие, но и посторонние воздействия – культурные заимствования, завоевания, влекущие за собой принудительные изменения обычаев, и наконец, экономические нажимы, меняющие род занятий и насильственно регулирующие потребности этноса," – пишет об этом Лев Гумилев [156, с. 36]. Второе: этничность не одномерна. Она существует в трех видах – коллективной, личностной и групповой. Этот аспект часто недооценивается. Свидетельство того – бесконечные обсуждения (и на научном, и на бытовом уровне) неких "национальных 10 характеров". Создается впечатление, что народ присваивает, монополизирует какие-то определенные черты, которые не меняются и которыми от обладают все его представители. А ведь каждый из нас в быту сталкивается с совершенно разными характерами представителей того или иного этноса. В советской, да и часто в постсоветской исследовательской традиции групповая этничность замалчивается. На Западе, напротив, ей отдается пальма первенства (этничность дискриминируемых групп, этнические проекты элит). Истина посередине. Да, часто именно группы пробуждают этнические эмоции масс: эту функцию обычно исполняют интеллектуалы или интеллигенция (вспомним хотя бы "нашаніўскі" период в белорусской культуре), к которой подключается национально ориентированная молодежь. Но при этом этничность групп всегда связана с коллективной и личной этничностью. Во-первых, она "питается" от традиционной коллективной этничности, а во-вторых, всегда имеет своих выразителей – конкретных личностей. Но подробнее об этом – далее. Тем самым индивидуальный, коллективный и групповой типы этничности в каждом обществе пересекаются. Так, современная коллективная этничность белорусов, декларируемая СМИ и учебниками как однородная, в реальности распадается на групповые типы. Более того, личностная этничность – более интимная, более эмоциональная, чем два другие типа – никогда в точности не соответствует ни коллективной, ни групповой. Потому респонденты на вопрос "Почему ты считаешь себя белорусом?" дают совершенно разные ответы: "потому что я гражданин Республики Беларусь", "потому что я родился здесь", "потому что я вырос в БССР", "потому что я люблю Богдановича и Короткевича ", "потому что я ощущаю себя потомком литвинов" и даже "потому что моя Родина – минская улица К. Маркса". И наконец, третье, самое главное… Культура: высокая, народная, повседневная. Итак, этничность – не рок, не фатальность: она не передается "по крови". Она производится в культуре и воспроизводится благодаря культуре. И здесь мы сталкиваемся с серьезной проблемой: а о какой культуре идет речь? Долгое время считалось (да и до сих пор нередко считается), что культура может рассматриваться лишь с двух точек зрения: 1) с точки зрения великих произведений, созданных ее представителями (элитарная культура); 2) как массив традиций, запечатленных в исторической памяти народа (народная культура, отождествляемая с фольклором). Первой точке зрения можно возразить так: сегодня классика (и в целом элитарная культура) не столь уж часто – и далеко не в полном объеме – оказывается востребованна 11 молодым поколением, но это вовсе не мешает его представителям считать себя белорусами, украинцами, русскими, поляками, голландцами и т.д. Особенно явно это становится в наши дни, когда молодой житель Минска может быть буддистом, любить американскую музыку, восточное кино, Энди Уорхолла, одеваться в магазине "Benetton", проявлять чудеса невежества в отношении образцов отечественной культуры – и при этом устойчиво идентифицировать себя в качестве белоруса. Исследователи, придерживающиеся второй точки зрения, более проницательны. С одной лишь оговоркой: надо четко представлять себе, что подразумевается под "фольклором". Если мы используем это понятие согласно словарю Ушакова – в смысле "совокупности верований, обычаев, обрядов, песен, сказок и др. явлений быта народов", то вряд ли современная этничность куется на этой наковальне. Часть фольклорной традиции естественным путем отходит в небытие, что не мешает отдельным ее элементам вновь востребоваться на новых витках развития этноса. Но – востребоваться всегда в новом, модернизированном виде: так, в 70-е–80-е гг. в России оказалось востребованным творчество Ж. Бичевской, а в 90-е в Беларуси – этно-рок групп. Тем не менее "фокус" выставлен верно – в том случае, если мы спроецируем понятие фольклора на современность. Этничность и "тексты повседневности". Что такое фольклор? Это тексты культуры, которые создаются не "для потомков", а в повседневной жизни, не "великими гениями", но каждым из нам. Словом, фольклор – это совокупность "текстов повседневности". Сегодня понятие "текст" расширилось: это не только последовательность слов, порождающих некое "сообщение". Текст может вовсе не иметь слов. Манера поведения и даже одежда человека – тоже текст: потому Конфуций, опасаясь завоевания Китая, говорил, что свершись это – и китайцам пришлось бы ходить растрепанными и запахивать полы халата на левую сторону. Прическа и халат (вернее, его полы) – здесь понимаются как фрагменты текста, символизирующего порядок. Левостороннее запахивание халата и растрепанные волосы – символ не столько неряшества, сколько утери традиций. Вот в этом смысле текстом повседневности является все, что можно прочитать (так, приезжая в страну, языка которой мы не знаем, мы "читаем" улицы, здания, одежду и т.д.). Этничность начинается с усвоения повседневности, приметы которой мы "считываем" ежедневно и во многом бессознательно: с манеры говорить и одеваться; с того, что, как и в каких количествах едят люди; с тем, которые принято обсуждать в обществе и которые, напротив, принято замалчивать; с понимания того, что в обществе 12 считается "хорошим" и "плохим", священным и мирским; какие модели поведения присущи женщинам, а какие – мужчинам и т.д. Словом, зарождение этничности начинается не с постижения господствующей идеологии и официальной культуры, а с усвоения "мелочей" – множества бытовых выражений, навыков, привычек, которые складываются в модели поведения. Впрочем они всегда связаны с идеологией (вернее, с идеологиями: в любом обществе их множество), но не прямо, а косвенно и, кстати, оказывают на нее большое влияние. Этничность и ментальность. Усвоение моделей поведения чаще бессознательно. Вряд ли кого-то из детей учат подмигивать (распространенная привычка в американской культуре), или, наоборот, запрещают это делать (в ряде арабских стран подмигивание считается неприличным жестом). Сама повседневность учит и жестам, и употреблению определенных слов, а также задает негласные правила их использования: именно реакции окружающих заставляют ребенка понять, "что такое хорошо и что такое плохо" в понимании повседневность представителей "обучает" человека его культуры. определенным Тем моделям самым незаметно понимания мира, ориентации и поведения в нем. Принимающий и разделяющий эти модели человек становится этнофором, представителем и "заложником" этноса – и в позитивном, и в негативном смыслах этого слова. И лишь потом на этот бессознательный (или – в лучшем случае – полуосознанный) фундамент накладываются более или менее осознанные идеологии – групповые, религиозные, государственные и пр. В целом этничность можно определить как динамически обновляющуюся, представленную в текстах повседневности концепцию места общности в кругу других этносов и одновременно – места этнофора в общности. Интересно, что именно неявная, латентная сторона этничности часто спасает этнос от распада в пору социальных и политических треволнений: верхние идеологические слои рушатся, знак "плюс" переходит в знак "минус" и наоборот, но основы самосознания членов этноса остаются прочными. Это происходит потому, что первичный, бессознательный слой этничности (его можно назвать "ментальностью", "этническим бессознательным", "латентной культурой") не дает утерять целостность и специфическую направленность мышления и поведения. Этому способствует сам бессознательный характер ментальности: ведь если бы этот слой был осознан, люди могли бы подвергнуть его анализу и коррекции, поставить его под вопрос – и, может быть, утратить этническое единство. Роль "Других" фундаментальный пласт и "Чужих" не мог бы в этничности. служить столь Впрочем, действенной даже этот "скрепой", 13 объединяющей членов этноса, если бы не существование "Других" и "Чужих". Этнофоры видят, как ведут себя эти "Другие" или "Чужие" – и только в контексте сравнения с ними (в первом случае – в контексте сопоставления, во втором – противопоставления) – задумываются о том, как в таких случаях ведем себя "Мы". Именно на этой основе и делаются умозаключения о собственных культурных особенностях. Поэтому чрезвычайно значимым маркером этничности является самоназвание (этноним). Одна из аксиом современной этнологии гласит, что народ можно счесть сложившимся, лишь когда он отделил себя от групп "Они" и поставил на себе своеобразную "печать" с собственным именем. Мысль о значимости сопоставления Мы-группы с Другими не нова: при анализе социальных отношений об этом говорил К. Маркс, а в аспекте психологии – С.Л. Выготский, в аспекте социальной истории – Б.Ф. Поршнев. Для нас особенно важно, что эта процедура свойственна и культуре повседневности. Так, петербургский антрополог Илья Утехин (автор блестящего исследования советской культуры путем анализа поведения жителей коммунальных квартир: см. Утехин И. "Очерки коммунального быта") признавался, что тема книги "всплыла" лишь после вопроса его французского знакомого: "Почему никто из жильцов не уберет мусор, валяющийся на лестничной клетке?" Вопросы "других", их поведение, отличное от "нашего", и в целом сам факт несходства – побудительный мотив не только для попыток понять этих "других", но и себя. Менталитет, национальный характер, картина мира и "и всё, всё, всё"… Существует ли национальный характер? Если понятия "менталитет" и "ментальность" на советском и постсоветском пространстве распространились лишь с 80-90-х гг. ХХ в., то понятие "национального характера" было известно гораздо ранее. Оно возникло в трудах путешественников, описывающих удивительные для них качества незнакомых народов. В качестве синонима к словосочетанию "национальный характер" использовалось понятие "душа народа". Каждый из этих терминов мы не раз слышали и примерно понимаем их значение. Что бросается в глаза при их сопоставлении? То, что и в обыденном сознании, и в публицистике, и даже в научном лексиконе они употребляются в одном и том же значении – стабильной совокупности определенных черт представителей какого-либо народа. При этом если хоть чуть-чуть углубиться в суть вопроса, становится ясно, что она вовсе не так уж стабильна. Так, немцы, в XIX в. считавшиеся романтическим, поэтическим, парящим в философских 14 эмпиреях народом, уже в первые десятилетия ХХ в. странным образом "поменяли" характер, став практичными, добросовестными и прижимистыми: именно с этой точки зрения Н.А. Бердяев противопоставляет их русским. Выходит, немцы дружно взялись и изменили свой национальный характер – причем, с точностью "до наоборот"… Более того, при попытке выделить "черты характера" конкретных этносов выяснилось, что они пересекаются с "чертами" других: немцы трудолюбивы – а японцы, что ли, нет? Немцы практичны – а белорусы? Постепенно стало ясно: нет "черт" или "характеристик", монополизированных неким этносом, а тем более – свойственных всем представителям этого этноса даже в одно и то же время. А уж вести речь о стабильности таких характеристик в долговременные периоды и вовсе не приходится. Есть и еще одно "но": научная некорректность термина, как это нередко бывает, вызывает некорректность политическую, вследствие чего возникает соблазн приписывать народам "плохие" и "хорошие" характеры: плохие, разумеется, – чужим, а хорошие – своему. Пример такого подхода – убеждение, что причина "имперских амбиций России" кроется не в исторической форме и типе правления, а в том, что таков характер всех россиян: раз русский – значит, грезишь об империи, и точка. Оттуда же популярное представление (увы, свойственное не только народам-контактерам, но нередко и белорусам) в том, что белорусский этнос обладает такими фатальными характеристиками, как желание подчиняться, бесконечное терпение по отношению к давлению и даже прямому насилию и т.д. Беда в том, что сам термин "национальный характер" как будто бы взывает к тому, чтобы выдавать поверхность явлений за их сущность. Да и потом, как распределяются черты этого характера в обществе? Что это – одинаковые черты людей или характеристики групп? А может быть, имеется в виду некая общая настроенность, подобно золотому дождю, ниспадающая на головы этнофоров? Что такое "этос"? Словом, термин "национальный характер" ставит нас перед новыми и новыми вопросами, но вовсе не предполагает ответов… Потому здесь корректнее говорить не о национальном характере, а об этосе как об особой конфигурации психокультурных характеристик того или иного народа (Р. Бенедикт) – т.е. не о том, что немцы трудолюбивы, а русские – нет, а о том, что модели трудолюбия немцев и русских разнятся вследствие того, с какими иными чертами они спаяны: если у немцев – с пунктуальностью и педантизом, то у русских – с "разовым" и коллективным усилием: "Эх, ухнем!" В этом случае не возникает впечатления, что некий народ (чаще всего, свой) – средоточие достоинств, а другой – недостатков. Становится ясно: нет этносов, присвоивших какие-то позитивные или негативные качества. Просто вследствие 15 различных исторических путей сходные характеристики у разных этносов сочетаются по-разному. Скажу больше: этос народа состоит из этосов групп, которые резко различаются и в горизонтальном (субкультуры, социокультурные группы и т.д.) и в вертикальном (предки, потомки, современники – и в целом поколения) измерениях. Впрочем, в любом случае – говоря ли о национальном характере или об этосе (что гораздо более приемлемо) – нам приходится обобщать, по ходу "теряя" важные, своеобычные характеристики, не вписывающиеся в картину. Что ж, это необходимая издержка гуманитарного исследования, "идеального типа"… "Ментальность" и "менталитет". С этими понятиями тоже связаны сложности. Оба возникли на основе понятия "mentalite", центрального для французской исторической Школы Анналов и во французском языке не разделялись. Термин "ментальность" ("mentalite") означал некий общий для представителей этноса "фон", сходный психологический склад, образующий особую подоплеку мыслей, поступков и в целом моделей поведения людей. Такая подоплека действительно существует, и я говорила о ней выше, называя ее "латентной культурой" или "этническим бессознательным": поскольку человек растет в определенной этнокультурной среде, он незаметно для себя перенимает определенные правила игры. Они никем не провозглашены, а лишь негласно указывают на то, что принято, а что не принято в данной культуре, и человек принимает эти правила на бессознательном (или – во всяком случае – на полуосознанном) уровне. Ментальность – рок народа или психокультурный сценарий? При переносе понятия термина "mentalite" на постсоветское пространство возникли сразу две сложности. Одна коренится в специфике времени. В те годы, когда термин "ментальность" стал модным в постсоветской среде (конец 80-х – начало 90-х), стали доступными ранее неизвестные тексты. Читатель открывал для себя Бердяева и Соловьева, Костанеду и Моуди, мистиков и эзотериков и протестовал против советской "приземленности" и в целом – диктата рационализма. Сюда же примешались уж вовсе несообразные и личности – Кашпировский, Чумак и иже с ними. Причина их востребованности в те годы понятна: это поиск магической панацеи от кризиса, ознаменовавшего развал СССР. В свете этого термин "ментальность" ("менталитет") приобрел новые черты: под ним начали понимать некие таинственные свойства "крови" народа или его генетической памяти, "токи Космоса", которые были внятны нашим предкам, но утеряны нами и т.д. Из содержательного термина понятие "ментальность" превратилось в расплывчатое "нечто", под которое при желании стало возможно 16 подвести любое содержание (например, "имперскую" или "рабскую" ментальность того или другого народа). Вторая сложность была связана с переводами термина "mentalite", в результате которого появились два понятия – "ментальность" и "менталитет". Коль уж возникли два термина, то их попытались наполнить различным содержанием. Я не вижу необходимости в таком разделении. Словом, в контексте менталитета (ментальности) корректнее говорить о некоторых общепринятых психокультурных сценариях действия и коммуникации, а также исходящих из них негласных "соглашениях" этнофоров. Благодаря им и возникает сходство поведения членов этноса, да и в целом выбор тех или иных целей, действий и мотивов. Например, неумение сказать резкое "нет" в японской культуре (специально никем не воспитываемое, но усваиваемое в глубоком детстве благодаря примеру взрослых) влечет за собой тактики увиливания не только от этого слова, но от ситуаций, в которых его, казалось бы невозможно избежать. Так, на карточке с приглашением на обед в графе ответа подчеркивают заранее напечатанные слова – и это не "приду" или "не приду", а "благодарю" или "сожалею". Отсюда же в Японии – развитый институт посредничества, как, впрочем, и в Китае. Итак, термины "ментальность" и "менталитет" я буду употреблять как синонимы, подразумевая под ними наличие "латентной" или "фоновой" культуры, совокупность контекстов, которые не артикулируются, а подчас даже не замечаются этнофорами, но влияют на их видение мира и поведение. Этническая картина мира. Почему менталитет латентен, не выявлен? Вероятно, причина в том, что он проистекает из этнической картины мира – особого видения мира, которое свойственно представителям одного народа. У.Пенфилд установил, что картина мира имеет локализацию в мозгу человека, и поэтому организована дуально: на нее не может не воздействовать бинарность (двойственность) мозговых полушарий (М.Дагс, Дж.Джексон, Р.Сперри Ю.М.Лотман, В.Вс.Иванов и др.). В. Иванов и В. Топоров выделили около сорока оппозиций, на которых строится картина мира, но при их анализе становится ясно, что основных оппозиций не так-то много, а все остальные производны от них. Основные оппозиции таковы: Космос – Хаос; сакральное (священое) – профанное (мирское); мужское – женское; свое – чужое; жизнь – смерть; добро – зло. Помимо бинарных оппозиций картина мира строится на категориях времени и пространства, которые в этнической культуре выражаются в отношении к истории своего этноса и к его территории, а также – в отношении к тому, как представитель 17 этноса использует свое время, какое время является для него предпочтительным и т.д. Обо всем этом на примере белорусского этноса – разговор впереди. Итак, менталитет любого народа возникает на "опорных точках", которые дает ему картина мира – на том, что члены этноса считают хорошим, а что – плохим, кто для них "свой", а кто "чужой", как они видят свое прошлое и будущее, что они считают "своей землей" и т.д. Как исследовать менталитет? Менталитет в очень и очень многом неосознан: потому его очень трудно выявить члену этноса, в том числе и исследователю. Ведь исследователь – тоже представитель этноса, а значит, пленник его фоновой (латентной) культуры. Лишь проанализировав другие культуры, пронаблюдав потайные ходы, которыми, сами того не замечая, пользуются этнофоры, поняв негласные соглашения, в русле которых они существуют, ученый может приступить к анализу менталитета собственного народа: ведь теперь у него выработан необходимый материал для сопоставления. В этом случае исследователю необходимо временное отстранение от предпочтений, которые присущи ему как представителю того или иного этноса. Если этого отстранения не происходит – мы имеем дело с "агитками" и "слоганами", которые, возможно, способны повысить этническую самооценку и автора, и читателей, но неспособны дать даже мало-мальски четкое представление о народе. Впрочем, часто этого и не требуется, требуется именно лозунг, именно агитка… В свое время меня изумила фраза маститого ученого, обращенная к молодому коллеге: "Вы создали очень хорошую, очень достоверную модель, но прилагайте ее, пожалуйста, к русским или полякам, а не к родному белорусскому этносу". Беда в том, что патриотизм странным образом противопоставляется попытке объективного исследования. По неизвестной причине объективность, ценная для анализа иных культур, становится врагом № 1 при попытке анализировать собственную. Впрочем, этим грешат ученые всех стран – и особенно "молодых независимых государств", в число которых ныне входят и постсоветские республики. Из всего этого ясно, что сам народ выявить свой менталитет не может, поскольку находится в сладких тенетах латентной культуры. Однако он может нечто большее – создать собственный самообраз, с которым сверяет и согласует свои поступки и воззрения. Этнический самообраз. Этнический самообраз (далее – ЭС) включает типологические характеристики "этнической личности", сложившиеся в представлении этнофоров, отраженные в текстах культуры и способные к самовоспроизведению на новых витках развития этноса. Устойчивость этих 18 характеристик связана с тем, что они существуют не абстрактно, а в виде воображаемого человеческого типа. Его черты лишь в минимальной степени прослеживаются на явном уровне. Потому долг исследователя – "дешифровка" этих характеристик. Лишь на основе сложившегося в народе самообраза, исходя из его совпадения и несовпадения с реальным поведением людей, исследователь может выстраивать некоторые тезисы относительно этнического менталитета. Месторождение самообраза – "живая жизнь", т.е. повседневность, а поскольку он являет собой плод коллективного мышления, то первостепенно возникает в фольклоре. Впоследствии какие-то его черты рефлексируются интеллектуалами, и тогда уже можно говорить об осознании и фиксации каких-то черт менталитета (так Янка Купала, именно базируясь на самообразе, создал культурологически ценное понятие "тутэйшасць", Якуб Колас выделил существенную черту белорусского менталитета – локально-местное сознание: "Мой родны кут, як ты мне мілы…"), но в целом основная сфера самообраза – бытовая жизнь народа. Потому ЭС более ярко высвечивается не в образцах элитарной культуры, не в декларациях журналистов или политиков, а в текстах повседневности (в фольклоре, включая не только его традиционные жанры, но, например, и анекдоты, и "страшилки", и устные рассказы, а также в письмах, дневниках и прочих автобиографических текстах, созданных рядовыми людьми). Дело ученого – основываясь на материале текстов повседневности сконструировать представление о менталитете народа. Разумеется, у разных исследователей оно будет различаться, но в том и ценность: я уже говорила о том, что истина рождается если не в споре, то, по крайней мере, в диалоге суждений. Этнические стереотипы и этнические ценности Что такое этнический стереотип? Это упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный, чрезвычайно устойчивый и в то же время произвольный набор характеристик какого-либо этноса, распространяемый на всех его представителей и содержащий мощный оценочный элемент. В чем отличие стереотипа от самообраза? Стереотип – это черта или набор разрозненных черт. Он не складывается в живой человеческий тип, потому идентифицировать с ним себя невозможно. А самообраз является своего рода "фокусом" идентичности: человек сверяет свои взгляды и поступки с этим типом, на основе чего и вырабатывает этничность. Функции стереотипов. Основаниями стереотизации и одновременно функциями стереотипов считаются: 19 • Неспособность человеческого сознания охватить мир в целостности. Отсюда возникает необходимость реконструировать события на основании "чужих слов" и собственного воображения. Потому стереотип возникает в детстве и оформляется даже до (и вне) фактов столкновения со стереотипизируемой группой: "он начинает действовать еще до того, как включается разум" [174, с. 110]). Впрочем, не только "до того", но зачастую "вместо того". Человек может ненавидеть кавказцев или азиатов, ни разу не пообщавшись ни с одним из них – лишь на основании анекдотов и слухов. • Принцип "экономии усилий". Если бы человек не мог "стричь под одну гребенку" явления мира, распределяя их по категориям (и тем самым обедняя их), то его сознание, вынужденное ежедневно сталкиваться с чрезвычайным разбросом явлений, не выдержало бы такого напряжения. • Защита этнических ценностей и норм. Как приближение к норме воспринимаются автостереотипы (представления о своем этносе), а как отклонение от нее – гетеростереотипы (представления о чужом этносе). • Иллюзия контроля над миром. Мир, описанный неким "кодом", который мы умеем расшифровать, кажется нам гораздо более управляемым, нежели непонятная и неподвластная нам действительность. • И наконец, функция самооправдания: если к какому-нибудь этносу относишься плохо, то при помощи соответствующего отрицательного стереотипа оправдываешь это его низким развитием и бедной культурой, сомнительным моральным обликом и образом жизни: "гонимые с необходимостью пробуждают страсть к гонению. От знаков, на них насилием оставленных, разгорается новое наcилие" [139, с. 137]. Черты стереотипов. Исследователи солидарны в том, что главная из них – чрезвычайная эмоциональная окрашенность (в случае автостереотипов она, как правило, позитивна, в случае гетеростереотипов – часто негативна). Впрочем, такая окрашенность небогата: она предполагает, главным образом, два цвета – черный и белый. Говорят также о ригидности (т.е. чрезвычайной устойчивости) стереотипа: он очень медленно и нехотя изменяется в свете новой информации о стереотипизируемом этносе (или группе). Стереотипам свойственна и избирательность в восприятии информации. Это наблюдение знаменитого лингвиста И.А. Бодуэна де Куртенэ использовано М. Горьким в "Жизни Клима Самгина": "Когда русский украдет, говорят: "Украл вор", а когда украдет еврей, говорят: "Украл еврей". Однако эта избирательность зависит от ситуации. Так, И. Кон (работа "Психология предрассудка") отмечал, что в 1935 году большинство американцев характеризовали японцев как "прогрессивных", "умных" и "трудолюбивых". Но в пору второй мировой войны эти определения уступили место 20 другим: японцы стали "хитрыми" и "вероломными". Когда Калифорнии были нужны рабочие-китайцы, они считались "бережливыми", "здравомыслящими" и "законопослушными", а в период кампании за введение закона о запрещении въезда в США нежелательных иммигрантов в одночасье стали "грязными", "опасными", "отвратительными" и т.д. Кто такие "они"? В связи со стереотипами возникает множество проблем, самой значимой из которых можно назвать отношение "стереотипы – насилие", но в этой книге она не является главной. Гораздо более важна для нас основная цель создания стереотипа, а именно: негативные черты "чужих" (Они-этноса) призваны оттенять позитивные черты Мы-этноса. Для этих целей используются определенные приемы – поиск божественных (или, по крайней мере, великих) предков; стремление отодвинуть происхождение этноса как можно дальше вглубь истории; культ национальных героев и т.д. Тем самым "правота" этноса освящается историческими и сакральными (священными) авторитетами, роль которых огромна. Потому же "чужой" уже со времен архаики представляется не просто "глупым", "нецивилизованным" или "диким", но и "опасным" – потенциальным возмутителем святости "нашего" культурного поля. Недаром, чужие часто ассоциировались с животным и/ или постусторонними силами. "Звериность" соседа как бы оттеняет "нашу" человечность. Но звериная сущность чужака – полбеды. Куда страшнее то, что "чужой" – живет ли он в далеких ("дивьих") землях, или по соседству, в такой же покосившейся избе, как и ты сам, – не от мира сего. Его внешность и манеры не позволяют усомниться в том, что без дьявола здесь не обошлось. Например, логическая линия "чернота–мрак–нечистая сила" отпечатывается в поверьях славян о том, что темные волосы и глаза у евреев, цыган, татар оттого, что они – чертова родня. Так что все частности (например, попытки вывести отрицательные черты "чужого" из фактов взаимодействия с ним: таковы идеи о врожденном "имперском комплексе" русских, "жадности" украинцев, "забитости" белорусов и "хитрости" евреев; таковы адресации к раз и навсегда данному "национальному характеру") меркнут перед главным. А это "главное" – необходимость постоянного продуцирования сверхположительного образа "мы" за счет отрицательного образа "они". Можно ли преодолеть стереотипы? Стереотип непреодолим. Несмотря на то, что он изменяется (вспомним хотя бы, как изменился стереотип "немца" после развала СССР: из врага он стал помощником, благодаря гуманитарной помощи, волонтерству и в целом сотрудничеству), это происходит очень медленно. Более того, при необходимости мгновенно, как козырь из колоды, вынимается прежний недоброжелательный стереотип, 21 убивающий все недавние симпатии. Именно потому речь должна идти не о том, чтобы искоренить стереотипы, а чтобы наполнить гетеростереотипы более позитивным содержанием. Другая важная причина "извечности" этностереотипа – его связь с этническими ценностями. Можно даже сказать, что в повседневном сознании человека этнические ценности находятся в "свернутом" виде, т.е. в виде стереотипов, и лишь в сложных ситуациях выбора (бедствия, война, насилие и т.д.) ценности разворачиваются, как сложенное до поры до времени знамя. Этнические ценности – это совокупность жизненных ориентиров, идеалов, образцов, культурных традиций, предпочтительных самохарактеристик членов этноса, а также других параметров, которые этнофоры считают наиболее значимыми для самосохранения и развития собственного народа и для реализации его предназначения в мировой истории и культуре. Таким образом, "ценности – это наше все" – и основа для сплочения людей в единую общность, и фундамент духовной жизни людей, и строительный материал, из которого возводится "здание" этнической культуры. Ценности тесно связаны с нормами и идеалами, которые даже можно подразделить на "ценности низшего порядка" (нормы) и "ценности высшего порядка" (идеалы). Ценности как проблема. Казалось бы, все ясно и лучезарно. Но так ли это на самом деле? Увы, не вполне. Беда не в самих ценностях, но в том, как с ними обращаются и для чего их используют люди. Существуют два качества ценностей, дающие возможность обращаться с ними дестуктивно. Во-первых, ценности двойственны, или амбивалентны: они могут служить и злу, и благу. Мало ли примеров из истории, когда во имя воплощения высших ценностей (идеалов) творилось самое лютое зло: изничтожались и "свои", и "чужие"? Вспомним нацизм, сталинизм, да что там, достаточно открыть газету и прочитать об очередном теракте… И мало ли примеров, когда своя "норма" настолько застила глаза, что все отличное от нее казалось "ненормальным", вследствие чего подвергалось гонениям, а то и истреблению? Во-вторых, ценности, являясь каркасом культуры, в то же время могут мешать ее развитию: ценностный "каркас" бывает слишком жестким для такого живого, изменяющегося и чувствительного целого, как культура. Потому за требованиями возвращения к "исконным", "истинным" и "священным" ценностям подчас скрываются неблаговидные цели. И потому же искреннее следование ценностям, плохо сочетающимся с сегодняшним днем, порой приводят к печальным последствиям. 22 Не будем вспоминать о крайних случаях, когда приверженность этническим (и/или религиозным) ценностям приводит к войнам, межэтническим конфликтам, террористическим атакам и т.д. Возьмем уже не кровоточащую (по крайней мере, на данный момент) рану – нынешнюю ситуацию в Азербайджане и – более конкретно – в Баку. В свое время он снискал славу одного из самых интересных и ярких городов СССР. Именно в Баку взаимодополняясь, существовали разные этнические группы, обеспечивая удивительное разнообразие, праздничную пестроту культуры. Ныне, когда армяне, русские, евреи вытеснены либо за фактические, либо за метафизические пределы культуры (т.е. их некоторое количество по-прежнему живет в Азербайджане, но ни на что не влияет и вообще "не высовывается"), сама культура приобрела монолитный традиционный характер, затормозилось самое ее развитие. Баку стал лишь одним из многочисленных исламских городов (чему еще более способствовала огромная миграция населения из сел), а его специфика, "особость" утратилась. Об этом с тревогой говорят представители интеллигенции – в том числе азербайджанской, например, известный киносценарист, режиссер, писатель Р. Ибрагимбеков. Так что погоня за исконными "корнями" не обязательно служит достижению уникальности, бывает и наоборот, особенно если уникальность состоит в конгломерате различий. Динамические и стабилизирующие ценности. Этнической культуре свойственны две основные тенденции – к развитию (изменению) и стабильности (утверждению). Соответственно ценности культуры можно разделить на два типа – "динамические" и "стабилизирующие". Подчас они меняются местами: динамическая ценность (на первых порах активно участвующая в формировании этноса) становится стабилизирующей: отливается в официализированные формы, воплощается в эмблематике, в геральдике и т.д., превращаясь в часть привычной атрибутики. Но в "тяжкую годину" она может снова обрести динамический характер. Так, "со времен гражданской войны американцы привыкли воздавать почести национальному флагу. Однако никогда раньше этот флаг не имел того значения, который он приобрел после 11 сентября 2001 года Универмаг "Уоллмарт" продал 11 сентября 116 000 флагов, а на следующий день еще 250 000; стоит сравнить эти цифры с показателями предыдущего года – 6400 и 10 000 соответственно" [200, с. 21-22]. Для того, чтобы культура и развивалась, и одновременно была "самотождественной", т.е. оставалась в границах самой себя, необходимо соблюдение баланса между динамическими и стабилизирующими ценностями. Если главную роль начинают играть стабилизирующие – этнос окостеневает, становясь памятником самому себе, содержание подменяется формой, и его гибель (во всяком случае, духовная, 23 творческая) неминуема. Таким окостенением грешат многие народы Востока, жизнь которых движется по инерции, "вкруговую". Если побеждают динамические ценности, то этнос, подвластный модам и веяниям, может стать жертвой ассимиляции. Однако последнем утверждении есть ряд "но". Попробуем поставить вопрос без свойственной ему эмоциональности, временами приобретающей форму истерики. Глобализация – гибель для этносов? Мы любим говорить об устрашающих процессах глобализации, модернизации и вестернизации, о тлетворном влиянии Запада, о том, как благодаря заимствованиям разрушаются самобытные системы ценностей. Все эти опасения имеют свои резоны. Но поставим вопрос иначе: а возможно ли так легко (путем масс-медиа и т.д.) подменить формировавшиеся веками ценности, т.е. смысловые доминанты культуры? В реальности это не так уж просто сделать: существует ряд причин, препятствующих этому. Во-первых, влияние (даже в условиях общения "колонизатора" и "колонизируемого", а уж тем более – независимых государств) никогда не бывает однонаправленным. Всегда имеет дело "ценностный оборот". Так, в современных условиях, когда каждый третий, а то и второй клиент фирм США – с Востока, эти фирмы не могут позволить себе не учитывать его традиций. Потому они вынуждены изучать культурные ценности тех этносов, с представителями которых имеют дело, обеспечивать им привычный комфорт (рестораны с восточной кухней, фэн-шуй как принцип оформления учреждений и т.д.). Уж не будем говорить о современном увлечении Востоком, как на уровне массовой, так и на уровне элитарной культуры. В первом аспекте об этом свидетельствуют и восточные рестораны, и "боевики" с Б. Ли, и "мультяшки" с ниндзя, и суперпопулярный танец живота, и мода на кальян. Во втором – победители Каннских фестивалей (В. Кар-Вай, Ким Ки Дук, Ф. Акин и мн. др.) и обладатели британской Букеровской премии: среди них чаще встретишь араба, перса или индийца, чем англичанина. Так что вестернизации с необходимостью сопутствует и противонаправленный вектор – "истернизация". Во-вторых (и это важнее), этнос присваивает лишь то, что соответствует сложившейся в нем ценностной иерархии. Все "новоприбывшие" заимствования проходят своеобразный процесс "примерки". Заимствования, не отвечающие такой иерархии, могут существовать некоторое время либо в качестве моды, либо как прерогатива определенной субкультуры, но затем вымываются из культуры. Так, например, ушел французский язык в качестве средства общения в России XIX в. Одна из причин этого – смена элиты этноса: если в начале XIX в. это была аристократия, то в его 24 конце – разночинная интеллигенция. На смену краткой моде пришел аутентичный язык – и это в стране, где грамотность была прерогативой "верхов"! Почему же нам представляется, что под влиянием западных СМИ мы легко утеряем исконные основания этнического бытия? Вероятно, потому, что поверхностное выражение культуры заметнее, нежели ее глубинное наполнение. Тем более, что именно в периоды воздействия более "сильной" культуры на более "слабую" и возникают феномены "нациоренессансов". Не случайно спутником глобализации является этнический бум современности. В-третьих, если заимствованные ценности других народов остаются в культуре на долгий срок, это значит, что в культуре назрела инновация, аналогов которой сама она не производит. Таковы универсальные термины науки: поскольку некоторые научные феномены открыты на Западе, немудрено, что они приходят в другие страны в своих западных наименованиях. В таком случае этнос находит способ промаркировать заимствование собственными средствами: например, если заимствованный феномен – элемент вербальной культуры, он "присваивается" с помощью орфографии, шрифта, оформления текста (различие между немецким и австрийским письмом). Можно вспомнить и так называемую "народную этимологию", когда иностранные элементы подстраиваются под систему родного языка ("гувернянька", "полуклиника", "полусадик", "гульвар", "полувер" и т.д.), и язык эмигрантов, включающий новую лексику в рамки привычного синтаксиса ("Если мама сказала "ноу", значит, "ноу"). Рискну предположить, что как таковые ценности вообще заимствуются достаточно редко. Принимаются их элементы, причем, не фундаментальные, а, скорее, "инструментальные", "внешние". Потому молодежью перенимаются модели поведения американских героев, но остаются невостребованными ведущие ценности "культурыдонора". Например, американские формы труда и профессионализма в России и ряде других постоветских стран во многом остались невостребованными. Вероятно, изначально это связано с отличием православного и протестантского (западного) отношения к труду. Несмотря на то, что герои западного масскульта – как правило, люди какой-либо профессии, от постсоветского зрителя и читателя этот момент ускальзает, ибо модель восприятия исходит из сложившейся ценностной шкалы, заложенной в "латентной культуре". Такими ценностями в культуре православия являются нравственные искания и отношения людей, потому читатель и зритель отслеживает элементы художественного текста (книги, фильма и т.д.), связанные именно с этими этнокультурными ориентирами, а остальные остаются "за кадром" сознания. 25 О-своение ценностей. Вероятно, вопрос должен ставиться не как "заимствовать ли не заимствовать", а как "заимствовать лучшее и делать его своим (о-сваивать)". Для начала – почему этот вопрос вообще возникает? Казалось бы, зачем заимствовать чужое, у нас и свое есть! Дело в том, что порой исконные ценности этносов не только не помогают развитию культуры, но, напротив, мешают ему. Так, традиционные ценности стран Латинской Америки нередко воздействуют на культуру отрицательно: групповая лояльность, благодаря которой процветает коррупция; национальный темперамент, приводящий к диверсиям и террористическим актам; местничество вне зависимости от таланта и работоспособности; нежелание приобщиться к мировым знаниям и практикам из ложно понятого патриотизма и т.д. [178, с. 96-102]. Почему же не менее групповая по своему характеру культура – японская – стала не только бесспорным экономическим лидером, но и одним из культурных лидеров в мире? Причина проста: если Латинская Америка направляла свою рефлексию на вопрос "Кто виноват?", то Япония – на вопрос: "Что делать?". Если латиноамериканцы отвергли модернизацию как происки внешних врагов, то японцы подошли к ней вдумчиво и системно. Они отказались огульно заимствовать ценности Запада, отобрав из них лишь то, что соответствует традиционному этосу культуры и в то же время – наличной ситуации. Потому ведущую роль в экономическом процветании Японии сыграли ценности эффективного управления, грамотности, жесткой структуры поведения человека в семье и на работе (диктующей пунктуальность и обязательность), стиля трудовой этики, самодисциплины, аккуратности и т.д., которые отвечают как западным, так и исконным ценностям культуры. Итак, ценности этнической культуры устойчивее, чем нам кажется. Это связано с бессознательными или лишь частично осознанными психокультурными "матрицами", которые негласно, но при этом существенно руководят жизнью и поступками членов этноса. Именно благодаря этим ментальным "матрицам" люди отторгают или принимают инокультурные влияния. Словом, ценности успешно защищают себя сами. Огульное же неприятие новшеств, приходящих из других культур, увы, нередко приводит к бесконечному процессу переваривания содержания традиционной культуры, давно и далеко не соответствующего современным запросам. Отсюда – политика изоляционизма, путем которой элиты этноса нередко пытаются защитить свою культуру (и приведенный выше пример Баку и – шире – Азербайджана тут показателен, как, впрочем, и многие другие примеры). Увы, эта политика вовсе не часто достигает своих целей: веяния все равно просачиваются, и необходимо насилие (от запрета до изгнания или даже убийства инакомыслящих), чтобы их предотвратить. Более того, эта политика 26 нередко влечет за собой обесценивание столь бережно хранимых традиций: они начинают соблюдаться по инерции или под нажимом и в итоге становятся предметом для анекдотов. Именно поэтому в Египте времен Нового Царства массово пародировались (и притом, в весьма грубой форме) религиозные и этнокультурные ценности древности, например, священные "Тексты пирамид". Впрочем, это не значит, что ценности не могут обрести "второго дыхания", но здесь нужны не прямая агитация и, тем более, не насилие. Условием сохранения этнических ценности является их востребованность, а потому подверженность современным интерпретациям: достаточно вспомнить расцвет белорусского этно-рока с 90-х и вплоть до сего дня. Что же касательно заемных "ценностей", в соответствии с которыми подчас ведет себя молодежь (в числе которых мы называем неприятные, а порой пугающие модели поведения), то полно, о ценностях ли идет речь? Вряд ли американцы, на которых мы то и дело грешим в вопросе "чудовищных западных образцов", считают ценностями сидение с ногами на скамейке, повсеместное распитие пива, а также – матерную ругань… Скорее, речь идет о "пене дней" (по выражению французского писателя Бориса Виана), которая схлынет вместе с повзрослением "поколения "Пепси". Скорее бы… Впрочем, это тема уже совсем другой книги. Этнос и нация: этничность или национализм? Этнос, нация, национальность. Сегодня термин "нация" обладает более почетным содержанием, чем слово "этнос". Этнос связывается с прошлым, а нация – с будущим. При этом оба термина причудливо смешиваются между собой, порождая странные гибриды, например, уникально-советский концепт "национальность". До революции его не существовало, и результаты переписи 1897 г. строились на иных факторах – вероисповедании и языке. После революции фактор вероисповедания, мягко говоря, утерял актуальность, и в переписи 1926 г. появился заменитель – "национальность". Он включал в себя то, что сейчас включают термины "этническая принадлежность" и "этничность". За одним лишь исключением. Сегодня слово "этничность" не имеет оттенка фатальности: пусть не все, но хотя бы часть из нас уже поняла, что она не дается по праву рождения. Этнически "другой" или даже "чужой" мог стать великим деятелем культуры, более того, ее символом: в русской культуре ХХ в. это полунемцы Блок и Цветаева (в роду у которой были и поляки), украинка Ахматова (Горенко), евреи Мандельштам и Пастернак, Маяковский – с его грузинской кровью. Даже в более давние времена "дистиллированная" чистота крови не определяла отношения к культуре: скандинав Даль, "арап" Пушкин, Лермонтов с его шотландскими 27 корнями, полуеврей Фет. Тем не менее, в СССР национальность присваивалась по факту рождения, и в любой момент классика литературы и любого другого искусства могли ткнуть носом в его "нетитульное" происхождение, так называемый "пятый пункт". Этничность – более свободная, гибкая и личностная категория. Она фиксирует не факт, а чувство – чувство Родины, своей причастности к ее культуре и населяющим ее людям. Исчезновение "пятого пункта" из постсоветских паспортов означало значимую современную тенденцию: то, что этническая принадлежность все чаще сливается с понятием "принадлежности к нации", т.е., в первую очередь, с гражданством. Что такое – национализм? Действительно ли это синоним "шовинизма" и "ксенофобии"? На сегодняшний день выработано две модели понимания национализма: 1) национализм как эмоция, связанная с идеей "крови", "почвы", с приверженностью "корням", преданностью ценностям-началам; 2) национализм как программа обустройства социально- культурного и политического бытия общности. Первый тип национализма связан с немецкой романтической концепцией и до сих пор распространен в Центральной Европе (его часто называют "восточной моделью национализма"); второй – наследие французской политической мысли, определяющий самоидентификацию жителей Западной Европы и США ("западная модель национализма"). Заметим: отрицательным содержанием при "необходимости" могут быть наполнены оба типа национализма (хотя первый, конечно, в большей мере). Но главное для нас в том, каким образом они связаны с этничностью. Каждому из них соответствует определенное отношение к ней: в первом случае – "примордиалистское", а во втором – "инструменталистское" и /или "конструктивистское". Три парадигмы исследования этничности. Самая древняя из этих точек зрения – примордиализм (примордиалистами были практически все этнографы до второй половины ХХ в.). В первичном варианте это взгляд на этнос как на нечто, данное "фактом общей крови" – изначально и навеки. Примордиализм практически не разгранивает понятий "этнос" и "нация". Основными механизмами сплочения этноса (нации), помимо кровнородственной связи в глубоком прошлом, примордиалисты считают язык и территорию. Правда, ряд сторонников этого направления (Ю.В. Бромлей, Э. Смит, К. Гирц и др.) полагает, что общность этноса (нации) задается не кровью, а общими социокультурными обстоятельствами бытия людей, историей, мифами и символами и т.д. Что роднит "природных" и "социокультурных" примордиалистов? Во-первых, уверенность в том, что без собственного, уникального языка и единой территории этнос немыслим; во-вторых, представление о том, что этнос – это "объективное" и фатальное 28 образование (человек рождается и / или становится этнофором раз и навсегда); и наконец, убеждение в том, что различие этноса и нации – чисто количественное. Нация понимается примордиалистами как высшая ступень развития этноса, которая "закономерно" вырастает из него, как колос – из зерна, а бабочка – из гусеницы. (Вопросы о том, что число народов, по крайней мере, по языковому параметру втрое больше, чем число наций, а также о том, что большинство современных этносов существует в составе полиэтнических наций, примордиалисты игнорируют). Как правило, они делят национализм на "плохой", и "хороший": первый связан с национальной нетерпимостью, а второй – с отстаиванием "корней". Впрочем, некоторые из них (например, И. Шафаревич, А. Дугин, А. Проханов и др.) считают первый вид национализма совсем не "плохим": неприязнь, а то и ненависть к другим народам воспринимается ими как обязательное условие этничности. Инструментализм (Н. Глезер, Д. Мойнихан, В.А. Тишков и др.), напротив, резко разграничивают этнос и нацию и более интересуются последней. Их не волнует проблема "реальности" общего происхождения членов этноса, как и его "объективных" признаков. Они не ставят перед собою вопроса, как вообще могла появиться этническая общность, откуда она взялась и на каком языке разговаривала в архаике. По мнению инструменталистов, представления об этничности намеренно создаются политическими элитами в собственных (государственных или, напротив, оппозиционных государственным) интересах, а затем – путем образования, пропаганды и т.п. – внедряются в массы. Цель политических элит – гомогенизировать (т.е. превратить в единую и удобоваримую для всех кашицу) воззрения людей, причем этничность масс (эмоциональная привязанность к "корням" и "истокам") служит лишь инструментом, а вернее сказать, сырьем, из которого производится идеология национального государства, она же национализм. Отметим: здесь слово "национализм" употреблено не в предосудительном ("восточном") смысле, а в нейтральном ("западном"). Под ним разумеется целостный нацио-государственный проект. Если государство – сосуд, то нация – его содержание, общность, объединяемая политическими интересами. Отсюда следует вывод: не нация творит национализм, а национализм – нацию. Этничность в таком понимании – удобное средство эксплуатации: используя темы "корней", "почвы" и "крови" идеологи жмут на нужные "кнопки" и добиваются от масс необходимым им реакций. И наконец, конструктивизм – "срединное звено" между предыдущими теориями. Подобно инструменталистам конструктивисты понимают нацию (и даже этнос) не как объективную, данную в ощущение реальность, которую можно пощупать руками или 29 почувствовать "через кровь". Однако они далеки и от того, чтобы считать этнические эмоции людей лишь сырьем для отливки национальных проектов, предпринимаемых политическими элитами. Нация – не инструмент, она – конструкт. Она конструируется не только властными (или стремящимися к власти) политическими элитами, но – и главным образом – культурными деятелями, интеллектуалами, интеллигенцией. В этом понимании национализм – не столько государственный, сколько культурный проект, благодаря которому создается "воображаемое сообщество" – нация (термин Б. Андерсона). Почему воображаемое? Да потому, что мы не знаем лично всех представителей своей нации и даже этноса, мы их домысливаем, воображаем. Но с другой стороны – и это не менее важно – мы воображаем их как реальность, свято верим в единство общности и готовы отдать жизнь за ее процветание. Мягкий конструктивизм. Именно конструктивизм представляется теорией, наиболее близкой к истине. Однако хотелось бы внести поправку: собственные исследования постепенно привели меня к мысли о том, что образ общества (этноса или нации) формируют не только и даже не столько культурные и политические деятели. Их воздействие вторично. Первично он куется в толще народного сознания – в быту, в наблюдениях за поведением "своих" и "чужих", затем получает отражение в фольклоре, оттуда перекочевывает в тексты профессиональной культуры, а уж из них – в представления исследователей, в учебники и в споры интеллектуалов. Нация конструируется каждым из нас. Таким образом, речь идет уже не об агитации, которую осуществляют политики и деятели культуры, а о специфическом образе типичного человека, который представляется этнофорам (и/ или "нациофорам", т.е. представителям нации) точкой для сравнения с собою. Выше я назвала его "этническим самообразом". Итог такого сравнения – этническая идентичность личности. Впоследствии, будучи уже присвоенным "высокой культурой", самообраз может представать в виде реального (хоть и мифологизированного людской памятью и почтением) человека, он может стать, например, героем художественного произведения, но в любом случае в нем сосредоточены типические характеристики, которые, на взгляд этнофоров, соответствуют "чертам национального характера" (при всем моем скептицизме по отношению к этому термину здесь он уместен). Тогда нация (а тем паче, этнос) – не конструкт политиков, а порождение этнической картины мира, созданной агентами культуры, т.е. нами – людьми. И потому ее содержание не "меркантильно- 30 функционально", а "пристрастно-эмоционально". Эту позицию я называю "мягким конструктивизмом". И снова о нации. Разобравшись с тремя исследовательскими парадигмами, мы можем снова вернуться к вопросу о нации. Действительно ли быть нацией более "почетно", чем этносом? Вырастает ли нация из этноса органично, как колос из зерна? И наконец, одного ли ряда понятия "народ" и "нация"? Начнем с ответа на последний вопрос: при всей кажущейся простоте и наивности он сложен. На него можно ответить и "да", и "нет". Да – в том смысле, что и народ, нация – этнические общности. Выше уже отмечалось, что слово "этнос" в наиболее широком смысле относится к обеим этим общностям – даже если народ насчитывает тысячу с небольшим человек (как, например, юкагиры), а нация – много миллионов (как американцы). Иногда полиэтническую (многоэтническую) нацию называют "суперэтносом", но мы не будем разделять общности по принципу "супер" или "не супер". Нет – в том смысле, что нация предполагает некоторые характеристики, которыми вовсе не всегда (и уж во всяком случае, не всеми) обладает этнос. Что же это за характеристики? Наличие государства или автономии в составе государства. В этом смысле евреи Израиля – нация, а евреи диаспор – представители этноса (этнических групп). То же касается украинцев в Украине и в Канаде, россиян и русских в Прибалтике и т.д. Впрочем, можно говорить о нациоустремленных этнических группах (или "мобилизованных" подгруппах в составе этнических групп) в том или ином государстве, имеющих влияние на расстановку политических и культурных сил в обществе. Они могут быть радикально-политическими, ратующими за отделение от государства, как баски в Испании, или же отграничивать себя от титульного этноса особенностями культуры, как каталонцы, или, например, парсы в Индии. Именно "нациоустремленностью" (иногда ее называют "этнонационализмом") отличались белорусская и украинская демократическая интеллигенция в Российской империи на рубеже XIX-XX вв. Тем не менее, до обретения государственности такие группы, более просвещенные, чем масса (которая зовет себя "местными", "тутэйшыми" и т.д.) и определяют лицо будущей общности – нации. Нация предполагает гораздо больший разброс индивидов, групп, субкультур, нежели традиционный этнос (в узком понимании этого слова). Она более разнородна. Даже моноэтническая, т.е. возникшая на основе одного народа нация включает в себя гораздо большее число групп, чем этнос, – хотя бы потому, что является более стратифицированной, более "городской", более политизированной общностью. А если 31 учесть, что моноэтнических государств в мире становится все меньше и на данный момент их насчитывается всего около десятка (Армения, Польша, Израиль и т.д.: даже в Беларуси, казалось бы, достаточно однородной по составу, ныне насчитывается около 140 этнических групп), то становится ясно, что для их консенсуса необходимы некие механизмы, рычаги сближения, по крайней мере, пересечения людей в общих точках. Этими рычагами (конституция, унифицированное образование, масштабное книгопечатание, развитая пресса, тиражированные образцы профессиональной культуры и т.д.) владеет именно государство. Кстати, они во многом и определяют маркеры нации. Унифицированное образование. На этом факторе строит свою знаменитую концепцию нации Э. Геллнер ("Нации и национализм"). Английский исследователь настаивает на том, что такое образование может дать только государство: все частные ресурсы для этого недостаточны. А ведь унифицированное образование необходимо не только в качестве механизма передачи грамотности и знаний, речь идет о трансляции одних и тех же знаний: усваивая их люди и группы неизбежно гомогенизируются (делаются более однородными). Имеет значение и характер этого, всегда пропитанного господствующей идеологией знания. Сравним учебники истории, созданные в БССР, в независимой Беларуси начала 90-х и в современной Республике Беларусь. Их разность, а кое-где даже и полярность – следствие не столько уникального пути нашей страны (при внимательном анализе исторической судьбы этносов становится ясно, что уникален путь любого из них), а определенных социополитических тенденций. Эти тенденции "прочитываются" школьниками и студентами – иногда между строк – и порождают единый тип самосознания. Однако здесь возникает парадокс: хотя государство-нация практически всегда использует в качестве основы культуру титульного (т.е. численно доминирующего) этноса, оно неизбежно размывает этнические "черты" не только так называемых "меньшинств", но и самого титульного этноса в социокультурных: государственные ритуалы и обряды становятся более значимы, чем этнокультурные, ценности идеологизируются и т.д. Этому способствуют следующие характеритики нации, которые "по совместительству" являют собой и факторы ее развития. Книгопечатание, тиражирование, пресса. В свое время Б. Андерсон (тот самый, что создал меткий термин "воображаемое сообщество") писал о "печатном капитализме", т.е. монополизации печати государством. Именно благодаря печатному капитализму налаживается массовое производство книг, газет и журналов. Появляется и "массовый читатель", читающий одну и ту же периодику, художественную литературу и т.д. На основе этого в умах читателя как потребителя этого "продукта" формируется 32 воображаемое сообщество (нация) и соответствующая идентичность (в отличие от ранне-этнической или племенной, когда люди составляли представление друг о друге и о собственной общности посредством "коротких", т.е. личных связей). В нации связи становятся "длинными". Огромную роль в этом процессе играет интеллигенция – "человеческий фактор" нациостроительства. Так, зачинатель европейского романтизма А.Шлегель писал о том, что с появлением хотя бы одного великого поэта, народ обретает себя как самобытная духовная целостность и начинает приходить к осознанию своих национальных задач. Потому столь фундаментальным для создания белорусской нации явилось и творчество Я.Купалы, Я.Коласа, М.Богдановича, "нашаніўцаў". Отметим и еще один момент: наличие интеллигенции – это один из показателей того, что основную роль в общности начинает играть городская культура. Городская культура. Этнос может существовать в тундре, тайге, джунглях и пещерах: нация создается и развивается только в городах – с бурной экономической жизнью, с профессиональной культурой, с философией и наукой, с прессой и книгами. И лишь много позже, по мере усовершенствования грамотности и в целом – образования – жителей деревень можно говорить о том, что они осознают себя уже не просто "местными", "тутэйшымі" людьми, но и нациофорами (представителями нации). Однако национальная идентичность редко бывает последовательной и однородной. Почему? человеку не свойственно ограничиваться какой-либо одной идентичностью. Этническая и/ или национальная идентичность личности совмещаются с целым спектром иных – социальной, культурной, политической, гендерной, сословной и т.д. Все они в той или иной мере пересекаются и в обыденной жизни перевешивает вовсе не обязательно этнический фактор; локально-местная идентичность может совмещаться с этнической, национальной и даже имперской (этноним "тутэйшыя", который сопутствовал самоназваниям "белорус" и "советский человек"). В связи с этим можно говорить и шире – о "двойной" идентичности, свойственной жителям пограничья (белорус-поляк; белорус-литовец, русский белорус и т.д.); коллективная этничность, как и принадлежность к нации, "ткется" из разнообразных личных вариантов (кто-то может идентифицировать себя по территории, кто-то по языку, кто-то по художественной культуре, а кто-то – по "малой родине" и т.д.). 33 В таком случае, более ли "почетна" национальная идентичность? Более ли "привелигирована" нация, нежели этнос? Да нет же! Этнос более органичен, менее противоречив и – уж конечно – менее зависим от социополитических реалий, имеющих обыкновение меняться – и порой с огромной скоростью. При попытках причислить ту или иную общность к "нации" всегда возникают сложности хотя бы потому, что это движение осуществляется не одномоментно и не планомерно, а происходит медленно и скачкообразно, иногда в течение десятилетий, а порой и столетий. Так, например, в России нация сложилась лишь к XIX в., некоторые нации (вьетнамская, кхмерская) – лишь в XX столетии, а в Лаосе и Индонезии этот процесс тянется до сих пор. Таким образом, нация – это не результат, а процесс. В свете этого можно ответить еще на один вопрос: обязательно ли этнос "перерастает" в нацию? К вопросу о "переходе" этноса в нацию. В 90-е годы большинство постсоветских исследователей считало, что этнос переходит в нацию обязательно и неуклонно. Противный случай воспринимался как позорное отставание от других, более современных народов. Смягчающими обстоятельствами считались только насилие со стороны "метрополий", войны и катаклизмы. Вероятно, отсюда в "молодых независимых" (в том числе, и в постсоветских республиках) появилась мощная тенденция сведения исторических счетов и подсчета исторических обид. Учебники и научные труды, созданные на постсоветском пространстве в те годы, можно уподобить "многосерийным" плачам по загнанной в подполье Родине. Трагедии Родины представлялись уникальными, ни с чем не сопоставимыми. Все это, безусловно, можно понять, хотя вряд ли европейские нации прошли менее трудный и кровавый путь: чего стоили хотя бы Столетняя или даже Тридцатилетняя война, уж не говоря о междуусобицах и революциях? За прошедшие двадцать лет, прошедшие с тех пор, как постсоветские республики обрели независимость, этот массовый стон не иссяк. Идеологи многих стран со странным удовольствием подсчитывают исторические обиды – по поводу давней утраты государства, части территории и / или языка и, главное, по поводу фатального влияния, которое имперские центры оказали на ментальность народов: дескать, оно пустило такие глубокие корни в психологии людей, что осложнило процесс построения постсоветских наций на долгие годы вперед. Не сомневаюсь: в чем-то это соответствует истине. Но в то же время возникает ощущение самооправдания, которым маскируется неумение или нежелание предпринимать реальные действия и достигать реальных целей нациостроительства. Сводить счеты с "чужаками" и обвинять собственный народ в том, что он не понимает высоких задач современности – не в пример проще. 34 Современные национальные мифы. Все это можно назвать "новым национальным мифотворчеством", которое кардинально отличается от традиционных этнических мифов, хотя и строится по их лекалам. Как и древние, новые мифы: имеют свою "хтонику" – идею давнего и священного происхождения этноса; обладают своей "космогонией" (представлениями о древней государственности и культуртрегерстве "нации", возникшей тогда, когда ни о каких нациях и речи быть не могло. Показательный пример – популярность работ львовянина В. Кобылюха, доказывающего, что и санскрит, и Веды, и даже японский язык были созданы украинцами); обязательно акцентируются на "образе врага", разрушившего "золотой век" культуры и государственности (примечательно, что образ этого "врага" нередко меняется от противного, потому что меняются сегодняшние реалии). Словом, все, как в настоящем мифе. Кроме одного – неорганичности и тенденциозности. Именно это настроение – постоянной ностальгии по "золотому веку", нежелания обратить взгляд на настоящее и, тем более, на будущее – и есть то, что более всего мешает воплощению современных национально-культурных проектов постсоветских стран. Увы, есть такая проблема и у Беларуси. И корни ее известны… Очерк 2. Семь парадоксов белорусской этничности Для чего этот очерк? Поскольку эта книга предназначена, в первую очередь, для белорусского читателя – человека, выросшего, воспитанного и живущего здесь, вряд ли требуется обширный обзор историко-культурного пути белорусов. Эта проблема освещалась многократно – и с разных, порой противоположных сторон, что является вовсе не недостатком, а напротив – достоинством исследований. Работы Е. Карского и Н. Улащика, В. Ластовского и М. Довнар-Запольского, А. Киркора и П. Шпилевского, В. Пичеты и В. Игнатовского, М. Ермоловича и В. Короткевича, В. Орлова и Г. Сагановича, А. Мальдиса и З. Шибеко, А. Грицкевича и О. Трусова, А. Смоленчука и В. Носевича, М. Беспалой и С. Куль-Сельвестровой, В. Конона и Я. Крука, О.Шпараги и И. Бобкова, С. Тарасова и В. Акудовича, Е. Гаповой и А. Усмановой, а также многих, многих других доступны читателю и представляют собой взаимодополняющие и порой захватывающие версии белорусской истории и пути белорусской культуры. Есть ли смысл вновь и вновь повторять положения уважаемых ученых? 35 Потому этот очерк не ставит целью исследовать все события, на протяжении многих столетий формировавшие историю и культуру Беларуси. Его целью, как и целью всей книги, является исследование "белорусскости", выраженной не столько в великих трагедиях и победах, сколько в ежедневной жизни людей – в повседневном мировоззрении и бытовых поведенческих практиках. Потому главный принцип книги – обращение к "анонимным" текстам культуры, созданным людьми не для печати, а в расчете себя и свой круг (к сказкам, письмам и интернет-блогам). История говорит не только датами: она говорит живыми человеческими голосами. В силу всех этих причин настоящий очерк служит лишь одной цели – напомнить читателю основные этапы пути белорусского этноса и поставить ряд вопросов, необходимых для исследования этничности белорусов. Он не претендует на "переписывание" истории Беларуси (ведь ныне есть большое число отечественных ученых, занимающихся разными ее аспектами) и сконцентрирован лишь на тех этапах, которые я считаю ключевыми для становления самосознания белорусского этноса, а затем – и нации. Итак, к проблеме… Проблема "белорусскости" и первые парадоксы самосознания белорусов. Общеизвестно, что существует три сферы, в которых компетентны все. Это политика, медицина и национальный вопрос. Отсюда и печальное положение исследователя, занимающегося проблемой, которая густо, как дно корабля ракушками, обросла стереотипами и голословными утверждениями: он заведомо в меньшинстве. Тем более, если эта проблема – национально-культурное положение этноса, большинство представителей которого знают свой язык и культуру ненамного лучше, а порой и хуже, чем язык и культуру соседних народов. Итак, речь о белорусах… По этому поводу в научных, околонаучных и квазинаучных кругах представлен широкий спектр мнений, полюсные точки которого можно определить как: "О каких белорусах теперь можно говорить, когда этот, с позволения сказать, народ не имеет даже языка?" "Белорусы –древнейший и самобытнейший из всех восточнославянских народов, загнанный в "культурную яму" усилиями воинственных и жестоких соседей". В зазоре между этими суждениями существует множество точек зрения, но при внимательном рассмотрении становится очевидно, что все они – вариации одной из упомянутых "тем". С них и начнем. Итак, существуют ли белорусы как этнос? Вот тут-то мы лоб ко лбу и сталкиваемся с Парадоксом первым: белорусы по преимуществу говорят по-русски… а значит, не являются народом? Однако, как было 36 показано в предыдущем очерке, в мире существует множество двуязычных (а то и трех-, и даже четырех -язычных) этносов и наций. Это и швейцарцы, и ирландцы, и филиппинцы, и канадцы, и многие, многие другие. При таком подходе к этносу становится очевидным Парадокс второй: белорусы, в быту предпочитающие русский язык, на деле обладают устойчивой белорусской самоидентификацией. Так, по данным переписи населения 1985 г. – а для нас она важна тем, что была проведена пусть на излете империи, но все же в СССР, в то время, которое почти единогласно считается периодом унификации белорусской культуры – так вот, уже тогда более 80% населения (ср. с данными 2008 г. – 81 %) определило себя как белорусов и более 70% признали своим родным языком белорусский. И хотя последнее число меньше, нежели в других республиках бывшего СССР, однако, значительно больше, чем можно было бы предположить из наблюдений: на улицах городов редко слышится белорусская речь, да и в деревнях люди разговаривают по преимуществу на "трасянке". Неужели же это значит, что белорусы утратили свою неповторимость, размыли свою идентичность в "советской" или русской культуре; неужели мы непоправимо ассимилировались? Впрочем, в мировой истории такая ситуация не нова. И корни ее всегда историчны. Потому обратимся к истории культуры. "Белорусская старина": к вопросу об "общем" и "собственном" История или "генетика"? Как известно, историческое становление белорусов происходило исключительно в полиэтническом (поликультурном, полиязыковом, поликонфессиональном) социуме. Начиная с периода Киевской Руси, предки современных белорусов всегда жили в перекрестии разнообразных поликультурных взаимовлияний. Если бы я разделяла примордиалистскую точку зрения, то не преминула бы объяснить это сложностью протобелорусского субстрата (балты, славяне, а по предположениям И. Ласкова – и финно-угры). Однако здесь существует одно "но". Позволю себе процитировать фрагмент статьи В. Носевича "Белорусы: становление этноса и "национальная идея": "Ареал балтского субстрата также не вполне совпадает с позднейшим ареалом белорусского этноса. Помимо большей части современной Белоруссии, он охватывал не только Смоленщину и Брянщину, но также Калужскую, Тульскую и Орловскую области <…>, обитатели которых не имели отношения к этногенезу белорусов. И наоборот, на территории белорусского Полесья дославянские черты уже к VI веку полностью исчезли, поэтому принадлежность полешуков к 37 белорусскому этносу можно отнести на счет субстрата только с большой натяжкой. Короче говоря, на основании "племенной" и "субстратной" концепций невозможно объяснить, почему потомки припятских дреговичей стали белорусами, а потомки древлян и волынян – украинцами, почему потомки вятичей с верховьев Оки стали русскими, а потомки радимичей – белорусами. И уж совершенно непонятно, какое общее наследие могло привести к слиянию в единый этнос пинских дреговичей с полоцкими кривичами. (Точности ради отметим, что часть дреговичского ареала, а именно в Центральной Белоруссии, впитала тот же субстрат, что и кривичи-полочане, но к исходной области дреговичей на берегах Припяти, ныне бесспорно входящей в состав белорусской этнической территории, это не относится)" [179]. Рисунки: Расселение племен (9 в.) – Запрудник, с. 12; Кривичи, Дреговичи, Радимичи (карта-схема расселения) в 9-11 вв. – Белорусы, с. 61; Кривичи, карта расселения – Этнография Беларуси 275. Итак, "генетический слой", отличающий белорусов от русских или других народов, не может быть определяющей причиной духовной самобытности этноса. Белорусы не являются частью русского народа – это безусловный факт. Но было бы наивным отсчитывать своеобразие современной белорусской идентичности от "крови" наших давних предколв – от их генетических или физико-антропологических черт. Представляется, что главным доказательством своеобразия белорусской ментальности является другое – не из области "плоти и крови", а из области духа – самосознания и культуры: мы осознаем себя не русскими, не литовцами и не поляками, а отдельной, самостоятельной общностью – белорусами. Рисунки: Внешность кривичской женщины (реконструкция), рис. б – Белорусы, с. 25. Радимичи: реконструкция женского лица – Этнография Беларуси 420. Протобелорусские княжества в составе Киевской Руси. Вернемся к Киевской Руси и к протобелорусским (proto – от лат. "пред") княжествам. Это государственное образование не было монолитным, и недаром Маркс называл его лоскутным одеялом: Киевская Русь представляла собой чрезвычайно неустойчивый, ситуативный, разрозненный конгломерат княжеств. Потому их отношения и друг с другом, и с Киевом были не просто нестабильными, но очень нестабильными. Отсюда – культурнополитический феномен Полоцка: если Киев пытался подвергнуть Полоцкую землю своему владычеству, поставив своего наместника, то Всеславичи при поддержке рядовых полочан восставали и устанавливали собственное правление. Так что степень интегрированности разных земель в Киевском государстве не следует преувеличивать, как это, например, делалось в советской историографии. 38 Рисунки: Полочанин (реконструкция) – Белорусы, с. 28. Полочанка (реконструкция) – Этнография Беларуси, с. 337. Но можно ли обоснованно утверждать, что определенной общности восточнославянских народов не существовало вовсе – особенно если учесть влияние христианства, объединившее, по крайней мере, элиты княжеств? При всей значимости язычества на землях, принадлежащих Беларуси, возможно ли говорить о том, что в становлении белорусов христианство не сыграло никакой роли или сыграло негативную роль – и с этой точки зрения противопоставлять "языческих" белорусов "христианизированным" русским? Казалось бы, этому препятствует логика, но тем не менее, это противопоставление из научных работ шагнуло в учебники. Потому на вопрос о белорусском менталитете современные студенты говорят: "Ну, во-первых, мы – язычники", при этом осознавая себя православными, католиками, а то и вовсе – мусульманами или буддистами. Рисунки: Каложская церковь ("Белоруссия и Литва", с. 52) Спасо-Ефросиньевская церковь 12 в. в Полоцке – Белорусы, с. 271. Здесь из сферы науки мы ускользаем в сферу идеологии, в область поиска средств, которые помогли бы вновь – уже не на физиолого-антропологическом, а на религиозно-культурном материале – отделиться от русских, от которых мы и без того уже отделены. Причем, отделены не только на формальном, и даже не только на государственном уровне, но и – что гораздо важнее – на уровне самосознания масс. Рисунок: Крест Ефросиньи Полоцкой – Белорусы, с. 75. Язычники или христиане? По-человечески такие попытки исследователей совершенно понятны. Но если мы покопаемся не только в своем, но и в русском фольклоре, то, к досаде своей, обнаружим огромный пласт языческих представлений, а также "оязычивание" христианских верований. (И вовсе не случайно в современной России развито неоязычество, о чем свидетельствуют и научные, и "околонаучные" работы, а на массовом уровне – огромное количество "языческих" группировок в субкультурах, в частности, интернет-субкультурах). В случае отрицания христианских воздействий на белорусов-"язычников", или признания таких воздействий лишь отрицательным фактором, нам – воленс-ноленс – придется игнорировать деятельность Кирилы Туровского и Ефросиньи Полоцкой. Иначе получается уж вовсе странно: если белорусы по своей сути язычники – тогда откуда же 39 белорусские христианские просветители? Вероятно, язычество белорусов не настолько всемогуще и всеобъемлемо, как представляется некоторым исследователям. Рисунок: Ефросинья Полоцкая – Запрудник, с. 24. Реальность и проще, и сложнее. Практически у всех этносов – и не только славянских – существуют религия "верхов" и религия "низов". Колоссальный языческий заряд содержится и во французской, и в русской (достаточно вспомнить хотя бы "Андрея Рублева" Тарковского, для создания которого были подняты и летописи, и научные исследования, и огромные пласты фольклора), и в китайской, и в японской, да и во множестве других традиционных культур. Установки официальной религии, сходя в массы, неизбежно мифологизируются или фольклоризируются. Так было и на землях Беларуси, следствием чего явился удивительно яркий образ "крестьянского Бога", о чем далее. Восточнославянская общность или древнерусская народность? Итак, существовала ли восточнославянская общность? Надо думать, существовала – правда, в относительном, даже "очень относительном", а вовсе не в абсолютизированном качестве. А вот тождественна ли она пресловутой "древнерусской народности" – очень и очень большой вопрос. Этот советский термин – типичнейшая подмена, и научная, и идеологическая. Другая подмена – и опять же в идеологических целях – связана с употреблением терминов "росы", "русичи", "русины" по отношению к протобелорусскому и протоукраинскому населению Киевской Руси. Из факта таких наименований изымаются основания для очередного перемалывания темы "древнерусской народности". Называли ли себя люди "русинами" и "русичами"? Да, и об этом сохранилось множество летописных свидетельств. Но был ли это этноним, то есть "имя народа", и следует ли из этого то, что белорусы и украинцы – те же русские? Нет – в том числе и потому, что тогда не было современного представления об этносах и, тем более, о нациях. Правомернее говорить об общем для населения Киевской Руси политониме – наименовании не этнической, а политической целостности, отделяющем ее от врагов: половцев, татаро-монголов, а затем – для части территории Киевской Руси (нынешняя Беларусь, Новгородская земля) – и от германцев. Существует также аргументированная гипотеза, что термин "русины" подразумевал религиозное содержание: православие называлось "верой руськой", а потому "русинами" звало себя население разных княжеств – и не только в период существования Киевской Руси, но и много позже. Словом, племена, соплеменности, княжества Киевской Руси, сходясь в некоторых аспектах, в других – расходились. 40 Общее и особенное. Именно на различия восточнославянских племен и соплеменностей указывает автор "Повести временных лет", отмечая, что они имели "каждо свой нрав". Летописец подтвердил это положение рядом конкретных фактов (различиями в брачных обычаях полян и древлян и, наоборот, аналогии в погребальных обычаях радимичей, вятичей и северов). Известно, что только у предков белорусов и некоторых других древних народов, в культуре которых сыграли существенную роль балты, например, у т.н. "жмуди" – сохранился обычай почитания змей. Важной особенностью протобелорусской культуры является наличие неизвестных в фольклоре других народов Киевской Руси божеств-олицетворений Ліолі (весны), Тіоці (лета), Жыценя (осени) и Зюзі (зимы), а также – подземного божества и божества лесных пожаров Жыжэля. Интересно и то, что у наших предков в этот период практически отсутствует оригинальный богатырско-героический эпос, воспевающий готовность к территориальной экспансии. Можно – пусть и не стопроцентно (поиск "стопроцентности" в делах столь минувших дней безуспешен) – попытаться реконструировать некоторые особенности населения Полоцкого и Туровского княжеств в период Киевской Руси: ограниченность распространения единого литературного языка в среде церковной и светской верхушки при повсеместном бытовании локальных говоров. Их особенности усиливались элементами, привнесенными в результате ассимиляции балтских племен и контактами с "литовскожмудскими" и протопольскими племенами; особенности ландшафта и географического положения протобелорусских земель, в некоторой степени ограждавшие их от угрозы массового нашествия кочевников (половцев, татаро-монголов); уязвимость перед германским нашествием: именно германцы к периоду распада Киевской Руси понимались как "образ врага", общий, прежде всего, с литовскими племенами и Новгородской Русью; отсутствие (или, скорее, весьма слабое развитие) свойственного другим восточно-славянским праэтносам стремления к территориальной экспансии и нежелание покидать пределы своей земли, что подтверждается практически полным отсутствием у прабелорусского населения оригинального богатырскогероического эпоса. 41 Великое Княжество – литовское или белорусское? Начало ВКЛ. Между балтскими племенами и западными княжествами Киевской Руси издавна существовали множественные связи. Кроме того – что важно для консолидации этносов – существовал и общий "образ врага" в лице германцев (по преимуществу представленный Тевтонским орденом и Орденом Меченосцев, впоследствии объединившихся в Ливонский орден). Благодаря дипломатии Миндовга было подписано соглашение 1250 г., позволившее избегнуть нашествий ливонских рыцарей. Процесс объединения земель, начатый Миндовгом, был продолжен при Гедимине, Ольгерде, Кейстуте, Ягайле и Витовте, что привело к возникновению обширного государства. Рисунки: Миндовг – Запрудник, с. 28 (картинка сверху). Развалины замка князей ВКЛ в Вильно ("Белоруссия и Литва", с. 93) На каком языке говорили литвины? Среди этногрупп, проживавших на территории ВКЛ православные "русины" составляли около 8/10 населения и занимали около 9/10 территории. Неудивительно, что источники, созданные в ВКЛ, были написаны на языке, который исследователи называют "старобелорусским" или "рутенским". Не следует путать рутенский с древнерусским: они имеют много отличий. В рутенском языке меньше старославянизмов, благодаря чему он имеет менее "церковный" характер, а кроме того, он в гораздо большей степени испытал на себе влияние "простай мовы": нередко летописцы специально отмечают, что пишут "попросту". Однако возникает еще один вопрос: рутенский язык считается "отеческим" и для белорусов, и для украинцев. И действительно, для более ранних документов (XIV – первая половина XV вв.) характерны черты украинского типа (например, развитие "ě" в "i"). Однако чем далее, тем более – и об этом говорят не только отечественные, но и зарубежные языковеды (Х. Станг, Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, П. Дини и др.) – преобладают черты белорусского типа: cмешение "ě" и "e", четкое различение "ы" и "i", "аканье" и "цеканье" и др. Именно в эти, более поздние века и были созданы все редакции Статута ВКЛ. Рисунок: Статут ВКЛ – Запрудник, с. 64, или Этнография Беларуси, 59 (мелко?) Старобелорусский вариант языка является официальным с XV и вплоть до XVII века. Помимо Статутов ВКЛ на нем были созданы Статут Казимира Ягеллона (1492 г.), "Трибунал великого князя литовского" (1581 г.); "Летописец литовский и русский"; 42 "Хроника Быховца"; скорининская "Библия" (1517 г.), "Псалмы", "Деяния и послания апостольская"(1526 г.) и ряд других текстов более частного характера (акты, счета, письма и т. д.). Несмотря на церковнославянизмы, а также полонизмы и богемизмы (например, у Скорины), прослеживается весьма явная связь этих текстов с современным белорусским языком. Рисунок: Титульный лист скорининской Библии (мелко, но четко) – Этнография Беларуси, с. 64, или Титульный лист скориниской Библии (крупнее) – Белорусы, с. 92 Рисунок: Скорина – Сучасны беларускі партрэт, с. 34 (скульптура), 91 (гравюра Кашкуревича), 160 (Марочкин); портрет из Библии 1517 г. – Белорусы, с. 91 (Предпочтительным кажется портрет из Библии). Правовая независимость литвинов и проблема "литвинской нации". Благодаря Статутам жители ВКЛ обрели правовую независимость, закрепленную актами, написанными на собственном языке. Это чрезвычайно важный момент для возникновения нации – даже по современным критериям. Но была ли она создана в ВКЛ? По этому поводу среди исследователей наблюдается разнобой, порождающий разнобой в умах читателей. Не стану сталкивать лбами сторонников тезиса о том, что уже в XIII в. белорусы были нацией в том смысле, в котором мы сейчас понимаем это слово, и апологетов "советско-партизанской" версии становления белорусской нации. Хотелось бы просто отметить ряд фактов "за" и "против". "За" – правовое наполнение понятия нации, а именно – феномен гражданства, без которого нация невозможна: самосознание литвинов имело, главным образом, государственно-политический, а не этнический (в узком смысле слова) характер. Также "за" свидетельствует язык документации – и что еще более важно – наличие конституции (статутов). "За" – наличие политонима "литвины". Это именно политоним: не следует путать его с современным этнонимом "литовцы". Однако называть им только население белорусских земель было бы подменой: литвинами, т.е. подданными ВКЛ, звали себя жители разных областей княжества – тех, что ныне являются литовскими, российскими или украинскими (Волынь, Черниговщина, Смоленщина и др.). Одновременно с этим долгие годы большинство жителей ВКЛ (за исключением католиков, иудеев, мусульман и – позже – протестантов) одновременно называло себя и "русинами" – не по ассоциации с Московской Русью, а в связи с исповеданием "руськой веры", православия. Таким образом, на этом этапе термины "литвины" и "русины" не противостоят, а дополняют друг друга. 43 "За" – полиэтнизм состава ВКЛ. Я уже писала о том, что нация чрезвычайно редко ткется из однородного этнического материала. Что же "против"? "Против" – то, что гражданскими правами (т.е. правами представителя нации) в ВКЛ обладали (да и подозревали о наличии таких прав) далеко не все. Это было жесткое государство, основанное на резком разрыве "доминирующих" и "доминируемых" социальных групп, при том, что последние (например, похожие крестьяне) вряд ли представляли, в каком государстве они живут и даже то, что они вообще живут в какомто государстве. Отсюда второе "против" – то, что политоним "литвины" (и соответствующий тип самосознания) был распространен не среди всего населения, а лишь в верхушке социума при том, что этноним "белорусы" не сложился еще долгие годы – и его первоначальное значение существенно отличалось от современного. Вспомним аксиому этнологии: не только нация, но и осознающий себя этнос невозможен без этнонима. "Против" и то, что критерий конфессии – во многом потерявший остроту сейчас, но важный в историческом становлении наций, в то время был размыт. Сказывалось не только разнообразие и взаимоналожение "местных" языческих верований, но и католицизм, проникший в ВКЛ задолго до Люблинской унии. Известно, что его ростки появились еще при Миндовге в 1251 г., "закустились" при Ягайле и пышным цветом расцвели после введения в 1413 г. "Городельской привилегии". Не будем недооценивать и протестантского влияния, в частности, деятельности Николая Радзивилла Черного (XVI в.) и его сторонников. Рисунок: Николай Радзивилл Черный – Шпилевский, с. 69. И наконец, последнее и главное "против" – уже не фактологическое, а научнотеоретическое. Все большее число исследователей (сперва зарубежных, затем российских, а теперь такую точку зрения разделяет и ряд белорусских ученых) склоняется к мысли о том, что понятие "нация" применимо лишь к общностям, начиная с кон. XVIII века. Впервые этот тезис выдвинул Э. Хобсбаум в знаменитой работе "Нации и национализм после 1780 г.". Хобсбаум (как, впрочем, и другие исследоватили наций – Э. Геллнер, Б.Андерсон, К. Вердери, В.А. Тишков и др.) считает, что нации являются продуктом Нового времени и индустриального общества. Не стану пересказывать знаменитую концепцию английского ученого: она переведена, опубликована и многократно растиражирована интернетом. Хотелось бы отметить лишь одно его положение. Никакая нация, говоря современным сленгом, даже самая "продвинутая"–– 44 ни английская, ни французская, ни американская – не могла возникнуть прежде, чем большинство людей (не "верхушка", а именно большинство) не стало настолько грамотно и сознательно, что могло твердо сказать, в каком государстве живет, какова в нем форма правления, какими правами обладают граждане страны (т.е. они сами), каковы их обязанности и т.д. Более того – нация невозможна прежде, чем представитель большинства не осознает собственную ответственность за судьбу страны. Это осознание и есть значимая составляющая национального (уже не этнического) самосознания. Потому Хобсбаум и определяет нацию как "совокупность граждан, чьи права <…> предоставляли им долю участия в судьбах страны и тем самым делали государство до известной степени "их собственным" [201, с. 34]. Пока такое положение не достигнуто или достигнуто лишь частично, мы можем говорить об отдельных национальноориентированных группах, но не о нации в целом. Рисунки: Герб ВКЛ – Белорусы, с. 81. Печати деятелей ВКЛ – Белорусы, с. 87. Специфические особенности населения белорусских земель в ВКЛ. Итак, на территории ВКЛ сложилась особая культурно-политическая общность. Можно утверждать это на основании следующих факторов: наличие самобытной фольклорной и профессиональной культуры (особенно в эпоху Ренессанса и Реформации, когда образованные люди имели возможность ознакомиться с творчеством Скорины, Сымона Будного, Гусовского и др.); рост городов на территории нынешней Беларуси; появление общего экономического рынка и универсальной для всех зон ВКЛ валюты (литовский грош, польский грош, талер); наличие собственной территории (при значительном самоуправлении городов) и государственных актов, утверждающих ее границы, а также права и свободы в ВКЛ; осознание наличия "других" (литовцев, украинцев, татар, евреев и пр. этнических групп), которое дает материал для сопоставления с группой-Мы, а значит, для возникновения особого "мы-чувства": из этнопсихологии известно, что в полиэтнической (многонациональной) среде вырастают люди, более четко понимающие (однонациональной). собственную специфику, чем в моноэтнической 45 На уровне элиты и городского населения (во всяком случае, его образованной части) самосознание литвинов включало осознание себя как равноправных подданных могучего государства – ВКЛ при множественности входящих в это самосознание самоидентификаций. Оно охватывало: подданство ВКЛ; принадлежность к определенной конфессии, обусловливающую своеобычные духовные нормы и ценности; принадлежность к землячеству (повету, княжеству, воеводству), диктующая самоназвание, чаще всего производное от названия города (мозыряне, речичане и т.д.); принадлежность к волостной общине, закрепленную общинным самоназванием (заволочане, лучане, крычане и др.). Рисунок: Карта ВКЛ (1613 г.) – Этнография Беларуси, 63; Ширяев, с. 27. Таким образом, можно говорить о Парадоксе Третьем: в силу полиэтнического и поликонфессионального состава населения протобелорусских территорий идентичность населения возникла не на однородном этническом материале, а на основе локальноместной идентичности масс (связанной с малой родиной: те же "мозыряне" или "заволочане"), а также – на основе гражданской идентичности (преимущественно среди образованной части общества). Эти идентичности сольются лишь несколькими столетиями позже. Рисунок: Застройка Гродно в 16 в. – Белорусы, с. 263. Самоназвания жителей ВКЛ. В то время терминов, отражающих разнообразие идентичностей, было несколько. Они различались аспектами: можно предположить, что термин "русины" объединял по преимуществу сторонников "русской веры" и население местностей, некогда входивших в состав Киевской Руси, и сохранившем об этом культурную память; термин "литвины" фиксировал государственную принадлежность и не противоречил самоназванию "русины" (об этом свидетельствуют такие составные самоназвания, как "литвины руського роду", "литвины руськой веры", "литвины греческого закону люди"). В XVI в. появляется, а к XVII в. распространяется этнонимуточнение "литвины-белорусцы". Что он означал при своем возникновении? Вероятно, некоторую "идею особой земли", Белой Руси. Часто в текстах, относящихся к первой половине XVII в., понятие "белорусцы" связано с принятием и расширением униатства как "белорусской веры". 46 Рисунок: Карта ВКЛ и Руси Белой (Нюрнберг, 1687) – Ширяев, с. 28. Церковь Михаила Архангела в Сынковичах – Саборы помняць усё, с. 63 или с.65. Но мы забежали вперед. Вернемся ко второй половине XVI века – к Люблинской унии 1569 года, провозгласившей объединение Королевства Польского и Великого Княжества Литовского. Речь Посполитая: литвины, поляки, белорусцы… Речь Посполитая: правовые и конфессиональные пертурбации. Хотя объединение предполагало характер конфедерации (вернее, так: прикрывалось "фиговым листком" конфедерации), уже с первых десятилетий самостоятельность ВКЛ была резко ограничена: это выражалось, например, в неравном представительстве поляков и литвинов в структурах власти. Но, пожалуй, еще существеннее было не прямое политическое, а косвенное – культурное – воздействие. Если "законы" и "директивы" можно изменить, а то и отменить, то латентно проникающие в психику и поведение культурные смыслы остаются там надолго, порой на столетия. Рисунок: Карта Польши и Литвы (1720) – Ширяев, с. 30. Сейчас, когда развитые страны тяготеют к поликонфессиональности, когда человек может сознательно принять вероисповедание, а религиозный фундаментализм воспринимается как опасный атавизм, нам трудно представить, что означал для наших предков переход на рельсы другой конфессии. Несмотря на то, что попытки окатоличивания предпринимались еще при Миндовге, этот дальновидный и ловкий правитель проводил их не слишком активно. Более того, в 60-х гг. XIII в. он отрекся от навязанного ему католицизма (отсюда и фраза летописца: "крещение его льстиво бысть") и вернулся к православию. Православными были и Войшелк, и Тройден, и четверо его сыновей (известно, что один из них, Лавр, даже принял постриг и построил в Новогрудке церковь Вознесения Господня), а также сын Гедимина Глеб-Наримунт. Некоторые авторы настаивают на том, что православными были пять из семи сыновей Гедимина. Не случайно множество православных княжеских династий вело свое происхождение от Гедиминовичей (Булгаковы, Куракины, Хованские, Голицыны и мн. др.). Психокультурные и ценностные следствия смены конфессии. Что означала смена конфессии в условиях, когда уже несколько столетий христианство "греческого закона" было объединителем и просветителем общества (разумеется, в первую очередь, знати и образованных горожан)? Главным образом, перемену уклада. Для шляхты это означало изменение всего образа жизни. За конфессиональным перекрашиванием 47 следовали переход на польский язык и изменение идентификации. Ценность "литвинства" утрачивала свои позиции: престижно-знаковыми становились ценности Польской Короны. Для крестьянства (по крайней мере, населявшего восточные и центральные области ВКЛ) перевод на польский язык и изменение обряда уничтожали всякую возможность осознанной идентификации. Если до этого локально-местная идентичность, базирующаяся на привязанности к "данному от Бога" участку земли, сопрягалась с привычной и понятной молитвой этому Богу, то уже с первых лет окатоличивания крестьянин постепенно отдалился от церкви, где царили молитвы на чужом языке и неизвестные обряды. Он вновь обратился к давним "знакомцам" – нечистикам, то помогающим, то мешающим жить, но, по крайней мере, не изменяющим свои привычки и облик. Сходная ситуация (только с обратным знаком) впоследствии постигнет территории Речи Посполитой, когда начнется новая – и столь же политизированная – волна насильного возврата к православию. Думается, именно следствием этих конфессиональных пертурбаций являются фольклорные образы крестьянского Бога и внецерковного "святого человека", речь о которых впереди. Тактики полонизации: религия, образование, статус. Еще на Люблинском сейме 1569 г. Сигизмунд II Август объявил, что достижение единства веры должно производиться без насильственных мер. Потому основными тактиками окатоличивания было "заманивание" и постепенный отъем прав у православных: "кнут" искусно сопрягался с "пряником". Если тактика лишения прав более касалась шляхты, то тактика "заманивания" затрагивала также население городов и деревнь (отсюда в белорусском фольклоре образ хитрого ксендза, под которым нередко подразумевался проповедующий монах). Еще до присоединения ВКЛ к Короне Польской, на его территории было немалое количество монастырей: монастыри францисканцев в Лиде, Ст. Ошмянах, в Пинске; августианцев – в Быстрице и Берестье, бернардинцев – в Полоцке. В годы Конрреформации количество монахов, принадлежащих к этим орденам, умножилось. Начался наплыв представителей других орденов – доминиканцев, иезуитов и др. Католические костелы и монастыри становились мощными феодалами. Немудрено, что уже в последней трети XVI в. многие из бывших православных шляхтичей (в том числе и те, кто сначала примкнул к протестантизму, а затем отказался от него в годы Контрреформации) перешли в лоно католической церкви и стали распространителями католицизма в среде подвластного им населения. Самым успешным ассимилятором был орден иезуитов: он действовал гибко и тонко, преимущественно путем образования. Как это часто бывает в истории, к его 48 деятельности трудно подойти с "черно-белыми" мерками: ведь именно благодаря деятельности иезуитов был открыт первый на территории ВКЛ университет – Виленский (1579 г.), а спустя два года – Полоцкий иезуитский коллегиум, позже приобретший статус Академии. На протяжении последующего столетия подобные учебные заведения были открыты в Несвиже, Орше, Пинске, Мстиславле, в Витебске, Минске и в Слуцке. Важно, что до середины XVII в., пока учащиеся не овладевали латынью и польским языком, начальное обучение в них шло на "простай мове". При коллегиумах существовали школьные театры. Известно, что в интермедиях, предваряющих их спектакли герои разного социального статуса разговаривали на разных языках: паны – по-польски, духовники – на латыни, а крестьяне – на "гаворке". Объективная причина этого – тот факт, что зрителями были крестьяне и мещане, не знавшие польского языка, во всяком случае, в такой степени, чтобы понимать переплетения сюжета. Тем более они не знали латыни. Субъективная заключалась в том, что православному населению как бы указывали их место – место низших слоев, разговаривающих на "мужыцкай мове". Иезуитским орденом (и – пусть в меньшей степени – некоторыми другими орденами) также было открыто большое количество бесплатных начальных и средних школ с польским языком обучения. По фактам, приводимым А.Е.Киркором в очерке "Белорусское Полесье", со второй половины ХVII столетия высшее и среднее образование практически находилось в руках иезуитов. Потому полонизации, в первую очередь, подвергались люди образованные, а также – выходцы из знатных семей, чьи родители имели возможность обучать своих детей в престижных учебных заведениях Речи Посполитой. Впрочем, рядовые горожане тоже пользовались такой возможностью: некоторые коллегиумы и почти все школы были бесплатны. Если же говорить не только о "духовной жажде", но и о статусных привилегиях, то и здесь католики с каждым годом получали все более бонусов, чем православные. В эту эпоху уже была установлена шляхетская демократия; можно даже говорить о культе прав каждого шляхтича (свобода голоса и протеста, право избирать и быть избранным, свободное передвижение по ВКЛ и путешествия за его границы, неприкосновенность личности и имущества, налоговые льготы, личная свобода от податей; в Речи Посполитой появляется право на собственную геральдику и др.). Но поскольку большинство сейма составляла польская знать, то именно она, в первую очередь, обладала этими свободами. Статус был важен не только сам по себе, а и в связи с экономическими выгодами: он, как это было во все времена, давал большие возможности обогащения. 49 Борьба за души: вертикальный и горизонтальный расколы в культуре. Следствием всего этого явился колоссальный вертикальный раскол общества. Он заключался в подмене политической и в целом социально-культурной идентичности образованных "верхов", с одной стороны, и в маргинализации идентичности "низов". Такого раскола не знали ни русская, ни польская культуры за исключением франкофильской аристократической верхушки в России (во все времена немногочисленной): российские и польские "верхи" и "низы", по крайней мере, исповедовали единую конфессию и говорили на одном языке. Впрочем, реальная ситуация была еще более запутанной: здесь уже можно говорить и о горизонтальном расколе. В ответ на расширение католического образования активизировались православные братства в Бресте, Минске, Пинске, Могилеве и других крупных городах. Действовали они тем же путем, что и иезуиты, – путем просвещения (открытие школ, семинарий, типографий и т.д.). В итоге разные группы молодежи приобретали различное мировоззрение: ведь, как известно, язык существенно влияет на ментальность (в ХХ в. это убедительно показали и Р. Якобсон, и Э. Сэйпир, Б. Л. Уорф, и мн.др.). Кроме того, нестабильность религиозных оснований жизни общества, задаваемых образованием, подтачивала единство социума. Но, пожалуй, самым значимым в сложившейся ситуации было то, что сами системы образования были направлены на разные цели. Разумеется, в них было определенное сходство: и та, и другая центрировались на филологических науках (так, в православных братствах изучали церковно-славянский, греческий, русский, а затем – латынь и польский; кстати, в ряде католических школ тоже изучали русский. "Гаворку" не изучали нигде). Но если иезуитские образовательные учреждения, в первую очередь, ориентировались на развитие ораторских навыков, памяти и логики (как бы мы сказали сейчас, на развитие "креатива"), то православные более акцентировались на нравственном воспитании и имели более "домашний", патриархальный характер. Разумеется, в православном обучении был усилен церковнославянский и русский элемент… Борьба за территорию, как всегда в истории, обращалась в борьбу за души людей, причем, и политический, и идеологический перевес был на стороне Польской короны. Недаром П. Скарга, обращаясь к восточнославянским народам, призывал: "Обернись к Западу, на Востоке для тебя свет угас!". Рисунок: Несвижский замок 17 в. – Белорусы, с. 275. Петропавловская церковь в Минске – Саборы помняць усё, с. 129. 50 Уния – попытка компромисса? "Свет с Востока" действительно угасал: об этом свидетельствовали и нестабильность в Константинопольском патриархате, и коррупция в его верхах, и нарастание внутренней смуты в православной церкви. Впрочем, это угасание касалось не только религии. Доверие жителей ВКЛ было подорвано военной политикой восточного соседа – крайней жестокостью Ивана IV на оккупированных в годы Ливонской войны землях. Внутренняя ситуация тоже становилась все более и более напряженной. Вот тут-то, казалось, и пришло спасение. Имя ему было "грекокатолическая церковь", или проще – униатство. Именно в западной ветви христианства ряд православных лидеров (К.Острожский, И.Патей, К.Тарлецкий и др.) нашел варианты преобразований в Киевской метрополии: так зародилась идея унии между католицизмом и православием. Беда Брестской унии, как и любого формального компромисса, заключалась в том, что в своем главном качестве – единой народной церкви – она не была востребована. Здесь я имею в виду не образованных людей, видящих в ней спасение от внутренних раздоров; не крестьян, многие из которые впоследствии восприняли униатство как свою "белорусскую" веру. Я говорю о сильных мира сего, от которых-то и зависели подписание и реализация унии. Все стороны хотели разного, более того – противоположного. Католическая церковь намеревалась с помощью унии расширить свое влияние не только на православное население ВКЛ, но и далее – на восточных славян. Правящие круги Речи Посполитой были заинтересованы в унии как в некоем "толчке" к большему подчинению подданных ВКЛ Польской Короне, а в конечном счете – к созданию монолитного государства, способного к активному отпору империи. Что касается верхов ВКЛ, то их интересы заключались в том, чтобы путем унии ослабить оба – и русское, и польское – влияния. Уния как поле нереализованных возможностей. Если бы речь шла о достижении реального компромисса, и стороны действительно были готовы к уступкам, то, возможно, уния смогла бы прекратить дрязги и послужить формированию национальной церкви (а вслед за ней – потенциально – и национального государства). Примечательно, что само это государство, каким оно задумывалось униатскими деятелями, должно было бы обладать "граничной" спецификой: не случайно Мелетий Смотрицкий предписывал униатству функцию братания Востока и Запада. Впрочем, противники унии настаивали на том, что такое братание невозможно. Так, архимандрит З.Копыстенский в "Палинодии" предвосхищал безуспешность унии разницей "разумов": греческий разум он уподоблял "единоходному коню" (т.е. выявляет в нем то качество, которое А. С. Хомяков позже назовет "соборностью") , а латинский – "учоной иноходе", 51 выводя отсюда стремление к дебатам и препирательствам. В целом православным полемистам (З. Копыстенскому, А. Филлиповичу и др.) было свойственно аппелировать к богоизбранности и единомыслию "русинов", которые неизбежно должны были поколебаться под ударом чуждых католических ценностей, не соответствующих их "разуму". Сторонники унии (П.Скарга, В.Рутский, А.Селява, И.Патей, а затем и склонившийся к униатству М. Смотрицкий) настаивали на том, что она способна не просто объединить представителей разных конфессий, но и вдохнуть новую жизнь и в церковные, и в государственные структуры. Тот же Мелетий Смотрицкий, еще в 1620 г. пламенный православный полемист, уже в 1628-1629 гг. настаивал на том, что православная церковь – это "старое", ушедшее, одряхлевшее, униатство же – "новое", молодое и сильное объединяющее начало для создания мощного моноцерковного государства. По мнению ряда мыслителей прошлого (например, К. Калиновского и В. Ластовского) и современных историков, уния могла бы стать действенным выходом из сложной ситуации. Почему же не стала? Здесь невольно вспоминается афоризм политического деятеля совсем другого времени и совсем по другому поводу: "Хотели, как лучше, а получилось, как всегда". Впрочем, и "как лучше"-то хотели немногие. Причины краха унии. Увы, на практике принятие униатства происходило не просто принудительно (принудительное воцарение веры для истории – достаточно обычное дело), но и чрезвычайно жестоко: у непокорных отбирались храмы, монастыри, школы, госпитали. Больше всего свирепствовал епископ И.Кунцевич. У православных священников, которые отказались перевести паству в униатство, отнималось не только право совершать богослужения, но даже и появляться около церкви (под страхом казни). Были запрещены отпевание и похоронные процессии для православных. Известны другие кощунственные факты: например, приказ вырыть из могилы полоцких покойников, погребенных по православному обряду, и отдать тела на съедение собакам. Это вызвало возмущение не только масс, но и такой, как сказали бы сейчас, "знаковой фигуры", как канцлер Л. Сапега. Вот что он писал в знаменитом письме Кунцевичу (1622 г.): "Признаюсь, что и Я заботился о деле унии и что было бы неблагоразумно оставить это дело; но мне никогда и на ум не приходило того, что ваше преосвященство будете присоединять к ней столь насильственными мерами <…>. Согласно учению Св. Писания, нужно заботиться, чтобы наша ревность и желание единоверия основывались на правилах любви; но вы уклонились от наставления сего Апостола, а потому не удивительно, что подвластные вам вышли из повиновения <…> Вместо радости, 52 пресловутая ваша уния наделала нам столько хлопот, раздоров, и так нам опротивела, что мы желали бы лучше остаться без нее, так много, по ее милости, мы терпим безпокойств, огорчение, и докук. Вот плод вашей пресловутой унии! Сказать правду, она приобрела известность только смутами и раздорами, которые произвела она в народе и в целом крае!" Народная церковь и "белорусская вера". После убийства Кунцевича возмущенными витебскими горожанами в 1623 г. иерархи греко-католической церкви были вынуждены изменить тактику на более мягкую. Именно об этом времени, продлившемся несколько десятилетий, можно говорить как о времени становления униатства как "народной церкви". По некоторым данным в XVIII в. униатами было более 75% жителей белорусских территорий, а в сельской местности – около 80%; в деревнях насчитывалось 1199 униатских церквей (для сравнения: католических – 283, православных – 143, кальвинистских – 16) [186, с. 245]. В деле воцарения униатства отличился Орден базилиан, занимавшийся не только строительством семинарий и церквей и активной издательской деятельностью (типографии в Вильне, Минске, Львове и т.д.), но и – что важнее – обучением и богослужением на родном языке. Рисунок: Костел базилиан в д. Вольно Барановичского р-на Брестской обл. XVIII в. Благодаря этому даже в необразованные слои населения начала проникать идея о самобытности "веры", а значит, и самобытности собственного культурного анклава, не совпадающего ни с Россией, ни с Речью Посполитой. Если отдаление от России базировалось на основе фактических (политических) границ, то самоустранение от Польши – на основе границ духовных, метафизических – диктуемых верой. Польша воспринималась как отечество панов-католиков, но внутри нее как будто бы находилось другое, метафизическое отечество – "своя" церковь. Католики презрительно называли ее "холопской", униаты – "белорусской". Само употребление этого слова чрезвычайно значимо: речь идет о том, что появилась особая духовная "скрепа", объединившая около 70% населения. Однако можно ли, как это нередко делается, отождествлять "белорусскую веру" с некой, сформированной уже в те давние времена национальной белорусской идеей? Белая Русь и "белорусцы". Прежде всего, необходимо разобраться, в каком контексте в те годы употребляются слова "Белая Русь" и "белорусцы". По свидетельствам современников, понятие "Белая Русь", с одной стороны, охватывало не все территории нынешней Беларуси, а с другой – включало и Киевщину, и Черниговщину, и Волынь, и ряд других территорий. Пример такого исторического 53 свидетельства – "Описание Европейской Сарматии" А. Гваньини, где Белая Русь понимается как земля, включающая области Киева, Мозыря, Мстиславля, Витебска, Орши, Полоцка, Смоленска и "Земли Северской". А. Потебня ссылается на следующие примеры из летописных источников: "свезли, де, его в Киевской повет, жил у белорусца", "родина, де, ся в Белой Руси в Хвастове" и др. [183, с. 118—119]. Ныне нередко тот факт, что "белорусцами" звали себя не только предки нынешних белорусов, но и других этносов, нередко трактуется так: в те давние годы все эти области были белорусскими. В этом случае понятие "белорусские земли" употребляется не в тогдашнем конфессионально-топонимическом, в сегодняшнем национально-политическом, смысле. Отсюда делается вывод: то, что ныне эти земли не относятся к территории РБ – свидетельство происков воинственных соседей. Увы, хотя происков воинственных соседей в истории Беларуси хватало, но подмена понятий в любом случае остается подменой. Полагаю, речь должна идти о другом – о создании на территории Речи Посполитой некоей отдельной культурно-конфессиональной общности, отличающей себя и от поляков, и от подданных Московской Руси. Более того, известно, что жители Московской Руси в начале XVII в. не воспринимали Белую Русь как собственную, "незаконно отнятую" Польшей вотчину (вероятно, такое "понимание" возникло позже – в период оккупации белорусских территорий Алексеем Михайловичем и особенно в период правления Екатерины II). Потому в русских текстах под терминами "Белая Русь" и "белорусцы" подразумеваются некоторые области Речи Посполитой и их население, отличное от населения Московской Руси [155, с. 20, 29-31], [199]. Что здесь важно? Тот факт, что самоназвание "белорусцы" и представление об особой земле – Белой Руси – существуют уже не только "для внутреннего употребления": они распространились и за пределы Речи Посполитой. А ведь один из тезисов современной этнопсихологии гласит: для самосознания любой общности значимо не просто осознание собственной особости, но и признание такой отличительности со стороны "других". Тем самым белорусцы не только сами вопринимали себя особой общностью – их самобытность принималась во внимание и Россией, и католиками Речи Посполитой (хоть нередко и со знаком "минус"). Униатство и вопрос о национальном самосознании. Все эти факты приводят нас к следующему вопросу: можно ли считать "белорусцев" того времени нацией, как делают некоторые исследователи? Думается, нет. Во-первых, выше были подробно описаны необходимые "атрибуты" нации, которыми эта общность не обладала, как, впрочем, и население тогдашних Франции, Англии, Германии и др. европейских стран. Во-вторых, во всех контекстах, в которых употреблялись термины "Белая Русь" и 54 "белорусцы", речь идет либо о топониме (названии территории), либо об конфессиониме (названии конфессии, объединяющей представителей разных этнических групп). Тогдашние "белорусцы" и сегодняшние белорусы – не одно и то же. Однако именно этому самоназванию суждено было превратится в этноним, а затем и в название национального сообщества. Но это случится гораздо позже. И вновь присоединюсь к мнению В. Носевича: "данная идея [униатство. – Ю.Ч.] успела пустить глубокие корни и сильно способствовала самоидентификации белорусов, их противопоставлению себя русским [добавлю: и полякам. – Ю.Ч.]. Но все же идее униатства нельзя приписывать решающую этнообразующую роль, тем более роль национальной религии белорусов. Оставшиеся 30 % населения Белоруссии либо сохранили православное вероисповедание (преимущественно на востоке), либо принадлежали к католической конфессии (на западе и в центре), причем среди политической элиты – шляхты – процент католиков (а в определенный период времени – также протестантов) был еще более высок. Консолидировать белорусов в единую нацию униатство поэтому никак не могло. К тому же оно распространилось в равной мере и на территории Украины, поэтому его ролью можно опять-таки объяснить лишь упрочение этнической границы между русскими и белорусами, но не появление таковой между белорусами и украинцами" [179]. Итак, данные о широком распространении униатства еще не свидетельствуют о формировании белорусского национального самосознания в те годы. Однако общность людей, возникшая на основе "белорусской веры" действительно существовала. Общность "белорусцев": специфические черты. В первую очередь важно, что эта общность была полиэтнична. Здесь мы наблюдаем свойство, отличающее белорусский народ на всех этапах истории – от "тутэйшых" до нации. Я имею в виду тенденцию к поликультурализму (многокультурности) – и в местном контексте (повседневная жизнь среди других этногрупп), и в более широком, который заключался в нежелании однозначно становиться на позицию Востока или Запада. Если исторический путь был связан с "Востоком" – например, с Киевской Русью, то существовали выраженные культурные анклавы, тяготеющие к Западу (ВКЛ); если же – с "Западом", как в ВКЛ или позже, в Речи Посполитой – то возникает внутреннее деление на "литвинов", "русинов" и, наконец, "белорусцев". В разное время в каждый из этих терминов вкладываются различные смыслы, позволяющие им – то более, то менее мирно – сосуществовать друг с другом (отражая аспекты государства, веры и земли, например). Но в любом случае это свидетельствует об отсутствии монолитности – в противовес, например, России, где "государство", "вера" и "земля" в истории 55 нераздельно слиты. О том, плохо это или хорошо для белорусов, я буду говорить позже – в связи с термином "конструктивная маргинальность". Но сам факт, что "белорусцами" в этот период называют себя люди разноэтнического происхождения, можно понимать как "вызов" из будущего, когда белорусы начнут расценивать себя как полиэтническую нацию. И пусть эта тенденция реализуется гораздо позже, но, возможно, именно в те годы – годы унии – возникли ее первые предпосылки. Впрочем, здесь, как и вообще в вопросах, относящихся к истории – всегда противоречивой, всегда складывающейся из разных версий – мы можем лишь предполагать… Вероятно, продержись бы униатство еще хотя бы столетие в качестве господствующей конфессии, оно могло бы стать национальной религией, о которой грезили его сторонники-полемисты. Тогда бы и судьба Беларуси была бы иной. Но история не знает сослагательного наклонения. Кроме того, червоточина находилась не только вне, но и внутри униатства, причем, изначально – в конфликте задач, которые ставили перед собой верхи Речи Посполитой, католической церкви и правящей элиты ВКЛ. Словом, почти по Крылову: "рак пятится, а щука тянет в реку". Отсюда – печальный итог: уния, предполагавшая синтез конфессий, оказалась чуждой и даже враждебной им обеим. И вовсе не случайно в XVIII в. она раскололась на сторонников католицизма, с одной стороны, и на ориентирующихся на православие "ориенталистов", с другой. Да и орден базилиан, так много сделавший для развития самобытной культуры, к этому времени во многом окатоличился. Итак, попытка создания унии как "народнай царквы", синтезирующей идеи и ценности и Востока, и Запада, обернулась неудачей. Однако, зерно, брошенное в землю, проросло. Униаты были первой группой, которая поняла: они не поляки и не русские, а особая социально-конфессиональная общность. Противоборство влияний на белорусских землях. Середина XVII в. стала прологом к упадку Речи Посполитой. Помимо привычных противоборствующих влияний (католицизма, влекущего за собой ополячивание, и православия, утверждающего церковно-славянский и в целом "русинский" элемент в культуре), во второй пол. XVII в. появилось третье – не такое мощное, но вполне конкурентоспособное, особенно для южных областей, – украинское, возникшее вследствие перемещения православного центра из Вильни в Киев (в 1631 г. в Киеве была открыта Могилянская духовная академия). И если прежде старобелорусский язык господствовал на всей территории ВКЛ, в том числе на территориях этнических украинцев, то развивающийся украинский литературный язык и приверженность ему все большего числа православных привела к ослаблению языка Статутов. Впрочем, другое 56 воздействие Украины – политически-военное, связанное с амбициями Б.Хмельницкого – оказалось куда более пагубным не только для культуры, но и для самой жизни людей. Предполагая создание казацкой державы на территории бывшего Киевского княжества, украинский гетман произвел оккупацию юго-восточных территорий Речи Посполитой, погубив десятки тысяч людей. Используя политическую ситуацию, в войну вступила Московская держава. Формальным основанием этого был союз царя Алексея Михайловича и Б.Хмельницкого. Это произошло в 1654 г. Неизвестная война. "Неизвестная война" (по удачному определению Г. Сагановича), продлившаяся семь лет, привела к сокращению народонаселения вполовину: восстановилось оно лишь к середине XIX в. Так, в соответствии с переписью 1835 г. население белорусских территорий оказалось примерно тем же, что до войны 1654-1667 гг. Речь идет о массовом истреблении: известно, что в одном лишь Мстиславле было убито около 10.000 человек. Приветствовалось не только уничтожение "латинства" и униатства, но и искоренение местных евреев. В результате на польскобелорусской территории осталась лишь одна десятая часть еврейского населения, а в целом число погибших евреев превысило сто тысяч. Известно, что при захвате Полоцка в Двине за один лишь день было утоплено около трехсот евреев, отказавшихся принять крещение, а в Могилеве их вырезали более двух тысяч. В целом из трех миллионов жителей к 1667 г. осталось немногим более миллиона с четвертью. За пределы Речи Посполитой были вывезены не только библиотеки, книжные собрания монастырей, но и образованные люди, ремесленники, крепостные актеры и т.д., значительная часть из которых погибла в пути, а остальные были вынуждены прилагать свои умения и таланты на ниве иной культуры. Так, Л. Лыч и В. Новицкий отмечают, что Оружейная палата Московского Кремля, Валдайский, Иверский, Воскресенский, Ново-Иерусалимский монастыри и Коломенский дворец созданы по преимуществу руками мастеров, вывезенных с центральных и восточных территорий Речи Посполитой. Ряд исследователей находит белорусские мотивы и в так называемом "нарышкинском" барокко. В самой же Белой Руси ремесла и спустя столетие не достигли прежнего расцвета. Население стало покидать разграбленные города, а порой и пределы страны. Особенно это касалось людей талантливых, способных найти себе применение и на чужбине. Такова судьба Симеона Полоцкого, композитора Е. Славинецкого, певца И. Календы и др. начавших профессиональное восхождение в России, а также музыкантов А. Кулаковского, К. Провинского, С. Булавинского и др., которые отныне концертировали в Европе. Горожане, чьи способности не были столь выдающимися, а 57 амбиции – не столь мощными, уходили в деревни в извечной надежде на землю, которая не подведет, даст прокормиться. Итак, подведем итоги: в Россию были вывезены (или просто-напросто уничтожены) библиотеки и книжные собрания монастырей, школ, коллегиумов; погибло огромное количество людей; насильно или вынуждено мигрировали профессионалы. Добавим к этому тот факт, что шляхта оставалась преимущественно католической и пропольской, а также то, что со вторжением Алексея Михайловича началось очередное насильственное обращение населения – на этот раз в православие. Где могла сохраниться культура – и на каком уровне? На уровне повседневности и ее главного выразителя – фольклора. Эта ситуация растянулась на столетия. Разрыв элит и массы. Исследователи, выводящие исторические беды Беларуси из отсутствия в ней элитарного слоя (например, того же рыцарства) в чем-то правы. Однако бесчисленные натяжки (например, когда в качестве рыцарства украинские авторы postfactum понимают запорожское казачество) сводят эти доводы на нет. Беда не в том, что не было элит: беда в том, что они воспринимались как чужие. Их пересечения с "безмолвным большинством", т.е. массами, были минимальны. Литвинская элита, пропольские паны, а позже – и пророссийские дворяне – резко различались между собой и по убеждениям, и по целям, и по типам патриотизма, и по пониманию чести и достоинства. Это были люди, имевшие достаточно твердые (хоть, опять же, и различные) представления о своих правах и свободах. Но одно оставалось правилом. За исключением просветителей (Ф. Скорина, С. Будны, В. Тяпинский и др.) и ряда их последователей-гуманистов, между элитой и массой на территории Беларуси долгие столетия практически не существовало точек соприкосновения. Косвенным, но весомым доказательством этого явилось то, что единственным стопроцентно отрицательным героем белорусского фольклора (в частности, сказок) является пан. И в других странах были ситуации разноязычия "верхов" и "низов" (яркие примеры – Венгрия и Богемия), а также – исповедания разных конфессий элитой и массой, но и то, и другое вместе – всетаки редкость. К этому добавлялись и другие, по премуществу, социально-экономические и социально-политические проблемы, часть из которых была следствием войны, а часть – деградации самого устройства Речи Посполитой. Крах Речи Посполитой. Самые значительные из проблем, "кольцом" охвативших Речь Посполитую, во второй половине XVII века, таковы: 58 обеднение государства ("страна не выходила из состояния производительницы самого грубого сырья <…>, о промышленности, за исключением мельничного дела и добывания спирта, почти не приходится говорить" [157, с. 260]; нищета и бесправие преимущественной части населения; упадок городов; ухудшение положения шляхты, которая компенсировала моральные и материальные издержки, с одной стороны, давлением на более богатое сословие – купечество, а с другой, возрастанием личных амбиций. О последнем свидетельствует то, что к концу существования Речи Посполитой как минимум использования половина права сеймов liberum veto, оказалась т.е. сорванной право любого в результате члена сейма ликвидировать постановление сейма своим протестом; конфликты феодалов – главным образом, богатого меньшинства и обедневших шляхетских фамилий; жгучая конкурентная борьба шляхтичей за влияние на короля и на сейм; коррупция, причем не только во внутренних, но и во внешних масштабах: "Продажность польских вельмож поистине изумительна. В этом отношении литовско-белорусские вельможи, более прочно обеспеченные и более государственно настроенные, в меньшей мере запятнали себя продажностью… Поэтому польская знать оказалась легко подкупаемой дипломатами из соседних государств и продавала без зазрения совести насущнейшие интересы своей родины" [157, с. 270-271] Но главный удар был впереди: в результате трех разделов Речи Посполитой народ вновь оказался в другой стране – в составе Российской империи. Белорусские земли в составе Российской Империи: перекройка ментальных основ "Белоруссия" и "Литва". Как это нередко бывает в истории, захват часто носит маску благодеяния. Так было и на сей раз. Угнетение конфессиональных слоев было картой, то и дело разыгрываемой в белорусской истории (причем, всякий раз имелись в виду разные слои), но именно в "колоде" Екатерины II она сыграла как козырь. Вторая разыгранная карта – давнишняя принадлежность части "спорных территорий" к Киевской Руси, что, по мнению российской верхушки, было основанием для того, чтобы числить их среди исторически подвластных империи территорий. 59 Потому-то и в манифесте Екатерины II (1772 г.) эти земли были названы законной и неоспоримой собственностью Российской империи. Третим козырем было топонимическое понятие "Белая Русь": отсюда делался небескорыстный вывод о необходимости "долгожданного" воссоединения русских земель. Рисунок: Карта белорусских губерний в Российской Империи – История имперских отношений, с. 95. На этой основе было предпринято разделение завоеванных земель на два генералгубернаторства: Белорусское и Литовское. Таким образом, слово "Белоруссия" впервые получило официальное признание в качестве этнонима. Правда, ряд исследователей отмечает, что название это – наносное, выдуманное для того, чтобы было проще подчинить и ассимилировать народ: потому-то в самом этом народе оно прижилось только в XIX веке. Представляется, что для дальнейшей судьбы этнонима "белорусы" главное – не столько мотивы, сколько факт его введения: тем самым хотя бы части народа (пусть только Витебской и Могилевской губерниям) была дана возможность формальной самоидентификации. Пусть "сверху" – но не "наверху" ли был выработан более симпатичный многим политоним "литвины"? Было ли введение наименования "Белоруссия" признанием права хотя бы части белорусов на автономию – пусть не на государственную, но, по крайней мере, культурную? Думать так было бы наивно: умелый политик-манипулятор, Екатерина, знала, что и с какой целью делает. Парадокс (наш Парадокс четвертый) состоял в том, что наличие четкого этнонима – особенно если учесть его связь с незабытой еще "белорусской верой" – всегда повышает самосознание народа или даже его части. Эта ошибка властей была "исправлена" ими позже, после разгрома восстания 1830 г. Отрыв одной части народа от другой привел к тому, что у жителей Литовского генерал-губернаторства (куда были зачислены Минская, Гродненская и Виленская губернии) на тот момент сохранилась большая дифференциация себя с Россией. Последнее подтверждается статистикой: если литовцев и поляков (или тех, кто расценивал себя как литовцев или поляков) на правах этногрупп включали в государственную документацию (переписи и т.д.), то белорусов официально не отделяли от основной массы населения России и считали русскими. Самосознание шляхты и крестьянства в составе империи. Как вхождение в состав империи отразилось на самосознании народа? Здесь можно – пусть и с долей условности – говорить о двух разных "народах" внутри одного. Первый – шляхта 60 (преимущественно ополяченная, хотя ее часть сохранила и осознание литвинских корней) и образованные горожане; второй – крестьянство. Итак, шляхта и образованные горожане… Эти люди, до сих обладавшие определенными правами и свободами (даже учитывая разницу между правами католиков и православных), ныне оказались в составе жестко централизованной монархии. Их ценности приходили в противоречие с ценностями государства по целому ряду критериев: права и свободы и вытекающая из них ценность личностной автономии дворянства в ВКЛ – "великодержавное" отношение к государству как к высшей ценности в Российской империи; ограничение верховной власти сеймами – абсолютистское право монарха на произвольное принятие решений; "магдебургское право", порождавшее особую самоидентификацию горожан и своеобразный "городской патриотизм" – государственный произвол, вызывавший стремление уклониться от участия в общественной жизни; слабо выраженный государственный патернализм (и соответственно влияние государства на человека) – всеобъемлющий государственный патернализм. Второй, гораздо более многочисленный "народ в народе" – крестьянство. О его мировоззрении мы можем судить лишь по фольклору: это и станет предметом следующего очерка. Сейчас скажу только, что большая его часть, некомпетентная в хитросплетениях политики, еще долгое время понимала ситуацию так: мы жили "под панами", под "под панами" же и остались жить. Тем более, привычное польское воздействие (как и привычный гнет) до поры до времени оставалось тем же. Дело в том, что Екатерина II не ставила цели мгновенного искоренения польских влияний: напротив, первоначально самодержавие усиленно вербовало сторонников среди крупной шляхты. С этой целью ее части, присягнувшей на верность Екатерине, а также горожанам давались те же права, что и российским дворянам и мещанам. Екатерина "оставила за нею [шляхтой] даже право винокурения, что резко противоречило великорусским порядкам, где это право принадлежало только казне и приносило ей большой доход" [157, с. 281]. Среди дарованных свобод декларировалась и свобода вероисповедания… Увы, как это всегда бывает со свободой, данной "сверху", она лишь декларировалась. По этому поводу З. Шибека приводит выразительную цитату из письма императрицы князю А.А. Вяземскому: "Нарушать привилегии их все сразу очень непристойно было бы" [164, с. 93]. То есть ясно, что нарушать привилегии, в принципе-то надо, но не сейчас, а позже… 61 Впрочем, самый многочисленный слой населения – крестьянство – и прежде-то не был избалован привилегиями. Что касается языка администрации и судопроизводства, то ни в административные, ни в с судебные органы крестьянству хода не было. Потому крестьяне отнеслись к вхождению Беларуси в состав империи раводушно, продолжая жить обособленной от "верхов" жизнью и реализуя свое этнокультурное своеобразие в фольклоре и в повседневной культуре. Рисунки: Типы белорусов вт. пол. 19 в. – Шпилевский, с. 219 Усадьба 19 в. – Белорусы, с. 103. Нельзя сказать, чтобы крестьянин совсем не понимал, при каком правлении он живет (в белорусских сказках встречается образ "Кацярыны" – и почти всегда негативный), но, вероятно, нововведения он воспринимал как очередные всплески горя в его незавидной жизни. Впрочем, появились и нововведения. Самое мучительное из них – рекрутчина. Рекрутчина и крепостничество. Если в ВКЛ и Речи Посполитой регулярное войско набиралось, в основном, из шляхты (кадровая армия), то уже за первый набор из белорусских деревень было рекрутировано 14.750 человек. На пожизненную (до 1793 г.), а затем на многолетнюю (двадцать пять, а с 1834 г. – двадцать лет) мог попасть не только юноша, но и семейный человек: верхний возростной предел колебался от тридцати до тридцати пяти лет. Отсюда – новый жанр белорусского фольклора – рекрутские песни. Основные темы рекрутских песен (первым их выявил Е. Карский) – это поступление на службу и отправление в поход; снаряжение новобранца, сопровождающееся плачем родных; материнское проклятие сыну, отъезжающему на войну против ее воли; тяготы солдатской службы; смерть солдата на поле боя. Дорога в солдаты воспринималась как каторга ("ўся калодамi завалена, калодамi рэкруцкiмi"). При этом рекрутство понимается не в связи с государственным указом (о котором крестьяне, вероятно, и не знали), а как очередная инициатива ненавистного пана: отсюда мотив страшных кар, насылаемых на его голову ("штоб сабакi разарвалi", "штоб па пану ваўкi вылi, бадай пана громы ўбiлi"). Однако, призывов к мятежу ни против пана, ни против "Кацярыны" в песнях и сказках того времени нет. Рисунок: Карский – Этнография Беларуси, с. 251; Белорусы, с. 139. Второй удар – еще большее закабаление крестьян. Дело в том, что политика Екатерины, да и в целом существовавший в Российской империи строй, в те годы дали шляхте даже некоторое преимущество, в котором она была ограничена в ВКЛ и в Речи Посполитой, а именно – усиление власти над крестьянством. Прежде, в период 62 сравнительной независимости шляхты от государства в ВКЛ и в Речи Посполитой, пан должен был сам управляться с бунтами и побегами сельчан. Подчас ему это удавалось, подчас – нет. Это зависело от степени его богатства, а значит, и вооруженной силы. Потому небогатая шляхта была даже вынуждена считаться с народными обычаями – например, с праздниками, когда крестьяне не выходили на работу. При Екатерине дворянин быстро почувствовал за собою огромную силу крепостнического государства, готового прийти ему на помощь в расправе над мужиками. Конфессиональные изменения. Третьим ударом – впрочем, уже печально знакомым по прежнему периоду истории – стали конфессиональные пертурбации. Уже в годы правления Екатерины на белорусскую землю было прислано более 700 православных священников и началось преобразование униатских церквей в православные храмы. В соответствии с указом императрицы от 1794 г. за два года было перекрещено около полутора миллионов униатов. Примечательно, что значительная их часть (прежде всего, образованные слои общества) обращалась не к православию, а к еще дозволенному католицизму. Добавлю: когда Павел I разрешил возвращение униатов к своей вере, множество шляхтичей и горожан использовало такую возможность. Так было вплоть до правления Николая I, который поставил своей целью полное "возвращение единого русского народа в лоно православной церкви". Рисунок: Медаль в честь слияния православной и униатской церкви 1839 г. ("Белоруссия и Литва", с. 335) Читатель может себе представить, какую сумятицу все эти трансформации – рекрутчина, крепостничество, очередная смена конфессии (причем, за короткое время – с 1772 по 1830-е годы, т.е. за срок жизни одного человека) – породили в сознании рядового человека… И если шляхта и грамотные горожане, по крайней мере, понимали причины таких изменений, то реакция крестьянства выражалась в двух моделях поведения. Первая – побеги (почти всегда безуспешные и всегда жестоко наказуемые), вторая – тенденция к максимальной герметизации (закрытости) повседневной жизни и локально-местной самоидентификации (на основе связи с землей и выработки особого трудового кодекса). "Тутэйшасць" как модель идентичности. Локально-местная идентичность – "тутэйшасць" – проверенное спасение от глобальных изменений. Впрочем, здесь следует сделать примечание. То, что мы называем "тутэйшасцю", не является специфически белорусской чертой: так, например, эстонцы долгие столетия называли себя "маарахвас", что означает "народ земли", а этноним "эсты" приняли примерно в те же годы, что и мы – этноним "белорусы". В принципе практически любое крестьянство до периода модерна 63 (а значит, до распространения национально-культурного проекта на массы) воспринимает себя как "местных", "здешних", связанных с землей. В белорусском случае проблема в том, что "тутэйшасць" в течение истории приобретала новые смыслы, видоизменялась (достаточно хотя бы сравнить стихотворение Янки Купалы "Мужык" и его же пьесу "Тутэйшыя") и в определенном контексте осталась среди ментальных характеристик вплоть до последних десятилетий – причем, уже далеко не только в традиционном смысле привязанности к родному клочку земли. Но мы забежали вперед. В те годы, о которых ведется речь, понятие "тутэйшыя" играло сходную роль с униатским понятием "белорусцы": только если последнее отделяло себя от русских и поляков по принципу веры, то самоназвание "тутэйшыя" – по принципу сословия и местожительства. Говоря: "Я тутэйшы", крестьянин одновременно отличал себя и от панов-поляков, и от новых имперских веяний, которые он чувствовал "на собственной шкуре". Не имея возможности идентификации с государственным целым – во-первых, постоянно менявшимся, а во-вторых, предельно далеким (как известно, "до бога высоко, до царя далеко"), он самоидентифицировал себя с тем единственно непоколебимым, что было искони – с родной землей, окружающей его от колыбели до гроба. Отсюда – недоверие не только к панам, но и к тем, кто работает не на земле (мещанам, торговцам и др.), а также – пусть и в меньшей степени – к населению соседних регионов, которые не воспринимались как "свои", т.к. пространство их "малой родины", ряд обычаев, диалект отличалось от собственных. Отсюда – рассказы о "глупых" чужих деревнях, встречающиеся и у А. Сержпутовского, и у П. Шейна, и у Е. Карского. Рисунок: Моя деревня – Шагал, Графика, 46. Итак, говорить о выработке основ коллективного самосознания "единого народа" в те годы не приходится: крестьянин жил в мире земли и труда, обособленном от "миров" других социальных групп; потерявшие Магдебургское право города трещали под властью чиновников и под бременем; крупная шляхта жила вполне недурно в отличие от мелкой (безземельной) – арендаторов и управляющих в богатых усадьбах, тех, кого народ называл "акамонамі" и к кому относился с недоброй насмешкой. Проект Огинского. Впрочем, были и крупные шляхтичи, недовольные таким положением. Здесь показательна попытка Миxaила (Клeoфacа) Огинского. Рисунок: Михаил Клеофас Огинский (желательно!) http://www.calend.ru/person/2905/ В преддверии наполеоновского похода этот дипломат, пользовавшийся личным влиянием на Александра I, предложил монарху превентивную меру в виде создания 64 Великого Герцогства Литовского (в составе Гродненской, Виленской, Минской, Витебской, Могилевской, Киевской, Подольской губерний со столицей в Вильне). По замыслу дипломата, герцогство должно было оставаться российской провинцией, но при этом обрести некоторую самостоятельность. Предполагалось, что в результате создания такого "государства в государстве" и образованные люди, и благодарные крестьяне будут более искренне содействовать России в предстоящей войне с Наполеоном. Ныне существует три точки зрения на историю переговоров Александра и Огинского. Первая оценивает действия Огинского как попытку воскрешения былого государства – пусть и на правах саттелита империи, но, по крайней мере, как автономии. Вторая, основываясь на том, что Огинский предлагал Александру принять титул Польского короля (тот, к слову, не возражал), понимает проект дипломата лишь как стремление усилить российские позиции в предстоящей войне. Известно, что к этому моменту шляхта была наэлектризована ожиданиями, связанными с походом Наполеона: по свидетельству Сегюра, Наполеон обещал "устроить здесь Польшу". Эти слова знаменитый историк-белорусовед А. Киркор трактует так: "... не подлежит сомнению, что Наполеон, произнося эти слова, имел в виду эксплоатацию Польши, т.е. – из населявших Белоруссию поляков извлечь наиболее пользы, сделать из них слепых исполнителей своей воли" [159, с. 311]. Тем не менее, значительная часть шляхты ожидала Наполеона как спасителя. Сторонники третьей точки зрения предполагают, что Огинский пытался лавировать между российским троном и герцогством Варшавским, исходя из личных интересов. Вероятно, истина посередине: Огинский надеялся на то, что царь не упустит возможности укрепить свои, пока "виртуальные" редуты, а шляхта – хоть в таком половинчатом варианте – обретет права и вольности, о потере которых она продолжала сокрушаться. Известно, что Александр I (благосклонно относившийся к Польше и к шляхте – в большой мере благодаря министру иностранных дел и своему личному советнику Адаму Чарторыйскому) склонялся к предложениям Огинского, но с началом войны 1812 г. на этих планах был поставлен жирный крест. Рисунок: Переход армии Наполеона через Березину – Шпилевский, с. 198. Последствия войны и восстания 1830-1831 г. Последствия войны 1812 г. известны: добившись от значительной части шляхты поддержки вплоть до поставки воинских сил и провианта, Наполеон оставил за собой разграбленные поселения и дымящиеся руины. Это еще более усилило недоверие крестьянства шляхте. Отсюда – 65 печальное следствие. Даже долгие годы спустя попытки политических и культурных инноваций в Беларуси, предпринимаемые не только властями, но и – позже – интеллигенцией, нередко игнорировались массами (реже открыто, чаще – скрыто, путем пассивного саботирования "руководящих указаний" и "великих починов") или же поддерживались лишь формально. В некоторой степени – хотя сама эта "степень" варьируется – подобное недоверие по отношению к интеллигенции существует до сих пор. Что уж говорить о том времени, когда местная шляхта – как вследствие предыдущей истории, так и в результате "мягких", но весьма выразительных попыток Александра I навести мосты с Польшей – была практически полностью ополячена, и ее образ в самосознании крестьянина являлся образом "абсолютно чужого"? Это отношение сказалось на ходе восстания 1830-1831 года: крестьяне не спешили присоединиться к повстанцам, желавшим возродить Речь Посполитую в границах до 1772 г. – возможно, в силу усталости и фаталиcтических настроений, но скорее всего – вследствие нежелания менять "шило на мыло", т.е. один насильственный режим на другой. Итогом был разгром повстанческих отрядов. Часть шляхты была уничтожена (как в ходе восстания, так и после него), часть постаралась добиться прощения у Николая I и попыталась зажить прежней жизнью, часть эмигрировала… Что касается масс, то их жизнь во время и после восстания может быть описана пословицей: "паны б’юцца, а ў халопаў чубы трашчаць" – и уже в который раз… Искоренение "польского элемента" и руссификация "Северо-Западного края". Однако и у той части шляхты, что решилась жить по-прежнему, "по-прежнему" не получилось. Если и при Екатерине II и Александре I крупная шляхта на бытовом уровне могла существовать вполне комфортно (что, впрочем, не исключало ностальгии по Речи Посполитой), то при Николае I ее сравнительной автономии пришел конец. Приведу лишь несколько фактов: введение русскоязычного делопроизводства (с 1832 г.); закрытие Виленского университета (1832 г.); отнесение Белорусского учебного округа к Петербургскому; искоренение названий "Литва" и "Белоруссия" (и объединение их под официальным названием "Северо-Западный край"); отмена Статута в 1831 г. для Витебской и Могилевской, а с 1840 г. – для всех остальных западных областей. При том, что фактическое действие Статута в условиях империи было затруднено и до тех пор (так, М.В. Довнар-Запольский отмечает, что еще при правлении Александра I появлялись жалобы на неутвержение губернаторами избранных чиновников, на отстранение местных чиновников от должностей и т.д. [157, с. 308]), но все же он продолжал играть значительную символическую роль, т.е. являлся "символическим капиталом" (термин П. Бурдье). Символический капитал обладает не меньшим, а часто – 66 и большим весом, чем экономический, т.к. дает его обладателям (в нашем случае шляхте и горожанам) возможность признания и престижа. Но самое важное здесь то, что на основе этого символического капитала – норм общей правовой и политической культуры – люди (пусть лишь верхушка) осознавали себя общностью. Существенным значением обладал и язык статута, будящий культурную память о временах ВКЛ. В 1831 г. был издан указ "О разборе дворянства в западных губерниях и об упорядочивании этого рода людей", предполагающий проверку документации шляхтичей на предмет действительности их "голубо-кровного" происхождения. Эта проверка имела неожиданные последствия – и далеко не только в том смысле, которого ожидали "сильные мира сего". Но об этом несколько позже. Для наших целей придется слегка нарушить хронологию. Восстание Калиновского. Напомним еще об одной значимой вехе белорусской истории – о восстании 1863 года, вошедшем в белорусскую историографию под именем "восстания Кастуся Калиновского". История его широко известна, потому я остановлюсь лишь на некоторых "акцентах", наиболее значимых для этого периода развития белорусского этногенеза. Рисунок: Этническая территория Беларуси с 1863 по 1919 (в измерениях разных авторов) – Этнография Беларуси, 549. Согласия в элите повстанцев не было. Руководители восстания делились на две группировки – "белые" и "красные". Если "белые" выдвигали практически те же требования, что и их предшественники в начале 30-х гг. (восстановление Речи Посполитой в 1772 г.), и обращались по преимуществу к шляхте, то "красные" (а именно к ним относились Кастусь (Викентий Константин) Калиновский, В. Врублевский, Я. Домбровский, Ф. Рожанский и др.) настаивали на народно-демократическом характере восстания. Трагедия восстания состояла не только в фактическом его исходе: он был предрешен – главным образом, по причине огромных сил, брошенных на его подавление. Сыграли свою роль и разногласия "белых" и "красных" элит, а также то, что профессиональных офицеров среди повстанцев было сравнительно немного (пожалуй, самым блистательным из них был подполковник Генерального штаба С. Сераковский). В нашем контексте – этничности белорусов того времени – более всего значим следующий печальный факт. Крестьяне, среди которых Калиновский вел свою агитационную деятельность (с этой целью он и Ф. Рожанский обошли всю Гродненщину), для которых издавал первую белорусскоязычную газету – "Мужыцкую правду", писал "Ліст Яськігаспадара з-пад Вільні да мужыкоў зямлі польскай" и свой знаменитый "Ліст з-пад 67 шыбеніцы", так вот, те "мужыкі", те "дзецюкі", к которым обращался Калиновский, его призывов не услышали. Рисунок: К. Калиновский – История имперских отношений, с. 137. Можно спорить о том, почему это произошло. Некоторые исследователи (например, А. Антипенко, С. Шиптенко, А. Гронский) пишут о том, что в реальности Калиновский был настроен пропольски (доказательствами чего признают его польское происхождение и преимущественно польский язык его переписки), а белорусский язык использовал лишь в пропагандистских целях. Хороша "пропаганда" – письмо перед казнью ("Ліст з-пад шыбеніцы")! Пропаганда ценою в жизнь. Кроме того, вряд ли крестьяне знали о происхождении Калиновского, а также об особенностях его личной переписки. Дело проще – и грустнее. "Яська-гаспадар" Калиновский и его друзья и соратники были им чужды уже по той причине, что принадлежали к "панам": вели себя "не так", отличались по своим привычкам, говорили "не то" – пусть даже и на "мужыцкай мове". А. Богданович давал провалу восстания такое объяснение: "Крестьяне ясно видели или чутьем угадывали, что это движение прежде всего классовое, а потом – национальное. Кто формировал отряды или "банды", как их называли царские власти? Помещики, вчерашние владельцы крепостных душ. Из кого комплектовались отряды? Из тех же помещиков, мелкой шляхты и дворни, т.е. "подпанков" и "панят", – вчерашних непосредственных и злейших врагов крестьянства, их самых жестоких притеснителей… Среди крестьян ходили слухи, что движение имеет целью восстановление крепостной зависимости" [149, с. 53]. И хотя ситуация здесь несколько огрублена, но, вероятно, некоторое зерно истины в таком объяснении есть. Рисунок: А. Богданович – Белорусы, с. 138-139. Увы, сами "мужыкі" не оставили – да и не могли оставить – прямых свидетельств о причинах неприятия идей Калиновского и его сподвижников. Однако остались косвенные – сам крестьянский менталитет того (да и более позднего) времени, отраженный в фольклоре: так, при исследовании белорусских сказок становится очевидным, что даже собственный "ученый" сын крестьянина ("скубэнт") уже воспринимается как "не вполне свой", а то и как "вполне чужой". Что уж говорить о восприятии прекраснодушных идей "паничей"… Добавим и следующий немалозначащий факт: идеям будущего со стороны повстанцев (земля, свобода, отсутствие барщины и оброка, справедливый суд, униатство как "белорусская вера" и др.) был быстро противопоставлен и реализован противовес со 68 стороны властей: так, в марте 1863 года был издан указ Александра II, отменяющий обязанности крестьян в отношении помещиков, а также предполагающий увеличение крестьянских наделов, снижение платежей за них на 20%, передачу участков восставших шляхтичей крестьянам и т.п. На тот момент крестьян мужского пола было 1.870.184 человека [161, с. 102]. А поскольку среди повстанцев крестьян было лишь порядка 18 %, т.е. менее 14.000 человек [168, с. 137], [164, с. 147], то это менее 1/8 от всего крестьянского населения белорусских и литовских земель. Основную массу восставших составляли шляхтичи (по преимуществу мелкие и безземельные), студенческая молодежь, чиновничество и мещане. Менталитет крестьянского населения белорусских земель. Итак, первая реальная попытка компромисса между шляхтой и крестьянством провалилась. Помимо объективных факторов немалую (а на мой взгляд, и вовсе первостепенную) роль здесь играл сложившийся к этому моменту менталитет крестьянского населения "СевероЗападного края", включающий следующие характеристики: Самоидентификация себя на бытово-психологическом уровне как особого социально-этнического целого –"мужиков-белорусов" (по более позднему выражению Я.Купалы). "Тутэйшасць" как глубинная привязанность к "малой родине". Если в предыдущие века она играла, скорее, позитивную роль отделения себя и от поляков и от русских, то в эпоху начала европейского нациостроительства она обратилась своей другой стороной – социально-политической и национальной (в широком смысле слова) индифферентностью. Более того, это качество делило группы население разных местностей по принципу "анклавов": в самосознании крестьян одного региона соседи из другого представлялись – в большей или меньшей мере – чужими, во всяком случае, не вполне "своими". Симбиоз двух, казалось бы, противоречащих друг другу качеств – жизнестойкости и покорности обстоятельствам, фатализма (примечательно в этом смысле название поэмы Ф.Богушевича "Кепска будзе"). Причина этого симбиоза – в долготерпении белорусов, являвшимся фундаментом обеих характеристик. Упорство и трудолюбие белорусов. Среди восточнославянских народов именно белорусы, по описаниям как ученых, так и сторонних наблюдателей, отличались наибольшим упорством в повседневном труде, привычкой добиваться успехов собственными силами и стараниями. 69 Часто пассивное по форме, но стойкое неприятие перемен, даже если они (по виду или даже по сущности) предполагали улучшение жизни в будущем. Здесь, безусловно, играл свою роль страх потерять все нажитое – ради миражей (прагматизм). Объективная причина этого в том, что от исторических трансформаций белорусское крестьянство практически никогда и ничего не выигрывало. Недоверие проповедям (в широком смысле слова), агитации и в целом предложениям со стороны "внешних" людей – шляхты, интеллигенции, горожан и т.д. Слабая выраженность личной и коллективной инициативы, связанная и с долготерпением народа, и с исторически сформированным недоверием к крайностям, и с традиционным (свойственным всем аграрным общностям) консерватизмом. Терпимость и толерантность. Это качество еще со времен ВКЛ отличает белорусов как в личных отношениях, так и в отношении к другим народам, конфессиям и идейно-политическим убеждениям. В то же время терпимость нередко переходила (и до сих пор переходит) в общественный конформизм. Идеал равенства, присущий всем "культурам бедности" и в то же время недоверие большим искусственно созданным коллективам, руководимых некой глобальной идеей. При сохранении в массах народной культуры и языка – упрочившаяся в XIX веке тенденция к заниженной самооценке, что стало тягчайшим фактором, мешающим оформлению национально-культурной самоидентификации. Шляхта же вплоть до второй половины XIX в. в массе придерживалась не только пропольских настроений, но и полонизированной "картины мира". Рисунок: Минская аристократка – З.В. Шыбека, С.Ф. Шыбека, с. 75. Новый виток руссификации в XIX веке. Если "зажим гаек" после восстания 1831 г. задел белорусов "по касательной", поскольку носил, главным образом, противопольский характер, то политика правительства после восстания К. Калиновского была направлена уже не только против поляков, но и против белорусов. Прежде всего, российские влияния стали насаждаться путем образования: так, директорами учебных заведений стали активно назначать выходцев из России, в качестве стимула для 70 переселения предлагая им значительно большее жалование. По этому же принципу назначались и чиновники. М. Довнар-Запольский специально отмечал, что добровольно на эту беспокойную территорию переезжали лишь самые бездарные и неумелые, надеющиеся на перемену участи, когда все другие меры были уже испробованы. С 1864 г. языком не просто учебного процесса, но и даже неформальной беседы в стенах учебных заведений стал исключительно русский, причем запрет на польский и белорусский языки был вполне гласным: его озвучил циркуляр министерства просвещения. Расширилось число русскоязычных церковно-приходских школ. Можно говорить о том, что города того времени были полиэтническими, но при этом городского населения, которое расценивало бы себя как белорусов, в них было немного. Рисунки: Троицкий переулок в Минске (рисунок) – З.В. Шыбека, С.Ф. Шыбека, с. 13. Река Свислочь (рис. Я. Дроздовича) –З.В. Шыбека, С.Ф. Шыбека, 125 Причины этого – и последствия массового переселения горожан в деревни в результате войн, и трансформация этничности у части образованного населения, принимающей русскую идентификацию как более престижную. Определенную роль сыграло и изменение "черты оседлости": белорусские города были немногими в империи, где было разрешено селиться евреям, которых насильственно сгоняли с обжитых ранее мест (вспомним хотя бы коллизию романа Шолом-Алейхема "Тевьемолочник"). Поскольку в царской России евреям было запрещено владеть землей, они становились горожанами. В результате этих и ряда других причин к 1897 г. в соответствии с материалами Первой всероссийской переписи только в редких случаях белорусы в городах превышали количеством 20%. Белорусское Возрождение или национально-культурное проектирование? В преддверии Белорусского Возрождения. Как в такой ситуации стал возможен культурный феномен, получивший название "Белорусского Возрождения"? По этому поводу до сих пор наиболее распространены примордиалистские воззрения: этнос рос себе, рос, да и превратился в нацию. Однако существуют несколько "но": во-первых, как свидетельствует история, далеко не всякий этнос превращается в нацию; во-вторых, это "превращение" никогда не бывает автоматическим (для его реализации необходимо создание нациокультурного проекта со стороны элит общества, а затем его принятие со стороны масс); в-третьих, этнос не "перескакивает" в нацию одним рывком – нация создается столетиями. Потому говоря о тех годах, можно отмечать лишь успешное 71 начало процесса этнокультурной консолидации. Удивительно другое – каким образом такая консолидация вообще могла состояться? Напомню некоторые характеристики ситуации, сложившейся на белорусских землях к тому времени: шаги правительства по неуклонной ассимиляции белорусских территорий; резкое недоверие сельчан по отношению к шляхте и в определенной степени – к горожанам. Так, Н. Улащик в своих воспоминаниях "Была такая вёска" отмечает, что городские жители воспринимались крестьянами, как бездельники ("гарадскія гультаі") и вызывали у них насмешку [197, с. 112]; презрение дворянства к "мужикам" – "быдлу", "гаўяду" (так, судя по материалам фольклора, сами крестьяне оценивали отношение к себе со стороны панов); использование разных языков разными слоями населения, а также ситуативность использования того или другого языка (например, русского – в школе или на службе, а белорусского или польского – дома). Сюда следует добавить еще и различия в диалектах деревень; взаимная подозрительность жителей разных регионов и даже деревень друг к другу, выразившая в фольклоре (байках, анекдотах, сказках). В связи с этим Е.Ф.Карский отмечал, что "особенно подвергаются насмешкам жители Могилевской губернии, потомки древних радимичей" [166, с. 543]. На основе чего в таких условиях могла возникнуть этническая консолидация? Каким образом люди из разных слоев и из разных мест могли понять друг друга и включить себя в "воображаемое сообщество"? Думается, здесь сыграли роль несколько факторов, подтолкнувших их к согласию. Познание "других" и "себя": к преодолению "тутэйшасцi". Судя по переписи 1897 г., 54,1% населения шести белорусско-литовских губерний признали себя белорусами (5408.0 тысяч человек) [192, с. 331]. Большая часть из них была сельчанами. Что означало для этих людей самоназвание "белорус"? Поскольку прямых ответов на этот вопрос нет (увы, в те годы не проводилось опросов общественного мнения, как это принято сейчас), то можно лишь строить предположения о причинах столь неожиданного – после столетий ассимилятивных усилий – самоопределения. Вероятно, формально белорусами звало себя население, которое говорило "на гаворке", сохранило историческую память об униатстве как о "белорусской вере", а также, возможно, о пребывании в Белорусском генерал-губернаторстве, которое перестало существовать лишь в 1856 году. 72 Однако можно предположить, что сознательно белорусами звали себя, в первую очередь, люди грамотные, которые имели представление об административном делении, четко понимали отличие белорусского от польского и русского языков и дифференциировали собственный стиль жизни от стиля жизни русских и поляков. Если провести параллель между "тутэйшымi" и "беларусамi" (хотя "тутэйшасць" и в те годы, да и гораздо позже, по-прежнему оставалась идентификационным маркером), то это отличие качественное. "Тутэйшы" – крестьянин, впаянный в ландшафт "роднага кута", живущий в рамках строгого трудового кодекса и имеющий весьма малое представление о мире, внешнем по отношению к его малой родине. "Беларус" – человек с развитым самосознанием, умевший составлять свое мнение о жизни в других, порой очень отдаленных местах, а значит – представления о внешнем мире и о своеобразии собственной группы. Самый значимый фактор здесь – грамотность. Именно она дает возможность причаститься одного из важнейших параметров нации, "печатного капитализма" (Б.Андерсон), т.е. идей, объединяющих людей в воображаемое сообщество посредством печати. Судя по замечательным мемуарам Н. Улащика о селе Вицьковщина, к началу ХХ в. грамотными были практически все мужчины и половина женщин: крестьяне пользовались библиотекой Станишевского в Минске, читали и близко к сердцу принимали перепитии русских и зарубежных романов (Улащик называет среди них "Анну Каренину", "Робинзона Крузо", "Принца и нищего", "Хижину дяди Тома" и "Приключения Тома Сойера"), увлекались журналами "Нива" и "Вокруг света". Эти люди обладали более широким кругозором, чем предшествующие поколения: они умели сопоставлять особенности своей и других культур и делать выводы. Так перед человеком открывался мир и – пусть только в его сознании – преодолевалась локальная замкнутость деревень, а также отрыв деревни от города. Впрочем, "в сознании" – это совсем немало. Что такое этническое самосознание (этничность) – если не компонент человеческого сознания? Рисунки: Сержпутовский – Этнография Беларуси 459; Белорусы, с. 140. Улащик – Улашчык, первая фотография на вкладыше. Известно, что человек представляющий себе своеобразие "других" – не только "ближних", с кем ему приходилось прямо общаться, (русских, поляков, литовцев, евреев, татар и др.), но и "дальних" (в лице героев книг, журнальных и газетных публикаций) – гораздо успешнее самоидентифицируется со своими соотечественниками. Я уже 73 отмечала тот бесспорный для современных психологии и этнологии факт, что сперва создается представление о "других", а уж затем о своей собственной общности. В то же время можно говорить и о своего рода комплексе "этнической неполноценности", испытываемом крестьянством. Так, в начале ХХ века крестьянин, в руки которому попался сборник сказок Сержпутовского, "стремился показать, что он человек "грамотный", или, по-современному, "культурный" и считал, что язык этой книжки достоин насмешки" [197, с. 111]. Рисунок: Сержпутовский – Этнография Беларуси 459; или Белорусы, с. 140 . Однако эта ситуация изменилась – и достаточно быстро. Здесь следует говорить о о сближении двух, еще пятьдесят лет назад фатально разъединенных сословий. Крестьяне и шляхта: поиск общего языка. В конце XIX в. наметился, а потом и развился процесс сближения шляхты и крестьянства. В вопросе об объективных факторах такого сближения мы сталкиваемся с Парадоксом пятым: шаги правительства, направленные на искоренение враждебного элемента, вели к усилению контакта и взаимопонимания между шляхтой и крестьянством. Вернемся на несколько десятилетий назад. Тогда, в силу указа Николая I (1831 г.) шляхтичи, не представившие оригинальных (древних, и значит, истертых до неузнаваемости или утерянных за века) грамот о происхождении, исключались из дворян и переводились в сословие однодворцев. Образованные, высококультурные люди (а было их около 50.000 человек!) зажили крестьянской жизнью бок о бок с "сялянами". За несколько десятилетий в этих семьях был воспитан особый тип народного интеллигента (например, из однодворцев происходил Д. Луцевич, отец Янки Купалы). К народной интеллигенции медленно, но верно прибивались выходцы из грамотных крестьян. Михал Ромер, один из самых проницательных деятелей "краёвого" движения, назвал эту группу "полуинтеллигенцией", но вовсе не в отрицательном смысле, который свойственен этому слову сейчас: "Среди студенческой молодежи, – писал он, – много тех, кому симпатично белорусское движение, но большая часть потом отходит от него. Зато к движению притягиваются элементы из т.н. "полуинтеллигенции". Среди белорусских деятелей много самоучек из народа, много народных учителей, работников кооперативов, вообще тех, кто вышел из народа, но сохранил с ним контакт <…>. Белорусские деятели создают центры пропаганды в деревнях и местечках, развивают издание популярной литературы и печати, кое-где имеют своих активистов среди крестьян, иногда устраивают любительские представления и т.д. Во главе движения находится популярный еженедельник "Наша Ніва" [Цит. по: 192, с. 337]. 74 Второй, пусть и не такой выраженный, но тоже объективный фактор таков: государство железной рукою искореняя польские влияния в городах, подчас добивалось неожиданного результата: многие горожане, вынужденные отказаться от знакомого польского, обратились к языку и культуре отцов и дедов. Но не менее значимую роль сыграл и субъективный фактор – как, впрочем, и для большинства славянских народов того времени (поляков, чехов, сербов и ряда др.) – а именно европейский романтизм, проникший в студенческую и гуманитарную среду. Одна из самых ярких тенденций романтизма – тенденция укоренения, предполагающая поиск истоков творчества в недрах народной культуры (явно выраженная у Э.Т.А. Гофмана, Ш. Перро, братьев Гримм, братьев Шлегелей и др.). Она характеризовалась восприятием народа как хранителя извечной мудрости, фольклора как основы профессионального творчества, идеализации деревни и крестьян. Отсюда – интерес к крестьянскому быту, обрядам и к культуре деревни в целом. Во многом именно благодаря белорусским "романтикам" в течение нескольких десятилетий отечественная культура утратила клеймо "мужыцкай": появились изучавшие ее этнографы, пишущие на белорусском языке поэты, собиратели национальных костюмов, керамики, гобеленов, первые белорусские газеты, издательства и наконец – белорусское учительство, обучавшее детей на "несанкционированном" языке. Деятельность этнографов и фольклористов. В целом эта деятельность началась гораздо ранее, чем в описываемый период. Еще в 1822 г. были изданы краткое описание и словарь белорусского наречия К.Калайдовича, а в 50-е годы начала работать Виленская Археологическая комиссия под руководством Е.Тышкевича, куда входили А.Киркор, Ю.Крашевский, М.Малиновский, Т.Нарбут и др.). Однако в первой половине столетия большинство исследователей, даже из тех, кто признавал самобытность белорусского этноса, считало, что эта культура безвозвратно погибла, а ее проявления является своего рода атавизмом. Например, К.Калайдович писал о том, что в 20-х годы XIX в. белорусский язык, да и то в варианте диалекта, бытует лишь в Могилевской и Витебской губерниях и отчасти на Смоленщине. Известна также фраза А.Киркора: "Белорусскому народу больше не зазвенит его родной язык, и сам он, как народ, пропал" [180, с. 28]. Как показало время, замечательный краевед ошибался: если перефразировать аформизм Марка Твена, слухи о смерти белорусского народа были сильно преувеличены. Рисунок: А. Киркор – Этнография Беларуси, с. 260. 75 В 1867 г. в Вильно открылся Северо-Западный отдел Русского географического общества, членами которого были М. Дмитриев, П. Шейн, А. Сементовский, Ю. Крачковский, И. Носович (на тот момент уже завершавший свой знаменитый "Словарь белорусского наречия"), Е. Романов, Н. Никифоровский и др. Немаловажно, что опубликованные ими краеведческие труды и фольклорно-этнографические сборники в самих своих названиях имели слово "белорусский": так, публикации И.Носовича имели заглавия "Белорусские песни", "Белорусские загадки", "Белорусские пословицы" – и это в период, когда этноним был под негласным запретом! Рисунки: Шейн –Этнография Беларуси, 543; Белорусы, с. 137 (лучше). Романов – Белорусы, с. 138-139. Кстати, этнографический подход был характерен и для профессиональной белорусской литературы XIX в. Здесь романтизм принял несколько иной характер, нежели в Западной Европе, что видно уже по поэмам "Энеiда навыварат" и "Тарас на Парнасе". Это романтизм, опосредованный ментальным белорусским здравым смыслом, по словам М. Горецкого, "здоровый романтизм" [154, с. 166]. Рисунок: Горецкий М. – История имперских отношений, с. 389; в кн.: Браты Гарэцкія – на вкладыше или фото 1928 г. или последнее фото 1937 г. Роль интеллигенции в конструировании национального самосознания. Еще в 1908 г. в статье "К вопросу об интеллигенции и нации" Н.А. Бердяев писал о том, что нация немыслима без выразителей своего высшего морального сознания, интеллекта и правдоискательства, т.е. без интеллигенции. Особенно важно, что новая идентификация, с которой начинает отсчет белорусская "новорожденная" интеллигенция, носила характер намеренный: так, Ф. Богушевич, как и Я.Купала, начинали писать по-польски, Я.Колас и М.Богданович – порусски, а к белорусскоязычному творчеству пришли сознательно. Эта осознанность, намеренность чрезвычайно значима: она указывает на то, что речь идет уже не об "этническом бессознательном", а о сознательно конструируемой, намеренно созидаемой этничности. Во все времена создание такого конструкта было делом интеллигенции. Рисунки: М. Богданович – Запрудник, с.76. Якуб Колас – Сучасны беларускі партрэт, с. 24, 49 (лучше на 49). Янка Купала – Сучасны беларускі партрэт, с. 16, 48 (лучше на 48). Почему так велика роль интеллигенции? Во-первых, эта группа является связующим звеном между "высоким" (элитарным) и "низким" (традиционным, 76 народным) регистрами культуры. Во-вторых, "в руках" интеллигенции срабатывают такие необходимые зрелой культуре инструменты, как образование и печать. Именно благодаря им и распространяется национально-культурный проект – пусть и в тех первичных очертаниях, в которых он создавался у целого ряда славянских народов в конце XIX – начале ХХ вв. И наконец, в-третьих, интеллигент – всегда посредник, "переводчик" текстов других культур на свой "культурный язык" и собственных текстов на их "культурные языки". Я не имею в виду перевод только в его прямой функции (хотя и в прямой тоже: не случайно именно на страницах "Нашай Нівы" крестьянин и горожанин-ремесленник впервые получили возможность прочитать произведения Чехова, Толстого, Мицкевича, Брюсова, Шевченко, Ожешко, Жеромского побелорусски). Но слово "перевод" подразумевает и более широкое значение. Я имею в виду диалог культур – трансляцию культурных достижений других народов на собственную почву, а также обратную трансляцию. Интеллигент делает свою культуру частью мировой, распространяет ее за пределы локальной территории (и даже отдельного государства), популяризирует ее не только на элитарном, но и на массовом уровне. И вовсе не случайно в начале ХХ в. впервые начали печататься белорусскоязычные почтовые открытки, пропагандирующие белорусские пейзажи, типы белорусской внешности, имена и портреты выдающихся деятелей белорусской культуры – Ф.Богушевича, Я.Лучины, В.Дунина-Мартинкевича и др. Если в 1908 г. на Первой выставке произведений печати, изданных в Российской империи, из 23852 наименований на 44 языках было представлено лишь 5 книг по-белорусски, то в 1909 г. из 26138 –уже 7, а в 1910 –14 [167, с.146-150]. Да, увеличение небольшое, но зримое… Итак, именно в лице разночинной интеллигенции Беларусь обрела то, чего ей недоставало прежде, – собственный культурный слой "носителей личностного сознания" (по удачному выражению С.В.Лурье). Носители личностного сознания в отличие от носителей сознания традиционного – это люди, в критический момент определяющие иерархию ценностей, без которой культура никнет, существует в подполье, а впоследствии истаивает, ассимилируясь с более сильной. За несколько десятков лет Беларусь реанимировала и/или приобрела и литературный язык, и профессиональные литературу, театр, этнографию, и, главное – помимо сугубо пограничных районов – единую самоидентификацию населения. Более того, в эти годы белорусы впервые в истории обретают национальную идею как таковую. Рисунок: Труппа Буйницкого –З.В. Шыбека, С.Ф. Шыбека, 169. 77 Нередко отечественные исследователи находят зачатки современной национальной идеи гораздо раньше – в творчестве Ф.Скорины, В.Тяпинского, С.Будного, Л.Сапеги и других деятелей ренессансного и реформационного толка. Однако возникает вопрос: правомерно ли говорить о национальной идее в современном ее понимании в тот период, когда в Европе еще не сложились нации (достаточно напомнить читателю труды Хобсбаума, Андерсона, Геллнера – наиболее авторитетных специалистов по этой проблеме)? Скорее, можно говорить об реформационных идеях (народная церковь – народная культура – народный язык), явившихся первым шагом к будущей национальной идее, что само по себе немало. Нельзя сказать, чтобы к описываемому периоду ростки этих давнишних идей белорусских гуманистов полностью зачахли или остались только в фольклорном виде. Например, XIX в. ознаменовался появлением двух искрометных поэм, написанных побелорусски –"Энеiда навыварат" и "Тарас на Парнасе". Однако… поэмы были анонимными. Созданный в гоголевской традиции фантазийный роман в рассказах "Шляхціч Завальня, альбо Беларусь у фантастычных апавяданнях" Я. Борщевского, фантасмагорический роман-мениппея о Беларуси, основанный на отечественном фольклоре, был написан по-польски. Автор объяснял это тем, что в польском варианте роман станет достоянием большего количества читателей, чем если бы был написан побелорусски. Наконец, классик белорусской литературы В. Дунин-Мартинкевич, переводя "Пана Тадеуша" А. Мицкевича на "родную мову", чуть не извиняясь пишет автору, что обрядил его творение в "мужицкую сермягу". Потому лишь о творчестве белорусской разночинной интеллигенции рубежа веков мы можем говорить как о первом истинном культурном слое, укрепившем ставший к этому времени достаточно шатким фундамент этноса и начавшем закладывать новый нациокультурный фундамент. Рисунки: Борщевский – Этнография Беларуси, 51. Дунин-Мартинкевич – История имперских отношений, с. 131. Однако – и это важно, – белорусская идея в то время имела специфические отличительные качества. Специфика белорусской идеи на рубеже XIX-ХХ столетий. Здесь нас поджидает очередной парадокс – Парадокс шестой – тот факт, что национальная идея белорусов строилась далеко – и даже не в первую очередь – не на идее этнической принадлежности. Впрочем, при ближайшем рассмотрении парадокс оказывается вовсе не парадоксом. Вспомним классическое определение Э.Геллнера: национальная идея (большинство современных зарубежных исследователей называет ее "национализм") – 78 это идея единства политических (государственных) и культурных границ. Но если в течение многих столетий социум полиэтничен; если территория, где этот социум проживает, постоянно переходит "из рук в руки"; если о политической автономии этносов не может быть и речи – тогда такое единство остается под большим вопросом, и чисто этнических скреп (язык, обрядность, фольклор и т.д.) становится недостаточно. Единственно возможный путь в таких условиях (сегодня бы его назвали "мультикультурным") избрала демократическая интеллигенция: "Край с пятью нациями только тогда сможет развиваться и богатеть, когда каждая нация будет наряду с другой трудиться для его пользы. Когда же вместо этого все мы будем между собой бороться, когда свои творческие силы истратим на ругань и грызню без всякой пользы, так не поблагодарят нас наши дети и внуки, живя в такой же темноте и бедности, как мы сами" [192, с. 350]. Рисунок: Антон Луцкевич – История имперских отношений, с. 180 или "Братья Луцкевичи" в кн.: Смолянчук "Паміж карёвасцю…", с. 354. Этот призыв одного из белорусских "краёвцев" А. Луцкевича по сути перекликается с мнением философа Вл. Соловьева и с его требованиями уже к "русской идее": "Нельзя безнаказанно написать на своем знамени свободу славянских и других народов, отнимая в то же время национальную свободу у поляков, религиозную свободу у униатов и русских раскольников, гражданские права у евреев. Не в таком состоянии, с устами загражденными, с завязанными глазами и с душой, раздираемой противоречиями и угрызениями совести, надлежит идти России на свое историческое дело" [194, с. 350]. Созвучие идей двух мыслителей неудивительно: и белорусская, и русская интеллигенция в своем самомознании шагнули гораздо дальше не только масс и правящих кругов, но и многих наших современников. Тот же Луцкевич отмечал, что в Беларуси есть много образованных, культурных поляков, да и русских, которые уже сжились с нашим краем и работают для него. Сюда можно добавить и украинцев, и евреев, и литовцев. Таким образом, первое и главное в национальном проекте, создаваемом белорусской интеллигенцией в начале ХХ века, – на удивление современная тенденция к мультикультурности. Вторую тенденцию можно назвать "правом на культуру". Ее ярко выразил "мужицкий адвокат" Ф. Богушевич. Подчас удивляет неблагодарность некоторых "ревнителей культуры" по отношению к человеку, который одним из первых открыл путь интеллигенции к народу и народа – к интеллигенции. Нас не устраивает образ 79 "хаткi" – только дворца. Но возможно ли построение "дворца" культуры без фундамента – "хаткi" Богушевича, пусть небольшой, но своей? Напомню смысл стихотворения "Мая хатка": соседи наперебой приглашают мужика в свои богатые избы, но он отказывается: Ну, дык жа адстаньце, нашто я вам трэба: Цi каб ваш хлеб есцi, цi рабiць вам хлеба? По-моему, весьма актуально… Рисунок: Богушевич – История имперских отношений, с. 159; или Запрудник, с. 76 (лучше). Оставалась ли тогда в массах "тутэйшасць" синонимом "белорусскости"? В какойто степени да. Но, во-первых, лишь в какой-то степени. Во-вторых, надо понимать, что образ "хаткi" был единственной возможностью для большой массы людей отождествить себя пусть не с автономным образованием (политические границы, по Геллнеру), на тот момент несуществующим, но – по крайней мере – с автономным народом (культурные границы). Богушевич говорит о последних. Для тех времен и той ситуации этого немало. Другой составляющей "права на культуру" является тяга к образованию, особенно проявившаяся после 1905 года. Пути его получения были не очень разнообразны: сельская школа, потом училища, например, телеграфное или учительское (затем можно было продолжить образование в учительской семинарии), школа лесничих, реальное училище и т.д. Улашчик пишет о том, что один из его односельчан выучился на летчика, второй получил образование в Варшавском университете, но подобные случаи в крестьянской среде были редкостью: такую возможность имели только зажиточные семьи, да и то – минимальный процент. Третья тенденция, о которой я уже упоминала, подтверждает тезис современных социологов и этнологов о том, что национальный проект возникает не на узкоэтнической, а на более широкой – социальной почве. С этой точки зрения, идеи "языка" и "культуры" – не столько почтенные "данности", сколько инструменты преодоления социального неравенства. Если использовать образы Я.Купалы, белорусы в конце XIX – начале ХХ в. – уже не "дурныя мужыкi" и не только "паны сахі і касы" – это те, кто хочет "людзьмі звацца", т.е. настаивает на собственном и равноправном месте среди других народов и культур. Итак, эти три тенденции – мультикультурная тенденция, тенденция права на производство и трансляцию собственной культуры (где главным достоянием понимался белорусский язык) и тенденция социальной справедливости – определяют национально- 80 культурный проект начала ХХ века. Возникает вопрос: стали ли белорусы в те времена нацией? Национальное движение или сформировавшаяся нация? Знаменитый чешский социолог и политолог Мирослав Хрох убедительно показал, что для конструирования нации необходимы следующие условия: 1) культурная память (память об общем прошлом, которая понимается как судьба народа); 2) интенсивность коммуникации (языковой, культурной, социальной); 3) концепция равенства как основы гражданского общества [202, с. 122]. Особенно важно, что эти "точки опоры" должны разделять не отдельные элитарные группы, а весь народ. Если мы зададимся вопросом, было ли это свойственно белорусам последней трети до XIX века, то будем вынуждены признать, что нет. Даже самый горячий сторонник "литвинской нации" не сможет ответить на этот вопрос положительно: если даже шляхта и разделяла эти ориентиры (скажем так, "делила" их между собой), то "мужыкi" и городские ремесленники – нет. Более того, до рубежа XIX-ХХ веков ни один из этих критериев не был четко очерчен в самосознании масс. Памяти об общем прошлом препятствовало не только отличие версий истории, принятой разными группами общества, но и то, что большая часть общества (крестьяне) существовала вообще без выраженных представлений об истории – в циклическом времени сезонного распорядка труда и досуга. Историческая память заменялась мифом и его "производной" – фольклором. Кстати, это специфика не исключительно белорусского крестьянства, а черта крестьянства как такового, во всяком случае, до эпохи "модерна", а в некоторой мере – и после ее наступления. Коммуникация (плотность социокультурных связей) между группами тоже была нарушена: социокультурные связи – не только с другими сословиями, но и между "городскими" и "деревенскими", и зачастую даже между жителями разных деревень – не были полноценными. Разрозненность социальных групп начала постепенно превозмогаться лишь благодаря деятельности интеллигенции, в частности энтузиастов "Нашай Нівы". Здесь особенно значимо то, что ныне назвали бы "обратной связью". Так, за три года от момента выхода в свет "Нашай нiвы" газета опубликовала почти тысячу корреспонденций из 489 деревень, местечек и городов Беларуси. Одновременно авторы газеты занимались и просвещением своих адресатов в областях культуры, науки, политики, быта: не случайны названия постоянных ее рубрик: "Вясковае i гарадское жыцце", "Народная асвета", "З Беларусi i Лiтвы", "З ўсiх бакоў", "Сельская гаспадарка", "Артыкулы навукова-папулярныя i артыкулы па гiсторыi i геаграфii", "Паштовая скрынка" и др. Таким образом, выполнялась основная цель газеты – консолидация 81 белорусов не только из самых дальних, "глухих" уголков, но также из Праги, Брно, Львова, Парижа и даже США. Рисунок: "Наша нiва" – Этнография Беларуси, 71. Концепция равенства была в зачаточном состоянии: до "нашанiўскага" периода речь могла вестись только о нормах установления "крестьянского" равенства (феномен "грамады", о котором я буду писать в следующем очерке) в условиях колоссального неравенства сословий и "междусобойном" равноправии шляхты. Вот оно откуда – требование Купалы – "людзьмі звацца"! Из всего этого следует, что нацией к периоду рубежа веков белорусы не стали. Скорее, речь должна идти об определенном этапе строительства нации. Я уже писала, что конструирование нации – процесс не автоматический, не линейный и не одномоментный: нации создаются веками. Этапы конструирования наций четко определил тот же Хрох, и на сегодняшний день большинством ученых они принимаются как неоспоримые. Этапы конструирования белорусской нации. Итак, первый этап, по Хроху, "фаза А". Она характеризуется "научным интересом" – этнографическим, лингвистическим, историческим – к жизни и быту народа. На белорусских землях эта фаза охватывает период с 20-х гг. XIX в. и вплоть до "нашаніўскага" периода. На уровне следующей фазы – "фазы В" – этот "культурный пакет" становится инструментом агитации со стороны национально-ориентированных групп. (Кстати, в связи с этим возможно предположить и еще одну причину провала народного восстания Калиновского: он опередил свое время. Его агитация опиралась на еще несформированный в социуме "культурный пакет"). В разных обществах эти группы различны, но, как правило, это интеллектуалы (в нашем случае – демократическая интеллигенция). Цель агитации – интеграция широких масс. Интересы таких групп "национальны" уже не в узком (культурно-этнографическом), но и в широком смысле: они включают социальный, политико-правовой, экономический аспекты. Самое важное на этой стадии, чтобы усилия групп были скоординированы с культурным опытом и картиной мира масс: "если национальные цели и лозунги, используемые агитаторами для выражения социального напряжения, действительно соответствуют непосредственному повседневному опыту, уровню грамотности и системе символов и стереотипов, принятой большинством представителей этнической группы, то достижение фазы С возможно в относительно короткое время" [202, с. 132-133]. Об особенностях фазы С в Беларуси речь впереди. Сейчас – о том, что деятельность "Нашай нiвы" (и в целом "нашаніўскі" 82 период культуры) идеально совпадает с содержанием фазы В: газета опиралась на те смыслы, ценности, затрагивала именно те "болевые точки", которые объединяли белорусов. Отсюда стала возможной мощная обратная связь, и не случайно крестьяне считали газету "своей": так, в новогоднем (1909 г.) поздравлении жителей Николаевщины коллективу редакции, особо отмечалось, что газета любима и читаема крестьянами, т.к. в ней пишут о том, чего жаждет и чем интересуется народ. К тому времени появились и другие издания, а также издательства – например, открытое в Петербурге "Загляне сонца i ў наша аконца", издавшее "Беларускi лемантар" К.Каганца, "Першае чытаньне для дзетак беларусаў" А.Тетки, "Другое чытаньне для дзяцей беларусаў" Я.Коласа), напечатанные в двух вариантах –латиницей и кириллицей. Появились издательства в Вильне и Минске. В 1910 г. В. Ластовский издает "Кароткую гісторыю Беларусі". Здесь уместно вспомнить и о коллекции И. Луцкевича (одежда, вооружение, слуцкие пояса и ковры, музыкальные инструменты и резные изделия, а также книги, монеты и т.п.), а также о других инициативах, предпринимаых "Нашай нiвай" – конкурсом женских народных одежд (1911 г.), целевой рассылкой сведений о народных промыслах –гончарном, столярном, ткачеством и т.д. В 1906 г. в Николаевщине состоялся нелегальный съезд белорусских учителей, на котором было выдвинуто требование преподавания на родном языке. Началось широкое национальнокультурное движение среди студентов учительских институтов, сельскохозяйственных школ и семинарий. Таким образом цели фазы В были достигнуты. Рисунки: Ластовский – История имперских отношений, с. 180. Тетка – Сучасны беларускі партрэт, с. 151. Как отмечал Хрох, успешность фазы В играет определяющую роль в том, чтобы состоялась следующая – Фаза С, т.е. подъем массового национального движения. Вот тут и коренится одна из сложностей белорусского национально-культурного проекта. Эта фаза развивалась вовсе не в "дистиллированных" условиях. Она началась в обстановке войны и двух революций, а продолжилась – в рамках СССР и в условиях "социалистического строительства наций" (В.И. Ленин). Вероятно, можно говорить о пролонгированной (удлиненной) фазе С, пусть с перепадами, но растянувшейся на весь советский период. Отсюда в очень и очень многом – противоречия процесса конструирования современной белорусской нации. Именно они и стали основанием для популярных воззрений на Беларусь как на самую советскую из республик СССР, а на белорусов – как на самый покорный и безропотный народ Советского Союза. Это же дало основание многим отечественным авторам (особенно в 1990-е годы) с тревогой 83 писать о белорусах как о людях с несформированным не только национальным, но даже и этническим сознанием. Так ли это? Советский и постсоветский белорус: феномен этничности БССР: последствия "советизации". Поскольку период советской истории еще не угас в памяти белорусов, и ему посвящено множество книг и статей (сперва оценивавших его с однозначным знаком "плюс", потом – со столь же однозначным знаком "минус"), я остановлюсь лишь на ряде особенностей этого времени, наиболее значимых для понимания менталитета и этничности современных белорусов. Рисунок: Мир хижинам – Шагал, Возвращение мастера, с. 162. И на обыденном уровне, и в научном дискурсе популярны две точки зрения на бытие белорусов в СССР: 1) в течение 70 лет мы жили в "империи зла", подвергаясь политическим и культурным репрессиям со стороны "центра", что породило комплекс национальной неполноценности, мешающий нам теперь стать поистине европейской нацией; 2) белорусы – советские люди в высшем смысле этого слова – стали жертвами перестройки, разрушившей "великую державу". Обе точки зрения грешат однобокостью: только одна кренится вправо, а вторая – влево. Так, можно сколько угодно гадать, какими путями шло бы формирование белорусской нации, если бы в борьбе Польши и России за белорусские территории победили бы поляки. Вовсе не исключено, что Беларусь оказалась бы колонией Польши, и при режиме Пилсудского ее национальное развитие было бы так же насильственно подавлено, как это произошло в Советском Союзе. С другой стороны, не произойди "трагедии перестройки", мы и по сей день были бы одной из колоний при метрополии. Но повторюсь: история не терпит сослагательного наклонения. Вернемся к началу. Рисунок: Минск. Соборная площадь в марте 1917 – З.В. Шыбека, С.Ф. Шыбека, 257. В течение нескольких лет после революции Беларусь несколько раз меняла название (БНР, Лит-Бел, БССР), правление, государственную идеологию и территориальные очертания: так, например, в 1918 г. в нее входили Могилевская, Минская и Гродненская губернии, большая часть Витебской, Смоленской, части Ковенской, Виленской и Черниговской губерний, а уже в 1919 г. – восточная часть Виленской, Гродненская и Минская губернии. Рисунки: Печать БНР – Запрудник, с. 82. Карта БНР (№ 40), Ширяев, с. 63. 84 Первое правительство БНР – Запрудник, с. 82. Почтовая открытка БНР – История имперских отношений, с. 248; она же крупнее – Запрудник, с. 84. Перекройка земель (а вместе с землями – и проживающего на них населения), послевоенная разруха, дрязги между Польшей и Россией… Жертвами – в который уж раз – оказались белорусские территории. Последствия этой сумятицы и постыдной дележки широко известны. Однако в "перечне" итогов послереволюционного десятилетия были и позитивные для роста национального самосознания моменты. Главный из них – пусть во многом формальная, но все же автономия, закрепившая самоназвание "белорус" на государственном уровне. Сюда же можно отнести политику "белоруссизации" и государственный статус белорусского языка. Это произошло впервые со времен ВКЛ, но если литературный старобелорусский язык в ВКЛ являлся привилегией высших слоев, то в 20-е годы белорусский язык стал бесспорным интегратором общества (и это при том, что некоторое время другими государственными языками были русский, еврейский и польский: так, к концу 20-х гг. из 11 журналов на белорусском выходили 4, на русском – 3, на белорусском и русском – 2 и 2 на идиш). В "актив" первого десятилетия советской власти можно зачислить также успехи в образовании, культуре и науке: если к 1920 г. в республике не было ни одного вуза, то к концу 20-х гг. их насчитывалось 25; в писательские организации республики за это десятилетие вошло более 200 человек; в эти же годы были созданы белорусские профессиональные театры; в 1929 г. была сформирована АН БССР и т.д. Рисунки: БССР (карта 1918 г.) – История имперских отношений, с. 252. Укрупнение БССР в 1924 и 1926 гг. (карта) – Запрудник, с. 88. Таким образом, несмотря на все тяготы, в образовательном и – шире – в культурном плане города того времени жили насыщенной жизнью. "Крайними" в борьбе за светлое будущее, как всегда, оставались крестьяне. А ведь именно этот слой был наиболее численным не только в БССР, но и в других республиках Советского Союза: так, в 1926 г. городское население СССР составляло 18 % и лишь в 60-е гг. стало 66% [160, с. 20]. Считая пролетариат первым истинно революционным классом, к крестьянству советские вожди относились как к отжившему материалу. Сталин называл крестьян последним капиталистическим классом. Отсюда – два основных процесса, разрушивших крестьянский быт и культуру. Следствия первого (раскулачивания) сказались очень скоро, второго (исхода в города) – спустя десятилетия. Раскулачивание и его последствия. Известно, что в период коллективизации было раскулачено около 12% деревенского населения БССР (и это в то время, когда по 85 явно завышенным официальным данным 1928 г. в республике насчитывалось всего 3,5% зажиточных крестьянских хозяйств, которые были отнесены к “кулацким” в первую очередь). Политика раскулачивания подвергла репрессиям наиболее образованный и трудолюбивый слой белорусского крестьянства. При этом "происходила деформация общественного сознания. Воровство в народе всегда считалось большим грехом, теперь это стало как бы одной из немногих возможностей для выживания семьи" [148, с.115]. Около 700.000 человек было насильственно лишено крова и было вынуждено, покинув свои дома, уйти в города (обратная, но столь же трагичная ситуация, что и в XVII в., когда в деревни уходили горожане). Уход в города. Впрочем, в города уходили и по другой причине. Получив ярлык "отживающего класса" (а тем более, если при этом родственники были раскулачены), крестьянин понимал, что в городе проще скрыться, изменить судьбу, влившись в более привелигированные сословия – в рабочий класс, в "прослойку" народной интеллигенции и даже в "выдвиженцы", т.е. в номенклатуру. Рисунок: Изменение численности городского и сельского населения в 1959-1989 г. (карта-схема) – Белорусы, с. 19. В городе человек имел шанс обрести будущее. С некоторыми (жаждущими не только материально-бытовых, но и духовных преимуществ) так и случилось: мы знаем большое число деятелей белорусской культуры родом из деревни. Но что произошло с большей частью мигрантов из деревень – причем, в масштабах не только БССР, но и СССР? Вот что пишет об этом исследователь советского крестьянства Н.Н. Козлова: "Отсюда – слом вековых коллективно поддерживаемых установлений. Исчезает взаимность ограничений, кругового контроля. Из теплой общности человек выпадает и оказывается в состоянии одиночества… Самые активные и жизнеспособные хотели избежать судьбы жертвы коллективизации. Они не хотели судьбы отцов. Порывание с родителями, радикальный отрыв от них – важнейшая особенность культуры того времени" [169, с. 155-156]. Если же учесть гораздо большую, нежели у русских крестьян, привязку к "роднаму куту" ("тутэйшасць"), то неудивительна явная или подспудная ностальгия по деревне, окрасившая страницы белорусской литературы на много десятилетий вперед. Есть и другое, более "долгоиграющее" следствие ухода крестьян в города. Это касается тех, кто не смог или не захотел вписаться в городскую культуру с ее преимуществами (образование, доступ к художественной культуре и т.д.). Я имею в виду 86 психокультурную маргинализацию населения заводских окраин. Эти люди пытались жить в городе, как в деревне. Но можно ли реанимировать хотя бы для себя и своего ближнего круга традиционный уклад, когда утеряны сами основы бытия на земле – крестьянский кодекс поведения и соответствующий ему тип нравственности, сезонный распорядок труда и досуга, круговая порука и т.д.? В результате огромный слой населения существовал в состоянии растерянности, разрыва между городскими и деревенскими ценностями, "зависая" в промежутке между культурами и не примыкая ни к одной из них. Следствия такой маргинализации: распад связи между полудеревенскими "отцами" и полугородскими "детьми" (полугородскими – поскольку само их воспитание было резко противоречиво: дом прививал одни нормы, а школа и улица – другие); неотчетливость самоидентификации нового поколения; отсутствие интереса к городской культуре и – в то же время – пренебрежение к крестьянской культуре "отцов"; комплекс неполноценности, выражающийся в зависти и жестокости по отношению к более образованным и способным, к интеллигентам, которые представлялись удачливыми "выскочками". Здесь лежит начало люмпенизации части населения, о которой все чаще с тревогой пишут исследователи. Но маргинализировались не только "городские крестьяне": этот процесс затронул сферу всей "белорусской советской культуры", и здесь уже причины были не социально-психологическими, а политически-репрессивными. Рисунок: БССР (карта 1939 г.) – История имперских отношений, с. 291. К проблеме культурной унификации белорусов. Начиная с 1930 г. – с обвинения белорусской интеллигенции в "буржуазном национализме", с ареста 108 культурных деятелей, с подрыва крестьянского хозяйствования – начался известный всем республикам СССР процесс унификации и "советизации" народа. Почему я не пишу здесь слова "руссификация", хотя уже начало тридцатых годов ознаменовалось переходом на русский язык? Да, русский язык провозглашался в качестве основного языка нарождающейся советской империи – языка контактов населения всей страны, и в этом качестве постепенно начинал пониматься как "лучший" и "главный". Но ситуация с "руссификацией" (если не понимать под ней не только переход на русский язык, а идею "обрусения", т.е. ассимиляции) сложнее: ведь до конца 30-х годов русский национализм преследовался так же, как и "буржуазные национализмы" других республик. Так, в 87 "Дневнике Нины Костериной" (опубликованный дневник московской школьницы, погибшей в войну) есть такая запись: "Вчера, когда я после осмотра выставки шла домой через центр, по Красной площади <…> я вдруг почувствовала какую-то глубокую внутреннюю связь с теми кратинами, которые были на выставке. Я – русская. Вначале испугалась: не шовинистические ли струны загудели во мне? Нет, я чужда шовинизму, но в то же время я – русская". Откуда этот страх? Как отмечает литературовед и советолог Б. Сарнов, в до второй половины 30-х гг. "слово "русский" было чуть ли не синонимом слова "белогвардеец"… [Эти слова] звучали примерно так, как если бы вслух сказать: "Я – за единую и неделимую Россию". А произнести такое вслух в те времена мог разве что какой-нибудь деникинский офицер" [187, с. 57]. Ситуация начала меняться на исходе 30-х, с изданием "Критических заметок" Сталина, Кирова и Жданова, когда русскому народу было отдано абсолютное культурное и политическое первенство. До этого обвинение в великодержавном шовинизме могло очень и очень негативно сказаться на судьбе любого жителя СССР, проявившего "этническую гордость". Но уже в конце 30-х – начале 40-х годов "Сталин создал строгую иерархию народов, этакую пирамиду, вершиной которой был великий русский народ, получивший официальный титул Старшего Брата, затем шли славянские народы – украинцы и белорусы, затем грузины и армяне (хоть и не славяне, но – православные), ну и так далее. Тоже в строгом порядке: сперва народы, составляющие основное население Союзных республик, потом автономных, потом автономных областей – и так до самого последнего нижнего этажа пирамиды, можно даже сказать, подвала..." [там же]. Именно с этого времени начинается осознанный и целенаправленный процесс уже не только "советизации", но и руссификации республик. Что ж, на фоне чеченцев, ингушей, калмыков и крымских татар можно было считать, что белорусам повезло (нам, по крайней мере, милостиво позволили жить на своей – пусть и сокращенной – территории), но культурные последствия такого "везения" известны. Немного статистики: в целом в период 30–40-х гг. было подвергнуто репрессиям 238 писателей, из которых до смерти И.Сталина дожили только 20. Для сравнения: за годы Великой Отечественной войны на фронтах погибло 30 писателей. Не меньшие потери понесли и другие сферы национальной культуры, науки и образования – не только в аспекте физического уничтожения людей, но и в аспекте "метафизическом". Рисунок: Куропаты – Запрудник, с. 184. Если вспомнить о чудовищном подрыве генофонда в годы второй мировой войны (четверть населения в возрасте от 18 до 40 лет, т.е. тех, кто мог составить основную силу 88 общенародного процветания) и в годы сталинского террора, первыми жертвами которого пали интеллигенты; если добавить к этому искоренение белорусскоязычных учебных заведений (в 50-е годы большая часть районных и областных центров Белоруссии вообще не имела школ, где преподавание велось бы по-белорусски), то причины "языковой маргинализации" становятся явными. Не изменилась ситуация и в пору "оттепели". Уже в 1959 г. на встрече с представителями интеллигенции в Минске Н.С.Хрущов заявил: "Чем скорее мы все будем говорить по-русски, тем скорее построим коммунизм". К середине 80-х гг. на белорусском языке преподавание проводилось только в 23,1 % школ и 19,3% дошкольных учреждений. Фактически белорусскоязычные школы остались почти исключительно в деревнях. Обучение в ПТУ, техникумах, вузах производилось исключительно на русском языке. На нем же велось делопроизводство и проводилась большая часть общественно-политических мероприятий. Белорусский язык, как уже не раз в истории, окрестьянивался, превращался в "гаворку". Впрочем, и в деревнях все чаще говорили на "трасянке", причем в разных регионах она разнилась, т.к. испытывала влияние различных диалектов. Рисунок: Гаворки на Беларуси (карта) – Этнография Беларуси, 188. "Трасянка" – не пиджин и даже не креольский язык (несмотря на то, что я не могу не отдать дани изяществу "креольской концепции" В. Абушенко) – хотя бы потому что пиджины возникают сугубо для общения и не превышают 1000-1500 слов, а креольские языки служат иструментом коммуникации смешанного по происхождению населения. Но по переписи 1985 года число белорусов составило превалирующее число среди населения республики (более 80%), и, следовательно, функция "трасянки" не была внешней: она не служила для установления контактов. Трасянка примиряла два языка не в условиях общения белорусско- и русскоязычных (они поняли бы друг друга и без языка-посредника), а в сознании человека, преимущественно жителя окраин и деревни. Но сумятица в языке – симптом сумятицы в голове… В свете этого представляется удивительным тот факт, что на переписи 1985 г. 70% граждан БССР назвали своим родным языком белорусский. "Языковой вопрос" в 1990-х гг. Итак, языково-культурный параметр белорусской идентификации за годы советской власти подвергся наибольшей коррозии – и в этом нет сомнений. Потому именно он стал символическим капиталом в 1990-х: он позволял "отряхнуть с наших ног" прах Советского Союза. В первую очередь, именно на тезисе об утрате языка базировались высказывания о "духовном конформизме" и "раболепном 89 подчинении чужой силе" белорусов как об "определяющей линии поведения большинства граждан нашей страны" и в целом о "глубокой денационализации белорусского общества" [158, с.65]; утверждения, что "национальный нигилизм охватил буквально все пласты белорусского народа, в том числе и интеллигенцию"[ 177, с. 376], а также адресованные русскоязычным белорусам упреки в предательстве народа и культуры. Но ситуация в 1985 г. (когда на переписи 70 % белорусов назвало родным языком белорусский) отличалась от ситуации 1990-х годов. Отличие качественное: понимание белорусского языка как родного в 1985 году означало пусть пассивное, но выраженное недоверие к "советскому интернационализму" с его ложными посулами и другими издержками. Принятие же белорусского языка как единственного государственного в 1990-х базировалось на иной тенденции – к герметизму, к защите не только от российских политических влияний, но даже от того "русского" наследия, которое уже давно вошло в копилку мировой культуры. Сейчас ясно, что это была болезнь роста: отсюда недоучет не только реалий (и главной из них – менталитета белорусов), но и самой эпохи. Идеологи национального движения решили прийти к нации тем же путем, что и в конце XIX века – назовем этот процесс "вторичным романтизмом". Но если в XIX в. белорусский язык был средством объединения людей – своего рода "национальной скрепой", то в конце ХХ в. ряд культурных деятелей – и часто из самых искренних побуждений – настаивал на разграничении людей на "агнцев" (белорусскоязычных) и "козлищ" (русскоязычных). Можно было бы на новом витке белоруссизации проводить ее иначе, более тактично, более гибко, путем образования и просвещения? Думается, это было вполне реально. Желательному положению дел явно способствовали бы такие меры, как, например: широкое и "прозрачное" обсуждение в прессе и интернете, на конференциях и других мероприятиях (как государственных, так и общественных) актуальных проблем в языковой сфере; обеспечение равного количества часов на изучение белорусского и русского языков вне зависимости от языка, на котором ведется обучение в каждой конкретной школе; введение выпускных государственных экзаменов как по белорусскому, так и по русскому языкам во всех средних и высших учебных заведениях страны, но не сразу, а спустя 5-10 лет после начала такого обучения; 90 освобождение от всех видов и форм налогообложения книгоиздательства, а также выпуска журнальной и газетной продукции на белорусском языке; создание специального телеканала, посвященного истории Беларуси и ее культуре; пропаганде достижений современной белорусскоязычной культуры и в целом полиэтнической культуры народа Беларуси; появление большого числа детских развлекательных и учебно-воспитательных теле- и радиопрограмм и т.д. государственное белорусский финансирование язык лучших и другая произведений поддержка мировой перевода на художественной литературы, учебных пособий, научно-популярных изданий и т.д. (при этом специальное внимание следовало бы обращать не только на качество таких переводов, но и на издание той продукции, которая еще не переведена на русский язык). Подобные меры – вкупе или частично – использовали другие государства (Индия, Филиппины, Израиль и пр.), оказавшиеся в сходной ситуации. Как показала практика, успех зависел от неторопливости и планомерности их реализации. При слишком поспешном воплощении культурно-языковых проектов на постсоветском пространстве возникали разрывы в самоидентификации областей и даже целых регионов (Восточная и Западная Украина) или жестокая дискриминация по языковому принципу (Латвия). Важно и то, что помимо фактических недостатков в проведении политики "новой белоруссизации" ее реализации препятствовали некоторые ментальные характеристики белорусов (неторопливость, основательность, недоверие к резким трансформациям и в целом – настороженность по отношению к крайностям, и т.д.), а также особенности национальной идеи, сконструированной еще на рубеже XIX-XX веков и продолжившей свое развитие в советский период – пусть зачастую и латентно. Более того, часть из этих базисных свойств и тенденций белорусской идеи определила то, что мы нередко ошибочно принимаем за "советскость" белоруса. Да, в силу особенностей белорусской истории идея национальной автономии – пусть и в ущербном варианте "советской республики" – для большинства людей была связана с СССР. Удивительно ли, что в белорусской национальной идее этноязыковая самоидентификация белорусов "отступает" перед государственной (или в советские годы – республиканской)? Скорее, было бы странным обратное. Впрочем, наличие четырех (!) языков в Швейцарии не является помехой для существования швейцарцев как осознающей себя – и осознаваемой другими – нации. Часто нам ставят (вернее, мы сами себе ставим) в пример Израиль – то, как израильтяне массово перешли на иврит. Здесь 91 забывается, или сознательно игнорируется важный момент: израильтяне должны были овладеть ивритом, потому что это были люди из разных стран, фактически не понимающие друг друга. В белорусском случае такой функциональной необходимости не было: люди понимали друг друга и по-русски, и по-белорусски. Итак, был ли белорус "советским человеком"? Скажем так: и был, и не был. Был, но лишь настолько, насколько советские идеалы совпадали с его ментальными установками и предпочтениями. Не был – в том смысле, в котором его назойливо стремились представить – как безропотного и послушного слугу властей. Как станет ясно из следующего очерка, белорусские "безропотность" и "послушание" – в реальности являют собой тонкие техники лавирования и "ускользания" от насилия. Потому наиболее интересно, что именно из советского мировоззрения и кодекса поведения, нашло отклик (не прижилось, а именно нашло отклик) в сердце белоруса. Для этого вспомним о "трех китах" белорусской национальной идеи. Мультикультурализм. Одна из базисных тенденций белорусской идеи – тенденция к мультикультурности. Мировоззрение белорусов никогда не основывалась на агрессивности в отношениях с инородцами и иноверцами: сказалось многовековое бытие в "пестрых" по национальному составу государствах. Показательно изобилие этнических русских, поляков, евреев, украинцев, татар, ставших белорусскими деятелями культуры в первые десятилетия советской власти (З.Азгур, З. Аксельрод, А.Александрович, А.Бембель, Зм.Бядуля, М.Блистинов, Я.Бронштейн, В.Головчиня, И.Замотин, Г.Кобец, Я.Мавр (И.Федоров), Е.Мирович, Н.Никольский, А.Овечкин, В.Пичета и др.). Думается, что именно в этом коренится то обстоятельство, что из всех советских республик в определенном отношении Беларусь и впрямь была самой "советской" – в том смысле, что, пожалуй, как никакая другая, всерьез восприняла постулат о дружбе народов как принцип не только сосуществования, но и существования. В этом контексте примечательно отсутствие выраженного антисемитизма во всех слоях белорусского социума. Начиная с эпохи ВКЛ, где белорусы и евреи впервые зажили бок о бок, обмениваясь не только товарами, но и гуманитарными достижениями (так, известно, что первый перевод нескольких религиозных текстов на старобелорусский язык принадлежит виленским евреям), напряженности между этими народами практически не было, что доказала вторая мировая война. И по сей день израильское посольство ежегодно чествует вновь обнаруженных "нееврейских праведников", не предполагавших, что они праведники, – людей, прятавших по погребам и чердакам своих домов знакомых и незнакомых евреев. Нет, разумеется, в советскую 92 эпоху существовал государственный антисемитизм, существовал и накладывал отпечаток на бытовое поведение, однако, уже в первые годы после крушения СССР – с лишением его государственной санкции – антисемитизм во многом угас. Характерно для белорусов и непредвзятое отношение к "лицам кавказской", "азиатской" и прочих несуществующих национальностей. Более того, миролюбие и нежелание входить в конфликт привели к тому, что национальная идея белорусов имеет "посреднический" характер, о чем еще в 20-е гг. ХХ в. писал И. Абдиралович. Право на культуру. Вторая тенденция – право на культуру – в советских условиях реализовывалась противоречиво. Но можно ли сказать, что не реализовывалась вовсе? Дело в том, что советское общество позиционировало себя вовсе не в качестве "тюрьмы народов" (как царская Россия) или ассимилирующего "плавильного тигля" (как, например, США тех же лет), а в качестве общества, способствующего расцвету национальных культур. Потому (разумеется, за исключением периода репрессий "буржуазных поощрялось. националистов") Отсюда этническое многочисленные разнообразие декады народов национальных декларативно литератур СССР, праздники национальных культур, большое число журналов на национальных языках (так, в 70-80-е годы в БССР по-русски выходил лишь один "толстый" литературный журнал – "Неман"), активная переводческая деятельность и т.д. Можно было бы сказать, что в СССР белорусы обрели санкционированное право на производство и трансляцию самобытной культуры, если бы не одно крупное "но": от культуры белорусов, как, впрочем, и других народов СССР, требовалось, чтобы она стала "социалистической по содержанию". Отсюда следствие: лучшие произведения, созданные в советских республиках, в том числе в БССР, находили путь к читателю крайне тяжело. Вспомним тернистый путь В. Быкова, В. Короткевича, А. Адамовича и др. Здесь речь идет уже не столько о русификации со стороны "имперского центра" (ее цели были достигнуты уже к послевоенному периоду), сколько о советизации содержания "национальных культур". Картина получалась следующая: за отлакированным фасадом поощрения "дружбы народов" томилось все "недостаточно советское". Часто таким признавалось самое неординарное. А если учесть плоды русификации, ударившей, в первую очередь, по образованию, то в целом национальные культуры СССР (если иметь в виду их официальный пласт) представали в виде "бедных", "скудных" и "вторичных". К этому можно добавить и нежелание властей республик ссориться с "центром", своего рода номенклатурную осторожность, доводящую ситуацию до абсурда: ряд авторов начинал печататься в своих собственных республиках и на своем языке лишь после того, как их публиковали "центральные" издания. Например, творчество В. Быкова нередко 93 приходило к читателю через московские журналы "Новый мир" и "Дружба народов", в переводе на русский язык (по счастью, авторском). Впрочем, такая судьба не минула и лучших писателей других республик – и Ч. Айтматова, и Ф. Искандера, и Н. Думбадзе, и Ч. Амирэджиби, а также мн. др. На вопрос о том, почему рядовой белорус (здесь я не имею в виду слоя национально-ориентированной интеллигенции – писателей, историков, филологов и пр.) пассивно воспринимал ситуацию "языковой недостаточности" можно ответить двояко. Первый ответ – на поверхности: за долгие столетия эта ситуация стала привычной. Второй ответ коренится в ментальных предпочтениях и моделях поведения белоруса, для которого (что видно и по текстам фольклора, и даже в повседневном общении) всегда было важнее договориться, найти точки соприкосновения, нежели проявить этническую гордость, нередко перерастающую в этноцентрическую гордыню. И далеко не случайно в далеком 1917 г. во время выборов в Учредительное собрание за местные партии с четко выраженной национальной ориентацией проголосовало менее 1%, хотя к этому времени на белорусском языке говорило подавляющее большинство населения. Социально-политическая подоплека национальной идеи белорусов. Выше было показано, что белорусская национальная идея строилась далеко не только (и не столько) на этническом фундаменте. Это может показаться казусом лишь тем, кто исповедует примордиалистские воззрения (предполагающие, что нация – это более развитый этнос, что ее возникновение закономерно, и что она возможна лишь как однородно-языковое и однородно-"кровное" – пусть даже в прошлом – единство). Но, как показывает история, этнос и нация создаются по-разному: этнос возникает вследствие долгой общей жизни людей, а нация конструируется благодаря идеям интеллектуалов, которые взрастают на почве народной повседневности, развиваются, оттачиваются и вновь спускаются в массы – уже в трансформированном культурными деятелями виде. Вспомним также, что этническое, а тем более национальое самосознание невозможно без самоназвания (этнонима), причем, в условиях нации он должен: а) быть признан всеми без исключения слоями населения; б) означать государственность или, по крайней мере, автономию, т.е. приобрести характер политонима. Почетное самоназвание "литвины" в свое время было распространено, увы, лишь в кругах интеллектуальных и правящих элит. На уровень масс оно не переходило. Более того, оно служило маркером, разъединяющим блистательные элиты и "косные необразованные" массы – "мужыкоў". Общепринятым этнонимом, а затем и политонимом стало только слово "белорусы". 94 Когда оно обрело политический смысл и стало означать не просто имперскую провинцию (Белорусская губерния, Белорусское генерал-губернаторство) или марионеточное пространство (Бел-Лит)? Не считая короткого (хотя и чрезвычайно яркого и насыщенного) периода БНР, понятие "белорусы" обрело политический смысл только в БССР. Несмотря на то, что и сегодня достаточно представительный пласт наших соотечественников отдает приоритет слову "литвины", история распорядилась так, как распорядилась. Мы – белорусы. Людзьмi звацца… Уже у Купалы "белорусскость" включала в себя основное содержание – "людзьмi звацца". Можно прочитать это как "зваться равноправным народом". В случае нации идея культурного равноправия настоятельно требует государства или, по крайней мере, автономии (на худой конец – даже и декларативной, как это было в СССР). В БНР, а затем в БССР белорусы получили автономию, а в 1991 году обрели государство. Но следует учитывать последствие, о котором пишут ученые, но – по причине его "нелицеприятности" – редко говорят представители национальноориентированных групп. В случае нации – а особенно поликультурной – самосознание людей неизбежно утрачивает узко-этнический компонент. Нация строится не на ритуале, а на законе; не на обряде, а на государственных актах; не на фольклоре, а на "печатном капитализме" и унифицированном образовании; не на предании, а на историографии – и все это приводит к гомогенизации, т.е. к определенной степени однородности групп. Нация – более социум, чем этнос. Этническое своеобразие поглощается социальными институциями, и это касается не только так называемых "меньшинств", но и титульного народа. Государственно-политический компонент любой современной нации объективно подчиняет себе "народнический". Это верно и в случае Беларуси, особенно если учитывать, что ее государственность в период ВКЛ имела сословный и полиэтнический характер, а в годы советской власти – характер подчиненный унифицирующему центру, – и не столько полиэтнический, сколько интернациональный. Что произошло бы в случае, если бы мы центрировались на исключительно этнической составляющей? Лозунг "Чемодан. Вокзал. Россия" (или "Чемодан. Вокзал. Израиль")? Дискриминация 20% населения? Сведение счетов с этническими группами? Разрушенные связи, раздробленные семьи, межэтнические конфликты, распри, кровь… Почему белорусы отвергли такой сценарий? Я уже писала о том, что изначально в основе этничности лежит антитеза "мы – они", причем, образ "они" (чужаки) служит основой не только различения с членами другого этноса, но и интеграции собственного. Известно и то, что образ "они" при необходимости (а нередко и без оной) с легкостью превращается в "образ врага", он же "козел отпущения". Но для белорусов "образ врага" 95 никогда (за исключением моментов прямых военных столкновений) не носил этнического характера: в своих бедах народ винил не русских и не поляков, не литовцев и не евреев, а "панов". Вероятно, в этом тоже коренится причина приятия белорусами некоторых установок советской власти (например, того же интернационализма). Постсоветский белорус: грани реальности. Таким образом, фаза С (а именно стадия национальных движений), которая, по Хроху, определяет переход нации от культурного конструкта к реально существующей общности, совпала с "построением социализма в одной, отдельно взятой стране" – СССР. Сегодня излишне говорить, что "отдельно взятая страна" существовала в виде искусственного квази-единства совершенно разных народов: это доказал ее стремительный распад. Тем не менее, входящие в него народы относились к нему по-разному. Почему белорусы не были столь активно противонаправлены советским веяниям, как наши ближные соседи – страны Балтии, а тогда – "прибалтийские республики"? Первую причину я уже определила выше: национальная идея белорусов изначально строилась на стремлении к мультикультурализму, социальной справедливости и культурному равноправию, которыми умело оперировала советская пропаганда. Вторая причина будет подробно раскрыта в следующих очерках. Она содержится в самом менталитете белоруса – в исконных идеалах равенства, трудолюбия, добросовестности и взаимоподдержки, которые, по крайней мере, на словах, в СССР стали преподноситься как "ценности советского человека". Как показывает исследование интернет-блогов, которое составит последний очерк этой книги, нынешняя самоидентификация большинства белорусов базируется не столько на этнической составляющей, сколько на национально-гражданской – на принадлежности к Республике Беларусь. Не последнюю роль в этом играет осознание собственного менталитета и построение на его основе этнического самообраза белоруса – целостного и устойчивого представления членов общности о том, что, собственно, объединяет их в этнос. Язык же, пусть часто и не исполняя своей роли средства этнической коммуникации, в белорусской культуре сохраняет иное значение – высокого символа культуры и традиции. Выражаясь фигурально, хотя по-белорусски в быту говорят немногие, но белорусские песни поют все. По этому поводу можно сколь угодно лить слезы и проклинать захватчиков-соседей. Можно воспевать золотое прошлое ВКЛ, не обременяя себя вопросом: а было ли оно "золотым" для крестьянина-белоруса? А можно, разобравшись в исторических и коллективно-психологических закономерностях, принять как данность положение современного белорусского общества и строить проект 96 его будущего, руководствуясь не столько ностальгическими побуждениями, сколько реальностью ситуации. Какова же эта реальность? Итак, путь насильственной "белоруссификации" исключен – хотелось бы нам этого или нет. Это вовсе не мешает планомерно и аккуратно проводить те меры повышения "рейтинга" белорусского языка, о которых я писала. За несколько десятилетий они достигнут своей цели – и мы сможем говорить если не о полном переходе культуры на белорусский язык, то уж, во всяком случае, о реальном (а не формальном) равноправном двуязычии. Далее. Находясь в центре Европы и одновременно – в ближайшем соседстве с Россией, мы должны умело использовать преимущества этого положения. В последние годы только ленивый не писал о мировой культуре. Слухи о ее наличном существовании явно преувеличены (что показало 11 сентября 2001 года), но ее ростки с каждым годом становятся все более заметны – интернет, евро, Шенген, Восточное партнерство, транснациональные корпорации, множество межкультурных проектов в самых разных сферах… Сбываются слова К.Ясперса о новом "осевом времени", когда человечество "сможет увидеть друг друга в лицо". В этой ситуации геополитическое положение, многие столетия служившее проклятием Беларуси, впервые может оказаться положительным фактором. Этот самый значительный для нас на сегодня Парадокс седьмой – парадокс "конструктивной маргинальности", к сожалению, до сих пор не оценен должным образом – не как повод для причитаний, а как потенциал, как перспектива развития. Именно – перспектива развития, а не бесконечные расплывчатые словеса по этому поводу, которыми мы зачастую ограничиваемся. Не случайно народы адаптивного типа, в разные эпохи строящие свою культуру на принципе трасформации заимствований в самобытные культурные феномены (арабы периода халифата, современные японцы и др.), оказались в гораздо более выигрышном положении, нежели замкнутые, ограничивающие себя узконациональными рамками традиционные этносы. При ментальной толерантности, доброжелательности и полиэтническом составе народа этот вариант представляется более продуктивным, нежели попытка загнать народ "железной рукой в счастье", т.е. в герметичный мононациональный "микромир". И это – в то время, когда, с одной стороны, макромир характеризуется все более крупными делениями (речь все чаще идет не на нациях, а на цивилизациях), а с другой, практически каждая нация становится все более разнообразным мультикультурным сообществом, включающим не только этнические, но и другие, порой самые удивительные, группы и субкультуры. 97 В этом случае, как представляется, в первую очередь, следует отказаться от разделения культуры на "белорусскоязычную" и "русскоязычную", объединив их в единое целое –"белорусская полиэтническая культура", в котором найдут свое место все народы и культуры республики. Что же касается языковой проблемы, то она разрешима лишь одним способом: путем утверждения не формального, а реального двуязычия, при котором все жители Беларуси будут свободно изъясняться на обоих языках. Труднодостижимо? Но достижимо. В конце концов, подобная ситуация не уникальна: в разное время она коснулась и Швейцарии, и Индии, и Филлипин, и множества других вполне процветающих в культурном отношении стран. Думается, этим подвижкам мешает популярная тенденция видеть Беларусь в ностальгически-архаическом ключе. За время существования Республики Беларусь сформировались определенные "топосы" исследований – топос истории (в основном связанный с Полоцким княжеством и ВКЛ); топос культурологии, настроенный на исследование мифа и обряда и возрождение первозданных традиций; два противостоящих топоса политологии (один из которых знаменуется лозунгом "Назад, в СССР", а второй, противоположный, зафиксирован на политическом устроении ВКЛ как на "золотом веке") и т.д. Беда в том, что во всех этих случаях новое воспринимается исключительно как реанимация старого. И, бесконечно повторяя слова И.Абдираловича о "новых самобытных формах жизни", мы не вдумываемся в то, что это не просто приличествующее случаю выражение. В то, что оно предполагает сознательное творчество собственного будущего и отвергает "тутэйшасць" – изоляционизм, подозрительное отношение к "другим", настороженность к интеллектуалам и ностальгию по "золотому веку", какое бы время под ним не подразумевалось. Часть II. Самообраз и менталитет традиционного белоруса Очерк 3. Традиционный белорус: эскиз автопортрета Белорус как реальность: константный самообраз и менталитет белоруса-крестьянина Каким видел себя традиционный белорус? Напомнив некоторые исторические реалии, значимые в контексте этногенеза белорусов, вернемся к традиционному белорусу, менталитет которого в очень и очень многом лег в основание нашего сегодняшнего менталитета. Впрочем, в этом очерке главное для нас не столько менталитет, сколько самообраз традиционного белоруса: то, каким он себя видел; что в себе уважал и ценил; что считал недостатками, а что – идеалом; кого считал чужим, а 98 кого своим; как относился к гендерным ролям; каким кругом очерчивал свою жизнь и т.д. Именно на основе этого "автопортрета" мы сможем делать выводы о менталитете белоруса прошлого и современности. Итак, каким видел себя традиционный белорус? С целью ответа на этот вопрос я проанализировала около тысячи социальнобытовых сказок, в целом составивших кейс № 1. Эти сказки на рубеже XIX-XX вв. собрали А. Сержпутовский, Н. Федеровский, П. Шейн и ряд других этнографов и фольклористов. Почему именно социально-бытовые, а не, скажем, волшебные сказки? Потому что именно они дают представление о повседневной жизни человека, о его мотивациях, мечтах и поступках, ценностях и антиценностях. Самообраз белоруса в них не монолитен: он распадается на несколько составных частей. Так, часть ряд белоруса в них наиболее приближена к реальности (константный самообраз), часть представляется сказочнику отрицательными (из них складывается критический самообраз), другие – положительными и даже идеальными (идеальный самообраз). Итак, речь идет не об отдельных чертах: они складываются в целостный образ человека и дают представление о его целостной картине мира. Кроме себя ("мужыка") безымянные авторы "впускают" в сказки Других и Чужих, а также маргинальных персонажей – все они оттеняют образ Мужика. Целью этой главы является константный, т.е. наиболее реалистический образ белоруса в социально-бытовых сказках. Умеренность в требованиях к жизни. Первое, что бросается в глаза в белорусских сказках – минимальность требований к жизни их героя-крестьянина. Так, Мужику, нашедшему золото, даже не приходит в голову оставить его себе: он несет слиток царю ("Мужык і цар"). Царь предлагает ему самые соблазнительные награды, но Мужик отказывается от них, прося лишь "чарку гарэлкі" и сотню розог впридачу. На предложение закусить водку белым хлебом он отвечает: "Мой дзед такога хлеба не еў і я не буду – я баюся яго есці" [206, с. 203]. Чего же еще просит крестьянин? Чтобы ему дозволили поспать на соломе, сплясать под дуду (и от царского ложа, и от оркестрового аккомпонемента Мужик отказывается). Подобные мотивы мы встречаем в целом ряде сказок. В чем тут дело – в вековечной закабаленности и нетребовательности крестьянства? В тайной надежде на награду? (И не зря надеется Мужик: порадовавшись его смирению, царь жалует ему дворянство). В хитрости – чтобы не делиться со взяточником-генералом, вырвавшим у Мужика обещание отдать ему половину царской платы? Или, может быть, причина глубже? Попытаемся вскрыть ее с помощью сказочных текстов. 99 Рисунок: Белорусские крестьяне – сер. 19 в. – Белорусы, с. 109. Осторожность по отношению к деньгам. Так, в сказке "Аб Сахарку-злодзею" богатый крестьянин отличается от бедняка лишь тем, что может есть сало ложками и спать на соломе [188, с.58]. Разумеется, в этом есть и элемент самоиронии, но в то же время – и отпечаток реальной ситуации. Н.Улащик вспоминает о том, что в начале ХХ в. символом зажиточности в деревне считалась никелированная кровать, на которой не спал никто, кроме почетных гостей. Дополнительную престижность этому ложу придавали подушки, свидетельствующие о том, что хозяйская дочка имеет приданое [197, c. 50]. "А ведамо, у нашум стане, калі е хлеб, ведзецца гаўядо да пра ліхую беду ляжыць дзе-небудзь у шчыліне які зломаны грош, дак ужэ й лічаць багатым чалавекам" – говорит сказочник [189, с. 169]. По-настоящему богатым может быть только пан: "Зямлі як воко схваціць, а зямля добрая, зраджайная, от здаецца, пасадзі дзіця, дак і тое вырасце... Будынак – палацы. Кругом сад, быццэ ў раю. Такая пану жытка, што й паміраць не трэ" [189, с.76-77]. Отметим: панская усадьба отождествляется с раем. Но образ пана для белоруса ни в коей мере не является частью самообраза: это устойчивый, наиболее стабильный из всех образ Чужого. Самообраз белоруса строится от противного. Почему нельзя быть богатым? Умеренность в отношении к богатству санкционирована народной мудростью. В первую очередь, эта санкция имеет моральный характер. Богач всегда непорядочен: "А ведамо, калі мужык багаты, та ён гарэй паганы да скупы, а калі не сам, дак яго жонка" [189, с.49]. Наряду с моральной существует и метафизическая интерпретация богатства как зла: "Бо калі багат, та хворы сам, або жонка, а як багат і здароў, то дзецей нема, або е, да неўдалые ці ліхіе. От гэ ўсе людзі маюць якое кольвек нешчасце. На тым і свет стаіць. Бо чаго ж бы і жыць, калі б не было чаго хацець?" [191, с.173]. В ряде сказок дается еще одно толкование того, почему богатство сочетается с физической немощью: если бы человек был бы и богат, и здоров, он обладал бы всесилием – глядишь, и Всевышнего бы сбросил с престола. А Бог – себе не враг, он знает, что делает (это еще один лейтмотив белорусского фольклора). Потому здравому человеку, а именно таков белорусский крестьянин, богатство противопоказано; оно доводит до невроза: "Грызла яго тое ліхо, што калі добрэ, дак хочэтца ешчэ лепш, а тут нельга нічога лепшага прыдумаць" [191, с.185]. Богач – несчастный, ущербный человек: вся его жизнь проходит в склепе, куда спрятал он свои сокровища . В конце концов, они превращаются в пот и кровь и грозят затопить горевладельца ("Багатыр"). И немудрено: богатство всегда нажито неправедным путем – и не 100 только в социальном или моральном, но и мистическом смысле: "Ведамо, ат свае працы багат не будзеш, бо як ні працуй, як ні гаруй, а тут табе чорт дзірку знойдзе... Багатаму чэрці дзяцей калышуць, чэрці памагаюць яму на гэтум сьвеці, дак за тое на том сьвеці вазьмут сабе яго душу на расплату" [189, с.140]. Вообще семантическая линия "деньги – черт" проявляется во многих сказках: деньги – навье порождение, созданное чертом для искушения человека и натравливания людей друг на друга: "Мабыць, грошы чорт выдумаў, бо з-за іх уся бяда на сьвеце. Бачно, што ліхі сабраў усё ліхое да й злепіў грошы" [189, с. 182]. Богатство заразно, как болезнь. Бедняк, получивший деньги от богача, "не есь, не п'е, усё думае, каб не сгубіць тыя грошы; годзі пець песні, годзі весело жыць…" [там же, с. 187]. Что человеку надо? Рецепт отношения к деньгам дан в том же "Багатыры": "нарэшце, дагадаўса, што без грошай харашэй" [191, с.187]. По тем же соображениям мудрый пан (редкий образ в белорусской сказке) бросает имение и богатство и избирает долю подпаска. Человеку для счастья нужны здоровье, богатство, слава, почести и власть. Здоровье дает ему ежедневный труд на лоне природы, которую он совсем не попански называет "Божьим раем". Его богатство – какая-никакая одежонка – на нем, и никто его не отнимет. Поскольку подпасок несравненно выше своих подопечных – коров да быков – он властен над ними и славен в их мычащем кругу. Рисунок: Пастух – Сучасны беларускі партрэт, с. 33. Словом, все составляющие счастья пан-подпасок имеет в полной мере: "І пазнаў ён, што толькі той шчасьлівы чалавек, хто даволан тым, што ён е й што мае" [189, с.158]. Обратим внимание на совмещение экзистенциальных смыслов "быть" (што ён е) и "иметь" (што мае): из них Мужик выбирает первое. Культ скромной достаточности является залогом самоуважения, которое не только не предполагает обладания большими деньгами, но отталкивается от противного. Впрочем, говорить о том, что декларируемое почти всеми сказочниками отрицательное отношение к деньгам отражает реальную картину, будет преувеличением. Ведь сюжетная пружина фольклорных текстов часто закручивается именно вокруг законного и незаконного добывания денег . Более того, хоть и очень редко, но в сказках встречаются такие пассажи: "А што ні гавары, грошы многа даюць разгону. Як няма асьмакоў, та от так кала серца й завівае, а як чуеш у кішэні, та й на сэрцу веселей" [189, 183]. Мужик вовсе не пропагандирует нищенства. Просто большие деньги представляются ему абстракцией, а обладание ими – состоянием неправомерным. Не 101 случайно разбогатевший герой сказок чаще всего идет по одному из двух путей: либо становится злобным скаредом, которому свет не мил; либо же – чаще – теряет богатство самым глупым образом (пропивает; попадает в руки разбойникам; становится жертвой обманщиков, в том числе – и собственной жены-мотовки). Нередок вариант, когда оба эти пути сочетаются. Но после того как Мужик вновь остается "у разбитого корыта", он сокрушается недолго: встает на ноги и впрягается в привычную лямку. Отношение Мужика к большим шальным деньгам можно охарактеризовать как "зелен виноград": деньги – зло, в первую очередь, в силу недосягаемости. "Малое счастье". Итак, деньги для белорусского крестьянина не являются приметой счастья. Вот как выглядят счастливые люди в сказках: "Ён і не багаты быў, але не наракаў на Бога: гараваў, маў кусок хлеба, нікого не крыўдзіў, ніякага ліха ў яго не было на сэрцы, от ён і шчасліво жыў" ("Нашоў грошы"); "Жыў ён як усе людзі: гараваў, працаваў, а дастаткаў не маў. Жыў ён ціхенько, гледзеў сабе да свайго хаджайства, нікому не рабіў ліха, дак і яго не чапалі людзі"; "Жыў ён не то, што багато й не саўсім бедно, а так сабе, як Бог даў. Е хлеб, та есь, а немашака, та й так абойдзецца" ("Сьветы чалавек); муж и жена "разам гаравалі, разам працавалі, разам аддыхалі" ("Асілак"); "Гараваў да працаваў круглы год, дак і меў кавалак хлеба да й асьмакі на беду" ("Мужык, цыган і яўрэй"). Обратим внимание на устойчивость слова "гаравалі": горе для белоруса – неотъемлемая часть не только жизни, но и счастья. Безоблачного счастья не бывает. Если оно безоблачно, то неполноценно: это уже не счастье, а горе. Так, герой сказки "Дурэнь", обретший неиссякаемый источник богатства, не находит себе места и наконец идет к ведунье с просьбой о помощи. Диалог, состоявшийся между ними, примечателен: "А чаго ты хочэш?" – "Нічога, бабко, я не хачу, бо ўсё маю". – "Да чаго ж ты, мой саколе, прышоў... у цябе якая беда?" – "У мене, бабко, тое ліхо, што беды нема" [189, с. 143]. Горе необходимо в общем строе жизни – правомерном, справедливом, изначальном. Но горю рознь: здесь важна пропорция. Истинное несчастье – смерть, отсутствие детей, тяжелая болезнь и одиночество. "Калі дасць Бог здарове, у семейцэ лад да худобку, та не трэ большага шчасця" [191, с. 63] – вот формула, повторяемая в сказках с завидной регулярностью. В силу этой регулярности и чрезвычайно редких отступлений от такого понимания счастливой жизни, можно с уверенностью говорить о константности модели "малого счастья" в ЭС белоруса. В это понятие включается "здоровье", "дети", "мир в семье" и "хозяйство". Примечательно, что эта константность сохранилась и по сей день – и в самих ценностях, и в их иерархии: так, по материалам общенационального опроса общественного мнения, 102 проведенного Институтом социологии НАН Беларуси (2004 г.), на первых местах в иерархии ценностей белоруса – здоровье (87%), дети (75%), семья (71%) [142, с.10]. Правда, на четвертое место (68%) выдвинулась "материально обеспеченная жизнь", но что белорус понимает под этой "материальной обеспеченностью"? Думается, не богатство, а скорее, благополучие, по-белорусски характерно называемое "дабрабыт" (от "добрый", т.е. "хороший" быт). Рисунок: Белорусский мужык, 1905 г. – Этнография Беларуси, 416. Белорусский "дабрабыт". В сказках представление о белорусском благополучии проиллюстрировано весьма определенно: "Жыў сабе адзін чалавек не то, каб багач, а так сабе добры гаспадар. Ён, як жэ кажуць людзі, не баяўся, што ў Петроўку выпадзе снег, бо заўжды меў пра запас бярэме сена" [189, с. 261]; "Так, як усе, жыў ён сцісло, а як дась Бог сьвято, та любіў з добрымі людзьмі смачно паесьці да выпіць так, каб іці, за плот дзержаўшыса" [189, с.64]. Обратим внимание и на то, что герой последней сказки, ни разу в жизни не пивший чаю, зовется "заможным гаспадаром". Это предположение подтверждается материалами все того же опроса: приоритет "богатства, больших денег" выбрали лишь 20% белорусов – и это реально существующем пиетете больших денег, который уже без малого два десятилетия продуцируется масс-медиа. Рисунок: Рагулька – Этнография Беларуси, 420. "Грамада" как модель равенства. Вторая важная компонента белорусского образа счастья – равенство. Обратим внимание: в сказках рефреном повторяется словосочетание "як усе". Показателен образ "золотого века" как времени согласия и равенства, когда все люди одинаково "гаравалі, працавалі, каб зарабіць крыху хлеба да ўзгадаваць дзетак" [189, с.132]; "Жылі людзі бы ў раю: гаравалі, працавалі да й бяды не малі... ў ласцы, у згодзе. А прыйдзе бяда, у згодзе ратаваліся у прыгодзе: бедным, хворым памагалі, дак і ўсе беды не малі" [191, с.157]. Социальный идеал белоруса – жизнь "грамадою": "І чаго толькі не зробяць людзі, калі вазьмуцца за дзела грамадою, бы адзін чалавек" [там же]. Однако белорусская грамада – не синоним русской общины. Влияние грамады менее всеохватно: скорее, оно ситуативно: "а прыйдзе бяда, у згодзе ратаваліся ў прыгодзе". Так, Н.Н. Улащик вспоминает историю из своего детства: когда один из жителей села выгнал забеременевшую дочь из дому, соседи за день выстроили ей маленькую хатку с печкой. Белорусская "грамада" поможет в беде, но не будет вмешиваться в частные дела человека. Ограниченность действий "грамады" по сравнению с русской общиной 103 доказывается и следующим фактом: совместно купив землю, крестьяне делили ее на особые участки, т.к. общинное землевладение было им неизвестно [197, с. 37]. Да и сам образ "грамады" скромен: "была маленькая ўёска, гэтак мо дымоў п’яць ці шэсь. Жылі сабе там людзі, ніхто іх не чапаў, ніхто ім ніякае беды не рабіў, бо мо кругом ... не было ні ўёскі, ні жоднае селібы" [189, с.174]. Этот идеал замкнутой жизни в привычном узком круге – на собственном клочке земли, в окружении родной природы и знакомых людей – лейтмотивом проходит по белорусским сказкам, да и по профессиональной белорусской литературе XIX-ХХ вв. Рисунок. Грамада – Жаночы касцюм, с. 65. Индивидуалист или коллективист? В связи с этой герметичностью родного "уголка" ("Мой родны кут, // Як ты мне мілы...") исследователи нередко говорят о белорусском индивидуализме (с целью противопоставить его русскому коллективизму). Это не кажется правомерным. Мы уже отмечали, что во многих сказках употребляется словосочетание "як усе". Мнение других о себе белорусский крестьянин воспринимает глубоко всерьез. В одной из сказок мы встречаем даже своего рода категорический императив "по-белорусски": "Як будзеш ісці..., та ніколі не рабі таго, што людзі лічаць ліхім, та ўсе табе будуць памагаць" [189, с.143]. Обратим внимание на практический характер этого совета ("та ўсе табе будуць памагаць") и – главное – на оборот "што людзі лічаць ліхім." В терминологии Рут Бенедикт можно определить белорусскую традиционную культуру как "культуру стыда", где наивысочайшей санкцией является мнение окружающих. Другое дело, что круг людей, чье мнение интересует белоруса, малый – родственный, "свойственный". Потому можно говорить не столько о белорусском индивидуализме, сколько о том, что белорус – человек малой группы (как, к примеру, японец). Так, в сказке "Слепы, глухі і безногі" три калеки спасаются от врагов, зверей, разбойников, ибо способности каждого из них дополнительны по отношению к другим: "І пачалі яны радзіцца, як тут далей жыць на сьвеці. І надумаліса яны не пакідаць адзін другого да самае сьмерці, а рабіць усё, бы адзін чалавек" [189, с.155]. Вот эта-то малая группа – несколько человек, живущих в согласии, – и представляется крестьянину наиболее продуктивной. Равенство и тип семейственности. Отсюда и особый тип семейственности белорусского крестьянина: с одной стороны, семья есть самая основная группа в его жизни. С другой стороны, известно, что в отличие от русского крестьянина, увеличивающего избу при женитьбе сына, белорус старался выстроить ему собственный 104 дом и купить надел земли. С этого момента рождалась новая малая группа, пусть соприкасающася с прежней, но в значительной мере отдельная (так, в отличие от традиционной русской семьи для белорусской свойственно наличие не трех, а двух поколений). Отмечу и то, что все сыновья имели на землю отца равные наследственные права: тем самым белорусский крестьянин настаивал на равенстве и справедливости в малом мире семьи и деревни. Вражда, конфликты начинаются с того момента, когда люди (в сказках часто братья) начинают делиться: "Калаціліса, калаціліса яны, пакуль дзелілі гаўядо да ўсё дабро, а як пайшлі дзеліць землю, дак так пачалі біцца, што чуць адзін другого не пазабівалі, да так і не подзелілі мо да тых час" [189, с.100]. Вероятно, избегание конфликтов – причина обособленности соседства даже в больших селах. И не случайно А.К.Киркор пишет о расположении домов в белорусских селениях так: "эти уединенные, намеренно обегающие друг-друга жилища, чтобы не потеснить и не обидеть беднейшего соседа" [159, с.456]. Рисунок: Полесская хата – Вокруг света…, с. 85. Причины неравенства и пути его преодоления. Герой сказок (а вместе с ним и сказочник) убежден в том, что беды начались с увеличением количества людей, в силу которого произошло имущественное расслоение и исчезло равенство: "Толькі цепер так народу памножыласо, што як толькі іх зямля паднімае. А даўней людзей было мала, а зямлі колькі хочэш" [189, с.173]. Однако существует и иное объяснение: "Ад самаго пачатку свету Бог так даў, што ні горы, ні лес, ні людзі не роўныя. Яны і цяпер не роўныя і ніколі не параўняюцца" [190, с. 64]. Отмечу аналогию с природой. Человек предопределен, как предопределен весь мир, и любая попытка усовершенствовать мироустроение чревата негативными последствиями. Дорога в ад вымощена благими намерениями. Так, в сказке "Марцыпаны" герой из лучших побуждений – во имя воцарения всеобщего равенства – продает душу "шатану" (сатане): аппелировать к Богу в этом вопросе бесполезно, ведь именно он и сотворил людей, горы и деревья неравными. "От і пайшлі яны раўняць людзей: аднаго падрэжуць, астатак прыложаць другому. Зраўнялі яны ўсіх людзей пад адну мерку, толькі зірнуць, аж самі не падходзяць пад тую мерку" [189, с.182]. Показательно, что ни человек, ни сатана не спешат вписывать себя в это прокрустово ложе: "А хто ж будзе людзей вучыць і раўняць, як мы будзем такіе, як і яны" (там же). Равенство невозможно, т.к. для его констатации нужен арбитр, находящийся "над". Тем самым оно не может быть полным. Об этом герою говорят люди: "Той шчаслівы, хто 105 лічыць себе шчаслівым, а мы не можэм себе лічыць, бо за нас лічыце нас вы, а не мы самі" [там же]. Иным, более прямым и конкретно-социальным образом модель революционных преобразований сформулирована в сказке "Палешукі й палевікі". Два эти близких народца впали во вражду и потому стали легкой добычей врагов. Служат они врагам и панам, изредка, впрочем, отваживаясь на "партизанские" вылазки: "та свіран спаляць ці гумно, та кароў загоняць у такую тхлань, што яны там і пагінуць, та свіней патопяць, але ат таго й самі не маюць, чаго есці, бо, ведамо, жывуць на ардынар’і: пана чорт не берэ, ён у суседа дастане, а людзі падыхаюць да пухнуць с голаду" [189, с.103]. Но вот появляется старенький "дзядок" (в этом облике обыкновенно выступает Бог или святой) и призывает людей к восстанию. Людям удается прогнать врагов и панов. Казалось бы, счастливый финал не за горами. Но последствия гораздо более трагичны и жизненны, чем предполагает жанр сказки: "От аслабанілі палешукі й палевікі свой край ат тых ворагаў, але не ведаюць, як ім жыць, бо кажын хочэ быць большым, ніхто не хочэ гараваць, а кожын пнецца панаваць. І стала ў іх жытка гарэй як пад панамі" [там же]. Горе вытесняется пьянством: "П’юць мужыкі да веселяцца, а пра работу й забылі" [там же]. Неудивительно, что в скором времени они становятся легкой добычей для панов. Мужик не настолько наивен, чтобы вопреки опыту полагать, что равноправие возможно насадить "сверху" (поскольку неравенство заложено в самой структуре мироздания), и не настолько самонадеян, чтобы считать, будто Божественное установление может быть изменено руками людей и даже сатаны. Поэтому в сказках отчетливо просматриваются косвенные способы, которыми можно так или иначе амортизировать (но не искоренить!) неравенство. Первый – создание справедливого устройства хотя бы на том участке мира, который подвластен человеку, – в собственной семье и собственной деревне. Путь к этому – определенный поведенческий кодекс, которому должны подчиняться члены "грамады" и одна из основных черт которого – быть, "як усе". Второй способ тонко обозначен в сказке "Марцыпаны": неравенство в том, что его степень определяется не самостоятельно, изнутри, а со стороны. Следовательно, и равенство, да и счастье в целом следует воспринимать не как внешнюю, а как внутреннюю категорию. На третьем способе, ярче всего выраженном в сказке " Іванка-прастачок", остановимся особо. Главный герой – музыкант Иванка. Когда он играет, происходит своего рода массовый катрасис: "Як заграе, дак і ўбачаць людзі, што вялікая крыўда на свеце, што адны пануюць, другія гаруюць... І разнёсса ад Іванавай дудкі голас па ўсяму свету... Грае, грае, а як прыдзе час, дак ўсіх ён параўняе" [191, с.160]. Обращу внимание читателя на 106 то, что достижение идеального равенства не требует революционных изменений и вообще особых действий: оно приходит как бы само собой, в результате чудодейственного вмешательства волшебной дуды (в других сказках – гуслей), но при этом – без всяких усилий со стороны людей. Особенно характерна здесь установка "як прыдзе час". Фатализм или мудрость? В сказках мы нередко сталкиваемся с одним из самых интересных и самых освещенных в сказках (да и "освященных" сказками) качеств белорусского самообраза и менталитета – с фатализмом. "Яшчэ на раду чалавеку даецца доля, – убежден Мужик. – І што ты не рабі, як ты не старайся, а нічога не парадзіш, калі доля ледашчыцца." [190, с. 283]. Леность доли проявляется уже в самих названиях сказочных деревень, где белорусский крестьянин ведет далеко не сказочную жизнь (Пагібельцы, Убібацькі). Герой сказки "Маскаль", ища ночлег, заходит в разные хаты ... "Зайшоў ён у вадну хату, каб папрасіцца на нач, аж там бабы галасяць над пакойнікам. Сунуўся ён у другую – там хворая ўдава з дробнымі дзеткамі, што некаму й вады падаць" [189 , с.236]. Юношаработник, в поисках лучшей доли нанимающийся к разным хозяевам молоть зерно, слышит повсюду одну и ту же песню жерновов: "Як і там, так і тут" (сказка "З чаго ліха на свеце"). Музыкант Иванчик, который пошел по миру искать счастья, "хадзіў, хадзіў, але куды ні прыдзе, усюды гарэй як там, дзе быў уперад" [189, с.215]. О том же говорит и название уже не фольклорного, а профессионального произведения – поэмы Ф.Богушевича "Кепска будзе". Объяснение, почему бытие рядового человека столь безрадостно, во всех сказках – исключая немногочисленные предреволюционные их модификации – единообразно: оно определяется все той же "долей" ("лёсам", "бядой", "нядолей"). "Мабыць, ужэ была его такая доля," –вздыхает Мужик [191 , с.56]. И это не требует объяснений. "Лёс", "бяда", "доля" самодостаточны. Они смотрят за крестьянином во все глаза и не дают ему нарушить не им заведенного хода вещей и событий. Иногда эти понятия заменяются высшим референтом – "Бог". Так, в сказке с красноречивым названием "Бог ведае, што робіць" Господь посылает на землю ангела с поручением отнять жизнь у родильницы, оставив новорожденного сиротой. Возмущенный ангел отказался исполнять приказ, за что разгневанный Всевышний разжаловал его в "парабки". В итоге прав оказался не жалостливый ангел, а Бог: мать стала распутницей, а ребенок – разбойником (злодзеем). Герой сказки "Прамудры Салімон" недоумевает, зачем Бог сотворил отвратительных блоху, паука, змею – до тех пор, пока они не помогают спастись ему от преследователей. Мораль все та же: Бог знает, что делает. О том же повествует сказка "Богач и бедная 107 вдова". Ее коллизия весьма распространена . Бог и святые странствуют по дорогам в обличье нищих. Они просятся на ночлег к местному богачу. Богач отказывает путникам. Зато вдова дает им приют, делится последним хлебом. Благодарность Бога выражается странным образом: он приказывает волку съесть последнюю корову женщины, а богачу посылает бочку с золотом. Даже святые возмущены такой несправедливостью. В итоге богач оказывается в аду, а вдова в раю [206, с. 360-362]. Казалось бы, исчерпывающий ответ на вопрос дан – и он имеет чисто христианский характер: бедняка-белоруса ждет награда на небесах. Но возникает вопрос: а награда ли это для Мужика? Вера и церковь в мировоззрении белорусского крестьянина. При том, что космогонические воззрения белоруса поражают глубиной, мудростью, а то и неожиданно утонченной философией – религия для него имеет характер, скорее, прагматический, на уровне отправления обрядов по принципу "так было от века" и соблюдения заповедей в их нормативном смысле. Тем самым религия задает достаточно строгий образ жизни в семье и в социуме, но не является основой метафизических исканий. Не случайна кочующая из сказки в сказку насмешка над "умным" евреем, который все сидит над своей "бубляю", а жизни не знает: ничего не понимает в крестьянской работе, например. Практицизм в отношении религии вовсе не означает недостаточной веры, это средство соотнесения ее с жизнью. Исходя из того, что вера должна помогать человеку, Мужик ищет в ней возможности, которые могут реально, "здесь-и-сейчас" воздействовать на ситуацию. Так, в "Казцы пра аднаго дзеда і Міколу" старик со всей тщательностью выбирает, кому бы из святых поставить свечку (в сказке подспудно "просвечивается", что старик беден, и не может купить несколько свечей). "Пастаяў ён, пастаяў ды й пайшоў шукаць якую-небудзь найбольш палезную ікону, а свечку ў карман палажыў" [140, с.63]. Затем дед предпринимает совершенно логичное действие: молится перед каждой иконой и ожидает результатов. Около иконы Николаяугодника старик обнаруживает, что свечка исчезла: "Раззлаваўся дзед ды як крыкне на Міколу: – А ты, стары чорт, за чым глядзеў? Вось табе хвіга, а свечку ўкралі" [там же]. Рисунок: Св. Николай – альбом "Живопись Белоруссии", с. 80. При таком понимании религии церковь играет не слишком значительную роль в жизни крестьянина. Вовсе не случайно и поп, и ксендз – образы не просто комические, но главным образом сатирические, а описание службы иронично: "От ужэ дзяк заўёў "харувімы", зрабіў колькасць выкрутасаў, выцягнуў, бы журавель, доўгую шыю, стаў на пальчыкі й так увесь падняўса ўгору, баццэ хацеў паляцець, каб прапець такім тоненькім 108 галаском, як паюць на небе анёлы" [189, с.65-66]. Хождение в церковь хоть желательный, но вовсе не обязательный атрибут жизни Мужика, он куда менее значим, чем труд: "парабку й некалі хадзіць у цэркаў, калі тамака й папоў парабак ніколі не бывае" [189, с.177]. Об этом упоминают Н.Н.Улащик, и В.С.Короткевич: если зимой, в период затишья, люди ходили в церковь, то летом на это не было времени. Отметим для контраста: русская община ходила в церковь даже в периоды самой горячей страды. Вывод напрашивается сам: церковная религиозность – культ и отчасти даже вероучение (видимо, в силу своей вербальной "затемненности", туманности) для белорусского крестьянина не находятся в числе главных жизненных приоритетов. Прежде всего человек должен уметь говорить с Богом в своем сердце: "Не таго Бог выслухае, хто ўмее добра яго прасіць, а таго, хто не моліцца, а толькі шчыра ўздыхне да падыме вочы на Бога. Папоў да ксяндзоў Бог ніколі не слухае, бо яны не моляцца, а толькі благатаюць ці пяюць бы певуны, распусціўшы хвост" [190, с. 237]. И, наконец, именно об отношении к религии с точки зрения быта и здравого смысла свидетельствуют образы святых, которые в понимании Мужика не так уж и святы, поскольку обладают человеческими недостатками. С определенной степенью осторожности можно говорить о том, что белорусский Бог олицетворяет совокупный опыт народа – опыт выживания в неблагоприятных условиях, который включает и добрые отношения между людьми, необходимые для такого выживания. Бог в понимании Мужика – рупор собственных идей, сверхмудрый (оттого, что старый), всезнающий (и с этим связан его образ странника) отец, здраво и рассудительно управляющий детьми-крестьянами. Нередко представление о Боге как о действующей силе отодвинуто в далекое прошлое: некогда он и впрямь жил на земле, "прыхадзіў к людзям бы свой брат", учил всему – и землю обихаживать, и деток плодить, и рыбу ловить, но люди отплатили ему черной неблагодарностью, возомнив, что они "самі, бы богі" [191, с. 134-137], и Бог отступился от людей и ушел на небо. Часто исследователи говорят о синкретике христианского и языческого типов мировоззрения в общественном сознании белоруса. Думается, последний пример представляет третий тип – деистический. Что такое деизм? Это распространившаяся в эпоху Просвещения концепция, которая предполагает признание Бога в качестве разумной высшей силы, сотворившей мир, но при этом считает, что Бог не вмешивается в судьбы людей и вообще в естественный ход вещей. В этом понимании Бог – первоначало и первопричина, но исполнив свои функции, он удалился и предоставил людям жить своим умом. Не случайно сказка заканчивается так: после исхода Бога "радзіўса на свеце ясны розум і пачаў расці... От як вырасце той ясны, бы сонейка, розум, 109 да пачне свяціць людзям у вочы, то тады ўсе пазнаюць, з чаго ліхо на свеце..." [там же, с. 137]. Рай и ад. Вследствие такого отношения к религии идея посмертного воздаяния (например, в сказке "Багач і бедная ўдава") не типична для белорусских сказок: награда на небесах для конкретно мыслящего Мужика предельно абстактна и очень уж отдалена. Более того, белорус вовсе не столь уж уверен в преимуществе рая перед адом. Не случайно герой сказки "Неба і пекла", оказавшись в раю, впал в тоску: "Светыя не кураць, не п'юць гарэлкі, не смеютца, ні песень не пяюць... Не мажэ чалавек ціхонько сядзець, бы намалёваны светы". Потому он и "не хочэ ў небо, бо там вельмі ўсё светое, а чалавек грэшны" [191, с.30] . В этом смысле, в аду куда интереснее: "кажуць, што ў пекле пекне, бо ў пекле чэрці весело жывуць самі да й грэшным душам пазваляюць весяліцца. Мабыць, каму на гэтым свеце добрэ, таму й на том свеце не ліхо, а каму тут ліхо, таго і на том свеце чэрці ў смале смажаць" [190, с. 67]. Как справиться с горем: модель самоиронии. Как бы ни понимать горе – как явление преходящее, обусловленное социополитическими причинами и вследствие этого возможное к преодолению ("усе пазнаюць, з чаго ліха на свеце, паднімуцца ў згодзе, бы адзін чалавек, прагоняць паганую нечысць і зажывуць на зямлі, бы ў раю" [191, с.137]) или же как неотъемлемую часть извечного мироустроения (эта точка зрения в сказках гораздо более распространена) – все равно Мужик не торопится стремительно "браться за вилы" и искоренять несправедливость. Даже в весьма революционной по сути сказке "З чаго ліхо на свеце" он склонен ждать времени, когда у людей проснется разум. Он хорошо понимает, чем отзываются стремительные попытки огулом "усіх параўняць". Способы, которыми Мужик противостоит несправедливости бытия, разнообразны и многочисленны. Основной из них – самоирония. Белорусский крестьянин не устает смеяться над собой – в том числе и над своим фатализмом. Так, в одной из сказок обманутые купцы собираются убить героя и совещаются, каким способом это лучше сделать. "Доўго яны крычалі, аж ахрыплі, нарэшце пытают самого Сымона, як ён хочэ: ці каб павесілі, ці каб утапілі. "Э, хварэць вашуй матары, – кажэ Сымон, – рабіце, як лепш" [189, с.114]. А получив от пана за принесенный ему подарок обычную "награду" – розги, Мужик рассыпается в благодарностях: "Дзякуваць, паночку, от гэто бралі мае бацькі і дзеды..." [191, с.88]. Нередко самоирония является специфическим способом утверждения чувства собственного достоинства Мужика: "Бачыць мужык, што пан вельмі моцно штось думае, да не можэ агарнуць сваёю польскаю галавою, і захацеласо ему памагці пану сваім дурным мужыцкім розумам" [бел-пал, с.69]. Заметим, что само это утверждение 110 производится косвенным способом – под видом почтения и подчеркивания собственного низкого статуса в социальной иерархии ("дурным мужыцкім розумам"). Естественно, "дурны розум" гораздо более проницателен и способен к нестандартным решениям, чем "польская галава" пана. "Должное место". Другая, хоть и пересекающаяся с первой, модель поведения в трудных жизненных обстоятельствах – это делать должное и находиться на должном месте. Эта идея, пожалуй, одна из главных в белорусских сказках. Здесь необходимо сделать краткое пояснение. Не столь уж редко исследователи – в том числе и отечественные – говорят о белорусской пассивности и равнодушии (абыякавасці), которые выводят из тяжелой исторической судьбы народа и порожденного ею фатализма. Это верно лишь отчасти. Если объяснять социальную медлительность, послушание, долготерпение и неприязнь к радикальным изменениям лишь "абыякавасцю", то за кадром остается, например, воинский героизм белорусов – в первую очередь, в Великой Отечественной войне. От пассивного Мужика, "равнодушного к добру и злу" (П.В.Шейн) до воина-героя, причем воина инициативного (сама сущность "партизанства" инициативна) – и все это менее, чем за восемьдесят лет – не слишком ли велика эта дистанция? Ответ следует искать в неком промежуточном качестве, которое игнорируют исследователи – не в самом фатализме, а в той форме, которую он принимает у белоруса. На наш взгляд, это форма должествования и – в частности – должного действия, строго соответствующего обстоятельствам. Рисунок: Белорусский крестьянин начала 20 века – Этнография Беларуси, с. 301. Максима "Делай, что должно, и будь, что будет" (ярко выраженная, например, пословицей "Паміраць сабраўся, а жыта сей") неустанно подтверждается белорусскими сказками. Белорус уверен, что он вовсе не случайно находится на своем, единственно должном, месте – в этой деревне, в этой семье, среди этого ландшафта и этих людей. Оттого Мужик редко пытается "переломить" судьбу, а если и пытается, то, как правило, неудачно. В абсолютном большинстве случаев он следует тем обязанностям и функциям, к которым его обязывает "должное место" ("Гараваў, працаваў, жыў, як усе"). Так, в сказке "Кавальчук і паніч" мудрый пан (чрезвычайно редкий образ в фольклоре), книгочей и естествоиспытатель, ради эксперимента подменил двух новорожденных – своего сына и сына кузнеца. Когда начали учить детей, выяснилось: настоящий панич тянется к знанию, а мнимый только и умеет, что играть с дворовыми мальчишками. При всем уважении к панской начитанности в сказке чувствуется насмешка. "Открытие", на которое пану потребовались годы, для Мужика вовсе не составляло секрета: он 111 изначально знал, что пытаться изменить судьбу бессмысленно. Идея должного места для Мужика бесспорна: она колеблется в амплитуде от неудачной пробы причаститься панскому столу ("Нехай, яна, паночку, спрахне, гэстая гарбата! Усе печанцы гараць" [189, с.146]) и до не более удачной попытки обмануть смерть (сказка "Круці не круці, а трэ памерці"). Какое же место является должным для белоруса – не в час катастроф, а в структурах повседневности? В сказке "Чалавечае вока" мудрый царь ходит по земле (обратим внимание: царь избирает традиционный, идущий от Бога способ обретения опыта – странствование) и ищет причин недовольства народа. И видит: дети взвешивают глаз. А глаз тяжел: он перевешивает гору камней. Но ребенок слегка припорашивает глаз песком, и тот вмиг становится легким. "Дагадаўся мудры цар, што тагды чалавек будзе даволен, як ему песком прысыплюць вочы" [191, с. 42-43]. Глаз – извечный символ души человеческой, и не случайно в массовом сознании до сих пор бытуют представления о "добром" и "недобром" глазе, о "сглазе" и т.д. "Тяжелый" глаз тяжел в силу недоброты, корень которой – зависть. Ведь именно он зорко подмечает, что у другого и дом лучше, и скот справней, и жена красивее, и дети здоровее. Отсюда раздор, вражда, неистребимое страдание. Более того, даже реальная несправедливость – эта мысль тоже прочитывается в сказке – не должна быть слишком уж отчетливой. Ибо глаз, постоянно фиксирующий факты жестокости, ущерба, экзистенциальной трагедийности, становится недобрым, а человек с "тяжелым глазом" в боях за справедливость лишается главного качества – человечности. Думается, в этом мы находим ответ сразу на два вопроса. Во-первых, исчезает разрыв между "дурным мужыком" (Я.Купала) и смелым, инициативным воином. Различие – в разности должных мест крепостного крестьянина в обыденных условиях жизни и защитника – в катастрофических обстоятельствах. И во-вторых, с долей осторожности можно предположить, по каким причинам белорус не пошел за некоторыми активными лидерами, желавшими изменить его жизненный мир (в частности, в 90-х гг. ХХ в.). Это нарушало иерархию, где белорусу отводилось пусть скромное, но должное место. "Тихость". Должное место предполагает строгий поведенческий кодекс, стержень которого – качество, которое мы вслед за одним из сказочников назовем "тихостью". Это слово, как и однокоренные слова, часто встречается в белорусских сказках и всегда с точки зрения высшего достоинства. Сама олицетворенная Правда тиха. В сказке Правда (Праўда) – крестьянин, которому его брат Крыўда выколол глаза. Тогда Правда "узяў кіёчак, мацае ім дарогу да йдзе паціхеньку ўперад. Ішоў ён, ішоў, 112 падышоў к дубу да й сеў супачыць. Седзіць ён ціхенько да Бога хваліць, што хоць жыў астаўся" [189, с. 98]. Внешне "тихость" выражается в установке "усе казаць – ворагаў нажываць" [189, с.159]. Немногословие, застенчивость и сдержанность – характеристики белоруса, которые первыми отмечаются исследователями, причем вовсе не всегда в положительном контексте. В сказках же эта черта наделяется священностью. "За тое, што ты такі ціхі перад Богам і перад людзямі, даў табе Бог моц" [191, с. 56], – говорит Мужику старец. Обратим внимание: именно скромность и неприметность (которые старец превращает в чудодейственную невидимость) возводятся в ранг сакрального. Но как только Мужик проявил эмоциональность – усмехнулся во время церковной службы ("гэто саграшыў Богу тым сьмехам") – он незамедлительно низвергается с пьедестала. Смех как выход из состояния молчаливого смирения есть грех. Примечательно, что для усугубления неуместности веселья, нарушившего "тихость" героя, сказочник переносит действие в церковь, к которой в обыденной жизни крестьяне относились без особого пиетета, что отмечается многими сказками. Идея должного места проистекает из фатализма, как и покорность обстоятельствам, долготерпение, некоторая социальная вялость ("млявасць") и другие качественные характеристики Мужика. Поскольку эти недостатки и их причины широко освещены в культурологических, этнографических, фольклористических и др. трудах, мы не видим особого смысла останавливаться на их анализе. Еще Н.Бердяев и Н.Лосский утверждали, что недостатки народа суть продолжение его достоинств. То же можно сказать и о достоинствах, которые являются обратной стороной недостатков. Здесь следует говорить о невероятной жизнестойкости белоруса, которая могла возникнуть и удержаться в тяжелейших исторических обстоятельствах лишь при условии позитивности мышления и мировоззрениия в целом. Пессимизм и надежда на лучшее удивительным образом питают друг друга. Ведь и трагический, и оптимистический взгляд на вещи по сути фаталистичны: они исходят из одного источника – общего миро- и человекоустроения – предполагающего ту изначальную справедливость, которая хоть и может зримо выражаться в глубочайшей несправедливости, но по сути исходит из чувства нерушимой связи, слитности жизни человека, других людей и бытия как такового. В непонимании этого – причина просчета ангела из сказки "Бог ведае, што робіць". В этой слитности находится место и злу, и добру, их связь никогда не порывается, более того, они поддерживают, уравновешивают друг друга, и на этой противоречивой совокупности зиждется мир, жизнь и судьба – как всей общности, так и конкретного человека. Осознавая это, Мужик с настороженностью относится к переменам – в том числе и переменам к лучшему. Потому-то крестьяне из 113 сказки "Поп і пустэльнік" не радуются хорошему урожаю: они боятся, что на смену добру придет зло. Горе сломает лишь того, кто всерьез поверил в закономерность летучего, эфемерного, случайного счастья. Закономерно лишь выстраданное. Потому в сердце Мужика всегда живет надежда: чем больше невзгод обрушивается на него, тем более возможным становится будущее благоденствие, понимаемое, впрочем, весьма скромно. "Што як ні ліхо жыць на свеце, але пажыву, та моо і будзе лепш," – говорит он [191, с. 186]. Фатализм белорусского константного ЭС двойствен, амбивалентен, он стоит над категориями горя и радости и оправдывает многообразные и прихотливые способы их гармонизации. Потому жизнь исторического белоруса связана с поиском таких путей, с помощью которых он может изменить ситуацию к лучшему, не колебля единства мира, человека, общности. С той же целью он вырабатывает определенные формы обращения с повседневностью, главная из которых – поиск окольного пути в речи и в действии. Такой подход к повседневности – в том числе к повседневной несправедливости – без преувеличения можно назвать основным способом действия и желательной формой взаимодействия героев сказок. "Окольный путь" и пассивный саботаж. "Окольное" бытийствование – древнейшая модель мышления, чувствования и поведения, типичная для традиционных культур: достаточно вспомнить центральный принцип даосизма "у-вэй" (недеяние). Корень отказа от активных действий – не в слабости или трусости, а в соучастии человека в высшем должествовании, ибо "нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…". Потому если ситуация востребует изменений, то они должны привноситься в жизнь косвенно, как бы случайно. Для соблюдения норм "окольности" необходимо учитывать характер и силу противостояния и использовать их в своих интересах: "Калі чалавек ідзе з ветрам, та яму лёгко йці, а калі проціў ветру, та вецер яго валяе" [189, с.179]. Отсюда – наиболее популярный в сказках механизм достижения целей – хитрость. Пожалуй, именно хитрость – самое освещенное (и самое рационализированное народным сознанием) качество константного самообраза крестьянина. Часто она реализуется в сопротивлении под личиной послушания. Пан или Поп (реже Черт, Баба и др.) требуют от Мужика совершения нежелательных или невыполнимых действий. Мужик соглашается, но исполняет порученное так, чтобы "убить двух зайцев": и требование удовлетворить (избегнув конфликта), и ничего не изменить по сути. Есть достаточно оснований для предположения, что такой способ действия в затруднительной ситуации был свойствен белорусскому крестьянству не только в сказке, но и в жизни. 114 Вот как, например, крестьяне реагировали на противоречащие их установкам и принципам правительственные указы. "В 1910 и 1911 гг. почти всех хозяев Вицьковщины записали в братства. Однако организаторы всей этой акции не учли, что православные братства XVII и XVIII вв. создавало само население и что они в значительной степени были в оппозиции к правительству. Теперь же их создавали и вынуждали работать по указке правительства, причем их главной задачей была борьба с поляками (католиками) и евреями . Из этой задумки, разумеется, ничего не получилось… выпив и закусив, они [члены новоявленного братства. – Курсив мой. Ю.Ч.] пропели патриотическую песню в честь царя-батюшки (текстом певцов обеспечил, наверно, поп) и разошлись по домам. На этом деятельность братства в Вицьковщине завершилась" [197, с.117] . "Дурны мужык"? Поведение героев сказки в подобных обстоятельствах определяется так: "Быў ён хіцёр, але прыкідваўся дурням" [189, с.111]. Мужик выполняет наказ либо "через пень-колоду", либо каким-то непродуктивным способом, либо же настолько буквально, что логика требования утрачивается, и оно попросту становится абсурдным. Та же модель характерна и для бесед с сильными мира сего. На вопрос чужого Пана "откуда ты?" (подразумевающий "чьим крепостным ты являешься?") Мужик отвечает, что он из дому; на вопрос "чей ты?" следует ответ "жены"; на вопрос, как зовут его пана, Мужик ловко выворачивается: мол, в юности паничем звали, а сейчас – "ягомасць" [184, с. 433]. С целью выведать, кто же хозяин Мужика, Пан задает все новые и новые вопросы: "Кого ты боишься?", "Под кем ты живешь?". На первый крестьянин отвечает, что боится волков и собак, а на второй – что живет он под Богом. Почему Мужик не отвечает прямо? Ведь он же понимает, чего добивается от него Пан. В том-то и дело, что слишком хорошо понимает. Вопрос "чей ты?" означает: "кому ты принадлежишь?", а белорусский крестьянин принадлежит, в первую очередь, себе. Впрочем, он согласен принадлежать Богу (или, на худой конец, жене), но уж никак не Пану. Эти вопросы оскорбительны, т.к. ставят под сомнение важнейшую категорию должествования – изначальное равенство людей. "Непонимание" панских вопросов может принимать облик "недослышания": – Чалавечку, чый гэта двор? – Гэта, пане, мой чорны вол! – Да я пытаюся, чый гэта паліварак? – Гэта, пане, мая саха і падпалак! [140, с.91]. 115 Здесь идет речь уже не о человеке, а об имуществе. Панский двор (усадьба, фольварк) во всем своем великолепии создан крестьянином (черным волом, сохой, а главное – руками), и Мужик об этом никогда не забывает. Модель "недопонимающего-недослышащего" поведения означает здесь утверждение собственного достоинства, но утверждения неявного, косвенного. Белорус недемонстративен: ему гораздо важнее внутреннее знание того, что он поступает правильно, чем оценка Пана – самого чужого из всех "образов чужих". Впрочем, соображения безопасности тоже играют отнюдь не последнюю роль. Тому же служит подмена переносного смысла прямым, отчасти переданная в первом примере. Наиболее выразительно и тонко эта языковая игра проводится в следующем диалоге: – Мужык, мужык, хто ў вашам сяле высшый? – Знаю, панок, і ведаю: ёсць у нашым сяле Аўдзей – вышэ за ўсіх людзей! – Дурак, мужык! Я ў цябе пытаю: ці ё ў вашым сяле галава? – Знаю, панок, і ведаю: ё у нашага пана бугай – галава бальшая, прабальшая! – Дурак, мужык! Я ў цябе пытаю: каго вы ў сябе баіцеся? – Знаю, панок, і ведаю: ё у нашага пана сабака – хто йдзе, кол нясе, я іду – два нясу" [140, с.19]. Рисунок: Белорусский крестьянин нач. ХХ века –З.В. Шыбека, С.Ф. Шыбека, с. 37. Белорусская хата – Этнография Беларуси, 317. Такое уклоняющееся поведение дает возможность "сохранить лицо", в очередной раз попрактиковавшись в виртуозном владении эзоповым языком, и одновременно – избегнуть прямого конфликта. Если же пассивное сопротивление не приводит к нужным результатам, Мужик переходит к более активной форме – обману. Обман как тактика достижения своих интересов. Обман в белорусской сказке – своеобразный механизм достижения того, что положено по праву, но чего невозможно достичь напрямую. Не случайно объектом обмана со стороны Мужика, как правило, являются те, кто находится выше в социальной иерархии. Еще раз оговорюсь, что идея справедливости для белорусского крестьянина имеет особую окраску: "справедливостьна-месте" должна отображать связь высшего бытия с повседневным "здесь-бытием". Потому обманывая вышестоящих, Мужик нередко опирается на религиозные и/или мифологические представления, более того, практически использует их в своих нуждах, или, по его убеждению, в нуждах справедливости. Так, Пан из сказки "Брахня" [191, с.61-62], который верит всем небылицам, за хорошую плату просит мужика Ахрема рассказать такую небыль, чтобы он (Пан) не поверил. Ахрем нанизывает одну ложь на 116 другую – и реку-то он сжег, и медведя наизнанку вывернул, и с отцом и дедом на небе пьянствовал, но Пан "верит" всему. Однако стоит Ахрему заикнуться о том, что в пекле видел панского отца, и на нем черти смолу возили – как Пан немедленно кричит: "Брехня!". Обратим внимание, во-первых, на то, что Мужик – даже самый негодный по крестьянским меркам (Ахрем – пьяница и лентяй, не имеющий даже хозяйства, а по меркам крестьянства, это уж совершенно потерянный для правильной жизни человек) – заведомо умнее пана; во-вторых, что образ иного мира (реального или вымышленного) можно заставить служить сиюминутным бытовым нуждам. Отметим и тонкую игру на психологических нотах, которая обеспечивает успех всего предприятия. В другой сказке Мужик подобным же образом надувает корчмаря: якобы на "том" свете он видел родителей последнего, и они просили передать лошадей и одежду, что преданный сын незамедлительно исполняет. Если в первом случае крестьянин играет на гордыне пана, то во втором – на семейственности, одном из опорнейших качеств еврейского менталитета. Стать тонким психологом Мужика вынуждает незавидная жизнь, породившая модель окольного пути как возможности добиться своего исключительно косвенным способом. Сама привычность такого поведения и – шире – мироощущения служит Мужику высшей санкцией: "Даўней людзі яшчэ не былі такія хітрые, як цепер... ніхто нікого не ашукоўваў, каб і яго людзі не ашукалі. Толькі вось з’явіліса такія людзі, што захацелі забагацець, от і пачалі яны ашукоўваць да крыўдзіць людзей. І нарэшце пашло па сьвеці такое круцельство, што кожын адзін другого ашукоўвае да толькі наравіць, каб яму было добрэ. Але трасца яму ў зубы, а не дабро, бо заўжды знайдзецца яшчэ хітрэйшы, што й яго ашукае або гарэй скрыўдзіць" [189, с. 247]. Итак, вновь должное место. Если раньше, в золотом веке, люди могли позволить себе абсолютную честность, то сейчас "усе такія", а прожить можно, лишь будучи, "як усе". Хитроумия востребует не только прямая необходимость (добывание денег, усовершенствование быта и т.д.), но и представление об изначальной, но впоследствии безнадежно нарушенной справедливости. Только так – отплатив обманом за обман – можно вернуть вещи и отношения к их исходному "золотовечному" состоянию. Потому в сказке "Новы чорт" Мужик, найдя в своей кадушке развратника-Попа, повадившегося к его жене, обваливает недостойного священнослужителя в дегте и в перьях и продает под видом черта. Таким образом крестьянин не только получает прямую выгоду от продажи (что тоже немаловажно), а и сызнова задает нарушенный статус кво: замаравший себя безнравственностью Поп приобретает самый подходящий для него облик. Обратим внимание и на то, что крестьянин наказывает Попа в его же собственной системе 117 координат, придав ему хоть отрицательный, но религиозный образ. Такого же рода "гомеопатическое" наказание постигает и ксендза в сказке "Мужык, пан і ксёндз". Хитроумный Мужик сымитировал конец света: налепил на раков зажженные свечи, сам прикинулся ангелом, явившимся за ксендзом, сунул его в мех и отнес к пану в свинарник. Обман (не просто социальный – фатальный, следствие общей порчи бытия) должен наказываться только обманом. Для Мужика бесспорно, что именно он имеет на обман исключительное право: ведь все иные (Пан, Поп, Ксендз) могут улучшить свое бытие другим, более законным способом, хоть и не торопятся это делать. Кража как высший пилотаж: авантюризм в белорусской сказке. Практическая реализация обмана – кража. Здесь необходимо учитывать, что сказка и реальность согласованы не прямо, а опосредованно. Как известно, "сказка – ложь, да в ней намек...". По единому мнению исследователей, воровство в народе всегда считалось большим грехом [148, с.115]. По воспоминаниям мемуаристов, в белорусской деревне родители сурово наказывали детей даже за самую малую кражу, например, за сорванное с чужой ветки яблоко. Потому воровство было явлением чрезвычайно редким. Об этом свидетельствует и такое наблюдение: "Рядом с входной дверью прорезали небольшое окошко. Через него, уходя из дому, закрывали его на засов, через него и открывали. Эти запоры были чисто символические, потому что о предназначении окошек знали все, но крали в деревне так редко, что хозяев такая система полностью устраивала" [197, с. 48]. Доказательство того, что подобные утверждения не являются лакировкой действительности, – до сих пор принятая во многих деревнях манера не закрывать входных дверей на замок. Однако сюжетной пружиной сказочного действия часто является кража. Почему ворует герой белорусской сказки? Неужели лишь из-за забитости и закабаленности, когда надежды на праведное достижение хотя бы самого малого "дабрабыта" разбиваются в прах? Отчасти, вероятно, так и есть. Однако причина глубже. В определенных аспектах кража есть выражение несмиренного, хоть и подавленного авантюрного и даже творческого духа. Так, в упоминавшейся уже сказке "Аб Сахарку-злодзею" герой не только "облегчает" панское хозяйство на жеребца и быка, но еще и не отказывает себе в возможности насмеяться над Попом и получить за это деньги от Пана. Более того, крестьяне осмеливаются не только обобрать Пана до нитки, но и обратиться к нему, как к арбитру – дабы он помог поделить награбленное ("Як і з дурня часам разумны"). Фигурально выражаясь, в сказке сосуществуют кража и... Кража. Первая – презираемое белорусом воровство, недопустимое в "грамадзе". Потому его свершителем практически никогда не является Мужик: ворует Москаль (солдат, т.е. человек без 118 корней, маргинал), ворует – впрочем, у Мужика достаточно редко – Злодзей (разбойник), которого к этому обязывает сама его "специальность". Ворует цыган. Вторая разновидность воровства – "Кража" с большой буквы – авантюрное воровство у сильных мира сего. Такая Кража представляет собой "произведение искусства" (изящное воплощение хитроумного плана), и Мужик охотно и с достоинством принимает на себя и ответственность за ее свершение, и даже наказание. Отметим, что ее объектом редко становится сосед: чаще всего это Пан (Поп, Ксендз, скупой Богач и т.д) Такое воровство получает высокую санкцию и со стороны: в ряде сказок Мужик предварительно заключает с самим Паном спор о том, удастся ли ему того обокрасть. В этих случаях Пан, как правило, отличается умом и сообразительностью, что в сказках нечасто. Тем не менее, Мужик неизменно оказывается и умнее, и смекалистей, и проворней. Часто воровство бывает вознаграждено и сверх того, что Мужику удалось вынести из усадьбы: он получает в жены панскую дочь. Вероятно, этим мудрый Пан достигает цели впрыснуть в скудеющую кровь рода новую – жгучую и авантюрную. Однако существует и санкция воровства, куда более значимая, нежели разрешение Пана. Это санкция Бога. Не случайно в некоторых сказках приводится своеобразная крестьянская расписка, врученная пану, например, такая: "Жыў Іван на слабадзе, / Чорт ведае дзе;/ Ідзе кабылу красці, – / Дай, Божа, яму шчасця! /Колі ўкрадзець / І Бог яму павядзець, / Дык назад атвядзець/ А колі Бог ні павядзець / Дык і гэта прападзець" [206, с. 210] . Таким образом сам Бог задает моральное измерение кражи: если Мужику удается облапошить богача, значит, результат сам говорит за себя, ибо "Бог ведае, што робіць". Может быть, именно в силу Божественной санкции родители, не так уж давно наказывавшие детей за ворованное из чужого сада яблоко, с пониманием относятся к такой просьбе взрослого сына: "Тата, купі гарэлкі, пайду ў пана каня красці" [188, с. 59-60]. Воровство во благо? Авантюрный момент в совершении кражи нередко дополняется мотивом всеобщей справедливости. В сказке "Каму грэх, а каму не" Иисус одобряет кражу сорочки – причем, ее совершает не даже Мужик, а Св. Петр. Хотя это воровство отнюдь не из принципиальных соображений, а всецело от нищеты, оно косвенно служит примирению двух братьев, не могущих эту сорочку поделить. "Насі гэтую сарочку, хоць ты яе ўкраў, бо гэтым ты робіш дабро людзям – мірыш іх, а хто мірыць людзей, з тым і Бог памірыцца," – так говорит Петру Христос [189, с. 44]. Итак, если воровство – во благо (или даже по чистой случайности служит благой цели), то оно разрешено и даже желательно. Именно потому уместно украсть у богатого и жадного, 119 который нарушает неписанный закон "грамады": "сусецкая справа – трэ памагаць у бедзе адзін другому" [189, с. 53]. В случае несоблюдения закона включается автоматический механизм отмщения: "сусецкай справай" становится кража воза сена у нарушителя. Потому и воровство у пана считается не преступлением, но возвращением "своего": даже добрый пан (в сказке это оксюморон) – звено в цепи вековечной несправедливости. В этом отношении показателен разговор бедного Попа (тоже оксюморон) и его работника Штукара, названного так за "штуки", которые тот вытворяет в обычном для него нетрезвом состоянии ("Іньшы сон як у руку дась"): "Украдзьмо ў пана вала, тай будзе што есці". – "Гэто ж грэх". – "Які грэх? У пана красці не грэх, бо пан багаты. Ён у нас пакраў, а мы свае дабро возьмем назад. Дак гэто ж не грэх" [189, с. 244]. Пусть нас не вводит в заблуждение пьянство и хулиганский нрав Штукара: так рассуждает даже самый дисциплинированный и трезвый герой сказок, Мужик-крестьянин. Итак, кража существует в трех ипостасях: первая – мелкое, нравственно нечистоплотное воровство "со стороны"; вторая – авантюрно-решительная (кража как творческий акт, представляющая собой мечту, а не реальность) и, наконец, третья – воровство в целях воцарения справедливости. Ее причина – все та же уверенность, что прямым путем этой справедливости достичь невозможно, т.е. окольность. "Эзопово" мышление. Несмотря на все длинноты и извилины, окольный путь, по представлению крестьянина, куда более верен и менее конфликтен, нежели прямой. Он же предпочитается и в рассуждении. Без преувеличения можно сказать, что во многом именно "эзопов" способ мышления и дает ту утонченную метафизику, с которой мы то и дело сталкиваемся в сказках и которая разрушает привычный стереотип прагматичного, не склонного к высоким материям Мужика. Так, именно Мужик, а не сенаторы, верно отвечает на вопросы царя Петра: почему небо высоко, как глубока земля. Красноречивый пример народной схоластики в той же сказке – объяснение Мужика, как он тратит деньги: две гривны в долг отдает (кормит и обихаживает родителей), две – в долг закладывает (растит сыновей), две – на ветер бросает (воспитывает дочек), а две с женой проживает [188, с. 29-30]. В белорусском крестьянине сочетаются бескорыстная тяга к размышлению и подспудный расчет (Петр награждает Мужика и обязывает сенаторов обратиться к нему за "платной консультацией"); здравый прагматизм уживается с философствованием, которое является основанием всего строя жизни – в том числе и бытовой, хозяйственной. Рисунок. Паляшук – Мужчынскі касцюм, с. 71. 120 Так, в сказке "Мужык і паніч" крестьянин вступает в спор со студентом ("скубэнтам") о том, чьи знания глубже. Гром и молния, которые студент объясняет электричеством, для Мужика – Божия мощь. Огонь в печи, для "ученого" юноши остающийся природным феноменом, для крестьянина – сама красота; кот, умывающийся лапкой, – не просто животное, а чистота; полати – высота, вода – благодать. В отличие от юноши, вкормленного на молоке Просвещения и живущего в ограниченном мире законов природы, Мужик видит двойное дно каждого явления. Здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно интересным предметом – отношением Мужика к знанию. Отношение к знанию. Как примирить несовпадение реальных фактов (грамотность, свойственную крестьянству Беларуси уже в начале ХХ вв.; любовь к чтению в деревнях в то же время; резкий скачок в сфере культуры и образования за первые годы советской власти и т.д.) и сказки, герой которой – Мужик – относится к образованию с глубокой иронией? Вспомним уже упоминавшийся эпизод с разбойником, который крадет так залихватски, что суд выносит постановление наградить его дипломом: "нехай ён крадзе законна" [188, с. 62]. Дело здесь не только в восхищении талантом вора, но и в уверенности, что знание как таковое имеет оттенок неправедности. Здесь для нас наиболее важны два вопроса: из чего исходит такое отношение Мужика к знанию и насколько оно отвечает убеждениям реального крестьянина-белоруса? Как мы можем судить по предыдущему примеру, в глазах Мужика образованный человек – отнюдь не властитель дум, скорее, это дутая фигура. Его самомнение основывается на определенном запасе бесполезных сведений, в которых нет ни величия (красоты, чистоты, благодати), ни практической применимости в крестьянской жизни и работе. Не случайно образованный человек – всегда маргинал. О его неукорененности свидетельствует то, что чаще всего он либо пришлый ("скубэнт"), либо же непутевый сын Мужика, оторвавшийся от почвы и стремящийся прочь из дома. Вообще в белорусской традиционной культуре следует четко различать почетное странничество, связанное с обретением и привнесением мудрости (старцы, странствующий Бог, Св. Николай-угодник в виде калики перехожего и др.), и отрыв от корней (москаль, цыган, разбойник и др.). К последним Мужик обыкновенно относится с насмешкой, хоть и с интересом. Даже если маргинальный персонаж умен и красноречив, верх в споре, как правило, одерживает крестьянин. В том же случае если, как в сказке "Мужык і паніч", побеждает студент (в ряде сказок со сходным сюжетом студента заменяет москаль), то 121 сама победа основана на тех принципах рассуждения, на той "языковой игре" (термин Л.Витгенштейна), которую он впитал от Мужика. И это понятно: по глубокому убеждению крестьянина, верное знание о жизни дает только труд, причем труд оседлый, сельский, почвенный. Разрыв с землей, с семьей, родом, домом в поисках "синей птицы" – знания – не просто непродуктивен, но и постыден: "Было ў яго двое сыноў. Адзін просты, шчыры да работы хлопец, а другі якісь шарахвост. Ён много шляўса па сьвету, дзесь быў у месьці, дак лічыў себе вельмі разумным і не хацеў рабіць простаго мужыцкаго дзела" [189, с. 256]. Связь между знанием и ленью для Мужика бесспорна, и не случайно в мемуарах Н. Улащика мы читаем: "Витьковцы считали настоящей только тяжелую физическую работу, а точнее – работу крестьянскую. Что касается других видов человеческой деятельности, то их воспринимали с иронией. Особенно презирали работу в разных учреждениях, где летом хорошо одетые люди сидели в холодке, а зимой – в тепле" [197, с. 65]. Рисунок: Горожане – Жаночы касцюм, с. 38, 41. Разум или труд? Мемуарному свидетельству вполне соответствуют сказочные коллизии: "Былі ў бацька два сыны, адзін разумны, а другі дурны... Як бацько пастарэў да ўжэ не ўздужаў прыганяць сыноў да работы, та разумны сын пачаў агінацца, пачаў увільваць ат работы да ўсё цяжкае дзело ўзвальваць на дурня. А той, ведамо, як дурны, запрогса, бы чорны вол у саху, да й не бачыць прасьветлае гадзіны. Разумны та ў людзі, та ў карчму, та ў волась ці куды, а дурэнь... так робіць, што аж жылы ў яго трашчаць" [189, с. 130]. Естественно, "умный" брат презирает "дурня" (обратим внимание на иронию, проскальзывающую в этих определениях). И так же естественно, что в конечном счете в выигрыше оказывается "дурень", не пытавшийся перепрыгивать через собственную голову, а живущий привычным, достойным крестьянина образом. Противопоставление "разум – трудовая жизнь" – общее место множества сказок. Нередко оно обогощается дополнительными оттенками. Так, ученый сын велит отцу не платить страховки за кобылу, вполне адекватно обосновывая это грабительскими условиями страхования. Друг отца деликатно, но и твердо комментирует это так: "Эй, сябрэ, нашоў каго слухаць. Кепьско, калі яйца курэй вучаць. Мо там па пісьменнаму і гэ, але ты чуў, што людзі кажуць: Бога хвалі, да й чорта не дражні. Выбачай, твой сын разумны хлопец, пісьменны, але ў нашум мужыцком дзеле яшчэ нічого не знае, бо, ведамо, блазан" [189, с. 202]. Разум как возмутитель спокойствия и стабильности неоправдываем ни рационализациями (накладные условия страхования), ни – тем более – пониманием вещей с точки зрения здравого – но чуждого, городского смысла. 122 Разум как отчуждение. Разум не только ленив, а и кичлив: он выдергивает человека из среды, в которой тот рожден, отрывает от людей, в кругу которых он должен находиться. Ученость нарушает сакральную для любой традиционной культуры установку – принцип уподобления каждого всем ("быць, як усе") и важнейшую белорусскую ценность – "тихость". Много повидавший и многое узнавший человек не может не выделяться из связанной традиционными нормами "грамады". Однако несмотря на то, что в белорусских сказках такое поведение считается предосудительным, отношение к нарушителю достаточно терпимое. Его не отвергают, не проклинают, не наказывают: его уговаривают образумиться. И хотя единственная мечта умудренного жизнью отца-крестьянина, которого угораздило породить умника-сына: "нехай толькі чорны вол наступіць на ногу, та ён кіне свае вымышляньне да будзе, як усе людзі" [там же], он не карает юношу и лишь намеком дает ему понять, что его эгоцентризм и хамство неприемлемы. В конечном счете "излишне умному" сыну предоставляют свободу действий, а вместе с ней и возможность убедиться в собственной неправоте. Здесь сказываются уже знакомые нам качества белорусского менталитета – окольность и деликатность. В сказках акцентируется еще один отрицательный момент излишней учености – непослушание: "дак ужэ такого набраўся розуму, што пачаў і старшых вучыць. Упікалі часамі яму людзі, кажучы, што яйца курэй не вучаць, але ён не слухаў" [189, с. 261-262]. Причем в отличие от героя первой сказки, этот юноша не лентяй, не "шарахвост", напротив, "удалы да працавіты", но "на свой век моо ўжэ вельмі разумны" [там же]. Коллизия сказки такова: удалой, работящий – да вот беда! – излишне разумный парень слишком горд для того, чтобы прислушиваться к рекомендациям родни и свояков в выборе невесты. "Ведамо, у нашум стане толькі на тое пазіраюць, каб жанчына была добрая гаспадыня, каб умела спекці хлеб да зварыць страву, а ўзімку паставіць кросна да абшыць гаспадара да дзяцей, каб не сьвецілі целам. А той хлопец шукаў сабе жонку самую разумнейшую, каб яна была такая цікавая да растаропная, як і ён сам" [там же]. Год или два ходил он по всему царству, да так и не нашел умной жены. Несолоно нахлебавшись юноша вернулся в родную деревню, где женился на девушке, которую и предлагали ему родные и свояки. Обратим внимание на то, что родители, не выпячивающие свой ум, в выборе невесты для сына оказались правы изначально: ведь важнейшая компонента белорусского разума – опыт. Рисунки: Белорусский юноша-романтик. – Этнография Беларуси, с. 133. Хлопец в картузе. – Этнография Беларуси, с. 251. 123 Наиболее ярко насмешка по отношению к образованию проявляется в образах "чужих". Так, об ученом Еврее-талмудисте, который "усё над бубліяй сядзеў" сказочник говорит: "Ён такі пісьменны, такі навучны, такі разумны, што за розумам і свету не бачыць" [191, с. 92-93]. Здесь же можно вспомнить и экспериментатора-Пана из сказки "Кавальчук", и хитреца-Попа (Ксендза). Но об этом – чуть позже. "Сказка – ложь…"? В то же время представлять дело так, будто ум (знание, образование) для Мужика играет сугубо отрицательную роль, неверно. Иначе совершенно непонятны уже приведенные выше реальные факты. Добавим еще один, самый красноречивый. В 1941 г. (т.е. менее через тридцать лет после того, как А.К.Сержпутовский записал сказку "Самая разумная", о которой мы ведем речь) в Беларуси на 10.000 населения приходилось 24 студента. Это вполне отвечает европейским меркам того же времени. Начало этому было положено с 1905 г., когда детей стали отдавать в городские учебные заведения. Откуда же такое противоречие? Во-первых, оно исходит из самой специфики сказки, которая, несмотря на то, что "в ней намек", – все же "ложь". Во-вторых, противопоставление крестьянского ума другим его типам – панскому, поповскому, талмудическому – проводило своего рода демаркационную линию между Мужиком и Чужими или Другими, необходимую для сохранение "порога коммуникации" (термин К.Леви-Стросса), т.е. "порога" между культурами, который не позволяет этносу ассимилировать с другим, даже более "сильным". В-третьих, недоброжелательность к знанию относится не столько к нему как к таковому, а к тем качествам, которые нередко приходят вместе с ним. Так, известно, что "некоторые "ученые" [под "учеными" автор понимает свежеиспеченных телеграфистов и учителей начальной школы. – Курсив мой. Ю.Ч.] воспринимали свою "ученость" так серьезно, что, приезжая в родную деревню, все время молчали, т.к. не находили себе собеседников под стать" [197, с. 36]. Выразительный пример подобного "образования", незаконно поднимающего новоявленного "ученого" в собственных глазах, дает классический белорусский анекдот. Его герой, юноша, возвращается "з навукі" в родную деревню. Там он обнаруживает полное нежелание и неумение трудиться (наступил на грабли, которые огрели его по лбу, затем забрался в огород, съел морковку, влез в коноплю). Об этом юноша – в ожидании обеда после "трудового дня" – повествует "на латыни": "Настэмпус на грэбус, дастантус па лэбус, вырвантус марквянтус, улестус у канаплянтус і з'естус" [140, с. 73]. О подобном высокомерии при весьма относительном и совсем уж непригодном в работе знании и свидетельствуют сказки. В одной из них бездетные люди отдают "в науку" … теленка. Цель этой науки – превратить бычка в человека ("з яго будуць 124 людзi"), в сына. Наставником в этом непростом процессе становится "ведзьмар", который – на радость старикам и на пользу себе – подменяет бычка смышленным юношей, который со временем становится комиссаром. Однако счастливый финал отрицается высокомерием и наглостью комиссара, его непочтительностью в отношении стариков-родителей. Мораль сказки "Адукаваны бычок" двояка: образование и из животного может сделать человека, но скотина (здесь – бык) при любых знаниях останется скотиной. "Чужие" модели знания и белорусский прагматизм. Однако все эти попытки обоснования неполны без главной: без определения того, какие именно модели знания не приемлет Мужик и что он предлагает взамен. При внимательном подходе к сказкам мы можем выделить две модели, вызывающие насмешку, а то и неприязнь крестьянина. Это модель сугубо книжной, религиозной (в узком смысле слова ) учености Ксендза, Попа, Раввина – и в то же время обратная ей рационалистическая модель, настроенная на абсолютное познание абсолютных законов. Белорус – человек срединного пути, действующий по принципу "усё добрэ ў меру" [189, с. 124] – избирает иной подход. Исследователи нередко пишут о прагматизме (приземленности, здравости), интерпретируя их как едва ли не главную ментальную характеристику белоруса. На наш взгляд, белорусский крестьянский прагматизм – куда более сложное явление. Иначе невозможно объяснить наличие сложной, тонкой и сообразной метафизической системы, на которой покоится сама жизнь Мужика. Прагматизм белоруса (в том числе и недоверие к обеим моделям книжного знания) парадоксальнейшим образом складывается именно на основе метафизики. Работа на земле санкционирована Богом – сятелем и пахарем, и потому урожай воспринимается не просто как гарантия относительной сытости, но как чудо. Рай (не только в народной сказке, а и в анонимных поэмах ХIX в. ) воспринимается как сад, а сад, возделанный крестьянином, – как рай. Тем самым необходимость усиленного труда приобретает гораздо более сакральный характер, чем регулярное посещение церкви. И наконец, наиболее идеальный самообраз белоруса – Бог – тоже прагматик: его задумки, которые на первый взгляд могут показаться нелепыми, всегда имеют твердый и четкий план, а когда этот план нарушается, Бог не гнушается переделать неудачное творение. Так, например, Черт, севший на плуг с целью помешать человеку в работе, превращается Богом в коня [173, с. 443]. Таким образом, в коне существует дьявольская сила, обращенная во благо. Подобный подспудный смысл одушевляет решительно все предметы и явления, с которыми сталкивается человек. Оттого самые прикладные занятия Мужика имеют как минимум двойное дно – прагматическое и священное. 125 Обыденная жизнь важна не сама по себе, а как постоянное соотнесение неразрывных миров – земного и священного – и как реализация этой неразрывности. Здравый смысл Мужика, многократно описанный исследователями, не блуждает по поверхности явлений; напротив, в них он прозревает законы, на которых строится двумирность человеческой жизни. Рисунок: Красный угол в хате – Белорусы, с. 240. Мудрость как идеальный разум. При таком подходе ярко высвечивается причина равнодушия к книжности Попа (ксендза, раввина) и недовольство плоскими рациональными законами природы. Срединность Мужика – в том, что он находится между священным и природным мирами, в роли их гармонизатора и примирителя. А посему идеал Мужика – не узкое знание и не отстраненная книжность, а мудрость. Именно в желании прикосновения к этой мудрости и обращается он к нищему старцу, который на поверку оказывается Богом. Именно в этом – в первую очередь – причина пиететного отношения крестьянина к пожилым людям, в частности к родителям. И потому отказ от отеческой мудрости в пользу сомнительных научных сведений столь последовательно осуждается сказками: "А як пайшлі вельмі разумные да пачалі вымышляць, пачалі й Бога вучыць, дак настала такая жытка, што хаць ты жыўцом лезь у землю, або засіліса да прадай чорту душу" [189, с.161]. Человеку не следует самонадеянно считать себя "хітрым да вельмі разумным" [там же], а, напротив, – внимательно слушать Бога, который наполнил мир множеством скрытых смыслов. Прочтению этих смыслов он и учит своих детей-людей. Расшифровка мироздания. С целью анализа некоторых из них обратимся к сказке с красноречивым названием "Усё і ў галаве не змесціцца". Некий юноша, который хотел все знать, встречается с Богом (старцем). "А як жэ ты хочэш знаць усё на свеце, калі не ведаеш і таго, што ў цябе перад вачамі? Усё ў галаве не змесціцца," – говорит ему Бог и берет юношу в ученики [189, с. 221]. Поднявшись на небо, новоявленный ученик Бога видит удивительные вещи: мужика, который сидит один в огромной хате и кричит: "Ой, тесно!"; овец, до крайности истощенных, несмотря на то, что они пасутся на роскошном лугу, и – наоборот – тучных овец, пасущихся на пустоши; человека, безуспешно пытающегося поймать птичку, и наконец – гниющую прямо у райских врат падаль. Сплюнув от отвращения, юноша идет к Богу, и тот объясняет эзотерический и в то же время моральный смысл диковинных явлений: "Той чалавек, што крычыць у хаце, нібыто яму цесно, за жыце павыганяў с хаты ўсіх братоў. Авечкі тлустые і худые, гэто добрые і грэшные душы людзей, птушачку ловіць чалавек – гэто ён ловіць сваю душу... 126 Ты плюнуў на падло да й саграшыў, бо то твой бацько-ведзьмар і матка-ведзьма..." [там же, 223]. Такова вкратце канва сказки. Но есть в ней некоторые детали, на которых хотелось бы остановиться особо. Во-первых, это человек, который ловит птичку (душу), перелетающую из гнездышка в гнездышко. Наш герой советует ему прикрыть одно из гнезд рукой, но, увы, после этого их количество увеличивается вдвое. Бог оценивает поступок юноши так: "Ты хацеў яму памагці, да зрабіў яшчэ гарэй" [там же]. Отчего же нельзя помочь человеку спасти свою душу? Оттого, что выбор между добром и злом (гнездышки) он должен сделать сам, а помощь извне мешает совершить его со всей полнотой ответственности. Это вносит дополнительные краски в самообраз белоруса: человек – при всей зависимости и закабаленности извне – существо внутренне свободное и самодостаточное. Вероятно, из этой установки и проистекает сравнительно небольшая тяга белоруса к коллективности в самых разных ее формах (церкви, общины и т.д.). Косвенное подверждение этому мы находим у Е.Ф.Карского в анализе белорусских сказок о животных. Фольклорист отмечает, что их герои – звери – действуют сообща, лишь если нужна большая совокупная сила. "Обыкновенно же у нас звери действуют поодиночке. Нет у нас даже и царя зверей: тот руководит общим делом, кто сильнее; более слабые иногда протестуют против сильных и действуют по своему усмотрению" [166, с. 534]. Вторая примечательная деталь сказки – то, как Бог оценивает плевок героя. Казалось бы, ему должно было импонировать отвращение юноши к падали (трупам родителей-колдунов). Однако этот поступок расценивается как грех. Здесь мы имеем дело со столкновением разноуровневых ценностей: ценность родительства настолько высока, что пересиливает стремление к нравственной чистоте (стремление не запятнаться нечистотой "падали"). Кроме того, нежелание замараться грехом, вероятно, значит для белоруса куда меньше, чем милосердие, сострадание. Об этом свидетельствует эпизод, когда юноша спускается в ад и вместо того, чтобы преисполниться отвращения к грешным душам, которые корчатся в котлах со смолой, жалеет их: "Бо чым яны вінаваты, што іх такімі Бог сатварыў і так ім на раду назначыў. Не, – думае ён, – Бог даруе ім грахі, бо ён добры, міласэрды, дак не схочэ, каб тое, што ён зрабіў, досталасо ліхім. Толькі ён гэто падумаў, як паатчыняліса катлы да й вышлі аттуль грэшные душы да й пашлі хваліць Бога" [189, с. 223]. "Путь доброй мысли". Обратим внимание на то, что в белорусской сказке апокалиптический механизм преображения зла в добро первично запускает не Бог, а человек. Здесь уместно вспомнить и о том, что в белорусской мифо-христианской 127 иерархии человек нередко гораздо нравственнее святых и статусно выше ангелов (указания на это есть в целом ряде легенд). Он обладает огромной потенциальной силой, непосредственно переданной ему Богом, вероятно, в процессе обучения земледелию, скотоводству, ремеслам и т.д. Отчего же он не пользуется ей в повседневной жизни? Ответ кроется в том механизме, с помощью которого действует герой сказки. Этот механизм – не действие, а добрая мысль – жалость, сострадание. Если следовать этому пути рассуждения далее, мы придем и к объяснению того качества менталитета, которое исследователи называют "социальной вялостью", "пассивностью", "абыякавасцю". Не безразличен Мужик: просто он уверен в том, что сила не в фактическом преобразовании, а в доброй мысли. Оттого и не склонен Мужик к глобальным внешним переворотам: он понимает, что только внутренний анропологический переворот поможет изменить мир к лучшему. Милосердие перевоспитает грешника и заставит его славить Бога: так, крестная мать, бросившая мальчика-сироту на произвол судьбы и за это посмертно мучающаяся в адовом котле, освобождается по одному его слову ("Гуслi") . Повинуясь призыву, идущему от сердца (т.е. от Бога), бедный крестьянин отдает единственную корову в плату за жизнь незнакомого разбойника: "Шкода стало таму беднаму злодзея, от і атдаў ён тым людзям сваю карову, абы яны не вешалі злодзея" [189, с.109-110]. И разбойник платит добром за добро, спасая крестьянина и его семью от голодной смерти. Вероятно, потому в белорусских сказках за одним-единственным исключением (образ Пана) нет окончательно испорченных людей. А если зло исходит не от людей, а от незыблемого закона, предопределившего постоянный переход добра в зло и обратно, то обращение с жизнью – и чужой, и с собственной – становится острожным, окольным. Жизнь – во всех ее тяготах, невзгодах, мелких и крупных пороках – нельзя перебороть открыто, ее можно лишь принять как должное. Белорус четко знает, что если нельзя изменить ситуацию, следует изменить отношение. Это не значит, что вся жизнь нашего героя-Мужика представляет собой мучительное преодоление невзгод: в ней находится место радостям – природе, урожаю, детям, празднику, музыке. Жизнь можно исправить местными мерами, в отдельных местах – на своем участке бытия, в своем кругу, в своей семье. В крайнем случае несправедливость можно перехитрить и таким образом одолеть, но вовсе не рациональным путем – а путем глубокого проникновения вглубь бытия, которое возможно лишь при отказе от вмешательства в ход вещей и в неуклонном исполнении того, что задано Богом – не трансцендентной сущностью, не иконой в церкви, а крестьянским Богом, который являет собой одну из модификаций идеального самообраза народа. 128 Белорус как идеал: стремление к святости Святой человек. Модель первая: праведник. Поскольку я говорю о социальнобытовой сказке, максимально приближенной к жизни, идеальный человек встречается в ней не так уж часто. Более того, святые и ангелы в сказке напоминают человека, а, значит, тоже не являют собой идеальных образцов. Идеален лишь Бог, о чем говорить далее. Однако существует определенный – пусть и не слишком большой – сказочный пласт, представляющий образы людей, приближенных к святости. Одна из них так и называется –"Сьветы чалавек". Обратимся к ней. Итак, жил на отшибе, на краю деревни тихий, незаметный человек, никому не отказывал ни в еде, ни в ночлеге. "Паважаюць да кахаюць яго старцы ўбогіе да людзі падарожныя, бо любіць увесь свет лагодны прывет" [189, с. 55]. Однажды забрел к нему старенький колченогий дедок, и "святой человек" вместе с ним отправился в церковь. Обратим внимание: уже с первой строчки герой называется "святым", хоть ни о каких чудесах еще нет речи, известно только, что этот человек совестлив и набожен . Святым его считают соседи, поражающиеся его доброте и искреннему исполнению заповедей. Пошли хозяин со стариком в церковь. Для этого им надо было вброд перейти речку. Старик (святой угодник Божий) ударил по воде посошком – и она расступилась. Осознав высокое происхождение старика, Мужик отказывается идти в церковь с ним вместе: "не стою я таго, каб разам с табой іці ў Божую цэркву. Ідзі ты адзін, а я хаця пастаю ў дзверах" [там же, с. 56]. За это смирение пред Богом и людьми святой угодник награждает Мужика умением ходить по воде, не замочившись, и невидимостью (символически возвышающей скромность, незаметность героя). Но люди не прозревают этих перемен: более того, они не замечают самого героя, когда он находится в окрестностях церкви. По деревне ползет слух, что святой сосед перестал ходить на богослужение, в то время как он молится по-прежнему, оставаясь невидимым. Заметен он лишь чертям, живущим в церкви. Их функция – записывать человечьи грехи на воловьей шкуре для предъявления их Высшим силам. Как-то раз так напряглись они, добросовестно растягивая шкуру, что случилась незадача: один из них выпустил газы. Тут и улыбнулся себе в бороду наш герой – и вмиг стал зримым и телесным. Очень скоро Мужик получает доказательство своего морального падения – возвращаясь из церкви, он проваливается в реку по пояс. Причем метафизическое падение героя остается явным лишь ему одному: именно после того, как оно происходит, люди снова начинают считать героя святым, т.к. вновь видят его в церкви. Резюме сказки таково: "Ведамо, людзі заўжды толькі тагды лічаць чалавека сьвятым, як ён саграшыць, бо сэрцэ чалавека – пацёмкі, яго совесці ніхто не бычыць, апрыч Бога" [там же, с. 57]. Однако 129 главная мысль сказки – не в констатации людской слепоты, она гораздо глубже. К ней приведет ответ на вопрос: что обретает человек в награду за святость? Не богатство, не здоровье, не силу – а дар, никак не применимый в жизни. Более того, хотя эта способность имеет отсылку к Христовым чудесам, но в отличие от них никем не замечена. Почему же именно эту странную, бесполезную, вызывающую слухи награду жалует Мужику старец? Ответов может быть несколько, и наиболее убедительный из них парадоксален. Мужик награждается "ничем", поскольку вещественная, фактическая награда погрузила бы его в повседневность, окунула бы в живущий сиюминутными нуждами мир людей. Обратим внимание на то, что наш герой изначально обретается на отшибе, вдали от соседства. Вероятно, эта отдаленность и помогла ему стать "сьветым чалавекам". Вспомним, что он – олицетворение "тихости" (сдержанности, немногословности, незаметности). Вот эту-то "тихость", "нездешность" символически подчеркивает невидимость. Фигурально выражаясь, он обретает райскую оболочку, при жизни становясь душой. Его святость находит подтверждение свыше и тем самым должна отринуть то, что ниже, – житейскую суету. Святой не может, да и не должен пребывать в миру: приобщающая его к Богу судьба одновременно ограждает от обыденности. Невидимому проще удержаться на высоте аскезы. Приближение к людям и людским учреждениям (даже культовым) чревато грехом. Таким грехом является "человеческая, слишком человеческая" реакция – смех. Святой человек. Модель вторая: "шалапаваты дурань". В другом варианте сказки ситуация выражена еще более резко: герой не встречал старика-угодника и не ходил в церковь, а молился (причем языческим способом) у своего дома. Более того, специально отмечается, что он был святым именно до тех пор, пока не ходил в церковь. Свидетельство его святости то же – способность проходить по грязи, не запачкавшись. Стоит ему, склонившись на увещевания Попа, пойти в церковь, увидеть черта, улыбнуться усердию, с которым тот растягивает шкуру, – как он немедленно пачкается в грязи. Однако финал сказки имеет более обнадеживающий характер: Поп разрешает ему молиться дома, ибо там его молитва угоднее Богу. Отмечу: этот человек не обладает прекрасными душевными качествами первого героя. Единственное свидетельство его святости – в том, что к нему не пристает грязь. Зато в его характеристике ("шалапаваты дурэнь") подчеркивается странность [191, с.175-177]. Святой человек. Модель третья: отшельник. Еще в большей мере странность выражена в сказке "Поп і пустэльнік" [191, с.112-116]. Несмотря на сюжетное сходство со "Сьветым чалавекам", она еще более четко указывает на странности героя. С ранних 130 лет он отличался от окружающих: в юности пел песни про попов и панов, т.е. был не чужд революционным веяниям, затем стал знахарем. Отметчу: в сказках знахарь всегда связан с нечистой силой. Наш отшельник лишен представления о приличиях: ходит в одной сорочке, которая "срамацення не закрывае"; молится, прыгая через колоду и приговаривая: "Табе Божэ й мне Божэ" , словом, "шалапаваты дурэнь" и есть. Однако и он подобно Иисусу способен идти по воде, не замочив ног, – в отличие от Попа, явившегося к нему с наставлениями и чуть было не утонувшего в луже. Более того, он лечит и учит людей, и это тоже выделяет его из общей массы. Рисунок: Языческое святилище (около д. Крамянец Логойского райна) – Этнография Беларуси, с. 270. Кто "святее"? Итак, сказки предлагают нам три образа, призванных иллюстрировать святость. Первый "сьветы чалавек" добр, гостеприимен, набожен и почтителен к старости. Такая модель идеального поведения, в принципе, достижима каждым и заложена уже в константном самообразе. Однако этот совершенный человек не выдерживает испытания истинной святостью: награда не идет ему впрок. Второй не обладает достоинствами первого. Единственное, что выделяет его из массы – причудливость молитвы. Обратим внимание: несмотря на то, что он совершает тот же грех, что и первый "святой" (смех в церкви), у него остается надежда: Поп разрешает ему молиться дома. Молчаливо предполагается, что после этого чудесный дар вернется к нему. И наконец, третий образ святости ("пустэльнік") ярче двух первых – но в то же время и карикатурнее их. Его поведение резко расходится со всем строем характерологических ценностей народа: он не соблюдает положенных правил, имеет более чем сомнительную с точки зрения крестьянской религиозности профессию и, наконец, молится совершенно языческим способом. Но несмотря на все это, как и два предыдущих "святых человека", он умеет ходить по воде, более того, не теряет этого дара – вероятно, потому, что даже и не думает ходить в церковь и тем самым держится вдали от искушения. Если же говорить обо всех троих, то примечательны, главным образом, два момента: во-первых, общего у них, на первый взгляд, – разве что умение ходить по воде; во-вторых, самый достойный с моральной точки зрения человек на поверку оказывается наименее святым. Вероятно, причина в том, что этот образ менее чудаковат, наиболее приближен к константному. Потому в обыденной жизни он выглядит совершенным, но истинного испытания не прочность не выдерживает. Корень его трагедии – отсутствие самостоятельности: как положено неписанным уставом сельской морали, он молится – пусть и со "шчырым сэрцам" – но только в церкви (т.е. действует по образу и подобию других), он обладает прекрасными душевными 131 качествами, но принципиально ничем не отличается от соседей. Не случайно именно его награждают чудесной способностью со стороны, в то время как двое других имеют ее изначально. Они избрали себе молитву, в которой могут реализовать свою самобытность, не испытывая зависимости от социума. Значит, идеальному человеку мало просто быть добрым, порядочным – он должен обладать смелостью жить по собственным меркам. Эта черта, вызывающая нарекания, когда принадлежит рядовому человеку (т.е. константному самообразу), незаменима в идеальном самообразе. В чем причина такого странного поворота – от освященной обычаем установки "як усе" к идеализации "шалапаватых"? Вероятно, это связано с тем поиском скрытого смысла вещей и явлений, который мы назовем мудростью и который является ценностью уже в константном ЭС. В идеальном ЭС это умение выходит на первый план. Различие между константным и идеальным образами здесь качественное. Если обычный Мужик может увидеть тайну в обыденности, то святой – это человек, умеющий различать добро и зло. И пусть в первом варианте он наделяется этим умением в награду за достойное поведение, а во втором изначально обладает им, показательно, что в обеих модификациях сказки он – единственный, кто видит в церкви черта (чертей). Более того, он хорошо понимает необходимость черта именно в этом месте. Добро и зло: единство противоположностей? Точку зрения на взаимодополнительность, амбивалентность добра и зла выражают и многие другие сказки: "Усё на свеце патрэбно, бо свет не можэ стаяць, калі б не было й таго, што нам здаецца ліхім. Праўду кажуць, што без ліха няма й дабра" [189, с. 45-46]. Потому и незлобив, и тих святой человек, что знает: зло необходимо, и попытка его уничтожения грозит еще большим злом. Зло в белорусских сказках имеет не менее долгую историю, чем добро. Они родились одновременно. По одной версии, Бог сам сотворил зло, причем из лучших побуждений. Например, волка он "изобрел" для того, чтобы помочь детям-сиротам: люди вынуждены нанимать их стеречь скотину от лесного зверя [173, с. 57]. Вторая версия предполагает, что зло – дело рук Черта. Пока Бог творил прекрасную землю, Черт досаждал ему, создавая болото и "паганыя кусты", например, лозу (сказка "Чортава балота"). Однако Бог отказался ее истребить, "бо ведама, пакуль згубіш ліхое, то добрае само згіне" [191, с.178]. Преодоление зла возможно лишь косвенным путем – как трансформация его в добро. Эту функцию Бог частично исполняет сам (творение коня), а частично отдает человеку. Так, "паганыя кусты" служат для создания полезных вещей – 132 лаптей, веревки, которой человек связывает черта. Призвание человека – примирять добро и зло как в окружающем мире, так и внутри себя. Белорусский крестьянин уверен, что в силу своей природы зло пожирает себя само. В сказках это выражено четко и недвусмысленно, начиная от распространенных сюжетов, когда жадный, подлый человек (или Черт) нехотя действует себе во вред, – и вплоть до массового убийства друг друга в семействе разбойников ("Воўчае котло"). Наказывать зло извне – бесполезный труд: во-первых, оно самоистребится в положенный ему – и отнюдь не человеком, а Богом – срок, во-вторых, попытка его искоренения силой приводит к еще большему злу ("Марцыпаны"). С этим связан еще один важный момент: в отличие от добра, зло творится непроизвольно, просто так: "Людзі заўжды робяць ліхо другому ні за што, а так сабе" [189, с.174]. Вероятно, причина этого – в том, что оно не имеет четкой локализации, рассеяно по миру и повсюду существует, перемешавшись, переплетясь с добром, а потому различить их невозможно: "Праўду кажуць людзі, што ніколі не згадаеш, дзе ліхо, дзе дабро спаткаеш" [189, с.185]. Даже труженик зла – Черт "так задурыўса, што й сам не разбярэ, што ліха, а што дабро" [189, с.188]. Добро – тоже понятие неоднозначное: "адзін кажэ, што дабро зьяе бы сонцэ, што мы любім яго сьвет, але жмурым вочы, бо яго нельга вытрымаць. Другі кажэ, што дабру людзі вочы выкалалі, дак яно цепер і не ходзіць па сьвету, а седзіць сабе на небе да цешыцца, што яму добрэ" [189, с.185]. Амбивалентна не только взаимосвязь между добром и злом, "праўдай" и "крыўдай" (не случайно такие имена в сказках носят родные братья), противоречив и сам образ добра – то ли слишком жгучего, то ли – напротив – излишне пассивного. Потому люди не вправе судить о том, что есть добро, а что зло, это под силу только Богу, языческим божествам ("што праўда, што крыўда – багі яго ведаюць" [189, с. 185]), или же "сьвятому чалавеку". Еще раз подчеркну: ни Бог, ни "багі", ни тем более человек, даже святой, не искореняют зла напрямую. Отсюда – то невероятное терпение исторического белоруса, которое то со знаком "плюс", то со знаком "минус" отмечают все исследователи. Сказка же и не задается целью оценивания: "Нема чаго рабіць, трэ церпець, бо ліхого не пераможэш" [189, с. 201]. Единственный способ борьбы со злом, который она приветствует, – борьба со злом в себе. Разумеется, она не обходится без жертв, и чем большая жертва принесена во имя блага, тем более свят человек. Обратимся еще к одному образу идеального человека, представленному сказкой "Сьвіное рыло". Святость как победа над злом. Главный герой сказки – сын Бортника. Сразу же обратим внимание на уже знакомые нам определения и оценки, относящиеся, впрочем, не к юноше, а к его отцу. Так, Бортник живет замкнуто, "адзін бы кол. Ужэ пагаворвалі суседзі, што он якісь шалапаваты, бо жыве не так, як людзі" [189, с. 239]. Здесь самое 133 время вспомнить о том, что оценка "жыве не так, як людзі" в белорусской сказке противоречива: для константного самообраза она предосудительна, а в контексте идеального вполне может означать святость. Рисунок: Улей "Пчаляр" (бортник) – Белорусы, с. 179. Мать героя – наиболее положительный (и наиболее же удивительный) образ женщины, не часто встречающийся в социально-бытовых сказках. Уже с детства она выделяется тягой к одиночеству, любовью к природе, ангельским голоском и совершеннейшей житейской неприспособленностью: "Пачалі да яе сватацца, але яна й слухаць не хочэ, кажэ, што яна любіць толькі кветкі да Божые пчолкі" [там же, с. 240]. Брак двух "шалапаватых" оказывается не просто совместным преодолением невзгод, как это часто бывает в социально-бытовой сказке, но счастливейшей связью родственных душ. Неудивительно, что родившийся в нем сын растет редкостным красавцем (красота, рождающаяся из любви – мотив представлений практически всех народов). Из-за его красоты и развиваются дальнейшие события: две царицы вступают в борьбу за прекрасного юношу: "Пашлі людзі ваяваць, пашлі кроў праліваць, пашлі царыцы гожага хлопца дабываць" [там же]. Юноша убивается, проклинает Бога, давшего ему красоту, и умоляет забрать ее. А война все идет: "Ці доўго, ці мало яны ваявалі, уёскі палілі, людзей забівалі, толькі нарэшце тое царство забралі" [там же]. Однако, царицу Екатерину ждал неприятный сюрприз: в минуту первого поцелуя лицо юноши превратилось в свиное рыло. Так перепугалась царица, что "з яе й дух вон выперло". А юноша, навеки оставшийся в свиноподобном обличье, поселился в лесной землянке, учил и лечил людей . "І пачалі ўсе казаць: "Сьвяты ён чалавек, дарма што сьвіное рыло" [там же, с. 243]. В этой сказке мы имеем дело с целой семьей святых. Их святость, принимаемая людьми за глупость, "шалапаватасць", в очередной раз проводит водораздел между константным и идеальным самообразе: святой не должен жить "як усе", а те, кто живет под властью этой популярной и в сказке, и в народном мировоззрении максимы, никогда станут святыми. Получается парадоксальная ситуация: на константном уровне сказка превозносит принцип подобия, а на уровне идеальном – принцип несходства. Как примирить это противоречие? Чудаковатость. Я уже говорила о том, что в личностном аспекте святость связана с мудростью (поиском скрытого смысла), с различением добра и зла. Но существует и иной аспект – уже не личностный, а культурный. Почему он востребует именно такого – отстраненного, чудаковатого, нелепого в поведении – облика святости? 134 Каким требованиям культуры не соответствует образ доброго, верующего (причем, не языческим божествам, а христианскому Богу), порядочного Мужика из первого варианта сказки "Сьветы чалавек"? Дело в том, что Мужик, живущий, как все, может достичь мира в себе и вокруг, но не способен изменить жизненную ситуацию как таковую. Для того, чтобы внести в культуру перемены к лучшему, человек должен отличаться от других. Обращу внимание читателя на то, что все наши "святые" живут в отдалении от соседей; на то, что все они в большей или меньшей степени "шалапаватыя", что все способны на чудо. Не случайно жизнь одного из них – святого со свиным рылом – приближена к житийному канону: удивительное детство – необычность (в сказке – необыкновенная красота) – страдания (в отличие от классических святых моральные) – жертва – святость. Отмечу и то, что двое из них лечат людей, т.е. одарены эзотерическим знанием. Именно отличный от других человек может улучшить жизнь всех либо (мягко и постепенно) учительством и лечением, либо более "зримо" – вспомним смерть Екатерины, народным сознанием интерпретируемую как результат испуга перед превращением юноши в свинью. Однако при всей необходимости перемен (являющихся залогом динамики культуры) даже идеальный персонаж никогда не действует прямо: как и константный Мужик он предпочитает косвенный, окольный способ трансформации бытия. Даже самый парадоксальный святой человек – пустынник – некогда певший песни про попов и панов, отказался от попыток агитации, а до революционных действий, судя по тексту сказки, никогда и не доходил. Святость и талант. Наиболее явственно этот путь прослеживается в сказке "Іванка-прастачок". Иванка – музыкант. Из всех профессий, не связанных с земледелием, наиболее почетна для белорусского крестьянина именно эта. Как и другие сельские специалисты (кузнец, лекарь, охотник и т.п.), музыкант связан с высшими силами, причем, как с Богом, так и с чертом. В некоторых сказках эта связь выражена напрямую: он продает дьяволу душу; в некоторых – косвенно, в самом воздействии музыканта на чертей (он способен вогнать их в транс, затеяв "танцевальный марафон", в итоге которого ад разлетается на куски). Но – в любом случае – талант дает ему право быть "не как все". Отсюда – и право быть творцом инноваций, нарушающих традицию. Только талант может заставить Землю вертеться в другую сторону и тем самым нарушить извечно несправедливый строй жизни: "Грае, грае, а як прыдзе час, дак ўсіх ён параўняе" [191, с. 160]. Рисунок: Музыка грае на бандурцы – Этнография Беларуси, с. 49. 135 Однако прямой активности Иванка не допускает: он действует путем незаметного, постепенного, катарсического улучшения "внутреннего человека". Что нужно для святости? Итак, можно говорить о трех моделях человеческой святости, присущих белорусской сказке. Первая – жить, "как усе", по человеческим качествам будучи лучше других (первый вариант сказки "Сьветы чалавек"). Такой человек не выпячивает своего "я", живет скромно, исполняет нормы социума, но при этом отстранен от житейской суеты – вследствие веры со "шчырым сэрцам". Святость дается ему в награду со стороны высших сил. Это носитель традиционного сознания в его самом совершенном виде. Такая модель необходима, но недостаточна, ибо она не предполагает изменения мира к лучшему. Вторая модель – "шалапаваты дурэнь" (второй вариант сказки "Светы чалавек"; сказка "Поп і пустэльнік"; парный образ родителей героя сказки "Сьвіное рыло"). Это тип более маргинален, нежели первый. Это человек, отваживающийся жить по собственным меркам, обладающий тайным знанием о природе вещей и человеческом устроении: не случайно он – знахарь, лекарь. Он исподволь, косвенно меняет мир вокруг себя через тех, кого лечит и учит . И, наконец, третья модель – человек, отдающий талант (Иванка) или красоту (святой со свиным рылом) на благо людям. Можно предположить, что такая модель собирательна: в ней есть черты и первой (трудолюбие, доброта, "тихость" и др.), и второй (резкое, наглядное несходство с другими, эзотерическое знание природы вещей и человеческой сущности). Отличие третьей модели от двух первых – преобразовательная мощь. Сходная черта всех моделей – умение различать добро и зло. Важно и то, что всем типам свойствен один способ действия – путь внутренних трансформаций, только в отличие от первого в двух последних случаях эти изменения пусть косвенным путем (молитвы юноши об утрате красоты, призванные спасти людей от войны; музыка Иванки, совершенствующая и человека, и универсум), но все же выходят на уровень социума. Исходя из этой тройственности идеального самообраза, можно обоснованно строить предположения о глубинных причинах специфических черт белорусского менталитета – например, мягкого (хоть подчас и насмешливого) отношения к иноверцам и инородцам: вероятно, немалую роль здесь сыграло "неаллергическое отношение" (термин Э.Левинаса) к странности "шалапаватых", под которой предположительно может таиться идеальное содержание. Этим же можно попытаться объяснить корень противоречивого отношения к образованию: с одной стороны, оно мешает человеку быть, "як усе", а с другой – может являться прерогативой святости. Словом, 136 разноплановость идеального ЭС белоруса дает возможность альтернативных выборов в реальной жизни. В конечном счете, вероятно, взаимодополнительность "святых" самообразов лежит в основании пресловутой толерантности. Ведь именно идеал побуждает к определенным типам мировоззрения и поведения: чем больше диапазон приемлемости в идеальном образе, чем поливалентней его характеристики, тем шире и позитивнее спектр отношений к "иному". Возраст идеала – идеальный возраст? Представление о менталитете белоруса будет неполным без еще одного персонажа, пусть не святого, но приближенного к идеалу. Впрочем, этот образ характерен для всех без исключения традиционных культур. Это Старик ("Стары бацька"). Рисунок: Белорусский старик (нач. 20 в.)– Этнография Беларуси, 336. Роль отца в маскулинных культурах ( т.е. культурах, где мужчина считается более значимым лицом, чем женщина) чрезвычайно велика. Его функции, права и обязанности в семье беспрекословны и неограничены. "Главой семьи был отец. Он управлял хозяйством, продавал на рынке продукты, вел все денежные дела. В его руках были даже те деньги, что жена приносила в приданое… Отец оставался главой семьи и хозяйства до тех пор, пока ему хватало сил, примерно лет до 60-65, а после этого должен был передать свою власть сыну" [197, с. 62]. Впрочем, сказочный отец в годы своего расцвета вовсе не является идеальным самообразом. Это знакомый нам константный тип Мужика, обладающего как положительными, так и отрицательными чертами. Однако в определенный момент константный Мужик приближается к совершенству. Этот период – старость. Причина такой трансформации – обретенная с возрастом мудрость, которая больше не заглушается непосильной работой, а потому имеет возможность проявиться в полной мере. Не менее значим и отход от жизненной суеты – отрешенность от страстей, желаний, надежд на удачу. Эта отрешенность дает Старику возможность углубиться в суть вещей, невзирая на наносную "шелуху". Помимо личностного аспекта такой трансформации старость как культурный феномен содержит социально важный элемент, призывающий к почтению. Это культурный опыт, позволивший человеку достойно прожить век и тем самым служить примером для потомков, чья жизнь в традиционном обществе определена бытием предыдущих поколений. Старость как радость. Самообраз старика связан с немощью. В том же немощном старческом образе в белорусских сказках предстают и Бог, и святые. Это не случайно: старческое бессилие человека – примета отхода от "этой" жизни и, следовательно, приближения к "той". Кроме того, старик подчеркнуто не эгоистичен; он 137 живет не для себя, а для внуков и правнуков: недаром детство и старость объединяются сказкой (да и жизнью) в единый круг. Бытие по меркам "нездешнести", беспредельности, альтруизм и мудрость как следствие нажитого опыта в совокупности порождают особый – незамутненный и проникающий внутрь – взгляд на вещи , который спасителен не только для души, но даже и для жизни близких. Так, в сказке "Стары бацька" повествуется о бедной деревне, где в древности существовал обычай – уничтожать пожилых людей. Более того, старики, чувствуя себя обузой и лишними ртами, сами просили об этом. Одна из семей пошла вопреки обычаю и спрятала деда в погреб – от соседей, которые могли осудить такое нарушение неписанного закона. В укрытие к старику прибегали внуки, он рассказывал им сказки, присматривал за ними, после работы приходили взрослые сыновья и невестки в поисках совета. А когда в деревне разразился голод, эта семья выжила благодаря отцу, посоветовавшему сыновьям смолотить старую солому с крыши. Секрет раскрылся, и раскаявшиеся соседи на руках внесли старика в избу. Рисунок. Стары бацька – Мужчынскі касцюм, с. 96 или 107. Функции Старика в крестьянской культуре. Вот каким представлялся белорусу идеальный образ семьи: "жылі яны разам і слухалі старого бацька, а ён ужэ сівенькі бы лунь, седзеў сабе ў кажушку й па лету да камендуваў. І быў у іх лад і ўсім было добрэ" [189, с. 99]. Однако на то и идеал, чтобы соответствовать жизни не в полной мере: при всем уважении белоруса к старикам нельзя сказать, чтобы те руководили семейным укладом, – это была забота выросших детей. Скорее, старик привлекался в качестве арбитра в тех ситуациях, в которых было востребовано его знание жизни. Рисунок. Белорусская семья (три поколения) – Мужчынскі касцюм, с. 91, 94. Что касается обыденных обстоятельств, то роль "Старого бацькі" заключалась в косвенном влиянии. Во-первых, он, перефразируя М. Мид, являл собой образец жизни, как она есть. Во-вторых, именно старики давали своего рода санкцию повседневному бытию человека и общности: не случайно люди, благодаря которым и сохранились сказочные тексты, как правило, были глубоко пожилыми. Через них передавались не только сюжет и даже не только мораль сказки, но и – в уточнениях, отступлениях, вводных оборотах ("ведамо", "кажуць людзі", "сам Бог казаў", "як Бог даў" и т.д.) – адресация к коллективному разуму и Богу, который с этим разумом солидарен. Рисунок: Белорусский старик в 20-е годы ХХ в. – Белорусы, вкладыш, загнутый угол. 138 Образ Старика идеален, но не свят. Для святости в нем недостает странности, он четок, конкретен и имеет бытовой, реалистический характер: таких реальных дедушек имели многие крестьянские дети. Вероятно, потому он еще более однороден и последователен, чем образ Мужика, уж не говоря о "сьветых людзях". Он являет собой ориентир в повседневной жизни, образец ее правильной реализации. Потому непослушание отцу или забвение его принципов в сказках, да и в самом опыте традиционной жизни приводит к самым серьезным последствиям: "Але, ведамо, малады дак яшчэ дурны. Які з яго гаспадар. За бацькаваю галавою дак і ён быў разумны, а як бацько памёр, дак ён не ведае, што й рабіць... От затым па сьмерці старого якась разам пашла гаспадарка на ўпадак... А малады гаспадар усё думаў, што ён вельмі багаты, дак і не рупіўся даглядаць гаспадарку да зарабляць грошы" [189, с.170-171]. О том же свидетельствуют и названия сказок, самое красноречивое из которых – "За старого галавою, як за пнём". Выражение "малады – дурны" в сказках – аксиома. Идеал ближний и дальний. Очевидно, идеальный ЭС сказочного белоруса включает в себя две ипостаси – фантастическую (Сьветы чалавек) и реалистическую (Стары бацька). Обе они представляют собой образцы мудрости: первая – мудрости высшей, а вторая – повседневной, доступной каждому и выработанной в результате опыта, в первую очередь, трудового. Если первая подчеркивает особенность, отличительность, самостоятельность мысли и чувствования, то вторая культивирует традиционный строй жизни и поведения, приверженность строгим нормам, выстраданным народом на всем своем историческом пути. Вместе они осуществляют баланс между "идеально старым" (традиция) и "идеально новым" (инновация), на котором зиждутся народное мировоззрение и действие. Ведь, пожалуй, основным качеством любого идеала является императивность. Именно в этом смысле сказка – "добрым молодцам урок": в качестве культурного текста она обладает побудительной силой, по принципу: "действуй так, а не иначе". Однако сам факт странности "Сьветога чалавека" указывает на то, что это образ – из ряда вон выдающийся, в то время как привлекательность "Старога бацкі" задает тот жизненный уклад, в котором крестьянину внутренне комфортно и в котором он может устроить свою судьбу без больших потерь. Потому здесь можно говорить соответственно о "дальнем" и "ближнем" идеалах и о перевесе ближнего идеала в традиционной белорусской культуре. Рисунок: Стары бацька – Мужчынскі касцюм, варианте). с. 77, 84 (такая фотография есть где-то в тексте, но в худшем 139 Однако ближний идеал (Стары Бацька) имеет дальние, возвышенные корни, освящающие его идеальность. Не случайно и святые, да и сам Бог предстают перед нами в виде седых, умудренных жизнью "дзядкоў". Их зримое отличие от Старикакрестьянина не столь уж велико. В первую очередь, оно состоит в том, что и святые, и Бог – странники. Во-вторых, они умеют творить чудеса. В-третьих, они наполняют символическими смыслами бытовую жизнь. В этом смысле Старик – транслятор их мудрости. Он в силу опыта (личного и коллективного) знает, как должно поступать в этой жизни, они же знают, почему должно поступать именно так. Хотя в случае со святыми ситуация не столь проста. Свят ли святой? Образ святого в белорусской сказке неоднозначен. С одной стороны, призвание святого – просить у Бога милости для людей. Особенно часто эту роль исполняют Св. Николай (Мікола) и Богоматерь. Как и Бог, белорусские святые спускаются на землю: "Сам Бог мёд сыціць, // Ілля піва варыць, // Сам Бог сына жэніць, // А Ілля дачку выдаець" [204, с. 523]. Святой – терпеливый спутник Бога, вместе с ним испытывающий тяготы странствия. Святой как представитель Бога чаще всего наставляет Мужика. Рисунок: Пророк Илья – альбом "Живопись Белоруссии", с. 28. С другой стороны, этот образ зачастую слишком земной, гораздо более земной, нежели образы "сьвятых людзей". Так, Св. Петр любит набить живот дармовой едой и даже ворует хлеб у Св. Бориса или, в другом варианте сказки, у Христа ("Адкуль пашлі грыбы"). Можно вспомнить и сказку "Каму грэх, а каму не", где Петр крадет с веревки во дворе рубашку. Вообще воровство со стороны святых – частый сюжет фольклора. Так, в сказке "Як Мікола і Пётр лашадзей на Украіне закуплялі" святые пропили деньги, данные Богом на покупку коней, и добыли их традиционным сказочным способом – кражей. Трудно представить, чтобы на такие действия был способен "сьветы чалавек". Святые обладают не просто недостатками (лень, эгоизм и т.д.), совершают не обычные проступки (пьют, например), но и те, что в народе считаются настоящими грехами. Так, в сказке "Ліхо абходзь, а дабра не мінай" святые отказываются идти к бедной вдове, надеющейся, что старцы смогут вернуть жизнь ее угасающему сыну. Они предпочитают возлежать на печи в богатом доме. "Толькі Хрыстос зжаліўся да й пашоў па гразі ў самы канец вёскі к беднуй удаве" [189, с. 42]. Рисунок: Христос перед Пилатом (дерево) – Белорусы, 435. 140 Возможно, посредническая роль святых – между Богом и человеком (те же функции исполняет Ксендз или Поп) – воспринималась крестьянством как не вполне правомерная. Для Мужика святой – тот же мужик, сотворенный, как любой человек, из глины или "атраманту" (чернил). Не случайно в сказках постоянно подчеркивается человеческая природа святых. Правда, святой более везуч, т.к. Бог взял его под опеку: в силу этого он многому научился, но в то же время его, как и самого Мужика, нередко озадачивают поступки Бога, как это происходит, например, в сказке "Багач і бедная ўдава". Христос и Святой Петр. Святой может творить чудеса, но вторичные: они исходят не из особой природы святого, а из того, чему его обучил Бог, т.е. даны ему в силу особого места в статусной иерархии. Часто чудеса возникают от противного, не по желанию святого, а в целях его усовествления. Так, в уже упомянутой сказке "Адкуль пашлі грыбы" грибы появились благодаря эгоизму и слабости духа Св. Петра: "Петро любіў добрэ ўжываць, а тут у яго саўсім кала сэрца завіло, бо вельмі прагаладаўса. Было ў іх трохі хлеба. Петро нёс яго ў торбачцы за плячамі... Не вытрымаў Петро, ушчыпнуў крыху хлеба да й есь. Пазнаў Хрыстос, што робіць Петро, да й пытае яго, што зрабіць людзям на патрэбу. Хацеў Петро атказаць, да не можэ, бо повен рот набіў хлебам; от ён выплюнуў, а з таго й пайшлі расці грыбы. Зірнуў Хрыстос да й кажэ: Нехай гэто будзе на патрэбу людзям" [189, с. 260]. Самые важные противопоставления Петра и Христа здесь таковы: • мелкое зло (обман; себялюбие; жадность, порождающая пусть и не столь уж страшное, но предательство: ведь очеловеченный Христос так же голоден, как и "Петро") со стороны Петра – прощение, отсутствие наказания со стороны Христа; • желание выжить любой ценой, подразумевающее, что мир является обителью зла и каждый должен использовать все средства ради самосохранения (Петр) – уверенность в том, что зло можно преобразовать в добро посредством доброй воли и доброй мысли (Христос). В первой антитезе отчетливо прослеживаются христианские мотивы. Причина этого, как нам кажется, в том, что несмотря на весьма слабую воцерковленность Мужика, некоторые религиозные максимы вошли в кровь и плоть народа. Это связано с культурным опытом белорусов, в течение веков выработавшим модели поведения, которым данные максимы соответствуют. Поступок Петра неприемлем для Мужика в силу устоявшихся ценностей – верности ("Петро" пусть по мелочи, но предает Христа, причем, уже вторично: судя по сказке "П'яніца", народ не забыл отречения Петра); равенства (кусок хлеба должен был поделен поровну); терпимости к несовершенству 141 (поведение Христа). Вторая антитеза предполагает уже знакомый нам способ действия. Это творческая трансформация зла в добро (украденный хлеб по мановению Христову превращается в пищу для всех людей) и косвенный путь этой трансформации. Рисунок. Святой Петр – альбом "Живопись Белоруссии", с. 74 (справа). Можно сделать вывод о том, что святые в белорусской сказке, как правило, не являются частью идеального ЭС. Скорее, это Другие, которые ведут себя амбивалентно – в зависимости от обстоятельств и ценностной ориентированности (в том числе и степени религиозности) сказочника. Победа отщепенца. Земной характер святых проявляется и в том, что человек не так уж редко одерживает над ними верх, в том числе – и физически. Так, существует ряд сказок, где святых наказывают, в частности, бьют "бізунамі, лупцуюць папліскамі" [там же]. Но гораздо более интересны сказки, где мужик побеждает святого хитростью. Так, в сказке "П'яніца" герой оказался в аду, но так безобразно распоясался, что черти вышвырнули его вон. В поисках спиртного пьяница добредает до рая и требует отворить ему врата. Когда Св. Петр отказывает ему в приюте, наш герой начинает действовать по принципу: "Лучшая оборона – нападение": "А, гэто той самы Пятро, што ат Хрыста атрокса" [189, с.120]. Св. Павла он упрекает в том, что тот "ганяўса да лавіў Хрыста". Наиболее показательный диалог состоялся у пьяницы с Иоанном ("Евангелістам Іванам"): "Хто ты такі?" – "П'яніца". – "Чаго табе трэ?" – "От пусці, калі стукаюць". – "Тут п'яніц не пушчаюць". – "А ты хто?" – "Я Евангеліст Іван". – "От і бачно, якая ў цябе праўда. Ты сам напісаў, што калі будзеш стукаць, та атчыняць, а калі станеш шукаць, та знойдзеш. Я от ужэ мо паўгадзіны грукаюса, а ты ўсё не атчыняеш. Сягоднячы ўвесь дзень шукаю гарэлкі, а яе німаш і капелькі. Дак от як ты нашаго брата ашукоўваеш ". Німа чаго рабіць, пусціў той п'яніцу ў рай да яшчэ і напаіў яго гарэлкаю, каб толькі маўчаў" [там же]. Можно сделать несколько выводов. Первый состоит в том, что даже самый презренный Мужик (а пьянство – наиболее презираемая черта самокритического самообраза) способен обмануть святого. Вероятно, в этом сказывается чувство собственного достоинства мужика, который ощущает себя не менее значимым в космологической иерархии. Существен и способ, каким Мужик добивается своего: выше я назвала его гомеопатическим (по принципу "лечения подобного подобным"). Пьяница бьет святого его же козырем – Писанием. Аналогичный вариант мы встречаем в сказках о наказании попов (ксендзов). Думается, это не случайно: вероятно, на двойственное отношение 142 мужика к святым наложилось недоверие к культовым служителям, претендовавшим на святость – часто без всяких на то оснований. Так, существует достаточное количество сказок о том, как Поп (Ксендз) развращает молодых жен, соблазняя снисхождением на них Святого духа, он скупой, "завісны", нечистоплотен в денежном отношении. Ипостаси Бога. Вероятно, наиболее беспрекословным идеальным самообразом белоруса является Бог, но лишь в одном из его обличий. Дело в том, что образ Бога в народном сознании многозначен и многовариантен. Так, в сказках встречается "деистический" образ Бога, который создал людям землю и все, что на ней, а себе – небо, а затем скрылся на небе от человеческих грехов. Существует и "апокрифический" образ Бога, свойственный многим традиционным культурам. Такой Бог "справядлівы, але вельмі сярдзіты. Ён ліхому ніколі не спусціць, ніколі не даруе. Часамі за ліхо не то, што пакарае самого, але і нават прыпомніць у трэцюм пакаленні" [190, с. 236]. Тут же местными средствами решается проблема теодицеи: "Бог каб захацеў, та б ўсіх чарцей і ўселякую нечысць да плюгаўство ... звёў бы са свету, але гэтага не робіць, каб на людзей быў страх, а то б яны і Бога забылі бы" [там же]. Существует и "трансцендентный", недоступный человеческому пониманию образ Бога: так, легенда настаивает на том, что есть просто бог и есть Бог над богами [173, с. 40]. Бог над богами – в отличие от "просто богов" (языческих) – не имеет человеческого обличия, скорее, он тождествен Року, Фатуму, таинственной могущественной силе. Существуют, наконец, и "багі" – первичные мифологические образы, олицетворяющие силы природы, часть из которых при принятии христианства трансформировалась в "нечистиков". Но самой большой распространенностью и идеальностью отличается крестьянский Бог (Бог как культурный герой). Именно с ним связано сотворение человека. Крестьянский Бог. В процессе творения и воспитания человека, как и в процессе творения мира, Бог выступает как великий мастер. Ни дьявол, ни даже ангелы не способны на такое произведение. Безуспешно пытаясь произвести дубли божественного творения, дьявол создает чертей, а ангелы – насекомых и пресмыкающихся [173, с. 42] . Можно определенно сказать, что понимание жизни как труда, их тождественность ("працавалі, гаравалі, от так і жылі") в белорусской народной культуре изначально связано именно с тем, что такой образ жизни дан Богом. Не случайно Бог-труженик, Богхозяин – наиболее частый образ Всевышнего в белорусском фольклоре. Это Божеское, хозяйское отношение к миру находит подверждение в текстах: "Сатварыў Бог сьвет да й пашоў з Міколаю да Петром агледаць, ці ўсё добрэ зроблено. Ідуць яны да радзяцца, што трэба знішчыць, што перарабіць, каб усё было добрэ" [189, с. 117]. Так же и Христос, странствующий с Петром, думает, что бы еще сделать на пользу людям. 143 Трудовой пример Бога сказывается не только в процессе сотворения мира, но и в конкретизации человеческой деятельности. В золотом веке он приходил к людям "бы свой брат, вучыў іх, як на свеце жыць да дзетак пладзіць, дзетак пладзіць да гадаваць да зямлю напаўняць... Людзі, бы кветкі, цвілі, жылі, бы птушкі ў небе ці рыба ў вадзе, жылі: што стрэлі, то ўжывалі – ні шчасця, ні бяды не зналі. Але што такое жыццё? Так жыве і звяр'ё па лесе, так жыве і дзераўляка. Бог убачыў тое да й пачаў вучыць людзей, як латвей дастаць ім жыўнасць, як зрабіць сабе адзежу, як схавацца ў непагоду, як лавіць рыбу да звяр'ё, да птушак. І пазналі тады людзі, што каму ўлажыў Бог розум, той можэ рабіць, што хочэ" [191, с. 125]. Итак, именно Бог обучает человека трудовым умениям. Зачем он это делает? Чем нехороша райская жизнь? Тем, что негоже человеку, созданному по Его образу и подобию, жить как "звяр'ё па лесе" или "дзераўляка". Библейская трагедия изгнания из рая (а именно там нет "ні шчасця, ні бяды", именно там человек может жить, как цветок, как птица) здесь трансформируется: рай превращается в прекрасную землю "золотого века", а труд, который в каноническом понимании являет собой часть наказания за грехопадение, становится божественным предназначением. Вскользь обратим внимание и на то, что ценности белоруса поданы здесь в той же иерархии, о которой я уже писала: дети, земля, труд, причем – в первую очередь – труд на земле. Не случайно этнограф отмечает: "Основание всего быта этого племени – земледелие. Белорусы-земледельцы по преимуществу и пахари исключительные, давно уже выговорившие заветное правило: "Умирать собрался, а хлеб сей". На тех землях, с которых великоросы давно уже убежали в отхожие промыслы, эти основывают надежды существования с упрямством, настойчивостью и постоянством" [159, с. 455]. Рисунок: Труд на земле – Мужчынскі касцюм, с. 74. Другая сказка с первой же строки определяет данное Богом отношение к труду: "Перш людзі былі вельмі дурные; нічого не ўмелі рабіць" [189, с.105]. Потому Христос с Богоматерью ходили по земле и учили "як на сьвеце жыць, як абрабляць зямлю, каб кожная рэч ішла на патрэбу чалавеку" [там же]. Тем самым не только труд, но и практицизм признается угодным Богу. В этой сказке Христос не просто наставляет человека: он сам делает соху, хомут, молотилку и учит Мужика ими пользоваться. Вообще эта сказка – "Як Хрыстос вучыў людзей" – многоаспектна: в ней ставятся проблемы женского труда (и женского характера, о чем далее); и отношения к матери; и внимания к странникам ("Заўжды даюць старцам па кавалку хлеба, нікому не аткажуць і нікого не ўпікнуць" [189, с.107]). Именно от старцев исходят самые беспрекословные советы: ведь под личиной нищего странника может скрываться Бог . 144 Труд на земле как ведущая ценность традиционного белоруса. Таким образом Бог санкционирует отношение к миру, как к хозяйству, а следовательно – и особое почтение к крестьянскому труду. Все остальные виды деятельности гораздо более уязвимы. Так, в сказке "Стралец і рыбак" братья отказываются от выверенного отцовского пути – земледелия. Один становится охотником: "людзі ідуць на работу, а ён ускіне стрэлбу на плечо да й шмык у лес або ў балото. Цягаецца там увесь дзень, а прыдзе да гасподы з пустымі рукамі да галодны бы воўк" [189, с.74]. Обратим внимание на пренебрежительное отношение к профессии юноши, на противопоставление людей, которые идут на работу, и охотника, чье занятие работой не называется. Второй брат "дзень і ноч седзіць на рацэ да вудзіць рыбу. Наловіць ён шапку бабуроў ці плотак – якая там у хаджайству карысь?" [там же]. Рисунки: Охотник – Белорусы, с. 171. Рыбаки – Живописная Россия, с. 281. Немудрено, что по старости отца хозяйство настолько "прохудилось", что и путника угостить нечем. И странник делится с горе-сыновьями своей милостыней и толикой собственного здравого смысла: "Дак от бачыце, ён [отец. – Курсив мой. Ю.Ч.] стары, да гаспадаркаю карміўса сам і карміў вас, а без гаспадаркі вы й маладые да здаровые не можэце пражыць" [189, с. 76]. Работа, которая может принести плоды, а может и не принести (причем второе чаще) – не настоящая, ибо в гораздо меньшей мере, нежели сельское хозяйство, зависит повседневных усилий и правильной (данной Богом в процессе обучения человека) последовательности действий. Она ненадежна. Белорус же во всем взыскует надежности и последовательности. Но главное, что отход от земли – отступление от должного места, испытанного отцом, дедами, прадедами: "Люди, которые покупали землю и строили деревню, не представляли, что они сами или их дети могут заниматься чем-то другим, кроме земледелия" [197, с. 34-35]. Потому и охотник, и рыбак (и не только они, а едва ли не все сельские профессионалы – кузнец, мельник, "лягчай" и др.) народным сознанием устойчиво связываются с Чертом – в противовес Мужику, который занимается святой работой. Вероятно, значительную роль здесь играет и связанный с этими профессиями образ Чужого. Нашу мысль подтверждает А.К.Киркор: "С незапамятных времен все громадные рыбные озера витебской Белоруссии берутся в аренду и облавливаются исключительно сумрачными "Осташами", которых суеверный туземный народ считает колдунами и чертовыми братьями. Думаешь вытащить сеть с целым стадом лещей, вытаскиваешь разных большеголовых страшилищ с огненными глазами и с кажаными 145 перепончатыми крыльями. Все бедокурит Осташ. Одна легенда рассказывает, что самого черта видели в образе Осташа, т.е. рыбаком в кожаном фактуке, с широкой бородой и круглым красным лицом" [159, с. 446]. О том же свидетельствует и сказочный образ охотника, продающего или, по крайней мере, желающего продать душу Черту. Труд на земле – наиболее почетен еще и потому что преобразователен, как преобразовательны действия Бога, создавшего землю. При этом Мужик должен четко понимать различие между собой и Всевышним и блюсти субординацию – как личную, так и профессиональную. Он не вправе брать на себя функции Бога и слепо копировать его действия. Существует ряд сказок, в которых Бог и святые выходят на молотьбу (такова плата за ночлег у богача), но работают странным способом и с неожиданным результатом: сжигают всю солому, а зерно остается в целости и сохранности. Когда хозяин пытается повторить их действия, то сжигает всю усадьбу. Здесь прослеживаются две идеи – моральная и философская. С точки зрения морали наказывается излишне расчетливый хозяин, который не может пустить странников на ночлег просто так, ни за что. Вспомним, что богач всегда корыстен ("Скупердзяга"), за что наказывается в сказках. С точки зрения народной философии мы вновь встречаемся с идеей должного места: не равняй себя с Богом, ибо человеку не под силу сотворить чудо. Следует отметить и то, что Бог не гнушается крестьянской работы (мотив множества сказок). Не случайно он живет или во всяком случае жил на земле: тем самым народ подспудно проводит различие образа "крестьянского Бога" и образа деистического Всевышнего, который удалился на небо и смотрит на людские беды сверху вниз. Мотив странствия Бога имеет вполне явную подоплеку: Он путешествует потому, что необходим каждому и должен делить внимание между всеми. Он вполне мог бы "умыть руки", оправдывая себя непослушанием людей, но предпочитает мыкать горе вместе с ними, как и положено отцу. А общее "сыновство" становится залогом общего братства. Бог и человек: лицом к лицу. Отношения крестьянского Бога и его "детей" – людей – прямые, "лицом к лицу". Даже когда Бог где-то в другом месте (у других людей или в раю), к нему достаточно обратиться со "шчырым сэрцам", и он окажет помощь или, по крайней мере, даст мудрый совет: "Не таго Бог выслухае, хто ўмее добра яго прасіць, а таго, хто не моліцца, а толькі шчыра ўздыхне да падыме вочы на Бога. Папоў да ксяндзоў Бог ніколі не слухае, бо яны не моляцца, а толькі благатаюць ці пяюць, бы певуны, распушыўшы хвост" [190, с. 237]. Обратим внимание на прямое, непосредственно-конкретное отношение: "падыме вочы на Бога". Именно такая молитва присуща "сьветым людзям" – даже если она сопровождается языческими прыжками через колоду. Что касается попов и ксендзов, то вопреки претензиям на посредничество, 146 они бесполезны и даже вредны, т.к. не дают сосредоточиться на прямом общении с Богом. В этих строках выражена знакомая нам модель народной религиозности, отличающаяся от ее официальной версии. Однако изначальные отношения ("Бог, бы свой брат") подточены человеческим эгоизмом: "Даўней, як людзі шанавалі Бога да слухалі яго, то ён за тое ўсім даваў тое, што трээ..., а цяпер маладзічкі саўсім і Бога забылі, от затое цяпер уселякае ліха" [там же]. Крестьянский Бог предстает подобным человеку – и человеку определенного склада – Старику. Он не насылает на непослушных людей громов и молний (подобно языческому Перуну или Св. Илье в белорусском мифе), а позволяет событиям развиваться своим чередом, не препятствуя злу, не трансформируя его в добро. Тем не менее это не деистический Бог – первоначало и первопричина, уклоняющийся от участия в жизни людей. Это и не "справядлівы, але вельмі сярдзіты" апокрифический Бог: Он не делает зла в наказание: "Бог з пугаю не стаіць, кожны як захочэ, мажэ жыць" [прымх, с.236]. Его поведение согласуется с испытанной крестьянством моделью – тихим отходом в тень. Именно так ведет себя "Стары Бацька", когда его не слушаются сыновья: способ противодействия их опрометчивым поступкам – молчаливое несогласие вкупе с позволением действовать, совершая собственные ошибки, и в результате приходить к верным, т.е. испытанным, традиционным выходам (вспомним охотника и рыбака; юношу, путешествовавшего по всему царству в поисках "самай разумнай" невесты, а также многочисленные образы других сыновей, решивших, что они умнее родителей, но потерпевших фиаско на своем пути). Бог не настаивает и не требует: он дает совет, и этому совету должен подчиняться не только человек, но и сама Судьба (Доля). Рисунок. Христос (Воскресение) – альбом "Живопись Белоруссии", с. 105 или (Преображение) – 101. Бог и Судьба: к истокам крестьянского фатализма. В одной из сказок женщина, напоившая захожего старика-Бога квасом, в награду излечивается от бесплодия. Ей снится сон: высокая гора (образ рая). На ней гуляют, танцуют, резвятся три девушки – три Доли. Одна плетет венок из чертополоха и осота, вторая – "з калікак да вецця" [190, с. 285], третья из ржи и пшеницы с цветами. Девушки спорят, кто из них достанется зачатому ребенку. "Нарэшце-такі дагадаліса зрабіць так, як Бог вяліць" [там же]. С этой целью бросили вверх цветок. Его поймала третья. В результате родился мальчик и прожил счастливую крестьянскую жизнь. Как это часто бывает в белорусской сказке, здесь тесно переплетаются культурные смыслы народа: и награда за милость по отношению к беспомощному старику (ведь женщине невдомек, что она поит квасом самого Бога), и отношения Бога и Доли, и фатализм написанного на роду, и апелляция к 147 Богу в ситуации, где надо сделать выбор. Особого внимания заслуживают два момента. Первое: Бог сильнее Доли. Сравним с греческим мифом об Эдипе, где античный Рок стоит над богами. Вероятно, обратные отношения Бога и Доли (свойственные, впрочем, не всем белорусским сказкам) связаны с христианским монотеизмом (верой в единого Бога), представляющим Бога как образ беспрецедентного всесилия. Это может толковаться и тем, что Доля предстает в облике женщины, а Бог – в виде умудренного жизнью мужчины: за кем будет приоритет в маскулинной культуре – очевидно. Второе наблюдение связано с моделями будущей жизни, варианты которой символизированы венками девушек: венок из осоки и чертополоха предполагает жизнь рыбака или путешественника; венок из колючек и веток – охотника, а венок из ржи, пшеницы и цветов – крестьянина. Бог однозначно дает понять, что именно последний род занятий предпочтителен. Таким образом, как и в сказке "Стралец і рыбак", именно крестьянский труд предстает в качестве "божеского". Обратим внимание и на то, что в венок вплетены цветы: это значит, что "сялянская" работа предполагает не только труд без отдохновения, но и сопряженную с ним радость пребывания человека в прекрасном мире: "пасе ён гусі да разглядвае Божы сьвет, а кругом так гожэ, так радасно. Яснае сонейко свеціць і хукае, бы на дзіцятко родная матка. Ветрык ціхенько калышэ зялёнае веце на вербах, рака блішчыць праз рэдкіе кусты алешніку, бы тое люстэрко, што дзяцько купіў сваей дачцэ Ганне" [189, с. 213]. Неудивительно, что в сказках не столь уж редко сочетаются труд и стремление к прекрасному. Не случайно один из вариантов идеального самообраза, о которой мы уже упоминали, – юноша, работающий, "бы чорны вол", а в час отдохновения играющий на скрипке или гуслях (Иванка-простачок, Иванчик и др.). Таким образом Бог косвенно (посредством цветка) указывает наиболее достойный и плодотворный способ проживания жизни – тот же, что и Старец из сказки "Стралец і рыбак" – труд на земле. Как видно из сказки (и не только из этой), Бог не всегда дает рекомендации в явной форме. Напротив, он предпочитает окольный путь – символическую форму выражения. Дело Бога – зашифровать мир, дело человека – расшифровать, извлечь упакованный в символическую форму смысл и найти в этом "коконе" достойный императив действия и поведения. С некоторой осторожностью можно предположить, что окольность константного ЭС связана с божественной санкцией, данной именно такому типу поведения. Забота о Боге. И, наконец, последний штрих к личности Крестьянского Бога – высшего идеального самообраза белорусских сказок. При их анализе обращает на себя внимание старость – признак, свойственный Богу во всех традиционных культурах и 148 традиционно же трактуемый исследователями как символический синоним мудрости и всеведения. Однако этим пониманием образ Бога-Старика не исчерпывается. Старость предполагает не только мудрость, но и немощь, а странническая судьба – не только свободу, но и бесприютность. При таком взгляде образ Бога приобретает дополнительные оттенки, связанные уже не с культурными функциями Бога, а с обязанностями человека относительно него. Мотив нужды Бога в человеке прослеживается в белорусских сказках и легендах в прямом, конкретном виде: если человек не накормит Бога – он будет идти по земле голодным; если не угостит квасом или хотя бы водой, то он будет мучиться жаждой; если не даст ночлега – он будет спать под чистым небом. Тем самым фраза "Што чалавек без Бога? – Тфу! да й толькі. Сягоднечы – гад, а заўтра – падло, ат якога толькі нос верне", которую А.К.Сержпутовский приводит в "Прымхах і забабонах..." [190, с.236], помимо прямого, приобретает и переносный смысл. Человек без Бога – "падло" не только потому, что не выполняет заповедей, но и потому, что лишает себя высшего права – заботы об идеале. "Негативный белорус": недовольство собою Без недостатков? Отличительная черта белорусского критического ЭС – сравнительно малое количество отмечаемых сказочниками недостатков, во всяком случае, недостатков выраженных. Это свидетельствует о том, что в целом общность оценивает себя достаточно высоко. Здесь мы сталкиваемся с проблемой различия в восприятии этноса со стороны, народами-контактерами, и самовосприятия этноса. При том, что в глазах других народов белорусы предстают, как правило, положительно (о чем свидетельствуют и социологические опросы, и мемуары), в качестве их отрицательных – или, по крайней мере, сомнительных – черт обыкновенно называются те, которые для самого этноса изнутри, воспринимаются позитивно, константно. Так, в воспоминаниях о жизни на Полесье польский автор Ф.Вислоух без осуждения, но с некоторой иронией пишет об осторожности, о недоверии к изменениям, о замкнутости полешуков. Как положительные черты Вислоух описывает смекалку Мужика, его самодостаточность, отвагу [138, p. 47]. Если мы обратимся к предшествующему анализу, то не сможем игнорировать разницы в авто- и гетеровосприятии этих черт: и осторожность, и нелюбовь к радикальным сдвигам, и тем более замкнутость ("тихость") – сугубо позитивные качества белорусского ЭС. Пьянство. Ни в одном социологическом опросе, где участвовали бы "сторонние наблюдатели", не выделяется такой отрицательной характеристики белоруса, как 149 пьянство. Сам же Мужик отмечает пьянство в качестве одной из распространенных негативных черт. В сказке "Хвароба над хваробамі" оно признается главной болезнью народа. Олицетворенное Пьянство бахвалится: "Я тое зрабіло, што цепер, как не я, та б усе хваробы ні воднага чалавека не ўмарылі" [191, с. 38]. Правомерность похвальбы подтверждает и Смерть: "Яно робіць больш, чым усе хваробы разам. А колькі яно яшчэ прыгатаўляе. После п'янства вазьме й трасца, й пухліна..., й уселякая хвароба" [там же]. Потому главный черт Ничипор продвигает Пьянство по статусной лестнице, делая его "болезнью над болезнями", своего рода "генералом болезней". У Улащика находится подтверждение тому, что пьянство считалось предосудительным не только в сказочной, но и в реальной действительности: "Большинство мужчин было не против того, чтобы выпить, но пьяного до положения риз крестьянина можно было увидеть чрезвычайно редко – на свадьбе или на большие праздники. К тому же этот человек старался спрятаться как можно быстрее" [197, с. 114]. Почему же в сказке так много упоминаний о пьянстве (в том числе и о женском)? Правомерно будет предположить, что так народ предупреждал возможность такого малопочтенного поведения. В этом смысле возможно предположить, что критический самообраз обладает упреждающей функция, что, как и идеальный ЭС, он смотрит вперед, только "антиутопично". Пьянство как залог победы. В целом критический самообраз этноса должен быть оптимистичен. Если недостатки в нем превышают достоинства, то о судьбе народа можно говорить с тревогой: он недалек от ассимиляции с более "привлекательной" (более сильной, более успешно реагирующей на вызовы среды) общностью. В случае же четкой идентификации этнофоров и стабильной культурной ситуации отрицательным характеристикам ЭС находятся оправдания и объяснения, а также положительные трактовки. К последним относятся распространенные интерпретации пьянства как мощи, как свободы, как черты, вынуждающей к хитроумию. Так, Пьяница из одноименной сказки: "прачухаўса трохі... да й крычыць на ўсё пекло: "Давайце гарэлкі, а то ўсё пекло разверну! Німа чаго рабіць, далі чэрці яму гарэлкі мо два ці тры разы, да й шкода ім стало бузаваць гарэлку, калі яна на землі так добрэ зводзіць людзей да ведзе іх у пекло. Толькі перасталі чэрці даваць яму гарэлку, дак ён так разбушаваўса, што аж пекло трашчыць. Разбегліса чэрці чорт ведае куды, а ён пачаў зрываць з катлоў замкі да выпушчаць з смалы грэшные душы" [189, с. 119]. Здесь мы сталкиваемся с противоположными пониманиями пьянства, что называется, "в одном флаконе". С одной стороны, пьяница аналогично суперположительному Иванчику из сказки "Гуслі" и 150 ученику Бога из сказки "Усё і ў галаве не змесціцца" освобождает души из адского плена. Правда, в отличие от Пьяницы, они выручают грешников из жалости, сострадания, а не из желания отомстить чертям и добыть "гарэлку". Да и сам способ различен: в упомянутых сказках освобождение происходит не активно-наступательным путем (срывание замков с котлов и т.д.), а посредством доброй мысли. Уже сам тип насильственных действий, избранный Пьяницей – пусть даже в результате его и "пекло правалиласо", – говорит об отрицательном отношении к герою. С другой стороны, мощь, позволившая этому в высшей степени сомнительному персонажу разрушить ад, не может не вызывать восхищения. Образ Пьяницы – в отличие от образа трезвого, здравомыслящего Мужика – исключает "дамоклов меч" самоконтроля, довлеющего над обычным, "правильным" Мужиком. Тем самым в самокритическом образе прослеживается и позитивный момент сверхчеловеческого могущества и свободы от норм. Пьяница не только сверхмощен: он и изощренно умен, хитроумен. Для того, чтобы добиться цели, Пьяница пускает в ход всю свою незаурядную изворотливость, что явственно прослеживается в его диалоге со святыми. Пьянство горемычное. Что касается объяснений (а, следовательно, и оправданий) пьянства, то наиболее частое из них – горе народное. В этом смысле пьянство понимается как хотя и временное, но облегчение среди рутины и безнадежности, как иллюзия свободы: "... паляцеў бы к Богу на скаргу, каб там горкімі слёзкамі выплакаць сваю ліхую долю, выплакаць тое горэ, што гнеце да точыць табе сарцэ на землі цэлую жытку. Але Бог крылаў не даў, а велеў усю жытку лазіць у гразі чорным да цёмным і нема табе ніколі супачынку, нема радасці... Вып'еш адну-другую кварту, й пабежыць якаясь сіла па жылах, загудзе ў галаве, бы вагонь у печы, й здаецца табе, што от, каб упёрса ў што-небудзь, та б і землю перавернуў, такая ў табе чуецца моц. Вып'еш яшчэ, дак ногі самі і ходзяць, баццэ ў таго паньскаго жарабца, рукі махаюць, бы крыла ў ветраку, і здаецца, што гэто не рукі, а крыла, што імі не дзело рабіць, а толькі летаць да кружыцца. І цесно стане табе у чорнуй хатцы, вылеціш на шырокі Божы сьвет да так табе зробіцца весело на сэрцы, што толькі паеш да паеш. І хочэцца табе, каб усе людзі з табою пелі да скакалі, бы на весельлі" [189, с. 133]. Впрочем, "скокі" могут иметь опасные последствия: так, в одной из сказок пьяница напугал старцев (Бога и святых), за что был превращен в медведя. Сказочная логика порождает закономерное объяснение, базирующееся на сходстве медведя и человека: "От затым у медзьведзя чалавечые ногі і ён вельмі любіць гарэлку да салодзенькі медок" [189, с. 134]. 151 Впрочем, существует и более правдоподобный образ "горького" пьянства: "От раз у ваднаго чалавека заняпала карова. Бедуе мужык – нема дзецям ни каплі малака... Пайшоў той мужык з бяды у карчму, хацеў выпіць кватэрку гарэлкі" [191, с.77]. Такое пьянство – констатация безвыходности, и в сказках оно упоминается вскользь, между прочим. Можно предположить, что именно это рутинное пьянство, не дающее ни мощи, ни размаха, и есть то состояние, которого народ стыдился. Лень. Если причины пьянства сказкой объясняются, и оно порой даже оправдывается, если пьяница не так уж редко оказывается в выигрыше, то лень не имеет оправданий и наказывается почти всегда. Так, помимо уже приведенной сказки о человеке, превращенного за пьянство в медведя, есть и другое истолкование этой трансформации: некогда людей было мало, они жили охотой, собирательством и рыболовством. Более того, между ними действовала своего рода "конвенция", весь мирхозяйство был поделен поровну (вековечная мечта белоруса о недостижимой справедливости). Однако нерадивый мужик повадился в чужие дупла за медом и был наказан колдуном – обращен в медведя ("Медзведзь"). Если взять эту сказку в более широком контексте, то можно трактовать человека-медведя как образ отпавшего от разумной, нравственной, единственно верной действительности "грамады". "Так, отщепенец, поведение которого противостоит поведению всего общества, мог называться "медведем" [175, с. 225]. Социальная непоседливость. Часто лень сочетается с социальной "непоседливостью": героя, "непрытомнага валацугу" не берут в работники из-за того, что он ничего не умеет и не желает делать, а лишь "таскается" от одного хозяина к другому. Часто такой персонаж пробавляется охотой (как мы показали выше, ни охота, ни рыбная ловля не считаются трудом). В одной из сказок он – с подачи знахаря-колдуна – едва не продает душу дьяволу: "гэ, на чорта мне тая душа, ... за душу мяне ні накормяць, ні напояць" [190, с. 271]. Это неудивительно: человек без хозяйства ("гаспадаркі"), не желающий работать на земле и предпочитающий полю опасный лес, явно не имеет твердых норм поведения, постоянно воздействующих на членов стабильного, оседлого общества. Вскользь обратим внимание на двойственное понимание леса: с одной стороны, он "Божы гай", дающий крестьянину дополнительный прибыток и осеняющий его своей красотой, а с другой – прибежище темных сил. Вовсе не случайно в лесу живет нечисть всех родов – от чертей и языческих божеств, ставших "нечистиками", до "злодзеяў" и дикого зверья. Можно предположить, что лентяй, поставивший жизнь в зависимость от леса, рискует потерей души. 152 Напомню: промыслы считаются гораздо менее угодными Богу, чем труд на земле. Охота, рыболовство предполагают удачу, везенье, которые годятся для сказочного сюжета, но непригодны в качестве жизненного ориентира – впрочем, даже в сказке эфемерные надежды на шальную удачу разлетаются в пух и прах. Однако ленивый порой (хоть и реже, чем в русских сказках) награждается. Так, в одной из сказок "дурань" и бездельник – именно из-за лени и глупости – вместо хлева выстроил шалаш и неожиданно стал обладателем стада, которое само пришло к нему. Но такай приз за леность в белорусских сказках все же редкость.. Даже если социальная непоседливость не связана с бездельем (например, в сказке "Самая разумная", где герой целеустремленно ищет себе невесту; или в других сказках, где он столь же направленно ищет "долю" или знание) оно нередко граничит с критическим самоосмыслением белоруса. Типичное описание такого "перекати-поля": "дзесь цягаўса па свеце" [191, с.72]. Уже в словах "цягаўса" или "бадзяўса" слышится осудительная нота. Дело даже не только в том, что он не живет крестьянским трудом (а значит, нормы и ценности "грамады" им отринуты), а в том, что во имя химеры он нарушает высший долг – уходит с земли, на которой рожден. Здесь следует обратить внимание на столкновение ценностей, в иерархии Мужика находящихся приблизительно на одном уровне. Это ценность практического отношения к миру и ценность должного места. С одной стороны, Мужик уважает себя за практицизм и стремится устроить собственную жизнь и бытие своей семьи наилучшим образом. С другой стороны, этот "наилучший образ" в социально-бытовых сказках редко выходит за грань усовершенствований крестьянского быта. Когда поиск "где лучше" нарушает почти вассальную верность Мужика должному месту, самообраз героя становится критическим. Чаще всего это разбогатевший мужик, который бахвалится перед бедняками-соседями. Тем не менее этот персонаж все-таки остается крестьянином и часто потом вновь водворяется на свое законное место бедняка. Причины могут быть как бытовые, вполне реальные (недород, сгоревшая усадьба), так и мистические (утрата "доли", наказание Бога). Таким же неприемлемым способом может себя вести "вельмі разумны" сын, который презрительно относится к мудрости отцов и дедов. Однако, как положено законом сказки, блудный "сверчок" вновь водворяется на "свой шесток". Социальный непоседа как Чужой. Но бывает ситуация, когда поиск лучшей доли не только нарушает должное место, но и заставляет человека противостоять ему. Тогда речь идет уже не о самокритическом образе, а об образе Чужого. Так, в сказке "Мужык і пан" наиболее отвратителен даже не сам Пан, а его Лакей. Выбившийся из "низов", из крестьянства, он обращается с мужиком Стопаком по-хамски. Эта манера 153 общения отличается неравномерностью в обхождении к выше- и нижестоящим. Если по отношению к пану лакей подобострастен, то по отношению к своему же брату- Мужику груб и высокомерен. Показательно, что манеры новоявленного "полупанка" вызывают у мужика здравое презрение: "Ты пан – не пан, а так сабе – палупанак, бо ў цябе нос нізкі, лоб слізкі, от і бачно, што лізаў паньскіе палуміскі" [191, с. 98]. Между лучшей долей и "верностью мундиру" (т.е. крестьянской свитке) мужик выбирает второе. Конформность: за и против. Сразу же отметим: эта самохарактеристика – одна из центральных в белорусских сказках, причем в различных обстоятельствах и сказки, и реальности она оценивается с совершенно противоположных позиций. Традиционная установка "як усе", обладающая сугубо положительным наполнением, в ряде сказок трансформируется в отрицательное качество, которое описывается убийственно самокритической формулой: "народ, бы гаўядо" [191, с.146]. Здесь возникает проблема: ведь конформность – оборотная сторона медали "як усе", при том, что эта максима – одна из основных в крестьянской культуре. Потому важно определить, в каких случаях крестьянин понимает конформность как помеху – и помеху чему, а в каких – как единственно верный способ действий. Прежде всего можно вспомнить ситуации, когда конформность оказывается ложной и скрывает под собой – пусть неявное, пусть "косвенное" – чувство собственного достоинства (таковы попытки Мужика с готовностью, но излишне "буквально" отреагировать на вопросы и требования пана, доводя их до утраты всякого смысла). Затем – те ситуации, когда речь идет уже не о "сохранении лица", но об афере, которую Мужик, прикидываясь "абыякавым дурням", проводит с блеском и хитростью. Вспомним Сымона, который просил убить его "як лепш": его соглашательство – ларчик со многими печатями. Не случайно сказка называется "Хітры мужык". Ее фабула в пунктирном виде такова: покупка Сымоном старого коня – его продажа под маркой "чудо-животного", способного испражняться деньгами, – кабак, где Сымон пропивает полученные деньги, – продажа очередного "чуда" (горшочка, который как будто сам варит и без огня кипит) – кабак – ярость обманутых– попытка покарать прощелыгу смертью – его хитрое спасение – панская жизнь Сымона. Как мы видим, Сымонова конформность мнима: он просто-напросто тянет время. Впрочем, нельзя не заметить и мотива долого места. Сымон понимает, что наказание правомерно, ибо заслуженно: такова модель должного поведения противников. Но одновременно он знает, что должное поведение ожидающего казни – попытаться изменить ситуацию, играя на психологических нотах: "Як пачуў Сымон, што хтось едзе, што гэто, мабыць, пан, бо хурман паліць з біча, от ён давай крычаць: "Ратуйце, добрые людзі! Не ўмею ні 154 чытаць, ні пісаць, а за караля везуць". Учуў тое пан і захацеласо яму зрабіцца каралём. Велеў ён хурману супыніць коней, злез з качобрыка, падышоў к Сымону, развезаў мех да й кажэ: "Я ўмею чытаць і пісаць, з мене добры будзе кароль. Давай я ўлезу ў мех, а ты мене завежы". Улез гэто пан у мех. Сымон моцно яго завезаў, а сам сеў на качобрык да ў паехаў у маёнтак панаваць замяст пана" [189, с. 114-115]. Почему нарушивший нормы традиционного поведения Сымон в сказке не наказывается, а награждается? Тому есть несколько причин. Во-первых, он обманывает не соседей, а "незнаёмцаў", т.е. Других. Известно, что в любом традиционном обществе соблюдение нормы обязательно именно по отношению к "своим". Во-вторых, приправленная хитростью конформность превращается в способность изменить ситуацию без "резких телодвижений", без активного вмешательства в ход событий, т.е. косвенным путем. В этом случае она превращается в мудрость. Когда комформность осуждается? В тех случаях, когда конформность Мужика не содержит в себе заряда хитрецы и / или желания взять верх над более сильным – богатым, увенчанным властью и т.д., она переходит в качество критического ЭС. Вероятно, в тонком различии между мудростью и конформностью большую роль играет не только ситуация и не только оценка сказочника или реакция слушателей, но и та цель, к которой устремлено поведение. Так, Крестьянин в диалоге с Паном ведет себя приспособительно с целью незаметно поиздеваться над ним и сохранить внутреннее чувство собственного достоинства. Мужик Сымон использует конформность в целях спасения жизни, не лебезя и не упрашивая о пощаде. Все эти типы конформного поведения отвечают ценностям этноса. Но существует типы приспособительного поведения, глубоко не уважаемые крестьянином. Здесь я говорю не о "полупанке" Лакее, который оторвался от крестьянства и, следовательно, не может считаться частью самообраза, а о Соглашателе, который представляет собой одну из самокритических ипостасей ЭС. Именно таков герой сказки "Не вер ачом", который настолько надеется на мудрость коллектива, что отказывается верить очевидности. Сюжет сказки непритязателен. Мужик находит петуха, а соседи, насмехаясь над ним, в один голос говорят, что это заяц. "А мо й заец, – думае мужык. – Не вер ачом. Мабыць, праўда, калі ўсе кажуць, бы згаварыўшыса" [191, с. 111]. Итог, подведенный сказочником, таков: "Не той дурань, каго завуць дурнем, а то дурань, хто чужым розумам жыве" [там же, с. 112]. Дурень: настоящий или мнимый. Напрашивается вывод о том, что в белорусской социально-бытовой сказке существуют три типа "дурня" – константный, идеальный и критический. Константный тип дурня – Мужик, который хочет "памагці пану сваім дурным мужыцкім розумам" [191, с. 69], т.е. умный, скромный человек с 155 недемонстративным, но глубоким внутренним чувством собственного достоинства. Это тот, кто идет к царю просить, чтобы царь дал народу свободу от издевательств панов (сказка так и называется –"Дурэнь"). Это он "так робіць, што аж жылы ў яго трашчаць" [189, с. 130]. Это его Я. Купала с горечью и уважением назвал "дурным мужыком". Об идеальном типе "дурня" мы уже писали: это "сьветы чалавек", он же – "шалапаваты дурэнь". И наконец, самокритический тип дурня – человек, который отказывается жить своим умом. Его соглашательство – не акт противодействия, таящего под собой самоуважение; напротив, у него отсутствует всякое уважение к себе. Он предпочитает растворение в общности вплоть до абсолютной потери личности. Взамен он получает хоть скудное, но относительно защищенное существование. Именно он, по замечанию П.Шейна, равнодушен к добру и злу. Отметим, что сами сказочники, слушатели и герои фольклора прекрасно понимают разницу между этими тремя типами человека. "Абыякавасць" или изменения? Иногда констатация пассивного, "абыякавага" поведения в сказках относится не к конкретным героям, а к народу, к "миру". Именно фатализмом, забитостью, равнодушием масс в сказках мотивируется необходимость "доброго царя" в качестве инициативного предводителя народа: "народ, ведамо, дурны, бы гаўядо: куды яго гоняць, туды йдзе, што кажуць, тое робіць, гатоў за тых, або другіх паноў і на роднага бацька падняцца" ("Петро Вялікі") [191, с.146]. В первые десятилетия ХХ в. идея "царя-батюшки" обретает антитезу – идею революционного переворота. Хочется нам или нет, но в сказках того времени этот мотив существует, и игнорировать его невозможно. Так, сказочник с горечью констатирует, что крестьяне "служаць тым гнілым панам…не думаюць аб лепшым жыцці. Ім здаецца, што гэ й трэ, што йнак жыць, так і свет звядзецца..." [191, с.159]. Далее указывается и причина такого унизительного положения – установка на архаическую повторяемость: "Гэ жылі нашы продкі і дзеды, трэ й нам уступіць у іх следы" [там же]. Однако поразмыслив над тем, что будет после уничтожения несправедливости, сказочник делает вывод о том, что она неминуемо возвратится по причине несовершенства самой человеческой природы. Вспомним, как полешуки и полевики, прогнав панов и врагов, вновь стали их рабами, ибо не научились жить в ладу: "кожын хочэ быць большым, ніхто не хочэ гараваць, а кожын пнецца панаваць" [189, с. 103]. Прогнать пана и врага еще не значит уничтожить врага в себе. Замкнутый круг. Итак, самоотношение Мужика не только в личностном, но и социальном плане вполне может быть критичным. Однако здесь следует внести два важных дополнения. Во-первых, обратим внимание вот нв что: с одной стороны, Мужик осуждает пассивность и соглашательство, а с другой – неумение жить "у ласцы, у згодзе". Получается замкнутый круг. Это ощущение замечательно передано в сказке 156 "Палешукі й палевікі": именно "ласка" и "згода" вынуждают искать компромисс, а компромисс и есть соглашательство – разве что в менее выраженной форме. Вопрос остается без ответа, причем, не только в сказке позапрошлого века: ни одна современная демократия не разрешила этой дилеммы, ибо она неразрешима принципиально. Здесь мы имеем дело со столкновением ценностей свободы и согласия, которые теоретически должны бы идти "в единой упряжке", но практически этого не происходит. Свобода связана с автономной, индивидуалистической, а значит, в значительной мере эгоистической личностью, а согласие призывает к коллективизму. Этот парадокс пронизывает не только белорусскую сказку, но и знаменитое марксово определение человека как индивидуального общественного существа. Потому Мужик и не может найти здесь отчетливой и однозначной схемы действия. Думается, именно в этом (не столько в исторических реалиях, сколько в осмыслении их крестьянином) и таится корень белорусского фатализма, констатация которого стала общим местом отечественных исследований постсоветского периода. Во-вторых, следует помнить и то, что критический ЭС ни в коем случае не предназначен для сторонних наблюдателей, он существует сугубо для внутреннего использования. Потому, как представляется, выводы об этническом комплексе неполноценности белорусского народа, популярные в публицистике и даже в ряде гуманитарных исследований 90-х гг. ХХ в., неправомерны. Белорус высвечивает и гиперболизирует свои недостатки с единственной целью – выработать способы борьбы с ними. Другое дело, что они не видны взгляду стороннего наблюдателя: это поиск окольного пути, создание должного места и совершенствование "внутреннего человека" (путь доброй мысли). Очерк 4. "Чужие" и "Другие" в самосознании традиционного белоруса "Чужой" и "Другой": немножко теории Чужой, враг, нечеловек. Образ Чужого (как и образ Другого) – важный компонент этничности, точка ее отсчета. Лишь противопоставление себя Чужому, как и сопоставление себя с Другим, позволяет самообразу обрести форму, а народу – осознать собственную "самость". Не случайно образ Чужого в этническом самосознании является не менее, а то и более древним, чем образ "Мы": ведь сама необходимость сплочения людей в общность рождается в ситуации угрозы, опасности. Олицетворением опасности и является Чужой – природный или человеческий. 157 Вопроса о том, что Враг (а именно так первоначально рассматривается Чужой) – тоже человек, в архаике не возникает. Тому много свидетельств – не только в первобытной, но и в более поздней культуре. Показательно, например, здесь древнерусское представление о языческих царях: у некоторых из них собачьи головы, другие обладают крыльями – и все мало схожи с людьми. Да и поведение их трудно счесть человеческим: "Ибо люди, шедшие с севера, есть начнут плоть человеческую и кровь пить как воду. И все есть станут нечистых и гнусных змей… и мертвечину всякую" [141, с.25]. Такие представления о чужаках характерны для всех народов на их ранних этапах развития. Беда в том, что они оживают и поныне – в периоды конфликтов и, тем более, войн: "шакалы", "свиньи", "бешеные псы", "монстры". Ведь убить монстра или зверя гораздо проще, чем человека, даже когда он является врагом. Потому в образах чужаков мощно представлена нечеловечья – звериная и потусторонняя сущность. Это связано с архаической установкой на строгое разделение Космоса (Мы) и Хаоса (Они). Чужой как представитель Хаоса – сферы, где человечьи ("наши") законы не имеют силы, где нет никаких гарантий – непредсказуем и уже тем страшен . Потому, по мнению этнологов и этносоциологов, архаическая оппозиция "Мы – Они" первоначально возникает в виде "люди – нелюди", где человеческим содержанием обладает только образ "Мы". Не случайно многие этнонимы обозначают "люди" или "человек" ("ненец", "тюрк", "нивх" и др.). Немалую роль в том, что Чужому отказывают в "человечьей" составляющей, играет святость племенного пространства, знаменующего Космос, в противоположность "чужому", пространству Хаоса, которое не может породить человека, а лишь зверя и/или нечистые силы. Потому любая попытка вторжения Чужого на "нашу" землю есть вмешательство Хаоса, угрожающее священному строю жизни. В этом сыграли (и, увы, до сих пор нередко играют) свою роль межплеменные войны: "на ранних стадиях культуры война есть едва ли не единственная форма, в которой вообще идет речь о соприкосновении с чужой группой. Помимо войны не было никаких социологических взаимосвязей между различными группами" [163]. Преодоление "нечеловека". Однако постепенно параллель "Чужой-Враг" ослабевает. Этому есть несколько причин. Во-первых, благодаря "некосмизированности" ("антикультурности" ) чужаков, у них есть преимущество – свобода от традиционных норм, открывающая новые пути развития культуры. Ведь устойчивым является представление о том, что все нормы и правила – "здесь" (в нашей группе), а "там" их нет и не может быть. Потому Чужой воспринимается более свободным, не ограниченным ни запретами, ни даже человеческой биологией. Именно отсюда представление об огромной 158 силе чужаков (впомним образы чуди, псоглавцев и др.), и отнюдь не только физической: Чужой – обладатель знания, причем знания "чужого", скрытого, эзотерического и даже потустороннего. Это "чужое знание" амбивалентно. Если на ее ранней (архаической) ступени развития этноса отношение к нему негативно, ибо превалирует страх перед его "нечеловечьим" происхождением, то на зрелом уровне это отношение меняется: признается возможность учения у чужаков и, следовательно, необходимость "Чужого" для "Своего". Возможно, в этом переломе и лежит одно из оснований превращения Чужого в Другого. Как будет показано ниже, в белорусском крестьянском сознании совмещаются оба эти отношения. Другая причина изменения отношения к Чужому – увеличение и углубление контактов между народами. Особую роль здесь играет повседневная близость (территориальная, поведенческая, религиозная, корпоративная, бытовая и т.д.), разрушающая страх перед Чужим. Социопсихологи (Г.Оллпорт и его последователи), доказали, что при условии деловых контактов, общности цели и близкого знакомства представителей этносов их взаимодействия, а, следовательно, и взаимные стереотипы восприятия изменяются к лучшему. По мере узнавания Чужой становится Другим. Однако этот процесс сложен и неокончателен: при разрушении контактов, в ситуациях нестабильности, конфликта Другой может вновь стать Чужим. Распад образа Чужого. Отсюда во многом исходит наиболее важная причина перестановки акцентов с Чужого на Другого. Это конкретизация понятия "Чужой". С течением веков понятие "чужих" дробится: это уже не "нелюди", и даже не только враги, это и "дивьи" люди, живущие в диковинных краях, это свой же этнический сосед (как правило, мифологизированный), это и язычник – для иудея или христианина, и "варвар" для эллина… Критерии "чуждости" обретают очертания: чужим можно быть по языку, по вере, по территории, по этическим воззрениям. При этом другие параметры "чужого" могут совпадать с собственными. Это ощущение уже менее мистическое, а значит, преодолимое. Становится возможно даже единение с чужим – посредством дара (обычаи межплеменного дарения). Впрочем, потенциально осознание "чуждости" присутствует, но актуализуется оно лишь в кризисные моменты для общности. Ситуативный Чужой. При анализе понятий "свой", "другой", "чужой" в сказке следует учитывать их ситуативность. Чужой может становиться Другим (в результате его "о-своения"), и наоборот, Свой может превратиться в Чужого (как это происходит с разбогатевшим крестьянином или Лакеем, изменившими нравственной природе Мужика, и т.д.). Потому следует отметить относительность категорий "свой", "чужой", "другой" в ментальности этноса. Дело в том, что они вовсе не имеют сугубо этнического характера, 159 а касаются всех сфер самоосмысления народа. Речь идет о том, какие типы личности считаются приемлемыми для представителей данного этноса, а какие – нет; о том, какие черты вызывают одобрение, а какие категорически отторгают человека от общности. И наконец, Другим может быть также социально и этнически близкий "персонаж культуры", который никогда не мыслился в качестве Чужого. Причина этого может корениться, например, в гендерных стереотипах этноса. Так, в процессе анализа белорусских сказок я пришла к неожиданному выводу – к тому, что в качестве Другого выступает не чужак, отношение к которому более или менее доброжелательно, а, например, человек другого пола. В сказке это Баба. Но об этом позже. Образ Чужого: Пан Объект ненависти. Даже при поверхностном обращении к белорусским социально-бытовым сказкам очевидно, что коллизия большинства из них – скрытый или явный конфликт Мужика (символизирующего "Мы") и Пана (Чужого). По отношению к последнему приветствуется "антиповедение" (термин Ю.М. Лотмана), недопустимое в отношении своего брата-мужика. Пана можно обманывать, обворовывать, бить, а в некоторых случаях – и убивать. Вспомним мотив и причины кражи у Пана в белорусской сказке: "ён у нас пакраў..." и т.д. Приведем еще одно объяснение: "У пана не грэх красці, бо пан багаты, а грэх ў мужыка, бо ў яго апошняе. Хто пану не схлусіць, а паню не падмане, той у сваёй гаспадарцы не гаспадар, а пустога двара затычка" [190, с. 72]. О том же говорит и реакция крестьянина на убийство пана: "Ото ж, дзякуй Богу. Адным паном меньш" [189, с. 221]. Из этого можно заключить, что подчас – и вовсе не редко – образ Пана как Чужого перерастает в образ Врага. Антиповедение Мужика в отношении Пана объясняется просто: человек, касательно которого нормы, установленные этносом, не соблюдаются, и есть Чужой. Напрашивается вывод: нет героя, более ненавистного народу, нежели Пан. Из проанализированных сказок (а их – со всеми вариантами – было около тысячи) только в ста с небольшим образ Пана амбивалентен и лишь в нескольких десятках положителен (да и то чаще всего с оттенком иронии). Пан – своего рода кривое зеркало, которое показывает человеку, как нельзя себя вести. Если жизнью Мужика руководят ценности, то Пан живет в соответствии с антиценностями. Он сам – антиценность во плоти. Не случайно Пан – наименее противоречивый образ сказки. В этом заложена невозможность альтернативы: Пан не может измениться. Пан как недочеловек. Итак, какой же образ Пана превалирует в самосознании белоруса? Прежде всего, Пан – не-человек или не вполне человек. Об этом 160 свидетельствует общее место многих сказок – желание Пана, "каб у яго ўсё было не палюцку" [189, с.164]. В этом проявляется противопоставление "паны – людзі", о котором свидетельствуют панские привычки, уклад, вещи, внешность, еда и пр., маркирующие антитезу "Пан – Мужик". Так, Мужик, которого Пан угощает чаем, обжигается и говорит: "Нехай яна згарыць, гэстая гарбата. Гэто добрэ паном, а нашэму брату гарапэшніку яна шкодзіць" [189, с.63]. Тем самым в отношении к панскому напитку явно прослеживается размежевание "Мы" ("наш брат гарапэшнік") и "Они" (паны). Эта реалистическая ситуация в других сказках перерастает в фантастическую: пристрастие Пана к "нечеловеческой" пище чрезвычайно утрируется. Так, в сказке "Недапад" рассказывается о Пане, искавшем повара, с тем, чтобы тот каждый день готовил разную еду и ни разу за год не повторился. Если это все же произойдет, единственной наградой горе-"кухара" станут розги. На место повара устраивается пьянчужка – из тех, кому уже нечего терять. Что ни день "кухар" изобретает новое яство. "І чаго толькі ён не гатовіў, якім толькі брудам не карміў паноў. Але, ведамо, паны не сабакі – усё з'едзяць да абліжуцца. Рабіў ён каўбасы с давальдрэку, вужовую яечню, верашчаку з мышыных хвастоў, кашачых вантроб да жабячых клюшаняк; п'ёк печэню з пацукоў да чарапах, гатовіў галярэту з жабурэння або з шаршнёвае чарвы, рабіў чарвяковае масла да вашыную затаўку" [189, с. 164]. Однако повар запамятовал, что год високосный, и на последний день не придумал блюда. С горя пьянчужка использует в качестве исходного материала коровий навоз. Пан и гости-паны с аппетитом съедают новое блюдо. А пьяница, забрав деньги, не отказывает себе в удовольствии оповестить их об ингридиентах. Примечательны здесь два момента – любовь Пана к "нечеловеческому" (к нечеловеческой еде) и факт, что даже самый ленивый и пьющий крестьянин победит Пана смекалкой и "окольной" методой действия. Почему пьянчужка выигрывает в невидимой Пану схватке? Потому что несмотря на свою социальную несостоятельность, он человек, противостоящий античеловеку. "Нечеловечность" Пана подчеркивается его речью: "дак яны не гаварылі, як Бог даў, як гавораць ўсе людзі, а гугнявілі, шапелявілі, балбаталі ці заікаліса да цягнулі кожнае слово ці выпушчалі праз зубы да лічылі, што яно даражэй золата" [189, с. 163]. Польский компонент в образе Пана. Здесь проступает насмешка не над особенностями дикции или даже не только над высокомерием, проявляющимся в подобной манере разговора, но и над существенной компонентой речевой характеристики Пана – польским языком ("гугнявілі, шапелявілі... выпушчалі праз зубы"). "А цо повеш?"; "А по добрум цо?"; "Цо ж, мой выжэл здэх?"; "То і абора 161 паліласен?"; "Цо ж тэрас робіць?"; "С тых час каж іх карміць вшысткім, цо ест і цо готуён до мэго стола" и т.д. – именно так зачастую выглядит речь Пана. Пан и Мужик – и в буквальном, и в переносном смысле – разговаривают на разных языках. Примечательно, что когда речь идет о "добром Пане" (что случается редко), то его речь почти всегда автоматически переводится на белорусский язык (сказки "Князь Радзівіл Коханко", "Шчаслівы пастух", "Дагадаўся" и т.д.) . Этот ход сказочника непреднамерен: здесь дает себя знать функция отделения от Чужого, исполняемая языком. Итак, речь Пана, как и пища, тоже маркирует его "нечеловеческую", то есть "не-Мужичью" природу. Античеловек. Но Пан не толькко "недочеловек и "нечеловек", он "античеловек". Античеловеческая натура Пана (здесь уместно вспомнить первичную антитезу "люди– нелюди") в ряде сказок находит глубинное обоснование. Так, по одной из "теорий", паны – это люди, которых "Шатан" на заре времен переманил на свою сторону, дав им власть над тихими и слабыми. Очевидно, сила Сатаны оказалась большей, чем доброта ангелов. В ответ на попытку небесных посредников заступиться за мужиков паны обвинили их в незнании жизни: "Над мужыком трэба стаяць з бізуном над каркам да яшчэ трымаць воз лазы за хвальваркам, бо ў мужыка такая натура, што без бізуна сьвербіць шкура" [191, с.135]. Вскользь обратим внимание на это объяснение, соответствующее всем тоталитарным самооправданиям: народ незрел, он нуждается в жестком руководстве (по тем же причинам в эпоху западного колонизаторства были популярны сравнения африканцев с детьми). По другой версии, паны родились людьми, но воспитывал их змей. Потому они стыдятся человеческого происхождения и принимают "звериные" фамилии (Волк, Свинский и т.д.). Их покровитель змей находится при последнем издыхании, разлагаясь еще при жизни, а они вдыхают этот "аромат" с упоением. Итог закономерен: "Прасмердзеліса паны да й пачалі самі гнісці" [191, с. 158]. Заметим уже знакомый мотив: "панство" сокрушится само собой, ибо источник гнили – не вовне, а внутри, а потому революционные меры здесь не действенны. Единственный возможный способ существования в таких обстоятельствах – трезвое понимание ситуации и терпеливое ожидание перемен. Правда, в некоторых сказках отмечается бесполезность всякого ожидания: "Толькі ось адзін раз вельмі доўго не было пана. Розно гадалі людзі. Другіе пашлі гаманіць, што ўжэ саўсім не будзе пана, што нас возьмуць у казну ці саўсім пусцяць на волю. Толькі быў у нас адзін п'янчужка, дак той праўду казаў, што балота без чорта не будзе – адзін загіне, десяць будзе" [189, с. 77]. 162 Пан или Черт? Это сравнение не случайно, потому на нем следует остановиться подробно. Панство изначально "нечисто". Уже в силу исконности взаимоотношений Пана с темными силами (Шатаном, змеем) Пан – "нелюдь". С другой стороны, и сказочный Черт нередко выглядит как "панічок у капелюшыку". Таким образом Черт и Пан связаны двуначально, взаимными нитями. Я уже отмечала, что Чужой или в крайней своей модификации Враг устойчиво связывается с нечистой силой: не случайно латинское "inimicus" ("черт") в русском языке тождественно слову "враг" [175, с. 223]. Но при этом Черт во многих сказках гораздо привлекательней Пана. Как правило, в этом случае он не похож на "панічка", его облик не фиксируется, из чего можно заключить, что Черт появляется в своем традиционном виде. В таких сказках он даже может быть хранителем народной мудрости. Так, бабу, под его руководством готовящую "гарэлку", Черт наставляет совершенно по-крестьянски: "Бачыш, якая сіла ў хлебе. Хлеб усему галава"; "Пачакай, не спешы на шыбеніцу ўперод бацька, бо хто спешыць, той людзей насмешыць" [189, с. 93]. Для того, чтобы разобраться в этом парадоксе, следует детальнее проникнуть в образ Черта, который в народной самосознании куда привлекательнее, чем Пан. Здесь уместно вспомнить классический анекдот: "Тату, тату! Чорт да нас лезе ў хату! – Глупства! Абы не пан" [140, с. 24]. Двойственность Черта. Первое, с чем мы сталкиваемся, – двойственность Черта, характерная для фольклора, да и в целом для народного мировоззрения, и исходящая, вероятно, из противоречивости средневекового отношения к языческим персонажам: негативные с точки зрения христианства, они оставались глубоко привычными для людей. Это отразилось не только в сказках, но и в религиозной литературе. Так, в русских житиях святых бесы, которых закляли праведники, трудятся во благо христианству: например, помогают строить Киево-Печерскую Лавру. Во многом именно непоследовательность, амбивалентность Черта – то качество, которое поднимает его над Паном. Черт альтернативен: в нем таятся разные возможности – в том числе, и возможность добрых поступков. Кроме того, Черт обладает другими характеристиками, которые примиряют с ним Мужика. Рисунок: Сцены из белорусской жизни – Живописная Россия, с. 233. Черт как неудачник. Во-первых, он смешон, а значит, не так уж страшен. Уморительность Черта связана не столько с его высмеиванием со стороны Мужика (наиболее привычный для сказки способ сгладить страх перед Паном), но и с его собственной природой. Главная причина здесь в том, что Черт – совершеннейший неудачник. Его не надо ставить в неловкое положение (что Мужик проделывает с Паном, 163 Попом, Ксендзом и прочими "сильными мира сего"): он с успехом вредит себе сам. Так, на заре времен Черт, решив напакостить человеку, наплевал в дупло, где трудились пчелы. Последствия не заставили себя ждать: "дак аттуль і высыпалі шаршні да восы да й пачалі яго рэзаць, пачалі слепіцаю лезці ў вочы... Як марскане ён роскамі, дак і паразсекае шаршнёў і вос на дробные кускі, а з іх парабіліся мошкі, камары да ўселякі гнюс. Грызе ён чорта, аж на ём шкура пукаецца" [189, с. 52]. Попытался спастись песком – на нем проросли "паганые зельля", спрятался в воду – испортил ее; и т.д. Как и у Мужика, у черта есть свое "суджано" – заданная ему пакостная, но и несчастная натура, против которой он не может восстать. Пан же рожден человеком и сам выбирает путь в "нелюди". Кроме того, здесь важен момент удачи-неудачи. Черт предопределен как неудачник, Пан же – по собственному желанию удачливый негодяй. Потому отношение Мужика к невезучему Черту положительнее, чем к жестокому, наглому Пану. Связь Бога и черта. В отличие от панов, которые "й Бога забылі" (не случайно частое указание на то, что паны появились после того, как Бог скрылся на небе от людских грехов ), Черт Бога "не забывает", а напротив, выполняет функции, порученные ему свыше: надзирает за душами грешников в аду, записывает грехи людей в церкви (вспомним сказку "Сьветы чалавек"), искушает человека, проверяя его на соответствие или несоответствие религиозным заповедям и нравственным ценностям общности. Например, в сказке "Дабро й ліхо" черт, которому не терпится искусить праведника Тихона, просит на это санкцию у Бога: "І просіць ён Бога, каб пазволіў яму зрабіць над Ціхонам прахтыку, які ён праўдзівы чалавек" [189, с. 186]. Обратим внимание на то, что этот эксперимент, включающий в себя ограбление церкви, производится с разрешения Бога. Более того, Черт имеет прямой доступ к Богу и возможность визитов в рай: "уцёк чорт з пекла да й агінаецца ў раю" [там же]. Однако несмотря на все усилия, Черту не удается искусить праведника. Причина этого проста: выбор всегда остается за человеком. Подстрекательская функция Черта. Другое дело, что человек далеко не всегда делает верный выбор. Так, скупец Мякинник из сказки "Хто выдумаў грошы" в Купальскую ночь идет искать "цвет папераці", дабы "уселякае дабро паўзло б к яму само" [189, с. 225]. В лесу он встречает нечистых, веселящихся на языческом празднестве, и рядом с ними видит вожделенный цветок. "Перш хацеў ён перахрысціцца, але падумаў, што багацье туды йдзе, дзе нема крыжа. Ну, думае, сероўно прападаць, чорту душу запрадаў бы, каб толькі было за што" [189, с. 226]. Заметим: выбор здесь делает человек, а Черт появляется лишь после того, как Мужик выразил внутеннюю готовность продать душу. Более того, искушения Черта начинаются тогда, когда дело 164 уже решено, и весь вопрос – в том, что удастся Мужику выторговать за свою душу. В этом смысле Черт – часть мировой гармонии, которая допускает наличие хаотических тенденций. Что касается Пана, то он – не часть разумного мироустройства (хоть и считает себя столпом универсума), а самое явное его нарушение. Польза от Черта. В отличие от тунеядца Пана, Черт бывает полезен. От него пошли не только отрицательные изобретения (например, самогон), но и – пусть и против его воли – полезные вещи (конь, лоза и т.д.). Более того, Мужик может хитростью поставить Черта себе на службу и использовать его в быту (сказка "Дурэнь"). Делая вид, что продает Черту душу, Мужик пишет расписки на имя скупых братьев. Разглядев обман, "Старшой" Черт велит незадачливому подчиненному три года служить крестьянам. Другое дело, что это не приносит им пользы, напротив, их характеристика обогащается новыми – и все более темными – красками: "Абгультаіліса браты за тры гады так, што нават самі себе не могуць ахаяць, – напруцца да й валяюцца ў берлагу, бы сьвінне" [189, с. 142]. Но здесь опять же выбор за человеком; сам Черт исполняет свои обязанности на совесть: "аж на ім шкура лопаецца" [там же]. Пан же не производит, а лишь потребляет, это паразит, трутень. Не случайно убеждение Мужика в том, что "панаваць кожын можэ" [там же]. Черт против Пана. Наиболее явно преимущества Черта перед Паном проявляются в тех случаях, когда они прямо противоставляются друг другу. Так, в одной из сказок ("Адкуль пашлі паны на Палессі") Пан и Черт сталкиваются на дороге, причем, ни один не хочет уступить другому путь. Привыкший разговаривать "бізунамі" Пан наказывает гайдукам всыпать Черту плетей. В ответ Черт хватает Пана за чуб и несет его над лесом. Пан бьется о верхушки деревьев. Где о дуб ударится пан –вырастает пан Дембицкий, а за Дембицким – Дубицкий. О березу ударится – возникают Бжезинский, Бжезовский. Таким же "древесным" образом этимологизируются другие шляхетские фамилии (Сосновский, Грабовский, Ельский, Вербицкий, Ясенский, Осинский). А когда от пана остаются лишь потроха – появляются презираемые крестьянством "полупанки": Кишки да Печенки. Отметим здесь два основных противопоставления: гордыня Пана – сила Черта; а также польская речь Пана – "мужыцкая мова" Черта. Уже в них прослеживается более предпочтительное отношение Мужика к Черту, нежели к Пану. Здесь заключается и нешуточный парадокс. Дело в том, что сказка начинается с хождений Черта по земле и его страданий по поводу недостатка фантазии – оттого, что он не знает, какое бы еще зло причинить человеку. И именно благодаря его надругательству над Паном на земле размножились паны. Т.е. зло было – хоть и ненароком – сотворено, и нечистая цель 165 достигнута. Однако, этот мотив в сказке игнорируется. Фокус переносится на лихую расправу над Паном, которая импонирует Мужику. Итак, можно сделать вывод: когда в сказке сталкиваются два образа Чужих, то один из них хоть и против своей воли принимает положительные черты: даже если он поступает во вред Мужику, акцент падает на позитивную функцию возмездия. Забегая вперед, отметим: тот же ход наблюдается в случае, когда Разбойник (Злодзей) наказывает Пана ("Аб Сахарку-злодзею"). Пан как порча мира. Здесь присутствует еще один момент, на который следует обратить внимание: некий собирательный Пан существует уже до конкретных панов (причем, во вполне реалистическом виде: пышные усы, польская речь, щеголеватая одежда, гайдамаки, розги). Лишь после неуспеха борьбы этого "первичного пана" с Чертом возникают "ясенские", "бжезинские", "дембицкие" и т.д. Таким образом Пан признается персонажем почти мистическим – хоть и более слабым, но не менее древним по происхождению, нежели Черт. В этом смысле можно – хоть и с осторожностью – предположить, что в сказке (пусть на неосознанном уровне) заложена олицетворенная в образе Пана идея нарушения в строе мироздания, его порчи. Отсюда открывается прямой путь к обоснованию фаталистических представлений Мужика о "законе социальной несправедливости" и, следовательно, о необходимости окольного пути. Почему Мужик не борется с Паном? Отметим, что расправу над Паном творит не Мужик, а Черт. Здесь уместно вспомнить и сказку "Як чорт тапіў паноў", где в роли фальшивого черта выступает Москаль, и уже упомянутую "Аб Сахарку-злодею", и сказку "Пану навука", где ставший благородным разбойником крестьянин Римша до полусмерти лупит жестокого Пана. Однако это происходит лишь после того, как Римша: а) меняет статус – становится "злодзеям"; б) переодевается (т.е. приобретает иной облик – лекаря, купца и т.д.). Это убеждает в том, что Мужик в его реальной сущности, как правило, отказывается от прямого способа возмездия "око за око". Наиболее вероятные причины этого – установка на исконность, вековечность несправедливости и, следовательно, на бесполезность активных форм действия, а кроме того, комплексное качество "тихости", включающее незлобивость и отсутствие мстительности. Итак, Пан – самый отчетливый образ Чужого из всех персонажей белорусской социально-бытовой сказки. Его чуждость обусловливается "нечеловеческим" воспитанием (Шатан, Змей) и вследствие этого – нечеловеческими привычками и предпочтениями ("не па-люцку"). В силу этого образ Пана знаменует собой нарушение гармонического строя мира, но поскольку это нарушение происходит изначально, задолго до того, как "панство" становится социальным институтом (о чем говорит 166 происхождение конкретных панов от некоего пред-Пана), то противостояние ему в открытой форме бессмысленно. Однако фатализм, как мы уже говорили, содержит в себе и зерно надежды: как и любое зло, "панство" изживет себя самостоятельно, в силу недоброкачественной внутренней природы (гниение змея и панов). Пан сродни нечистой силе (Черту), но даже в сравнении с нечистым проигрывает и в моральных качествах, и в метафизическом обосновании, и в чисто субъективном отношении Мужика. Этническое или социальное: что является причиной Чуждости? Следует отметить неразрывность этнической и социальной чуждости в образе Пана: его польская речь и внешний облик связаны с социальным статусом (панством). Можно даже сделать вывод о неотчетливости разделения этнического и социального в самосознании белорусского крестьянства. В образе этнических соседей эта недифференцированность прослеживается не в меньшей мере: так, Еврей часто упоминается как "ландар", "карчмар", "купец", Цыган – как "кузнец", и лишь при "вчитывании" в сказку становится ясно, что речь идет не только о профессиях, социальных ролях и статусах, но и об этнической принадлежности. Подобная недифференцированность очевидна и в самообразе – например, в понимании себя как "тутэйшых" , где этническое неотрывно от "местного", узко-териториального принципа. Мужик и Пан – кто нужнее? В наиболее явной, афористической форме противостояние Мужика и Пана прослеживается даже не в сказке, а классической "гутарке" – "Размове Данілы і Сцяпана (пра волю)". Из беседы двух мужиков становится ясна не только их позиция, но и – пусть во вторичной, "мужичьей" трактовке – позиция панов: "мужык без пана быць ніяк не можа, паб'юцца, паколюцца, сцеражы ты, Божа, над імі трэба штодзень – з кнутом стаяць над каркам, розгі каб ляжалі з возам – за хвальваркам" [205, с. 674]. В то же время Мужик четко осознает, что он без Пана обойдется с легкостью, а вот Пан без Мужика: "паскрабець чупрыну, як не стане хлеба" [там же, с. 678]. В понимании Мужика Пан не способен ни к чему, кроме как "панавать", а, как уже цитировалось, "панаваць кожын можэ" [189, с. 142]. В сочетании с уверенностью в собственной компетентности во всем на свете панская неспособность к труду выглядит смехотворно: "Ускочыў пан у сваіх ляксаваных ботах на кратавенне да й праваліўса па самые костачкі. "От добрая земля" – кажэ ён камысару... Схіліўса тут пан, узяў у жменю зямлі да й палажыў яе ў губу, нібыто смакуе, на якое збожжэ яе лепш абернуць. Пазіраюць людзі, што пан языком выбірае замлю да па смаку пробуе, што на ёй добрэ зародзіць да толькі сьмеюцца з дурного пана" [189, с. 78]. А ведь в виду имеется далеко не худший Пан: он никого не наказывает и не оскорбляет, напротив, советуется со старыми людьми. Но сам по себе комплекс 167 "всезнайства" в совокупности с беспомощностью в том, что для Мужика представляет главное наполнение жизни, – в крестьянском труде, вызывает внутренний, невысказываемый словами бунт: и этот-то неумеха считает себя значительнее, чем крестьянин, "человек земли"? "Пан дурны, работы не знае да толькі панукае" [189, с.107]. Образ кривого зеркала можно приложить и к области нравственных качеств. Наиболее часто в сказках фиксируются такие черты Пана, как беспричинная отчаянная злоба, истерическая импульсивность, распутство, безосновательная гордыня, показной характер действий. В образе Мужика им противостоят спокойная ирония, флегматичное поведение, нравственная устойчивость, насмешка и хитрость под маской смиренности. Истерик и флегматик. "Злобный Пан" в белорусской сказке понятие тавтологическое. Несмотря на некоторое количество сказок, где наличествует образ доброго Пана (о чем еще будем сказано), как правило, Пан зол органически: вероятно, это следствие "шатанова" воспитания. Однако лютость Пана в глазах Мужика основана на слабости, ибо выражается болезненно, истерически: "Прыедзе бало ў двор, бегае бы шалёны да крычыць на камісара, лае дворню, а тые жаляцца на нашаго брата мужыка. А, ведамо, так заўжды, што калі што не так, дак вінават мужык. "А даць яму сто гарачых," – крычыць пан. От табе і ўся справа" [189, с. 77]. Свирепый нрав Пана неусмиряем никакими средствами: так, крестьянин может верно служить ему, "шчыро працуе, а пан усё частуе яго кожын дзень: "Гультай, пся крэў! Немаш тобе лазы!" [189, с. 107]. Реакция Мужика – насмешливая "благодарность": "Дзякуваць, паночку, от гэто бралі мае бацькі і дзеды..." [189, с. 87]. Злоба Пана заразна, как чума: она населяет весь мир усадьбы, не обходя ни "палупанка" Лакея, ни палача Хурмана, ни, разумеется, Пани, которую Мужик презирает не менее, а то и более, чем Пана. Примечателен здесь образ "жаласлівай пані", требовавшей от крепостных женщин, чтобы они вместо своих младенцев кормили грудью ее любимых песиков и котят: "Часам з маладзіц і дзевак шкуру сдзірала, калі ены не добра даглядалі таго жыўёла... што шкадавалі сваіх дзецей і ўкрадкі кармілі іх сваімі цыцкамі, а не катоў ці сабак" [191, с.154]. Отметим закономерность финала: Пани погибает от укусов взбесившихся любимцев. Помимо мотива воцарения справедливости, этот исход содержит и знакомый уже смысл: рано или поздно зло пожрет себя само. Рисунок: Пани – Жаночы касцюм, с. 116 внизу. Обратим внимание на патологическую импульсивность и Пана, и особенно Пани, которой противостоит флегматичный строй личности Мужика. Пан "бегае бы шалёны да 168 крычыць", а Пани переживает смерть питомцев, словно это кончина родственников: "плача, бы по роднум бацьку, вяліць плакаць і другім, а потым робіць труну, хавае, бы людзей і над магілаю кладзе прыклад" [там же, с. 153]. Такое поведение вызывает протест не столько в силу прагматичного отношения Мужика к животным (и кот, и собака в крестьянском быту бесполезны), но главным образом потому, что сказочник устойчиво проводит антитезу "животные – люди": "мужыкі пухлі ад голаду, таму што кожны дзень яны былі ва двары і даглядалі катоў, сабак і старых каней" [там же]. Рисунок. Пани – альбом "Живопись Белоруссии", с. 117. Панские "забавы". Истеричная, граничащая с психическим заболеванием экзальтация панов проявляется не только в злобе, но и в забавах: "Зірне ён, аж там поўны пакой гасцей: усе паны да паненткі... цэлая чарада голых хлопцаў, а паміж імі трэтца й сама пані, вішчыць, смяецца, бегае за тымі мужчынамі да наравіць абсеч ім крапівою срамаценне... А там яна велела сагнаць з сяла маладых мужчын і жанок да дзевак, напаіла іх гарэлкаю, наняла музыку і зрабіла забаву. Панапіваліса ўсе; перш яны скакалі да спевалі песні, а потым паскідалі адзежу да бы й паны давай гайсаць па саду да валяцца в кустох да на траве" [там же]. Эта дикая картина вовсе не удивляет Мужика: нечеловеческая сущность Пана проступает во всех – мелких или крупных – поступках и его самого, и его круга. Мужик – достойный семьянин (как правило, измена в сказке – дело Бабы) и в целом спокойный и здравый человек, гордящийся своим трезвым подходом к реальности, объясняет забавы панского семейства привычной констатацией – "каб іх часам не палічылі людзьмі" [189, с. 163]. Можно сказать, что в понимании Мужика для Пана любая патология есть норма. Это тоже характерный признак Чужого: достаточно хотя бы вспомнить образы "дивьих людей", язычников и т.д. не только в белоруском, но и в целом в славянском фольклоре. Вероятно, отсюда видимые преувеличения и в сказке о жалостливой пани, и в "Недападе", и во многих других текстах. Как об "антинорме" повествует Мужик и о полумифическом кормлении грудью собак и котов, и о мифическом поедании экскрементов ("Недапад"), и о реальном праве первой ночи: "толькі тагды трохі супакоіцца пан, як прыйдуць к яму ва двор тые дзеўкі, каторых хочуць людзі браць. Там была, бачыце, такая павядэнца, што пакуль дзеўка не сходзіць к пану, датуль не можэ рабіць вясельля. От бало нагоняць к пану дзевок цэлую чэрэду бы авец, а ён бярэ ці к сабе, ці гасьцям" 189, с. 77]. И то, и другое, и третье в понимании Мужика реально, ибо нет ничего "не люцкого", что не было бы присуще Пану. Причина этого проста: "Паны заўжды ат дабра круцяцца" [там же]. 169 В оппозиции "бедный Мужик – богач" прослеживается четкое и уже знакомое нам отношение к деньгам. Большие деньги, по мнению, Мужика, только портят человека, более того, ломают ему жизнь. Естественно, что наиболее бесспорные обладатели денег из всех, с кем сталкивается Мужик в своей жизни, – паны – не только заражаются безнравственностью, которую несет с собой богатство, но и навеки отягощены беспокойством и страхом. Потому и крутятся паны, и не знают ни минуты покоя. Немудрено, что они капризны и истеричны. Рисунки: Портреты панов – на выбор – альбом "Живопись Белоруссии", с. 121, 127, 139, 156, 160 . Взаимность стереотипов. Обратим внимание на взаимность стереотипов восприятия Пана и Мужика в качестве Чужого. Мужик видит "нечистую" сущность Пана, Пан же наполняет образ Мужика "звериным" содержанием – "пся крэў", "бы гаўядо" и т.д. Именно так – и, думается, правомерно – Мужик объясняет абсолютное бестыдство "жалостливой пани", не стесняющейся раздеваться догола при крестьянине и справлять нужду в его присутствии и даже с его помощью: "яна ўчапіласа за мае рукі, зрабіла, што трэ, да й палезла на воз" [189, с.154]. Дальнейший ход мыслей, которым наделяет Пана Мужик, в высшей степени логичен: если человек – "гаўядо", то всем поведением следует подчеркивать свою сверхчеловеческую (а с точки зрения Мужика – недочеловеческую) сущность. Отсюда – претензии Пана на уникальность и в целом панская гордыня, напрямую зависящая от того, насколько "не па-люцку" ему удалось себя вести. Антитеза "Мужик – Пан". В чем чаще всего проявляется нечеловеческий внутренний мир Пана? В первую очередь, в неблагодарности – органически чуждом Мужику качестве. Даже разбойник благодарен вступившемуся за него Мужику ("Як браты дзеліліса"). Вспомним, как щедро платит за любую малость – кружку кваса, ночлег на соломе – сам Бог. Пан же то и дело нарушает богоданный закон – платы за добро добром: "Ведамо ж, праўду кажуць людзі, што служы пану верне, та ён табе пердне, бо ў пана ласка на парог" [189, с.107]. Антитеза "благодарность – неблагодарность" – лишь одна из компонент оппозиции "Мужик – Пан". Существуют и другие. Так, одно из ярко выраженных человеческих достоинств для мужика – оседлость, верность "малой родине". Пан же "пакруціцца з тыдзень ці больш да й зноў паедзе чорт ведае куды. Кажуць, ён усё ездзіў у Аршаву ці за граніцу" [189, с. 77]. Мужик держится за свой дом как за единственное надежное в жизни прибежище, благоустраивает свой нехитрый быт, ибо так повелел ему Бог, а Пан имеет замечательное поместье ("земля зраджайная, сенажаці мурожные да 170 берагі – сена некуды дзеваць ... Будынак – палацы. Дабра, аж будоўля ломіцца" [189, с. 76]), но вечно чем-то недоволен и стремится прочь. Крестьянская трактовка такого антиповедения – желание выделиться, быть не "як усе". Именно страсть к самоутверждению путем противопоставления себя нормальному миру и заставляет пана творить безумные поступки: покупать "черта" – Попа, обвалянного в дегте и перьях ("Новы чорт"); заключать глупые пари и – что с точки зрения Мужика, вдвойне глупо, – оплачивать проигрыш ("Аб Сахарку-злодзею"); лезть в мех, чтобы вполне удовлетворить свои амбиции, став королем ("Хітры мужык") и т.д. Именно гордыня приводит Пана к необходимости раскошелиться в беседе с Ахремом ("Брахня"): если для себя Пан, вероятно, может допустить, что на его отце черти смолу возят, то Мужик об этом категорически не должен знать. Гордыня заводит человека в тупик – это выстраданное жизнью крестьянское наблюдение никогда не обманивает Мужика. Потому вовсе не нужно "рыть яму" Пану: он и сам в нее свалится. Ответом на панскую фанаберию служат чувство собственного достоинства и юмор Мужика – не только в сказке, но и в жизни. Вот реальная история, произошедшая в белорусской деревне: "Однажды, упрекая в чем-то крестьянина, дворянин получил вместо ответа фигу. Все произошло при свидетелях, и он, посчитав это страшнейшим неуважением, не откладывая поехал в волость, где пан писарь написал соответствующую жалобу. Рассмотрение дела затянулось, т.к.. разрешить дело об оскорблении дворянства должен был земский начальник. Тот присудил виновного к пятирублевому штрафу. В то время (начало ХХ в.) это была огромная для крестьянина сумма. Можно себе представить удивление писаря, когда, достав деньги, ответчик… попросил пана писаря записать не пять рублей, а десять. На вопрос, почему десять, виновник ответил, что теперь он знает, сколько стоит фига, и хочет показать дворянину еще одну, что впоследствии и сделал" [197, с. 31]. Модель "внутренней победы". Поражение Пана в поединке с Мужиком – главная награда крестьянину. Можно даже говорить о своеобразном законе сказки – победе слабого над сильным. В реальности она куда менее достижима, но крестьянская хитрость и насмешка задают модель внутренней победы над Паном и в действительной жизни. Эта никому не видная, но абсолютно явственная для Мужика победа обоснована: во-первых, это победа человека над античеловеком (и античеловеческим началом в принципе), во-вторых, это победа истинного над показным. Пан есть выражение показного, демонстрации, которая прикрывает ноль, и Мужик это хорошо чувствует. "Яму не трэ добрэ рабіць, а як ён веліць," – так объясняет это герой сказки "Валачашыса 171 парабак, ці служачы хлеб сабачы". Далее следует тот же вывод, к которому пришли и мы: "Усё робіцца не на карысь, а на паказ" [189, с. 107]. Показателен и финал сказки: поработав на Пана и на Попа, юноша понял, что доброго отношения от них не дождаться. А помогли ему в беде черти. Так Черт в очередной раз продемонстрировал большую близость к человеку, чем власть предержащие. Пан и Царь. Существует еще один значимый нюанс в поведении Пана, который возмущает Мужика. При всей своей античеловечности, исконной чуждости крестьянину Пан требует от крестьянина не только почтения (обусловленного разностью социальных статусов), но и сыновней любви. Так, представляющий крестьянам нового пана "асэсар" говорит: "От вам новы пан. Слухайце яго да шануйце, так й ён не пакіне вас, а будзе вам як бацько" [189, с. 78]. Вот эта-то лицемерная претензия на отцовство более всего претит Мужику. Эту роль крестьянин приписывает Богу, иногда – да и то с оговорками – Царю, но уж никак не Пану. Более того, как мы уже говорили, отношения "Пан – Бог" строятся от противного: не случайно Паны воспитаны антиподом Бога (змеем, "Шатанам") и возникают на земле после исхода Бога на небо. Что касается отношения "Пан – Царь", то оно основано, скорее, на идее "преграды": паны (генералы, сенаторы и т.д.) преграждают Мужику путь к Царю: "Прышоў [дурень] пад царськіе палацы, але ніяк не мажэ даступіцца да цара, бо паны не пушчаюць. Ведамо, кала цара заўжды стаіць варта" [189, с. 144]. Тем не менее, случайность помогает пройти Мужику к Царю, и Царь дает ему "маніхвэст", который призван обеспечить "людзям слабоду, каб паны з іх не здзекуваліса. Згаджаецца цар даць людзям й зямлю... Падзякуваў дурэнь цару, пакланіўса аж да землі, узяў маніхвэст за пазуху да й пайшоў. Але, ведамо, не спадабаласо паном, што цар даў людзям слабоду, от яны і схавалі царські маніхвэст да яшчэ гарэй пачалі ціснуць хрысьцян" [там же]. Несмотря на то, что сказка "Дурэнь" рисует Царя отнюдь не в розовых тонах (он соглашается на манифест лишь под давлением Дурня, ожидая от того помощи в освобождении своей дочери от змея), тем не менее, с ним возможен честный договор, в отличие от Пана, которому "служы ... верне, та ён табе пердне". Потому Пан никак не может претендовать на отцовскую роль в жизни крестьянина: образ белорусского Отца предполагает справедливость, а не вероломство, и в целом – отношения договора (завета), в чем-то сходные с библейскими отношениями Бога и человека, уж не говоря о нравственности, последовательности, спокойной сдержанности и трудовых умениях сказочного Отца, которые полностью отсутствуют у Пана. Паны "золотого века". Однако в белорусских сказках хоть и редко, но встречается более или менее позитивный образ Пана. Чаще всего это Пан прошлого. Это 172 связано с сакральностью "золотого века", свойственной любой традиционной культуре. Поскольку образ прошлого священен, и населявшие его люди по определению более совершенны, чем современники, постольку и паны прошлого обретают более позитивные характеристики, чем хорошо и печально знакомый реальный Пан. Вот этихто мифологизированных панов Мужик иногда и сравнивает с "бацькамі". Так, в сказке "Пану навука" мы встречаем такой экскурс в прошлое: "калі трапляўся добры пан, было так добрэ... што не трэ і паміраць. Добры пан даглядаў сваіх мужыкоў, як родны бацька" [191, с.117-118]. Его же потомок представлен уже привычным образом "античеловека": "От як трапітца такі паганы пан, та хоць лажыса і памірай – нічым яму не ўгодзіш... Ты яму годзіш, шчыро робіш, а ён табе ўсё крычыць: не так, шэльма, не так, галган, не так, пся крэў, – і есь цебе поедам, есь, зневажае, здекуецца. А чуть што – жыўцэм шкуру слупіць" [191, с.119]. В числе грехов этого пана – и избиения крестьян, и надругательства над женщинами. Эти типичные для сказки детали дополняются местными, реалистически-бытовыми черточками: так, этот конкретный Пан запретил крестьянам продавать скот "на сторону", а сам за вола платит, как за козла. Тем самым сказка развивает типичный мифологический мотив порчи мира, частным случаем которой является переход от "доброго" к "злому" Пану. Тот же мотив характерен и для других фольклорных жанров. Так, в одной из песен встречаем такие слова: "Як за старым было панам лёгка на работу: Увесь тыдзень сядзі дома, шарварка ў суботу. Цяперь за маладым панам тяжка на работу: Увесь тыдзень на паншчыне, шарварка ў суботу" [166, с. 455]. Хороший Пан – это мертвый пан. Хорош тот Пан, чья власть давно закончилась и существует лишь в устных преданиях, неподвластных корректировке. Тем не менее даже "добрый" Пан (например, Радзивил, которого народ прозвал "каханкам" за то, что именно так, с лаской, он обращался к людям) обладает сугубо панскими чертами: например, ездит "ён не па-люцку: аб лету на санях, а ўзімку на колах" [189, с.171]; царицу Екатерину встречает шестеркой запряженных в сани медведей, а снегом служит рассыпанный по всему пути сахар; на медведях же он заезжает в покои короля и т.д. Несмотря на симпатию сказочника к Радзивилу, сам факт его чудачеств ставит преграду между ним и крестьянами, что просвечивает в уже знакомом нам выражении "не палюцку". Такая преграда рушится лишь тогда, когда пан предпочитает крестьянскую жизнь, как, например, "шчаслівы пастух", но этот образ единичен. Рисунок. Радзивилл Коханку – Шпилевский, с. 74. 173 Итак, образ хорошего Пана мифологичен, нереален, скорее, он – истершееся от давнего употребления свидетельство того, что "золотой век" действительно существовал. Но – что примечательно – и сам Мужик не особенно верит в это. Не случайно в другой сказке более достойный облик панов прошлого вполне рационально объясняется соображениями выгоды: "Ён клапаціўса, каб зрабіць гаспадарку лепш, як у суседзей, шкадаваў сваіх людзей, як свае гаўядо, бо, ведамо, лічыў людзей сваім дабром" [191, с. 152]. С этой точки зрения прежние паны просто были умнее и расчетливее потомков, которые только и умеют, что пускать по ветру заработанное отцами добро. В этой же сказке делается и другой вывод, менее наивный и более трезвый, чем популярная сказочная констатация: "паны – не люди": "Паны былі такія ж людзі, як мы з вамі... Такія добрые да лагодные, бы анёлы, але гэто толькі к свайму брату…, а не к мужыку" [там же]. Существует и полярно противоположная точка зрения. В соответствии с ней паны в золотом веке были еще "почище" их внуков и правнуков: "Бываляшніе паны не нашым роўня: такіе пушные да грозные, што ты й не падступіса, баццэ наравістая кабыла... Эге ж, упартые да пушные былі даўней паны" [189, с. 163]. Как ни странно, в этой характеристике, как отчасти и в предыдущей ("лічыў людзей сваім дабром"), слышится оттенок уважительности, связанный с рачительностью Пана, с твердостью его статуса, которой лишены истеричные, капризные, расточительные паны настоящего. Рисунок. Пан прошлого. – альбом "Живопись Белоруссии", с. 111. "Палупанки": Кишки да Печенки. Наибольшее отвращение у Мужика вызывают мелкие шляхтичи, "палупанкі" (Кишки да Печенки), которые едва не побираются по домам, нечисты на руку, но при этом лезут из кожи, требуя почтения к своему дворянскому статусу. Примечательна здесь народная этимология слова "дворянин": "бо не маў сваёй хаты, а бы сабака, на дварэ жыў да на людзей брахаў, батцэ б сваё дабро аберагаў" [191, с.148]. Вот как характеризует такого "палупанка" Мужик: "ад хаджайства адбіўса, ад зямлі адарваўса, але й да неба не дастаў да так і целепаетца паміж небам і зямлёю, бы баранавы яйца" (сказка "Дваранін") [там же]. Однако столь неустойчивое положение не мешает ему смотреть на мужика, "бы на гаўядо", и вообще чувствовать себя "кумом королю" и даже Богу. Вокруг необоснованного и неограниченного высокомерия мелкого шляхтича и разворачивается сказочный сюжет. Итак, "дваранін" молится в церкви следующим образом: "Пане Езу Хрыста, дай мне рублі трыста, без еднэго не вэзма" [там же, с.149]. Обратим внимание и на польскую речь Полупанка, и на гордыню ("без еднэго не вэзма"), и на пронизывающий его слова торгашеский дух, искусно переданный сказочником. Услышав эту "молитву", ксендз решил подшутить 174 над кичливым дворянином и от имени Христа ниспослал ему двести девяносто девять рублей, которые тот, несмотря на зарок, взял не поморщившись. Тогда – опять же от имени Христа – ксендз упрекнул шляхтича во лжи. И вот что отвечает "Христу" человечишка: "Я – радавіты шляхціц да патопу..., а ты з жыдкоў1" [там же]. Здесь открывается возможность уточнения уже цитированной мысли, что паны в Бога не веруют. Вероятно, веруют, но по-пански. Их "вера" строится на "взаимовыгодном" обмене: я тебе молитву, ты мне блага. При этом даже самый презренный из них считает себя не только выше крестьянина, но и выше мира, выше Бога. Итак, Пан – это персонификация "нечистоты", беспричинной злобы, безосновательной гордыни, истерической самовлюбленности, отсутствия личностной продуктивности, да и личности как таковой. Единственное орудие Мужика в борьбе с этим "врагом" – насмешка и терпение. Так написано в сказке. Почти так было и в жизни: об этом свидетельствует огромное множество деталей, имеющих далеко не сказочный характер. Но представляется, что на ситуацию можно взглянуть и шире: имея перед глазами – в реальности или в тексте сказок – этот красочный, непротиворечивый и вызывающий антипатию образ, белорус не просто осознавал свое отличие от Пана – он делал все, чтобы победить Пана в себе, даже в самых мелких ситуациях стараясь поступить иначе: не злиться, не заноситься, исправно трудиться и главное – относиться к человеку по-человечески. Поп и крестьянин: кто ближе к Богу? Поп и нечистая сила. Наиболее важная характеристика Попа в сказке парадоксальна: он знается с нечистой силой. У него черный глаз, потому ему нельзя показывать ни обновы, ни денег, ни еды – иначе все это пропадет. Если же Поп ненароком увидит спрятанное, следует быстро произнести: "соль тебе ў вочы, дзяркач у зубы, а таўкач пад бокі" [190, с. 72]. По убеждению Мужика, Поп наделен чудодейственной силой, и сила эта "чертова" ("Поп чортаву сілу мае" [там же]). Молитва Попа воспринимается не как свидетельство его святости, а напротив – как попытка "отмыться" от греха: "За папом чорт ходзіць следам бы цень, от затым калі поп не моліцца да не крэпіць святою вадою, та ў яго мыслі грэшныя і цело грэшнае, й тыя людзі, якія з ім, та ўсе грэшаць, а больш усяго жанчыны, каторыя любяць увівацца каля папа, а поп каля іх" [там же]. В этом рассуждении прослеживается особый тип практической логики: если человек не грешен, то зачем же ему столько молиться? Не Несмотря на негативный смысл слова "жид" ("жыд") и в современном русском, и в современном белорусском языке, я вынужденно использую его в цитатах. 1 175 случайно герой сказки "Гуслі" Иванчик во время своего визита в ад встречает там Попа "в первых рядах", вместе с Паном. Вероятно, определенную роль здесь играет книжная специфика труда этого "самого образованного человека в деревне" [197, с. 31]: в традиционной культуре всякое знание таит в себе оттенок опасности, нарушения, а священное знание– тем более. Еще Ю.М. Лотман отмечал, что насмешка над священником в фольклоре связана не с отсталостью или корыстолюбием отдельных священнослужителей, а со страхом перед попом – человеком, находящимся в промежуточном пространстве между небом и землей и имеющим отношение к тайне [175, с. 225]. Путь спасения от страха – насмешка, потому образ священнослужителя чаще всего комичен и даже сатиричен. Это относится и к православным и к католическим священникам. Основные их характеристики в сказке сходны: разве что Поп в народных представлениях чаще склонен к пьянству, а Ксендз – более хитроумен и лицемерен. В белорусской сказке священник является связующим звеном не только Божественного и человеческого миров, но и третьего, подземного: отсюда, вероятно, и проистекает популярное в народе представление о том, что в церкви живут черти. Потому истинно святому человеку (вспомним сказку "Сьвяты чалавек") в церковь ходить незачем. Поп как посредник. Посредническая роль Попа вызывает противоречивые эмоции: с одной стороны, он опасен, ибо наделен сверхчеловеческими знаниями. С другой стороны, здравый смысл Мужика не может игнорировать несовпадения образа реального Попа и его почетной роли. Более того, чувство собственного достоинства Мужика, понимающего свое место "под Богом", не позволяет ему всерьез воспринимать посредников между ними (вспомним хотя бы его отношение к канонизированным святым). Вот этот-то синтез причин и порождает ироническое и не слишком доброжелательное отношение Мужика к Попу. Здесь играет свою роль и близость Попа к сильным мира сего, главным образом, к Пану. Молитва – корыстная и бескорыстная. Мужик скептически относится к молитве Попа: "от зайшоў ён у вадну хату, паблагатаў трохі да й сеў на лаву" [189, с. 156]. Вспомним более развернутое описание поповой молитвы и объяснение ее неприятия Богом: "Папоў да ксяндзоў Бог ніколі не слухае, бо яны не моляцца, а толькі благатаюць ці пяюць, бы певуны, распусціўшы хвост" [190, с. 237]. Этому невнятному действию противостоит прямое крестьянское общение с Богом: истинно верует тот, "хто не моліцца, а толькі шчыра ўздыхне да падыме вочы на Бога" [там же]. В отношении Мужика к Попу (Ксендзу) как к неверующему (во всяком случае, не верующему 176 истинно) особо значимы два момента. Первый – "непонятность" цековной службы, для белоруса отягощенная еще и периодическими сменами языка богослужения. Отсюда в сказке (и особенно в анекдоте) много попыток "народной этимологии" – сближения элементов богослужения с опытом крестьянина, в свете которого они выглядят не просто комично, но и абсурдно: "А чаго вы, бабка, плачаце? – Як жа мне, галубок, не плакаць, калі чыталі ў цэркві, што на тым свеце будзе "плач і скрыгат зубамі". А чым жа я буду скрыгатаць, калі ў мяне ні аднюсенькага зуба няма?" [140, с. 55]. Мысль о том, что молитва Попа – пустое сотрясение воздуха, тесно связана с другой – что за это Поп получает реальные деньги. Отсюда вырастает представление о корыстности Попа (Ксендза), об использовании молитвы в утилитарных целях (добыча денег, благ, возможность связи с чужой женой под маркой "одарения святостью" и т.д.). Вследствие этого для сказочных текстов типична такая установка: "Даўней ксендзы валачыліса па сьвету да дурылі людзей, каб яны слухалі паноў, шчыро рабілі да давалі на хвалу Божыю. А дзе там тое Бог бачыў? Людзі дадуць, а ксендзы да паны сажруць" [189, с. 238]. Недаром "блыгатаньне" Попа в крестьянской избе завершается так: "Бачыць жанчына, што поп разсеўса кала стала, нема чаго рабіць, пачала шукаць пачосткі. Тым часам поп седзіць да круціць галавою: пазірае ён, ці нема ў хаці чаго-небудзь здатнаго, каб узяць сабе" [189, с. 156]. Странствующие монахи. Наиболее отчетливо мотив хитроумия и корысти выявляется в сказке "Тры ксендзы". В ее содержании отразились и реальная ситуация (конкуренция странствующих монашеских орденов на белорусских землях), и отношение к ним крестьянина. Для начала фиксируется связь "ксендзов" с самым чужим образом белорусского народного сознания – с Паном. В ситуации, описанной в этой сказке, просто "блізко не было двара, каб наесціса да напіцца ў пана" [189, с. 239], потому ксендзы завернули в нищую корчму. Путем нешуточных усилий (смехотворная погоня за курицей) ксендзам удалось раздобыть одно-единственное яйцо. Разумеется, монахи не намерены даже попытаться поделить его по справедливости (отметим: мужик в такой ситуации со "своим" делится; знакомый нам механизм хитрости включается, лишь если предполагается, что нужно отдать часть "чужому"). В конце концов ксендзы находят комромисс: яйцо будет принадлежать самому красноречивому. Далее и разворачивается основная сюжетная линия сказки. "Узяў першы капуцын яйцо, пачаў яго лупіць да й прыказвае: "Ачысь яго ад шкарлупы непраўды". Толькі ён хацеў палажыць тое яйцэ ў рот да праглынуць, як ось з яго рук бярэ бернадын. От узяў ён яйцэ, пасыпае яго солью да прыказвае: "І пасалі яго солью мудрасьці". Сказаўшы тое, хацеў ён палажыць яйцэ ў рот да з'есьці. Але ось берэ тое яйцэ ў яго з рук апошні ксёндз язуіта. 177 Ён зірнуў на сваіх таварышоў да й кажэ: "Ачысьціўса ад шкарлупы непраўды, абсыпаўса солью мудрасьці, дак увайдзі да хвалы твайго пана". Пры гэтых словах язуіта ўнёс яйцэ ў рот да й праглынуў" [там же, с. 239]. Таким образом в сказке дается по-крестьянски здравый и логичный ответ на вопрос, почему нищенствующие ордена конкурируют друг с другом, – не поделили яйца (богатства, пищи и т.д.); а также объяснение того исторического факта, что именно иезуитская деятельность (школы, коллегиумы и т.д.) была наиболее распространена на Беларуси – иезуит представляется Мужику хитроумнее и капуцина, и бернардинца. Однако главное здесь – свойственное всем сказочным клирикам умение в награду за хитроумное "блыгатаньне" получать реальные блага. Поп здесь ничем не отличается от Ксендза: "Поп надта каваля хваліў і гаварыць: "От няма нікаму лепш, як гэтаму кавалю: стук-грак, так і давай пятак". А каваль атвячае папу: "Няма нікаму лепш, як гэтаму папу: трарара-трарара, ды давай паўтара" [140, с. 45]. Однако когда в дело вступает количественный критерий, образ Попа раздваивается. Если своим "блыгатаньнем" Поп зарабатывает много – его образу приписываются еще более радикальные недостатки, роднящие его с Богачом и Паном. Если же Поп беден, недоброжелательность по отношению к нему убывает. Вероятно, здесь играет роль сходство быта крестьянина и бедного священника. Можно перефразировать пословицу: каков приход – таков и поп. Как обманывает Поп? Обман со стороны Попа резко отличается от обмана, творимого Мужиком. Обман Мужика объясняется его подчиненной позицией, которая вынуждает к "окольности" действия, в то время как Поп вполне может добиться своего законными способами. Кроме того, Мужик чаще обманывает в ответ – а Поп (Ксендз) лжет на "голом месте". Мужик обманывает более сильного (Пана, Богача, того же Попа), а Поп, как правило, более слабого – Мужика (если это не совместный с Мужиком акт одурачивания Пана: в этом случае Поп чаще всего беден, и это сближает его с крестьянином). Обман Мужика никогда не относится к "своему", а попово жульничество распространяется и на "своих". Вспомним трех ксендзов: ведь несмотря на принадлежность к различным орденам, они исповедуют одну и ту же веру, в прямом смысле "одним миром мазаны". Можно определить обман Мужика как "честный": в нем Мужик надеется только на свой ум, находчивость и умение играть на слабостях противника, в то время как Поп прикрывается волей Бога. Тем самым Мужик берет на себя ответственность за неудачу, Поп же перекладывает ее на Бога. Если обман Мужика "честный", то модель поповского обмана, по мнению сказочников, – лицемерие. Еще в большей степени это касается Ксендза и иногда распространяется на католичество. Так, хитрая лиса, заманивая медведя в капкан, недвусмысленно определяет свою 178 конфессиональную принадлежность: "Ну хадзі ж, я цябе завяду ў вадно места, – слаўнае сняданьня будзець! Сама б з'ела, да сягоньні серада, мне нельга есць: я каталічка" [166, с. 527]. Двоедушие. В нескольких сказках встречается такой сюжет: поп, укравший панского вола вместе с Мужиком, "адзеў лепшую раску, прычасаў збольшага кудлы да й пайшоў к пану, каб і яму сказаць таму прыемнае слаўцо ў нешчасьці. Прыходзіць поп, аж там ужэ много сабралосо ў пана гасцей. Седзяць яны, п'юць, ядзяць да размаўляюць аб том, як цяпер кепсько жыць на сьвеце, як много ўселякіх прыпадкаў; як, напрыклад, прыпадак пану з валом гаварыць і поп да яшчэ складней ад усіх.. Ківае яму пан галавою, сам налівае яму віна да гарэлкі, частуе добраго гаваруна да падкладвае яму лепшые кускі" [189, с. 245]. Определение "гаварун" критично: вспомним идеал "тихости". Речь, а тем более – красивая, подозрительна. Так и оказалось: Поп лицемерит уже тем, что говорит: ведь именно он вместе с Мужиком вола и украл. Обратим внимание: речь идет о бедном Попе, по условиям жизни приближенном к Мужику. Тем не менее, лицемерие присуще и ему. Наиболее четко двоедушие Попа проявляется в отношении к женщинам. Сказочный Поп часто распутник. Он соблазняет женщину своей "святостью" ("Новы чорт") или же данными "свыше" медицинскими дарованиями, которые способны излечить Бабу от бесплодия. Процесс "излечения" описан иронично: "От поп трохі паблагатаў і давай лячыць бабу. Лячыў ён, лячыў, аж яе сагрэў, да й сам спацеў" [191, с.144]. Обратим внимание на привычное "благатаньне": здесь оно служит для того, чтобы представить смертный грех в качестве богоугодного дела. Отсюда совсем близко до вывода: попы в Бога не веруют. Когда Поп верит в Бога? В ряде сказок о наказании корыстного священника ("Мужык, пан і ксёндз", "Аб злодзею Кліну" и др.) прослеживается устойчивая мысль: Поп (Ксендз) верит в Бога только в момент страха. Я уже упоминала о том, как Мужик наказывает ксендза, создав тому "мини-апокалипсис" (раки с налепленными свечами, сам шутник в роли ангела). В этот миг Ксендз искренне верует: оттого без пререканий залазит в мешок доморощенного "анёла". Но лишь – в этот миг. Можно предположить, что всплеск веры, имеющий целью спасение своей шкуры, для Мужика неприемлем. Он противопоставлет ей искренний взгляд в небо и вздох, исходящий из глубины души. Рисунок. Пан, поп и пристав – Мужчынскі касцюм, вкладыш, с. 4. Поп как положительный герой. Указания на положительные качества и добрые поступки Попа в сказке нечасты – и те с оговорками. Так, в сказке "Сабака й грошы" 179 жадная и злая Баба (типичная героиня сказки, но об этом позже) отравила верного друга Мужика – собаку. Мужик попросил Попа отпеть любимого пса. Сначала Поп пришел в ярость, но в конце концов "паглядзеў у сваёй ксёнжцы да й кажэ: "Усякае стварэне да хваліць госпада" – і пахаваў сабаку. Ідуць яны з могліц, а поп і кажэ: "Шкода, што больш не хаваюць сабак" [188, с. 40]. Здесь требуется дополнение: гнев на милость Поп сменил после того, как Мужик насыпал ему полную шапку денег. Тем самым ситуация переворачивается: не из сочувствия ко всему живому Поп сожалеет об утрате обычая, а лишь оттого, что в "золотом веке" было больше шансов заработать. Обратим внимание и на то, что любое противоречащее церковному канону мероприятие можно легко оправдать ссылкой на Библию, что сказочный Поп постоянно и делает. В каких же случаях Поп приобретает положительные черты или, по крайней мере, вызывает у Мужика симпатию? Вспомним, что в белорусской сказке понятия "своего" и "чужого" наполняются тем или иным содержанием в зависимости от ситуации. Так, в сказке "Іньшы сон як у руку дась" Поп и Мужик объединяются против Пана, и вследствие этого Поп перестает быть недругом (несмотря на то, что его фальшь и лицемерие никуда не исчезают). Однако и в этой сцене Поп не воспринимается как враг или "абсолютно чужой", ибо: а) совместная деятельность Попа и Мужика направлена против Пана; б) как и Мужик, он идет на воровство из бедности. Играет свою роль и общий способ действия, когда Поп поступает "по-мужичьи". Более того, когда Поп ведет себя не самым лучшим образом, но его недостаток совпадает с аналогичным недостатком Мужика, то сказочник относится к нему терпимо. Так, в одной из сказок бедняки Поп и Дьяк для того, чтобы достать деньги на выпивку, решаются на жульничество. Поп должен гадать по книге, а дьяк в это время будет красть [206, с. 304]. Казалось бы, тон сказки должен быть недоброжелателен: к жульничеству священников добавляется еще и пьянство (а ведь оно воспринимается как черта критическая даже в отношении к Мужику). Однако тон сказки не осудительный, а, скорее, понимающий: вероятно, общий недостаток, как и сходные достоинства, служит точкой единения. Особенно интересно, когда терпимое отношение Мужика проявляется сразу к двум Чужим, которые совместно участвуют в заведомо жульнических эскападах. Так, в сказке "Прошча" Поп и Корчмарь-еврей совместно фабрикуют чудо: пускают по реке образок, обставленный свечами. Паломники устремляются в церковь, а обсуждать "чудо" приходят в корчму. Сказочник не только не осуждает героев, но и восхищается их смекалкой. В чем причины этой странной доброжелательности? Во-первых, подчеркивается, что и Поп, и Корчмарь – бедняки и на обман пошли с горя. Во-вторых, 180 виртуозная хитрость вызывает симпатию Мужика. В-третьих, модель этого "чуда" пересекается со "штукамі", в других сказках проделываемыми самим Мужиком. В случае, если священник действует не "по-мужичьи", а пользуется собственными профессиональными навыками, но его действия направлены против "Чужого", например, против Пана или Полупанка, его роль тоже, как правило, положительна: вспомним насмешку Ксендза над Дворянином. Симпатии Мужика на стороне священнослужителя, принимающего на себя роль Бога. Обычно такое высокомерное поведение вызывает стойкое неприятие Мужика. Здесь же Ксендз ведет себя даже более "остро", представая не просто в роли посредника или святого, но присваивая себе функции Всевышнего. Почему же это не вызывает у Мужика нареканий? Думается, причина следующая: когда средствами религии Поп (Ксендз) добивается неких благ для себя (соблазняет Бабу, вымогает деньги у Мужика), его образ окрашивается самыми черными красками. Если же его обман не имеет под собой никакой ощутимой цели, а представляет собой игру, то он вырастает в глазах крестьянина. Немалое значение здесь имеет и то, кто выбран объектом издевки. Если в этом качестве выступает Пан или другой "абсолютно Чужой", то Поп (Ксендз) из разряда Чужих автоматически переходит в разряд Других – отличных от Мужика, но при этом необходимых именно в силу своего отличия. Злодей ли "Злодзей"? Разбойник – бывший Мужик. И "Злодзей" (разбойник), и "Маскаль" – маргиналы, люди, оторвавшиеся от "корней". В случае Злодзея эта трансформация часто происходит по ходу сказки: Мужик становится разбойником от безнадежности, из чувства мести или просто по глупости. В принципе любой человек может стать Злодзеем в том случае, если не разделяет важнейшего принципа крестьянской жизни – терпения. Потому отношение к Злодзею двояко: несмотря на то, что поведение Злодзея абсолютно несоотносимо с ценностями крестьянства, он не является сугубо отрицательным героем, а часто даже выполняет позитивные функции. Не случайно Злодзей чрезвычайно редко убивает: его "профессия" – воровство. Злодзей одновременно и близок к Мужику (до ухода в лес он и был Мужиком), и далек от него (ибо не разделяет его важнейших ценностей – терпения, оседлости, трепетного отношения к собственности "своих" и т.д.). В ряде сказок происхождение Злодзея оговорено конкретно. Это сын крестьянина или вдовы, часто ленивый, не способный к работе на земле. Нередко отец, видя, что из сына не выходит ничего путного, сам отсылает его в обучение разбойникам. Иногда в лес его отвозят злые братья, желая отделаться от лишнего рта – уже не в 181 образовательных целях, а в надежде на его гибель "дурня". Порой юноша уходит в лес по собственному выбору: по большей части это реакция на издевательства Пана, и тогда герой, влекомый жаждой мести не только за себя, но и за односельчан, преображается в благородного разбойника (таков герой нескольких сказок крестьянин Римша). В силу "почвенного" происхождения разбойника, он, как правило, не убивает и даже не избивает крестьян, а только Чужих. И обман, и воровство Злодзея в сказках часто подаются комически: вероятно, по той причине, что на его образе остается "метка" крестьянского сына-неудачника. Потому его цели нередко мелки, а путь к ним смехотворен. Так, например, популярен сюжет, где разбойники воруют сало. Примечательна здесь и техника освещения дороги: один разбойник несет украденное, а второй "бо ноч была цёмна,... спусціўшы ганавіцы, ідзе прад ім ракам і свеціць" [188, с. 55]. В то время, когда создавались многие из сказок, разбойники представляли собой не мифическую, а вполне реальную опасность Вероятно, смех призван сгладить ощущение страха перед разбойником. Разбойник "свой" и разбойник "чужой". Образ Злодзея двоится: с одной стороны, это тот же Мужик, вынужденно ставший разбойником, с другой – вызывающий ужас житель леса. Для начала остановимся на первом образе, связанным с мужичьим происхождением Злодзея. Он не вполне Чужой, что явственно прочитывается в сказке. Если он даже крадет у крестьян, то это не просто воровство, а своего рода поучение: не случайно Злодзей наказывает не самых достойных членов социума. Часто он рассчитывает на жадность крестьянина, подбрасывая ему какую-то вещь (как, например, сапог) и тем самым завлекает Мужика, рассчитывающего на шальную удачу, в свои тенета. Как и в случае с Чертом, выбор – пытаться ли присвоить найденную вещь или пройти мимо и остаться в безопасности – за Мужиком. Злодзей становится карающей силой лишь в том случае, если Мужик прежде проявит черты, неодобряемые "грамадой". Таким образом, на первом уровне осмысления сказки характеристика Злодзея колеблется на весах между наследственной мужицкой хитростью и комической, нелепой ролью, которая связывается с его неспособностью к труду. Можно предположить, что такой Злодзей испытывает некий "комплекс неполноценности" по отношению к Мужику с его стабильным бытом и твердой жизненной позицией. Вероятно, поэтому разбойники могут исправиться в том случае, если испытают положительное влияние со стороны. Так, девочка, заброшенная в логово разбойников, настолько преображает их жизнь, что "годзі яны красьці да разбіваць. Давай яны лавіць звярыну да рыбу, давай пасьці да даглядаць тое гаўядо. Нарэшце пачалі яны рабіць будоўлю да як умелі карпаць землю, каб зарабіць сабе хлеб" [189, с.176]. 182 Однако чаще Злодзей не возвращается к крестьянской жизни. В результате накопления "черного капитала" он отходит от дел, становится богачом и женится на королевне ("Майстар-злодзей") или паненке ("Як Іванушка навучыўся красці і ажаніўся на дачцы пана"). Другой вариант развития событий таков: достигнув статуса главного Злодзея, он перестает самолично разбойничать, но остается в шайке в качестве мозгового центра. Это свидетельствует о том, что водораздел между Мужиком и Злодзеем отчетлив – и это несмотря на единство происхождения, а также на то, что способы кражи и обмана, как правило, напоминают аналогичные "штуки" Мужика, да и объект их часто один – Пан. На это причудливое "сходство-различие" Мужика и Злодзея прямо указывается в сказке "Аб Сахарку-злодзею": в ее начале говорится о чудовищной природе разбойника, о том, что он достоин худшего наказания – и при этом с большой симпатией описывается герой – Злодзей. Эта симпатия вызывается двумя чертами Сахарка: вопервых, его рождением от бедной вдовы и, следовательно, родством по происхождению, а во-вторых, тем, что объект применения его разбойничьего таланта – Пан. Напрашивается предположение, что "разбойник вообще" (Злодзей как таковой) и местный Злодзей из крестьян типологически различны, и соответственно разным должно быть отношение к ним. "Разбойник вообще", чьи корни в Хаосе леса, – страшен и чужд. Местный Злодзей – давний знакомец. Его ремесло – последний выход из безнадежности и беспросветной нищеты. Потому социальная функция местного Злодзея часто расходится с его внутренней благородной сущностью. Злодзей как мистическое существо. При всех его не столь уж редких в сказке положительных качествах Злодзей в любом случае – маргинал. Даже если он он одарен человечностью – в конечном итоге он нарушитель. И дело даже не в том, что Злодзей совершает неодобряемые действия: в этом грань между Мужиком и разбойником тонка (вспомним хитроумные кражи, на которые идет Мужик). Но в отличие от него Злодзей запятнан самим своим образом жизни, причастен к Хаосу. Поясню на примере сказки. Герой сказки "Як браты дзеліліса", бедняк, подчистую ограбленный собственным братом, из жалости спасает разбойника от казни. Уже назавтра он убеждается в том, что долг платежом красен: его сени оказываются завалены снедью, привезенной благодарным разбойником. Но на этом функции Злодзея не завершаются: он шантажирует "упраўнага да скупога" брата Мужика с тем, чтобы тот по справедливости поделился с обобранным им родственником. Делает он это так: подкидывает под дверь "скупердзягі" тело только что похороненной тещи и озвучивает ее воображаемую речь: "Аддай беднаму брату каровы і валы, бо я на тым сьвеце не маю супакою" [189, с. 110]. 183 Испуганный скупец делает то, что повелел призрак. Однако после вторичного погребения теща не без помощи Злодзея вновь "воскресает" и приходит к Богачу, требуя, чтоб он отдал брату свиней, овец и "рознага дабра" [там же]. В этой сказке весьма четко выражены три свойства разбойника. Об одном мы уже говорили – это умение быть благодарным и благородным. Второе качество – хитроумие и даже фантазия, которые сказываются в самом способе наказания. Обе эти черты роднят его с Мужиком. Но есть и третья – связь с потусторонним миром. Злодзей делает совершенно недопустимый, чудовищный для крестьянина шаг: дважды выкапывает труп из земли (уж не говоря о том, что именно он, пусть по случайности, и убил тещу). Злодзей нарушает границу между мертвым и живым, более того, использует страшный образ "ходячего покойника" – олицетворение потусторонней силы. Тем самым Злодзей ломает естественный порядок взаимосвязи здешнего и иного миров. И в этом смысле Злодзей и Мужик стоят по разные стороны баррикады. Не случайно в этой сказке не указывается на крестьянское происхождение разбойника (он появился как бы "ниоткуда"): сознательно или нет, но сказочник не причисляет его к Своим, даже несмотря на то, что Злодзей действует во благо бедняку. Более того, этим случаем их взаимодействия ограничиваются: "бедны чалавек стаў жыць да пажываць да дабра нажываць, а злодзей пашоў сабе сваею дарогаю" [189, с. 111]. И это понятно: Мужик может пожалеть Злодзея, а Злодзей – Мужика, но им не по пути, ибо принадлежат они к разным мирам, вернее, так: крестьянин принадлежит миру, а разбойник "зависает" на грани миров. Труд и удача. Из этого проистекает и в корне различная ориентация Мужика и Злодзея: первый ориентирован на труд, второй – на удачу. В комическом варианте – где разбойник представляет собой несостоявшегося крестьянина (т.е. отбившегося от "мира" деревни человека) – удача не дается ему в руки, а во втором, где разбойник изначально нечист, он чрезвычайно везуч: "весь комплекс поведения разбойника заставлял воспринимать его как связанного с нечистой силой (этому способствовала вера в то, что удачу, везенье, непредвиденное счастье, неуязвимость дает сатана)" [175, с. 229]. Потому все поведение и мир Злодзея противопоставлены по отношению к миру Мужика, живущего на Божьей земле и по Божьим законам, главный из которых – труд. "Оборотность" разбойничьего мира диктуется перевернутостью мировоззрения и образа жизни Злодзея: его "рабочий день" начинается тогда, когда крестьянская жизнь замирает, его религия – не молчаливая крестьянская молитва, а разбой. На то, что разбой – не просто занятие, но труд и даже своего рода религия, указывает следующее напутствие атамана: "Сонцэ нізко, вечар блізко. Хлопцы, за дзело, пакуль не сцемнело. 184 Час да касцёла нам памаліцца. Заўтра дзеліцца з ранку мы будзем, як грошэй дабудзем" [189, с. 235]. Молитва здесь отождествляется с нападением, костел – с "большой дорогой". Почетное место труда в этой "перевернутой жизни" занимает его антипод – удача. В этом смысле показательно, что везучий разбойник часто становится паном или даже королем, который – в отличие от Царя – не удостаивается симпатий Мужика , т.е. Чужим. Для чего белорусу Злодзей? Помимо неудачника-Злодзея, а также Злодзея-Пана, существует и третий вариант развития его судьбы – превращение Злодзея в праведника. Имеется в виду сказочный сюжет о кающемся разбойнике. Иак, герой убил своего отца, предавался кровосмесительной связи с матерью (в сборнике Федеровского – убил обоих родителей), уничтожил множество людей и т.д. Итак, Злодзей, "якога і свет не бачыў" долгие годы предавался самым чудовищным порокам: "ён і краў, і чыніў разбоі, губіў людзей без пакаяння... абарачваўся ваўкалакам, пушчаў маравыя паветры – і не было ліку яго грахоў" [206, с. 371]. Старец назначает ему покаяние – сделать столько добра, чтобы оно перевесило количество сотворенных грехов. Однако эти деяния (помощь страдающим, принятие на себя чужого наказания, строжайший пост и т.д.) безрезультны: страшных грехов не перебороть. И лишь непосредственный поступок ("азвярэў наш грэшнік", говорит сказочник) – убийство – снимает с него вину перед Богом. Дело в том, что убитый "войт" (сельский страшина) измывался над крестьянами. Помимо моральноэтического императива (убийство истязателя во благо людей), здесь очевиден еще один мотив: грешника должен уничтожить грешник (зло можно попрать только злом). Обратим внимание на то, что "войта" убивает не Мужик, а Злодзей – пусть и раскаявшийся, но все же разбойник, резко вычеркнутый из мира людей. Именно он востребован в качестве мстителя. В этом вновь читается мысль об отказе Мужика от участия в кровопролитной борьбе со злом и о том, что зло уничтожает себя само. Об этом лучше всего свидетельствует легенда о крестьянине, над которым безжалостно издевался Пан, и тот решил ему отомстить – "спаліць пана". Однажды он встретил старика, сидящего у костра в лесу (я уже говорила о том, что в роли старца-странника, как правило, выступает либо святой, либо сам Бог). Старик уговорил Мужика одуматься, но ненадолго: не выдержав истязаний, Мужик поджег усадьбу. И тогда Старец показал ему две "живые картины". Справа предстала ему "горніца прывукрасная, пасьцеля – і не відав я зроду, стол гасподьскій прывукрашанный, і на стале напіткі разные. І пцічкі пяюць – заслухацца; і гаспадзін сядзіць за сталом і чай п'ець". А слева увидел он совсем иное, страшное зрелище – горящего в огне человека, который умоляет, чтобы его спасли, но никто не приходит к нему на помощь. Резюме Старца таково: "А я ж табе гаварыў у 185 первых: пацярьпі, гора прымі! От пан сеў за тваім сталом, а ты папав у паньскае пекла" [166, с. 545]. При сравнении этих двух сказок очевидна колоссальная разница в требованиях к Злодзею, чья злая природа не только позволяет, но даже и вынуждает совершать функцию возмездия (можно говорить о культурной востребованности Злодзея в этом смысле), – и к Мужику, который не вправе отвечать злом на зло. Это в который раз дает основания не согласиться с популярным и в публицистических, и даже в серьезных научных работах мнением о том, что пассивность и фатализм белоруса проистекают из безнадежности. Не из безнадежности, а скорее, из мудрости – из надежды на то, что путь к усовершенствованию мироздания заложен в самом мироздании. И потому роль маргинала (например, Злодзея), вносящего положительные ли или отрицательные изменения, значима не только для сказки, но и для понимания белорусского менталитета. Он – мера "узаконенного беззакония", которая противостоит ценностям крестьянина и потому может сделать то, что Мужику запрещает "грамада" или же он сам запрещает себе, но что сделать – необходимо. Итак, запрет на убийство в белорусском менталитете настолько силен, что даже для справедливого возмездия востребуется не "мужык-беларус", а сторонний исполнитель. Сочувствие к злу. Толерантность Мужика по отношению к Злодзею имеет куда более глубокие корни, чем традиционное представление о необходимости зла в структуре мироздания. Еще более важен момент морального самовозвышения крестьянина. Дело не только в том, что Мужик не в пример достойнее Злодзея, но и в том, что Мужик в состоянии подняться над категориями зла и добра, справедливости и несправедливости. Он может пожалеть Злодзея, посочувствовать его неукорененности, неустойчивости его жизни. Потому жалость Мужика к Злодзею в сказке вознаграждается. Здесь мы имеется в виду не только ответная услуга со стороны спасенного разбойника, но – божественная награда. Так, в сказке "Канакрад" мужик не соглашается на предложение друга магическим методом (перевернув церковную свечку) отомстить Злодзею, укравшему его кобылу. Мотивация такова: во-первых, колдовское воздействие – грех, а во-вторых, извести человека – еще больший грех: "бачыш, ён хоць і канакрад, але ўсё ж чалавек, усё ж Божае стварэнне" [189, с. 203]. Более того, когда загорелся дом конокрада, Мужик, пожалев его детей ("Дзеці – Божые янгелята. Чаго яны будуць пакутаваць за бацькоў?" [там же]), единственный из сельчан побежал в горящую избу спасать их. В итоге огонь от избы конокрада перекинулся на другие хаты, занялась вся деревня, кроме дома человека, который боялся греха. И резюме сказочника прямо обосновывает это божественным вмешательством: "Дак гэто, мабыць,так Бог даў" [там же, с. 204]. 186 Москаль – человек пути Москаль – человек без корней. В отличие от Злодзея корни Москаля утеряны так давно, что он и сам о них не помнит. Не задается этим вопросом и сказочник. В сказке характеристика "москаль" относится не к этническому образу, а к субкультурной характеристике этого персонажа – к его "солдатству", и потому исследователи, которые настаивают на том, что сказочный "москаль" мог быть и белорусом, и украинцем, и русским, а связь с Москвой означает принадлежность к российской армии [144, с. 333], скорее всего, правы. Существует и косвенное подтверждение этой мысли: в ряде сказок есть персонаж, называемый "расейцам". Это не солдат, и в отличие от сказочного Москаля, говорящего по-белорусски, его речь включает русскоязычные элементы. Что самое важное в образе Москаля? То, что он – человек странствия. Этим он колоссально отличается от Мужика. Однако, существует и черта, роднящая Москаля и Мужика: оба они христиане и чаще – оба православные. Сказочный Москаль не только не инородец, но и не иноверец. Это важно, т.к. до ХХ в. этнический и религиозный критерии идентичности во многом сливаются. Тем не менее, Москаль – не просто Другой, а Другой с оттенком "чуждости". По сравнению со Злодзеем, происхождение которого в сказке часто определено (отбившийся от деревни крестьянский сын), а если и нет, то, по крайней мере, зафиксировано место проживания (лес неподалеку от деревни), – у Москаля нет места рождения: он "человек ниоткуда". Москаль проходит через село, оставляет о себе забавные и поучительные воспоминания и исчезает в неизвестном направлении. Можно сказать, что Москаль, являя собой олицетворение дороги, странствия, исполняет функцию соединения белорусской деревни или затерянного хутора с остальным миром. В лице Москаля в мир деревни и ее ближайшего окружения вторгается большой, незнакомый, одновременно и тревожный и заманчивый мир. Наиболее ценный опыт, которым владеет Москаль – опыт путешествия. Несмотря на культивацию оседлости, свойственную любой традиционной культуре, Мужик нуждается в Москале как в поставщике новой информации. Этой цели служит как реальный опыт Москаля, так и его безудержное хвастовство. Москаль как реальность. Совсем иное, чем в сказках, отношение к Москалю встречаем в белорусских песнях. Там Москаль –крестьянский паренек, которого насильно забривают в солдаты. В первую очередь, показательны рекрутские плачи, где передан процесс "отлавливания" юноши, призванного на воинскую повинность: Ой ўзялі малайца Да ат маткі ат айца, 187 "Назад рукі завязалі... Прыводзюць жа дзяціну... Вы, кавалі-слесары, Закуйця мальчышку". Яму ножэнькі скавалі І ручэнькі звязалі" [166, с. 445]. "Як рэкруцікаў лавілі, Мяне доля не спазнала, Ад сышчыкаў не схавала. Рукі мне назад скруцілі, На ногі калодкі набілі..." [там же]. В других солдатских песнях акцентируется дальнейшая трагическая судьба Москаля: "Во салдацкая жысь во раскраснюшанька была: Па сто палак ім кладуць, на тры дзенюшкі даюць" [166, с. 446]. И заканчивается эта жизнь одинокой смертью в поле: "А твой сынку ажаніўся: А ўзяў сабе каралеўну – у чыстым полі магілуньку" [166, с. 448]. Рисунок. М. Шагал. Солдаты –Шагал, Графика, с.30. Демон? Ангел? Сказка создает иной, в гораздо большей степени "фантазийный" образ Москаля – находчивого проныры, которому сам черт не брат. При всей крестьянско-военной аккуратности солдата (устраиваясь ночевать на голой земле он "убіў у неба гвоздь, павесіў свой клунак" [191, с.30], способности Москаля явно превышают возможности Мужика: ведь вбить в небо гвоздь не под силу даже самому справному крестьянину. Эта умелость имеет сверхчеловеческий характер: она связана с иным миром. Однако по поводу того, что это за мир, представления сказочников расходятся. 188 Так, в сказке "Неба і пекла" Москаль предпочитает ад раю: человеку, привыкшему к путешествию, к калейдоскопической смене мест и впечатлений, в раю ему скучно, излишне "свято". Тем самым сказочник настаивает на связи Москаля с недозволенной запредельностью. Впрочем, было бы странно, если бы крестьянин не подозревал Москаля в контактах с нечистой силой: ведь даже Своим – охотнику, рыболову, лекарю, кузнецу и др. – устойчиво приписывается "нечистая" компонента, связанная с обладанием нетрадиционным, "не-мужицким" знанием. Что уж говорить о Москале, чьи знания приобретены в чужих землях, а значит, сомнительны по своей природе! Однако при этом ангелы сами приглашают Москаля в рай – отчасти из уважения к его воинской смелости и смекалке, отчасти из сочувствия к бедолаге, пристраивающемуся спать на голой земле. Будь солдат грешником или обладай исключительно "нечистыми" характеристиками, такое приглашение было бы невозможно. Потому отношение к солдату двояко: с одной стороны, он отчетливо "не наш", "не здешний" и тем подозрителен. С другой – Москаль не вполне Чужой, скорее, Другой, от которого может быть польза и который вызывает, по крайней мере, интерес. Наличие в фольклоре такого персонажа, как Москаль, заставляет серьезно задуматься: а так ли уж "традиционна" традиционная культура Беларуси? Ведь традиционный крестьянин в любой культуре отвергает (и побеждает) все, что не принадлежит к его "епархии" – корням и почве, земле и общине! Не случайно Мужик всегда – не мытьем, так катаньем –"обыгрывает" всех чужаков. Но в случае Москаля происходит удивительная вещь: пожалуй, это единственный персонаж сказки, которому Мужик позволяет себя обмануть. Рисунок: Раненый солдат – Шагал, "Возвращение мастера", с. 143. Мужик и Москаль: две модели хитрости. У Мужика и Москаля разные модели хитрости: если мужицкая хитрость реализуется в окольном – "недопонимающемнедослышащем" поведении, то хитрость Москаля гораздо более отчетлива, можно даже сказать, нагла. Так, украв у Мужика мешок ржи, солдат "оправдывается" перед хозяином таким образом: "Калі рож дак на! Я думаў, што гарох" [206, с.329]. Аналогичное оправдание он находит при неудавшейся попытке украсть гусыню: "Ах ты бог мой! Гэта гуска разве? Якой я дурак! Вазьмі, бабка: ей-ей, думаў, што гэто гусак" [140, с. 83]. Часто хитрость Москаля хранит отпечаток его кочевой судьбы и "шарахвостнага" мировоззрения. Так, заночевав в крестьянской избе, он (вероятно, из благодарности) украл гусака, которого хозяйка спрятала в глиняную жаровню (латушку). Оставив 189 вместо него изношенные лапти, солдат не отказывает себе в удовольствии поведать об этом хозяевам эзоповым языком: "Я сначала служыў у пана Гусакоўскага, а пан жыў у Латкевічах, а цяпер перайшоў у Тарбевічы, а ў Латкевичах пасяліліся два брата Лапцюганы і Дасвіданне" [206, с. 329]. В этом рассказе Москаль предстает, как влекомое ветром по земле "перекати-поле". Он постоянно переходит с места на место и так же стремительно передвигаются его вымышленные персонажи. Таким образом сказка подчеркивает повышенную событийность, связанную с образом Москаля, в частности, с его хитростью и мобильностью. Впрочем, бывают случаи, когда Москаль перенимает поведенческую модель Мужика: так, на исповеди, куда он попал после кражи коровы, солдат действует проверенным крестьянским манером: "Што ўкраў? – Вяроўку! – А пры вяроўцы што было? – Рогі. – А пры рагах? – Карова" [140, с. 82]. Это напоминает крестьянскую манеру "недопонимающего поведения". Вероятно, причина этого сходства в том, что в данном случае солдат противостоит не Мужику, а Попу – и на фоне "чуждости" священнослужителя теряет черты "чужого", приближаясь к крестьянину. Тем самым образ Москаля в понимании традиционного белорусска колеблется на своеобразных весах: от "не-нашего" к "нашему". В ситуациях, когда объектом обмана является Мужик, наиболее выпячиваются элементы различия, тогда как в случаях противостояния Пану или Попу на поверхность выходит дремавшие до сего момента черты сходства крестьянина и солдата. Ложь как дыхание. Тем не менее, основная точка фиксации в сказках – на отличии этих персонажей, причем нередко осознание этого отличия вызывает не отрицание, а симпатию. Это верно даже для тех случаев, когда Москаль выступает заведомым хвастуном и/или лжецом. Он лжет, как дышит. В Черном море, по его словам, вода настолько черная, что не надо чистить сапоги: только сполосни – и они, как новенькие, будто вычищены наилучшей ваксой. Крестьяне реагируют на это вранье уважительным: "Бачыш, а-а-а!" [140, с. 86]. Восторженная реакция объяснима: дело здесь не в темноте Мужика, а в тяге к неведомому, несбывшемуся, которая пусть тайно, но живет в самодостаточном, оседлом крестьянине. Порою ложь Москаля нехотя трансформируется в реальность, например, в следующем сюжете. Старуха, у которой квартирует Москаль, впервые видит порох и интересуется, что это такое. Насмешник-Москаль объясняет, что это икра, откуда вылупляются солдаты. Бабка решает на корню извести "москальскую икру" и бросает ее в печь. Следует взрыв. Опешившая старуха делает напрашивающийся вывод: "У ікры шчэ салдатня, а дывысь, што вырабляе!" [140, с. 82]. Даже в этой сказке, где бабка 190 относится к Москалю отрицательно, подтверждается не просто его правота, но и всесилие. Можно, конечно, трактовать эту сказку как еще одно подтверждение традиционного фатализма (война нескончаема, солдат-прощелыг никак не изведешь, и т.д.). Но думается, сердцевина сказки глубже. Это неунывающий строй самого характера Москаля, юмор и находчивость, которые обеспечивают ему победу как над врагом, так и над неверием, причем, порой и против его воли. Неуязвимый плут. Плутовство, озорство, позерство, являющиеся стержневой характеристикой Москаля, "срабатывают" даже без его прямого вмешательства, а то и вопреки ему. Фигурально выражаясь, над Москалем витает ореол неуязвимости, вероятно, данный ему фактом военной службы (недаром именно "службой" часто величают Москаля крестьяне). Эта неуязвимость связана с маргинальностью Москаля – вспомним выбор между раем и адом, который осуществляет солдат. Только тот, кто является гостем в мире людей (не случайно Москаль – прохожий, в крайнем случае недолгий постоялец), может так смело обращаться с этим миром и даже – с другими мирами. И потому именно Москаль побеждает Смерть, спрятав ее в рожке от табака ("Маскаль і смерць"). Право на свободу. Основной вопрос здесь таков: почему именно Москаль – человек без корней, связанный с потусторонним миром, неоднократно обманывающий доверчивого Мужика, чуждый оседлому, спокойному белорусу – нередко вызывает симпатию крестьянства? В первую очередь, это происходит в силу его независимости. Сказочный Москаль – человек, который избирает собственный путь и жизненные приоритеты самостоятельно – и совершенно иначе, нежели крестьянин. Мужик действует исходя из коллективного опыта, за ним всегда роятся тени дедов, отцов, соседей, и потому даже находясь в одиночестве, он поступает исходя из ценностей "ласкі", "згоды". Москаль – всегда одиночка. Не случайно в сказке он появляется не с полком, а один. Если Мужик находит прибежище от превратностей судьбы во внутреннем мире, то солдат – во внешнем: в отличие от крестьянина у него есть возможность изменить судьбу не внутренним деянием (добрая мысль), а внешним передвижением. Именно отсюда два его главных качества – одиночество и мобильность. Вкупе они порождают находчивость и бесшабашность, свойственные человеку, которому нечего терять и не о ком заботиться. Москаль как учитель. Благодаря мобильности Москаль приобретает огромный опыт. Потому часто именно он обучает Мужика практическим навыкам и полезным умениям. В этом случае сказочные крестьяне предстают темными и глупыми. Это странно, т.к. в целом в сказке Мужик всегда умнее и работоспособнее остальных 191 персонажей. Похоже, говоря о "дурных людзях", сказочник имеет в виду не односельчан, а соседей ("Они"), в отношении которых существуют отрицательные гетеростереотипы. Вспомним: это отмечал еще Карский на примере жителей Могилевщины, "над которыми уже смеялся начальный летописец: "Тем и Русь корятся радимичем, глаголюще: Пищаньцы волъчья хвоста бегають" [166, с. 543]. Именно насмешкой над "потомками радимичей" этнограф и объясняет сказку о солдате, который женился на крестьянке и, осознав непроходимую глупость жены и ее родни, отправился искать по свету умных людей. Но не тут то было! Идя по дорогам, заходя в хаты, Москаль сталкивается с семьей, которая ест кисель более чем странным способом: "ядуць кісель із сытой – зачэрпнуць па ложцы кісяля, а тады ўсі ідуць у клець кісель у сыту макаць" [там же]; встречает стариков, которые тащат на крышу вола – чтобы он сжевал выросшую там траву; удивляется горе-строителям: вместо того, чтобы найти бревно подходящей длины, они пытаются растянуть короткое; смеется над незадачливым мужиком, носящим свет в лукошке с улицы в темную хату. Однако Москаль не только дивится этим несуразностям: в каждом случае он обучает людей верным действиям, исполняя функции культурного героя. Москаль и Бог. Тем самым главным содержанием образа Москаля является перенос культурного опыта, внесение "нового", "свежего", возможное именно благодаря маргинальной позиции путешественника. Эта позиция позволяет ему заимствовать и транслировать модели продуктивного действия из одной культуры в другую. В свете этого находит свое обоснование мотив, при всей своей странности иногда встречающийся в сказках. Мы имеем в виду ситуацию, когда Москаля принимают за Бога (или, реже, за Николая-Угодника). Инициатива этого принятия хоть невольно, но исходит от солдата. Так, в сказке "Маскаль", с трудом найдя ночлег на сене, набросанном на "вышку" в гумне, герой подслушивает разговор влюбленных. Юноша пытается соблазнить девушку, она же вполне обоснованно опасается последствий: "Я баюся, бо яшчэ будуць дзеці, дак хто іх стане гадаваць?" – "А той, што над намі, – адмаўляе хлопец. Ён хацеў сказаць, што дзяцей Бог выгадуе. Зачуў тое маскаль да як крыкне: "А хварэць жэ вашуй матары! Ці ж гэто я буду гадаваць вашых байструкоў!" [189, с. 238]. Комическая ситуация приносит дивиденды: перепуганная парочка убегает, а Москаль становится обладателем брошенной ими снеди и выпивки. Как мы видим, случай вполне реалистичен, тем более, в зачине сказки скупыми, но емкими штрихами описаны и трудный путь солдата, и нищета деревни, и пьянство. Однако, сам факт принятия Москаля за Бога хоть и странен – но и красноречив. 192 По какой причине происходит ошибка? По случайности: Москаль физически располагается выше, чем парень с девушкой. Но это объяснение "первослойное", поверхностное. При попытке более глубокой интерпретации нельзя абстрагироваться от параллелей. Как мы помним, Бог со своими спутниками-святыми часто находит приют на сеновалах. Как и у Москаля, образ их жизни – кочевой. Есть и еще одно совпадение: и Бог, и Москаль обучают людей полезным умениям, причем, Бог их первичный творец, а Москалю они даны опытом странствия. И наконец, именно Бог поддерживает солдата на поле брани. Все это дает Москалю основания относиться к Богу по-родственному. Пусть и иначе, чем белорусский крестьянин, но тем не менее – тоже как к "Своему". Не случайно Москаль чувствует себя ближе к Богу, чем к начальству. Когда генерал спрашивает у солдата, почему к Богу тот обращается "на ты", в то время как к самому генералу – "на вы", солдат дает логичный ответ: чертей-генералов на свете много, а Бог один ("Салдацкі "Отчэ наш"). Обращу внимание читателя на смысловой "перевертыш", когда почтение на поверку оказывается неуважением, а фамильярность означает глубочайшее почтение: "вы" свидетельствует о заменяемости начальства, а "Ты" по отношению к Богу – о незаменимости, единственности. При этом "Ты", обращенное к Богу, косвенно свидетельствует и об осознании Его близости к солдату. Здесь самое место вспомнить почти аналогичный ответ Мужика чужому Пану на вопрос, "под кем" он живет? Мужик отвечает: под Богом. Вероятно, связь между двумя столь разными персонажами не случайна: оба они самостоятельны, независимы от гнева и милости "сильных мира сего". Если Москалю эту самостоятельность дает свобода передвижения, то Мужику – свобода размышления. Тем не менее, оба знают: конечным арбитром всей их жизни является Бог. Как же в этом случае трактовать выбор Москалем ада, его не всегда добрые, а подчас и грабительские шутки по отношению к крестьянину? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Можно предположить, что здесь опять же дело в ситуативности: в случае, когда солдат противостоит генералу, Москаль понимается как Свой, ибо в качестве фона реально наличествует резко Чужой. В этом случае Москаль исповедует крестьянскую модель веры, взаимной связи "Бог–человек". Кроме того, в отличие от удачи Злодзея, "узаконенной" благодаря его связи с нечистой силой, солдатское везенье (например, на поле боя) понимается обратным способом: от смерти солдата спасает Бог. В этом смысле выживший солдат – при всех его недостатках – одобрен Богом. Но в том случае, если солдат конкурирует с Мужиком, происходит своеобразный сдвиг в сторону "чуждости": уж слишком заметны различия – причем, в морально-этическом плане Москаль значительно проигрывает Мужику. 193 Москаль и Царь. Примечательна и другая связь, прослеживающаяся в белорусской сказке. Это отношение "Москаль – Царь". Часто этим царем является Петр Великий, который, судя по текстам, пользовался уважением крестьянства. Так, в "Казцы пра Пятра Вялікага і салдата" царь проводит соревнование между Москалем и немецким солдатом. Приказав им спрыгнуть с третьего этажа, он наблюдает реакцию. Если немец просит разрешания проститься с однополчанами, то Москаль спрашивает лишь одно: "А ў якое акно прыгаць, ваша вялікасць?" [188, с. 84]. В благодарность за столь ревностное служение царь Петр делает Москаля своим "заместителем", даже "двойником": после смерти царя именно "Пятро-солдат" под его личиной мудро правит страной. Москаль и "должное место". При сравнении этой сказки с другими вырисовывается некоторая странность. В абсолютном большинстве сказок Москаль чрезвычайно инициативен. В том числе это касается тех текстов, в которых он блуждает по лесу вместе с Царем-инкогнито и спасает того от разбойников. Не менее инициативен Москаль в деревне, на дороге, в лесу. Почему же он столь безропотно подчиняется смертному приказу (от верной гибели его спасает лишь то, что от прыжка его насильно удерживают царевы слуги)? Здесь происходит столкновение ценностей: ценность свободомыслия и инициативы отступает перед более значимой ценностью должного места – места солдата, действующего в соответствии с присягой. Вероятно, в этом отчасти содержится корень не просто терпимого, а и доброжелательного отношения Мужика к Москалю. Значимость "должного места" для крестьянина беспрецедентна, и по собственному опыту он знает, что таких мест может быть несколько, и они являются взаимодополнительными. Можно предположить, что Мужик снисходительно относится к неблаговидным солдатским качествам – бахвальству, нечистоплотности в отношении к чужому имуществу и т.д. – именно потому, что знает: если на службе Москаль исповедует прямодушие и верность присяге, то за ее пределами его "должное место" меняется. Вероятно, импонирует Мужику и то качество, которое при всей разнице "должных мест" солдата остается неизменным – отчаянная храбрость. Хорошо, что ненадолго… По всей видимости, значительную роль в толерантном отношении к Москалю играет и тот факт, что солдат в деревне – временный гость. Став на ночлег в крестьянской хате, отведав немудренной пищи и прихватив то, что плохо лежит, он расплатится историями о нездешних краях, поделится новыми умениями и уйдет восвояси. В отличие от Пана, Попа, а также второстепенных "камісара" и "акамона" Москаль не будет сидеть на шее Мужика. Это поверхностное, бытовое 194 толкование граничит с более сложным, глубинным: Москаль остается сторонним наблюдателем, а сама роль такого "значимого Другого" востребованна этносом. Не случайно Москаль редко сближается с кем-то из деревни и не завязывает дружбы с Мужиком. Его связь с крестьянином сиюминутна: ее хватает на одну стоянку и на одну сказку. Однако Москаль полезен для Мужика: он являет собой отчетливый образ Другого, являющийся отправной точкой для идентификации крестьянина. Поскольку именно солдат – наиболее яркий образ "перекати-поля", во многом благодаря ему оседлый крестьянин, мало сталкивающийся с миром "большой родины" осознает свою "тутэйшасць", глубинную принадлежность к "малой родине". Кроме того, были и небыли, рассказываемые Москалем о дальних краях задают образы "дивьих людей" и чужие, но полезные модели действия, которым больше научиться неоткуда В отличие от образа Чужого образ Другого не содержит резкого сущностного неприятия, вследствие чего задает возможность идентификации с позиции не противопоставления, а сопоставления. Именно благодаря этому у Другого можно учиться. Можно сказать, что Москаль и Мужик связаны принципом дополнительности: чего не хватает одному – то с лихвой находится у другого. Баба как "гендерный Другой" Женщина – реальная и сказочная. Может показаться странным, но наиболее выраженным "Другим" в белорусской сказке является не Злодзей и не Москаль, а самый близкий герою-Мужику человек – его жена, Баба. Это тем более удивительно, что в мемуарах и исторических свидетельствах белорусская крестьянка кажется органичной "половинкой" своего мужа. В воспоминаниях типичная крестьянка предстает немногословной, скромной, трудолюбивой. Мемуарист рисует подробный портрет такой женщины: "Крикливости, желания кого-нибудь поддеть, на кого-нибудь накричать только потому, что была сильнее, у нее совсем не было, но вместе с этим у нее был свой кодекс, которого она непоколебимо держалась всю жизнь. Правда, этот кодекс имел выразительно феодальный характер… Во-первых, уважение к старикам и даже к старшим. Во-вторых, экономия: все, что имеешь, надо беречь, ничего не расходовать просто так, без необходимости. Упаси Боже, чтоб не было ругани, даже когда кто-нибудь упоминал черта, за это ему делалось замечание…Кодекс требовал, чтобы дети были послушны не только отцу, но и Богу… В старости часто вспоминала, сколько к ней сватались, но в целом это был очень тихий, деликатный человек. Нас она научила держать себя на людях как можно более сдержанно, не кричать, тем паче не ссориться публично, очень серьезно контролировала, чтобы между нами не было ссор и дома" [198, 195 с. 178-180]. В других воспоминаниях, принадлежавших Василю Быкову, женщина 20-х гг. ХХ в. предстает как "чрезвычайно мягкая и жалостливая. Я никогда не слышал от нее громкого слова – все с лаской и добротой…" [150, с. 13-14]. Рисунок. Мужик и баба – Мужчынскі касцюм, с. 83. Как мы видим, это описание наложимо на уже знакомый нам константный образ Мужика: здесь находят место и "тихость", и требование должного поведения, и уважение к старикам, и деликатность, и бережливость. Тем большей неожиданностью оказывается образ грубой, глупой, распущенной и в словах, и в действиях Бабы, предстающий в сказках. Попробуем разобраться в этом казусе, который, безусловно, имеет свои, пусть не лежащие на поверхности, но реальные объяснения и обоснования. Для этого обратимся к образу сказочной Бабы – каков он есть. Первородный грех Бабы. Начнем с мифологических мотивов, которые прослеживаются в сказке, в частности – в истории о "белорусской Еве" и ее искушении. Легенда гласит, что первый человек был с хвостом – и именно из этого хвоста Бог произвел на свет женщину. Какое-то время мужчина и женщина жили в нерасторжимой – причем, в самом прямом смысле – гармонии. Затем женщина услышала пение Шатана, которое столь сильно ее впечатлило, что она пожалела о своей подчиненной и ограниченной телесными узами позиции. Она начала вырываться и проклинать Бога за то, что связал ее с человеком. Осердившись, Бог отступился, и Шатан выдернул соединительную жилу, оставив на ее месте отверстие. "От з тых пор чалавек шукае жанчыну, а жанчына чалавека. Шукаюць аны і прагнуцца адно да другога... Толькі самі не зрастаюцца, але затое аттуль выходзіць і расце дзіця" [190, с. 63]. Эта притча явно испытала на себе влияние христианской легенды о грехопадении, где Шатан заменяет Змея (они взаимозаменяются и в других сказках, например, о происхождении панов). Однако, присмотревшись, мы видим и различия. Так, сексуальность, которая в Библии предстает результатом искушения Евы Змеем, здесь наличествует изначально: грех героев – не в познании радостей телесной любви (традиционная узкая трактовка библейского греха) и даже не в познании в широком смысле слова (познание как грехопадение). Плотская связь в сказке не греховна, а священна, задана Богом: об этом красноречиво свидетельствует характер уз мужчины и женщины. Если в Библии женщина раз и навсегда исходит из ребра мужчины и, следовательно, о продолжительном наслаждении не может идти речи, то здесь оно постоянно и естественно: это часть глубоко продуманной Богом мировой гармонии. 196 Естественность телесной близости в белорусской сказке приветствуется, а не порицается. Истинный грех в этой притче – измена. Изменщица коварная… Исходя из истории "белорусской Евы", мы можем трактовать популярную коллизию многих сказок – измену жены. Примечателен объект этой измены – Шатан, "увесь чорны, вочы лудатыя, нос, як у коршака" [190, с. 63]. Почему женщина полюбила это чудовище? На этот вопрос в сказке есть два ответа: вопервых, Шатан пел, и пел прекрасно. Судя по всему, от своего мужчины женщина песен так и не дождалась. Другой ответ более красноречив: "Нарэшце і спадабала яго за тое, што ён не такі, як чалавек. Ведама, жанчыне заўжды спадабаецца якая-небудзь пачвера, абы яна не такая, як людзі" [там же]. Здесь важно следующее. Во-первых, Баба падка на сладкие слова ("песни" Шатана), которым в законном союзе нет места в силу "тихости" (сдержанности, немногословности, застенчивости) Мужика. Во-вторых, мы встречаем уже знакомую формулировку, хоть и в новом контексте: Бабе нужна "пачвера", "не такая, як людзі". (Вероятно, потому же в ряде сказок жена изменяет даже королевичу – причем с хромым шорником). От этого тяготения к "не-люцкаму" проистекает целый "список" порочных пристрастий Бабы: приверженность новому, не освященному правилом "як усе"; вера в слова, а не в дела (легковерие, глупость, недальновидность); сладость запретного плода и т.д. А ведь установка "не як усе" и, тем более – "не по-люцку" в сказке всегда связана с нечистым началом. В свете этого не удивительно представление, что под юбкой у Бабы прячется Черт: "людзі ўсё выганяюць яго адтуль ожагам, да не могуць выперці" [191, с. 86]. Этим же объясняется популярный сюжет о порочных сношениях Бабы с Попом. Баба и Черт: кто кого? Итак, связь Бабы с нечистым подводит нас к антитезе "Баба – Люди". Нет, разумеется, человеческое содержание Бабы не подвергается сомнению: но вследствие поверхностности, необходимости в новизне, неумения противостоять соблазну, эмоциональности, а главное – любопытству она легче, чем рассудительный Мужик, идет на контакт с "не-людьми". Значительную роль здесь играет желание перестраховаться перед неожиданностями (что заставляет Бабу "ставить свечку" и Богу, и черту), но расчет этот оправдывается не часто: здравый смысл – не самая сильная сторона Бабы. Поскольку ею руководит неукротимая жадность, она не может просчитать последствий своих действий и частенько проигрывает. Однако у нее есть и "козырь" – невероятная хитрость, благодаря которой она нередко перебарывает Черта: здесь сталкиваются два достойных противника. 197 Связь "Черт – Баба" в белорусских сказках является одной из наиболее устойчивых. Остановимся на сказке "У бабы чортава галава". Она вновь возвращает нас к тем временам, когда Бог со Св. Николаем и Св. Петром ходил по земле. Итак, идут они и слышат крики и проклятия. Отправляет Бог Св. Николая на помощь. И видит "Мікола" Бабу, которая трет себе лицо песком и хвощом и сетует на свою непривлекательность. Бог позволяет святому помочь несчастной женщине. Правда, она и сама толком не знает, какой красоты хочет (это очень распространенная черта женского сказочного образа: женщина никогда не знает, чего хочет). Поэтому Св. Николай делает ее лицо нестабильным, меняющимся: "меняецца кожную часіну, як на сонейку палыскуецца й меняецца гадзюка" [189, с.117]. Думается, такая мимикрия (как, впрочем, и сравнение с гадюкой) не случайна: сказочная Баба легко переходит от слез к смеху, от злости к доброте и наоборот. Возможно, это происходит оттого, что она не обладает последовательностью Мужика. Но вернемся к сказочному сюжету. Женщина обрадовалась и стала прихорашиваться: "от пачала яна чапляць на себе ўселякую ўселячыну, каб стаць інакшаю, як людзі" [там же]. Обратим внимание на это "інакшаю, як людзі", констатирующее не просто женскую суетность, но и потенциальную легкость связи с нечистым. И последний не заставляет себя ждать. На обратном пути Бог со святыми вновь слышат крики Бабы, и посланный Богом Св.Петр видит, как Баба сражается с Чертом. Силы их равны и, несмотря на тяжелые увечья противников, никто из них не сдается, "кожнае хочэ паставіць на сваём" [там же, с.118]. Петр безуспешно пытается их разъять, но ему это не удается, ибо враги так "сплеліса, што й вадой не разліць" [там же]. Эта оговорка сказочника (ведь идиома "не разлить водой" относится не к врагам, а к друзьям) симптоматична: Баба и Черт находятся в отношениях не столько вражды, сколько "заклятой дружбы". Будучи одного поля ягодами, они хорошо понимают друг друга: и, видимо, в силу их равновеликости ни один из них не может победить другого. Доказательством этого служит дальнейшее развитие сюжета. Враги сплелись в столь тесном объятии, что, пытаясь их разнять, Петр невольно отрывает обоим головы, а приставляя, по ошибке меняет их местами. Результат сказался и на Бабе, и на Черте: "От з тых часаў і засталаса баба з хітраю чортаваю галавою. Мо затым яна і голаў закрывае, каб не відны былі рогі . А чорт так і застаўса з галавою бабы, бо так яму лаўчэй зводзіць добрых людзей" [там же]. Рисунок: Баба. – Белорусы, вкладыш (загнутый угол). Эта сказка задает целый смысловой пучок представлений белорусской деревни – как повседневных (об импульсивности и суетности Бабы; о ее стремлении к 198 особенности, к отличию от других), так и глубинных (например, о том, что красота, будучи Божьим даром, может вполне стать принадлежностью нечистого). Но главное для нас содержание этого текста – отношения Бабы и Черта, их изначальная (еще с тех времен, когда Бог со святыми ходил по земле) связь. Вероятно, поэтому Черт без излишних сомнений адресуется к Бабе как к помощнику в пакостных деяниях. К этому его подвигает само ее поведение, выказывающее родственность душ. Вот Черт ищет себе союзника и видит: "Бяжыць за мужыком з качаргою падтыканая баба й дубасіць яго па патыліцы й па чом папало да крычыць на ўсё сяло: "Ось жэ табе, хварэць тваёй матары!.. Я табе пакажу, як збожэ ў карчму цягаць... Я што захачу, тое зраблю. Хібо ты забыўса, што баба і чорта перахітруе!" [191, с. 83-86]. Такие манеры находят у Черта полное понимание, и неудивительно, что вскоре Баба становится его соратницей. Помимо открытого смысла – зарисовки колоритного характера Бабы (типичного для героини сказки), в этой характеристике проступают и скрытые мотивы. В первую очередь, это идея нарушения правил крестьянской повседневности, о чем свидетельствует и сам способ общения Бабы с мужем, и ее внешний вид ("падтыканая"). Однако главную роль здесь играет матерная ругань. По свидетельствам мемуаристов, в белорусской деревне мат считался недопустимым: "Говоря о культурном уровне, следует отметить, что, зная матерные ругательства, жители деревни пользовались ими чрезвычайно редко, только в состоянии аффекта… Грязные ругательства успешно заменяли большим набором различных проклятий" [197, с. 114]. О том же говорит и следующий пример из жизни: "С ужасом мать узнала у брата Павла, который пришел на побывку из армии и начал рассказывать, что на Смоленщине, где он был, отец, сидя за столом, матерно ругает жену при детях, а мать матерно отвечает отцу. – Божечка, Божечка, – горевала мать, услышав такое. – Что ж это за люди? У нас в войну, когда было много солдат, слышали, как они "говорят" между собою, но думали, что это специальный солдатский "язык", но чтобы дома отец и мать, или к детям!.." [198, с. 277-278]. Разумеется, в выкриках сказочной Бабы можно предположить и аффект, но в текстах такой "аффект" отнюдь не является редкостью: как и в этой сказке ("Чорт і баба"), так и в других, героиня постоянно "сварыцца", "лаецца" и норовит побить мужа. В то же время, судя по приведенной цитате из мемуаров, практически никакой аффект не мог бы заставить мать семейства вести себя подобно героине сказки. Реальность текста здесь отчетливо расходится с внетекстовой реальностью. Почему же это происходит? Для лучшего понимания этого углубимся в сказку. 199 Злая Баба. Итак, именно поведение Бабы (вернее, ее "анти-поведение") является причиной того, что Черт обращает на Бабу пристальное внимание. Более того, именно манеры Бабы позволяют ему искать в ней помощника. Тем не менее, искушение Чертом Бабы нередко приводит к плачевному для него результату: именно Баба искушает и перехитряет черта (не случайно одна из сказок называется "Баба і чорта перахітруе"). В других же случаях побеждает Черт. По этому можно судить, что силы противников примерно равны. Обратим внимание и на другую деталь: манеры Бабы имеют нешуточные основания ("Я табе пакажу, як збожэ ў карчму цягаць..."). Не от большой радости тяжел характер Бабы – а от незавидной жизни с пьяницей. Напомним, что именно пьянство считается наиболее общепризнанной отрицательной чертой в критическом ЭС белоруса. Но – поскольку именно к Бабе адресуется Черт за подмогой в своих кознях – можно сделать вывод, что грубость, крикливость, неумение держать себя в руках более предосудительны, нежели даже пьянство (более того, существует сюжет, показывающий, что и в пьянстве Мужика повинна Баба). Вероятно, причина в том, что все эти качества нарушают центральную для белорусского самообраза позитивную характеристику – "тихость". Примечательно, что ни константному, ни даже самокритическому образу Мужика такое поведение не свойственно (исключая разве что Пьяницу из одноименной сказки, но, в отличие от Бабы, этот образ даже обаятелен). Такой сдвиг востребованного поведения, когда мужские недостатки – реалистичны и простительны, а женские – фантастичны (что особенно явно при сопоставлении реальной женщины и сказочной героини) и вызывают антипатию, ставит под вопрос популярное утверждение (изначально исходящее из работ П.В. Шейна), о том, что белорусские мужчина и женщина всегда были равны в быту. Сказки, да и мемуары, показывают обратное: культура белорусского крестьянства маскулинна (т.е. имеет патриархальный, "мужской" характер"). Рисунок. М. Шагал. Баба. – Шагал, "Возвращение мастера", с. 178. Баба и соблазн. Баба от начала мира связана с Шатаном, потому Черт так часто адресуется к ней. О том же говорят и ее преступные отношения с Попом: несмотря на то, что часто он просто "охмуряет" бабу, суля "доделать" ей ребенка или же излечить от бесплодия (в этом случае их связь говорит о легковерии и глупости Бабы), Поп все равно является в значительной мере потусторонним персонажем, и их отношения налагают на Бабу отпечаток "нечистоты" – не только сексуальной, но и метафизической. Таким образом, в женщине существует изначальная порча, с которой можно сражаться (Мужик 200 нередко делает это с помощью ремня или розог), но которая все равно возьмет верх – не в этой сказке, так в другой. Можно резонно предположить, что такое отношение связано с исходящим от женщины соблазном. В сказке "Першы бровар" первоисточник этого соблазна отодвинут в далекое прошлое – в пору строительства Ноева ковчега. Это означает традиционность, давность воззрения на то, что само женское устроение имеет червоточину. Итак, Бог приказал Ною построить ковчег, причем "рабіць гэто ціхенько, каб ніхто не знаў і не зрабіў сабе гэстакіе каўчэгі" [189, с. 92]. Исполняя приказание Бога, Ной начал строительство, причем, чисто "по-белорусски": он ежедневно уходит с "сякеркай" в лес и там трудолюбиво и тихо мастерит ковчег. Но любопытная Ноева жена (с подачи Черта) не могла смириться с тем, что у мужа есть секрет. С целью разговорить молчуна Черт изобретает "гарэлку", в рецептуре которой наличествует хлеб и жидкость из носа Бабы: "Хлеб усему галава, – поясняет Черт. – Як чалавек галодны, та ён маўчыць, а як наесца хлеба, та й язык у яго развяжэцца. Гэто такая е сіла ў хлебе, толькі трэба гэтую сілу згусціць... Гэстая сіла льецца ў цябе з носа, як ты месіш хлеб" [189, с. 93]. Примечательна здесь и народная этимология слова "гарэлка": "Яна так называецца затым, што з гары падае, да й затым, што хто яе многа вып'е, та згарыць. Яна ў хлебе рэдкая, а ў жанчын густая, моцная. От затым, калі мужчына паседзіць кала жанчыны, та хутко ап'янее, як ат хмелю" [там же]. Сделаю небольшое отступление. Часто опьянение прямо связывается с красотой женщины: чем красивее героиня сказки, тем более сильно в ней дьявольское начало – начало соблазна. Не случайно здравый человек выбирает жену не по принципу привлекательности: гораздо более значимо для Мужика трудолюбие: "У хаджайстве нема чаго пазіраць на хараство, а трэ дзело рабіць" [189, с. 250]. К слову, многие исследователи отмечают, что такой подход был характерен не только для сказке, но и для реальности. Красота часто осознается не просто как необязательная, но и как вредная, даже греховная черта. Потому констатации "была ў яго вельмі гожая жонка, да такая паганая, такая языкатая, што беда" [189, с. 89] – отнюдь не редкость. За красоту любит ее и терпит несчастный муж: "як гляне, аж у сэрцэ заколе і зробіцца цёмно ў вачу" [там же]. Но самое скверное, что этот соблазн распространяется не только на мужа и приберегается не для одного него: "кожная гожая жанчына заўжды круціць хвастом" [189, с. 218]. Неудивительно, что "пачалі зарыцца на тую бабу, пачалі к ей прыставаць та акамон, та правантовы пісар, та дзяк" [там же]. Образ дьяка (который в конечном итоге и склонил женщину к сожительству) здесь далеко не случаен: на бытовом уровне он 201 привлекает Бабу сладким "блыгатаньнем", а на более глубинном – тем же, чем и Поп, и Шатан – связью с потусторонним, "не-люцкім" миром. В сказке "Першы бровар" этому находится объяснение: нечистое (соблазнительное) начало Бабы очевидно – в носу Мужика такой силы быть не может, и это вновь убеждает в ее родственности Черту. Обратим внимание и на другую деталь: наибольшая беда людей, "хвароба над хваробамі" – пьянство, – если можно так выразиться, дело женских рук, т.е. носа. Значит, в случае с мужем-пьяницей женщина сама виновата, и жалеть ее не за что. То же можно сказать и о порождении других проблем, в которых тоже виновна Баба. Любопытство как порок. Так, в сказке "Бусел", отправляющейся уже не от христианства, а от греческого мифа о Пандоре, именно женщина выпускает на землю гадов. Бог дал человеку горшочек с ними и велел, не раскрывая, выкинуть его в море. Правдами-неправдами Баба залезла в горшок и выпустила оттуда отвратительных пресмыкающихся. Твари расползлись по свету. Мужик, одетый в белую сорочку и черную свитку, стал их собирать. Бог сделал его аистом и повелел и ему, и жене навечно собирать змей и ящериц. Именно человеческим происхождением аиста, а также его тихим усердием сказочник объясняет то, что люди любят аистов, и то, что аисты не боятся людей. В этой сказке без всякого вмешательства Черта Баба делает "чертову" работу. Виновно в этом неистребимое женское любопытство, в котором крестьянская мораль усматривает покушение на свои устои (так же, как и в случае с "неправедным" знанием специалиста). Возможно, именно в неумении терпеть непонятное и состоит причина дружбы-вражды Бабы с Чертом: именно он помогает Бабе удовлетворить любопытство. В отличие от Мужика, Баба всегда пытается прорваться через толщу нерушимых устоев, покушается на общие истины, чтобы выяснить, что находится там, за ними. Исходя из этого предположения, можно попытаться объяснить странный выбор "крестьянской Евы" (предпочтение "пачверы", Шатана): в белорусской сказке именно Баба – основной носитель запретного для любой традиционной культуры любопытствования. Итак, в сказках вырисовывается следующее понимание образа Бабы, которое вполне согласуется с библейской легендой о Еве. Первопричина всех отрицательных характеристик Бабы – женское любопытство, заставившее ее на заре времен отпасть от райской действительности и связаться с Шатаном. Оно и порождает всевозможные беды – как космического масштаба (белорусская "Пандора"; Ноева жена, и т.д.), так и "местного" уровня. 202 Именно на таком повседневностном уровне развивается сюжет сказки "Цікавая жонка". Коллизия ее такова: умер человек, но, пролежав три дня, его тело не выказало признаков разложения. Более того, во время похорон он пробудился от смертного сна. Люди начали выпытывать: а что же он видел на "том" свете? Мужик отвечал, что ему не велено рассказывать об этом, иначе он умрет, и теперь уж – окончательно. Этим объяснением удовлетворились все, кроме его жены. Любопытство оказалось сильнее, чем осознание угрозы для жизни мужа. Покладистый Мужик уже приготовился к рассказу и к смерти ("Ну, давай мне на сьмерць чыстае плацце, та ужэ скажу" [189, с. 160]), как появился петух и объяснил ему, как следует обходиться с женой: "Я сем жон маю да ўсіх сунімаю, а ты ёй патвараеш да паміраеш" [там же]. Рисунок. М. Шагал. Женщина с петухом – Шагал, "Возвращение мастера", с. 157 Пожалуй, все недостатки Бабы первично исходят именно из любопытства. В первую очередь, это назойливость: "сьлепіцаю лезе ў вочы да кажэ, што ён яе не любіць, што кахае другую, якую-небудзь патаскушку, калі не хочэ ёй сказаць нават аднаго слаўца... ведамо, як баба прыстане, та ўжэ ты ніяк ат яе не аткаснесса ні крыжом, ні кадзілам, гарэй, як ат чорта" [189, с. 160]. Симптоматично здесь и привычное сравнение Бабы с Чертом, проводимое уже по иному критерию, чем в сказке "Чорт і баба": если там Баба состязается с Чертом в хитрости, то здесь – в навязчивости. Другое качество, проистекающее из любопытства – болтливость: женская манера выпытывать и вынюхивать – еще полбеды, настоящая беда в том, что Баба не в состоянии хранить информацию "про себя": "А ведамо, скажы жонцы, та яна куме, кума суседцы, суседка дзянне, а там усе, як у бубен б'юць" [189, с. 159]. И, наконец, неудовлетворенное любопытство приводит к постоянному раздражению, а уж оно снимается только в процессе скандала: "не сказаць бабе, та не будзе жыткі, бо яна пачне піліць да есьці, бы йржа жалезо" [189, с. 160]. Мужик и Баба: два лика любознательности. Любопытство, заставляющее Бабу жить "не па-люцку", коренным образом отличается от философских исканий Мужика: если он проникает в суть вещей путем отказа от прямого воздействия на них (и благодаря этому отказу), то Баба идет напролом. Кроме того, Мужик вдумывается в отстраненные, абстрактные глубины (чистота, красота, благодать), то предмет любопытства Бабы вульгарен и схож с тем, которые ныне во множестве поставляет "желтая пресса"– люди и страсти. Этим грешат не только жена Ноя, заподозрившая мужа в измене, или "цікавая" Баба, но и большинство жен – героинь белорусской сказки. 203 В преамбуле сказки "Цікавая жонка"и во вставных рассуждениях сказочника не только четко оформляется образ любопытной Бабы, но и констатируется его типичность: "Усё-то ёй раскажы, усё ёй пакажы, от такая цікавая, такая цікавая, як усе жанкі. А ведамо, усё казаць, та ворагаў нажываць; але нічого не парадзіш, трэ ўсё расказаць жонцы, бо калі яна чаго не ведае, та аж шкура на ёй лопаецца, ходзіць бы непрытомная ці хварэе, што не набярэсса ні варажбітоў, ні дахтуроў" [189, с. 159]. Словом, связь Бабы с Шатаном (Попом, хромым шорником и т.д.) закономерна: на что не пойдет женщина для удовлетворения "информационного голода"? Итак, грехопадение – любопытство, приведшее к измене, можно даже сказать – любопытство, в широком смысле слова понимаемое как измена и не только Мужику, но и всему разумно и правильно устроенному мирозданию. Именно отсюда проистекают прочие запретные связи, а также большая часть отрицательных черт Бабы. Учитесь властвовать собою! Любопытство имеет психологическую первопричину – чрезмерную эмоциональную возбудимость. Спектр ее проявлений широк – от падкости на красивые слова (Шатан) и невыносимой болтливости – и вплоть до регулярных избиений бедолаги-мужа. Комические, но при этом достоверные описания таких односторонних баталий в сказке встречаются часто, и все сходны между собой. Так, "каваліха" из одноименной сказки, бьет мужа кочергой, тягает его за чуб, прилюдно унижает его. Уже знакомая нам героиня сказки "Чорт і баба" бежит за мужем с кочергой, "дубасіць яго па патыліцы й па чом папало да крычыць на ўсё сяло" [191, с. 83]. А в сказке "Мужык дурэнь як варона, а хіцёр як чорт" битвы начинаются сразу от венца: "Толькі пабраліса яны, як і пачала баба піліць дурня да біць яго кавенёю... Злуе паганая баба да лупіць яго аберучкі та мешалкаю, та качаргою" [189, с. 84]. Как реагирует Мужик на побои и оскорбления? Долгое время – с видимой индифферентностью. Здесь "работает" проверенный механизм противодействия – молчание. Иногда (например, в сказке "Калатня") оно приводит к тому, что Баба устает кричать в пустое пространство. Но в большинстве текстов угрюмое игнорирование со стороны Мужика лишь разогревает эмоциональную супругу до еще большего накала. Молчит кузнец и прячется от жены в корчме, куда он убегает от скандалов и рукоприкладства (обратим внимание: и здесь в пьянстве мужа повинна жена). Молчит Ной. Молчит побывавший на том свете муж "цікавай жонкі". А дурень из сказки "Мужык дурэнь як варона, а хіцёр як чорт" не просто молчаливо терпит, но и вырабатывает мысленные оправдания такой сверхтерпимости: "думае, што так і трэба, ведамо, на тое ж ён і гаспадар, каб было бабе, на ком пачасаць рукі" [189, с. 84]. Его поведение диктуется благородством и заботой: "шкода стала дурному бабу, што яна 204 саўсем атсаділа сабе рукі, от і пабег ён ат яе наўцекача" [там же]. Подобное обоснование встречаем и в сказке "Упартая баба": "хлапцы, хаць яны й управней, але паддаюцца, бо не хочуць крыўдзіць дзеўку" [189, с. 252-253]. Показательно, что женщина чужда таким благородным побуждениям, она их попросту не понимает: "А той толькі тое й трэба, чуць толькі яна закмеціць, што ёй даюць палёгку, дак яна лезе к цябе, бы аса ў вочы" [там же]. Как справиться с Бабой, или битие определяет сознание. Молчание Мужика продуктивно лишь в определенных ситуациях и лишь до определенного предела, а потом оно становится бесполезным. Наступает момент, когда терпение Мужика лопается, и он начинает действовать проверенным способом – кулаками или плетью. Как правило, в таком случае ему помогают наставлением посланники других миров: например, тот же петух (представитель мира животных). Наука петуха ("Я сем жон маю да ўсіх сунімаю, а ты ёй патвараеш да паміраеш") пошла Мужику впрок: "усхапіўса з лавы, да як пачаў яе цягаць за косы да пачаў лупіць па чом папало, дак годзі яна с тых часаў лезці гаспадару ў вочы" [там же]. Примечательно, что лишь после того, как Мужик научился справляться с женой этим классическим способом, сказочник назвал его "гаспадаром" (хозяином): до сих пор он именовал героя "чалавек" или "той чалавек". Иногда Мужика наствляет Черт (представитель "навьего мира"). Как правило, в подобных случаях Мужик склоняет его на свою сторону привычной и успешной методой – хитростью. Истерзанный злой женою кузнец идет топиться и, встретив в озере проживающего там Черта, плетет ему легенду, что собирается строить на дне церковь. Черт умоляет кузнеца не нарушать его кромешного покоя и клянется извести злую Бабу. Несмотря на то, что именно Баба обыкновенно является соратникам в чертовых проделках, в таком предательстве нет ничего странного. Во-первых, Черт избирает помощников сообразно ситуации, по принципу "кто под руку подвернется", из тех, кто готов пожертвовать душой или – на худой конец – ее частичкой. Во-вторых, примечательно то, что в качестве орудия мести Черт вновь избирает женщину – Молодицу, которая соблазняет кузнеца (редчайший случай измены со стороны сказочного Мужика) и растолковывает ему, как сподручнее подступиться к Бабе, чтобы отлупить ее. Избитая жена волшебным образом меняется, становится такой доброй и тихой, что можно жить с ней, "хоць в вухо ўлажыушы" [191, c.123]. Резюме таково: "любі жонку шчыра, так яна й на карак сядзе" [там же, с. 124]. Тем самым наказание жены представляется полезным и необходимым. Более того, часто сама женщина намеренно провоцирует мужа на скандал и даже драку. Так, поучение соседки: "Твой гаспадар цябе, мабыць, не любіць, калі ніколі не 205 аблае" [191, с. 62] заставляет Бабу специально нарываться на конфликт. Тем самым поддерживается все та же мысль: жена нуждается в наказании и даже хочет его – в этом она видит проявление любви мужа. Иногда в роли глашатая и изобретателя наказания выступает святой старец, и в этом случае обыкновенно избирается более мягкий путь воздействия. Так в сказке "Вада памагла" мы сталкиваемся с несчастной парой, живущей по знакомому сценарию: жена кричит, муж пьет и бьет ее. Нищий старик дает Бабе волшебной воды с тем, чтобы та держала ее во рту, когда муж придет домой. После первого же применения чудодейственного средства в семье воцаряются лад и согласие. Надо ли добавлять, что вода была обыкновенной? Главное – удержать в неподвижности злой бабий язык, который и приводит к разладу. Но несмотря на такой бескровный финал, сказочник все же делится со слушателями "извечной мудростью": "бабу б'юць за язык... за губу да ў губу" [191, с. 62-63]. Рисунок. Молодые бабы. Начало ХХ в. – Жаночы касцюм, с. 83 Бабу б'юць за язык… Злой язык Бабы – одно из наиболее распространенных ее качеств. Типичная сказочная жена мужу "слова не дась выгаварыць. Што б ён ні зрабіў – усё не так. З кім бы ён ні загаварыў – жонка ўсюды свой язык ваткне, насыпле, як бобу" [191, с. 46]. Женский язык служит для крика, для брани, для болтовни. Порою складывается впечатление, что именно в этом и состоит истинное призвание Бабы: работа по дому, воспитание детей, труд в поле и по хозяйству в сказке часто даже не упоминаются. Напротив, подчеркивается связь языка и лени: "Як пачне сварытца, дак і хаджайства забудзе" [191, с.137]. Язык Бабы – проклятье не только для Мужика, но и для нее самое, причем, проклятье, имеющее, вероятно, мистическое начало. Не от излишнего ли доверия словам – этого, по мнению Мужика, пустого сотрясения воздуха – Баба связалась с Шатаном (а затем – и с Попом, и с Дьяком) ? Рисунок: Сельские болтушки. –Этнография Беларуси, с. 271. Ленивая Баба? Бабьей "языкатости" сопутствует лень. Мужик "клапаціцца... цэлый дзень, робіць за двох, а прыдзе дахаты, а там німа ні абеду, ні куска хлеба, сьмеце не вымецяно, у пячы не паляно, каровы равуць... Маўчыць ён да ўсё робіць сам. А ей толькі тое і трэба – наесца гатовага да й качаецца на палу ці прастарэкуе з языкатымі жанкамі" [189, с. 59]. Не привлекает ее и работа на поле: "Пашла аднаго разу жаць – нажала сноп і лягла спаць" [206, с. 184]. Впрочем, Бабе надо отдать должное: она ведет подсчет своим обязанностям: "Заўтра столькі, назаўтра столькі, а напаслязаўтра столькі, 206 а на сёння няма" [165, с. 474]. Этим ее труд и ограничивается. Показательно, что в этих случаях Мужик не применяет традиционного незамысловатого наказания: он действует хитростью. В первой сказке муж заманивает лентяйку в лес и сажает ее в муравейник, предусмотрительно привязав к дереву, во второй и в третьей обмазывает спящую жену смолой и перьями, а потом не пускает в хату, уверяя, что его супруга дома и почивает. Возникает вопрос: почему злой язык достоин колотушек, а лень требует хитрости, более того, хитрости явно сказочной, не возможной в реальности? Думается, потому, что сказочник не может не понимать: ленивая жена в белорусском селе – это фантазия из фантазий. Если женщина с тяжелым характером – вполне реальное явление, а гиперболизация его до чудовищных размеров – сказочный прием, то ленивая женщина в крестьянском быту – нонсенс, скорее, можно говорить лишь о более или менее трудолюбивой хозяйке. Чем невероятней персонаж – тем фантастичнее наказание. В действительности же, по свидетельству Н.Улащика, "женщины жали, подворачивали сено, пряли, ткали, ухаживали за коровами и свиньями; также они были должны сбивать масло и делать сыр. Главной заботой женщин было приготовление еды, чтобы накормить семью; они должны были также запаривать картошку на прокорм скотине. Естественно, женщины растили детей, стирали, обшивали детей и частично взрослых, а также прибирали в доме и носили воду. Разделение труда на женский и мужской в некоторых семьях было такое строгое, что женщины, прожившие всю жизнь в деревне, не умели запрячь в телегу или сани коня, не отваживались самостоятельно, без мужчины, куда-нибудь поехать. В то же время мужчина считал унизительным для своего чувства собственного достоинства подоить корову, принести воды, вытянуть из печи тяжелый котел и даже достать, когда женщины не было дома, готовый полдник. Вправду ли женский труд был легче?" [197, с. 65]. Рисунок: Старуха в национальной одежде – Этнография Беларуси (задняя сторона обложки). На этот вопрос отвечает сказка "Нездаволены муж і хітрая жонка" – один из тех крайне немногочисленных текстов, которые вообще его поднимают. Однажды Баба, муж которой считал ее бездельницей, предложила ему поменяться "социальными ролями": она пойдет на косьбу, а он приготовит еду и присмотрит за домашней живностью. Пытаясь одновременно молоть муку, сбивать сметану, следить за телятами и т.д., он добился лишь того, что разбил посуду, предоставил избу в пользование свинье и – поскольку та испугала курицу, сидящую на яйцах, – принялся высиживать их сам. Попутно он так извозился, что родители жены приняли его за черта [206, с. 221-223]. 207 Божье наказание. Безусловно, любой зрячий Мужик (в том числе и сказочник) не мог не заметить изнурительного труда крестьянки. Но в этом случае наготове было оправдание: так повелел Бог. Наиболее выразительно его демонстрирует сказка "Як Хрыстос вучыў людзей". Действие ее происходит в "золотом веке". Герой встречает Христа, который делает ему соху и учит ей пользоваться. Но первый блин вышел комом: волы самовольно выпряглись из сохи и убежали в кусты. В этот момент на поле появилась Баба, принесшая мужу обед. Обругав мужа – бездельника и неумеху – она велела, чтобы он впряг ее в соху. Увидев это, Христос спросил: "Што ты робіш, чалавечэ? На што ты мучыш жанчыну? – Мне не важко, – адмаўляе яна, – бо куды вам, мужчынам, да нас, жанок" [189, с. 106]. Сказочник объясняет это вопиющее нарушение субординации безобидным желанием женщины похвалиться, доказать, что она способна справиться с тяжелой работой. Но Христу не понравилась самонадеянность Бабы, и он навсегда наказал ей "рабіць, як чорны вол", более того, предсказал, что ее труд будет со стороны незаметен. "От і цепер жанчына працуе ад ранку аж да поўначы, але яе работы ніхто не бачыць", – сочувствует сказочник [там же]. Впрочем, сочувствие скоро становится насмешливым: "Заўжды яна бярэцца не за свае дзело, а наробіць, бы кот наплачэ" [там же]. Наказание, наложенное на женщину Христом, страшно не тем, что она должна трудиться (труд в белорусской крестьянской культуре тождествен понятию "стиль жизни"), а тем, что ее усилий никто не замечает. Вероятно, от этой должной невидимости, свойственной традиционной культуре, и исходит образ крестьянки – Бабы, отказавшейся быть "невидимой". Путь его создания – от противного. В первую очередь, "от противного" по отношению к Мужику. Зачем нужна такая Баба? Мужик трудолюбив – Баба ленива. Мужик молчалив – Баба "языката". Мужик скромен – Баба самонадеянна. Мужик верен – Баба изменница (часто по глупости или поддавшись на красивые "песни" Попа, Дьяка, Шатана и т.д.). Мужик, как правило, по-крестьянски практичен – Баба нередко транжира. Впрочем, она бывает даже чрезмерно прижимиста, но лишь в том случае, когда траты касаются других: себе она с радостью позволяет обновы и ради этого нередко связывается с Чертом (иногда он выступает в облике Панича). В то же время она может побить мужа за то, что он тратит деньги на выпивку (в этом случае последняя трактуется как единственный доступный способ расслабления после трудового дня); она способна безжалостно отравить верного пса – "лишний рот" ("Сабака й грошы"); наконец, она попрекает куском хлеба собственного ребенка-калеку: "Не шкадуе каваліха, на яе ліха, свайго дзіцяці, бо, кажэ, якая зь яго карысьць. Калека – не памога, а толькі абуза. Хаць 208 бы яго Бог з сьвету прыбраў... Слухаў, слухаў каваль праклёны дурное бабы, але нічога не можа парадзіць" [189, с. 78-79]. Если практичность Мужика выражается в добросовестности и экономии, то прагматизм Бабы вырождается в жадность и бездушие. Напрашивается вывод о том, что "отрицательность" Бабы призвана оттенять "положительность" Мужика. Однако при всей необходимости этого вывода он недостаточен: такое объяснение игнорирует яркость, юмор, "бойцовское", победительное обаяние Бабы, благодаря которым функция "оттенения" явно отходит на второй план. Объяснение здесь может быть, как минимум, двояким. Известно, что сказочниками были по преимуществу мужчины. Так, например, в сборнике А.К.Сержпутовского "Казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета" сказочниц всего две – Матрёна Бахмачиха и шляхтенка Уминская, причем, из уст первой в сборник вошли только три, а от второй – лишь две сказки. Соответственно от мужчин исходило 95 сказок. В предисловии Сержпутовский объясняет это тем, что Матрена Бахмачиха стеснялась "сказывать" посторонним (причина немногочисленности сказок Уминской остается неизвестной). Потому на образе Бабы отчетливо сказывается мужская субъективная оценка, исходящая из подчиненности женской гендерной роли. Можно сказать, что при создании мужского образа сказочник пытается отражать реальность – пусть и преувеличивая, и приукрашивая ее в соответствии с законами жанра. В то же время образ Бабы создается по принципу "как если бы". Им сказочник старается упреждать возможность изменений реальности, которые могли бы произойти в случае пусть даже и сказочного возвышения женщины: потому наказание зарвавшейся в своих амбициях Бабы – сюжет множества сказок. Функция злой Бабы. Вспомним, что в реальности абсолютным главой в семейных отношениях был мужчина – настолько, что даже деньги и вещи, принесенные женой в приданое, считались его собственностью. Уже этот факт – как, впрочем, и другие ("последнее слово", остававшееся за хозяином; безоговорочное послушание отцу, в котором воспитывались дети, и т.д) – свидетельствует о маскулинном характере культуры. Впрочем, таковы почти все традиционные культуры, и в первую очередь, славянские. Вспомним и то, какой ценностью считалась "тихость" – не только для женского, но и для господствующего в сказке мужского характера. Любое отступление от этой установки бросалось в глаза. Надо думать, это еще более верно для случаев, когда излишнюю активность проявляла женщина – существо, "уступающее" мужчине и в происхожденив (см. легенду о "белорусской Еве"), и в хозяйственной роли и физической мощи ("Як Хрыстос вучыў людзей"), и в здравом смысле и практическом уме ("Мужык, 209 яго жонка і пан", "Сеніха", "Як дваровы чалавек вернасць сваёй жонкі спытываў", Дурная жонка", "Хомкава жонка" и мн. др.). Можно предположить, что именно мотив несоответствия непосредственного женского поведения заданному гендерному образцу и есть корень образа Бабы, необъяснимого с точки зрения логических параллелей между живой и придуманной женщинами. Вернемся к финалу сказки "Як Хрыстос вучыў людзей": Бог поручил Бабе быть незаметной, "невидимой". В аналогичной ситуации в свое время оказывался и Мужик ("Сьветы чалавек"), правда, "невидимость" была дана ему не в наказание, а в дар. Однако даже святой человек не выдерживает почетной тяжести этого дара. Что же говорить об обычной женщине, невидимость которой отнюдь не почетна и не метафизична, а представляет собой требование стирания личности? Разумеется, ей трудно, да и невозможно удержаться в "прокрустовом ложе" этого железного требования. Особо отметим: когда Мужик ведет себя самым причудливым, самым неадекватным образом, он оказывается "святым" (вспомним "шалапаватага дурня", который не закрывал "срамаценьня" и молился, прыгая чере колоду). В случае же Бабы любое отклонение от "невидимости" – громкое слово; желание выделиться, покрасоваться; кокетство и т.д. – приобретает гиперболизированный вид и осуждается и сказочником, и коммуникативной аудиторией. Разумеется, основание этого – не в сказке как таковой и даже не в устно передаваемой "заповеди" Христа (в законченном виде мы встретили ее лишь в одном сборнике, что свидетельствует о небольшой ее распространенности ). Вопрос в том, насколько жизненные требования к поведению Бабы соответствуют этому сюжету и – глубже – зачем она вообще нужна в сказке в такой безбожно утрированной роли? Почему не нужна "добрая жонка"? Обратимся к образам "хорошей" жены, хоть и нечасто, но встречающимся в сказке. Она трудолюбива: здесь самое место вспомнить идеал невесты из сказки "Самая разумная" – хозяйку, умеющую из ничего приготовить еду и испечь хлеб, а зимой с ног до головы "абшыць гаспадара да дзяцей, каб не сьвецілі целам" [189, с. 262]. Такая жена достойна не только Мужика, но и Царя: не случайно он выбирает пару, руководствуясь тем, чтобы "яна лепш усіх умела рабіць дзело" [189, с. 250] . Она добра, кротка и – главное – послушна. В отличие от "каваліхі", бьющей мужа за то, что он готов пропить семейные припасы ("Я табе пакажу, як збожэ ў карчму цягаць..."), хорошая Баба как данность принимает любой, даже самый расточительный поступок супруга. Так, жена человека, отдавшего последнюю корову в уплату за жизнь незнакомого разбойника, реагирует на это самым неожиданным образом: "Вярнуўса той 210 бедны да гасподы без грошэй і без каровы да й расказвае жонцы, як тое было. Горко мацеры, што дзеці плачуць, есці хочуць, але як пачула яна, што гаспадар выбавіў ат смерці чалавека, дак яна абняла да пацалавала перш гаспадара, потым дзяцей да хоць галодная, але радасная легла спаць" [189, с. 110]. Идеальная женщина – поддержка и опора супругу и в его правоте, и в его ошибках: придя с косьбы и увидев, что неумехамуж натворил в доме, в хлеву и на дворе, героиня сказки "Нездаволены муж і хітрая жонка" принимается защищать деспотичного мужа от родителей (аналогичным образом герой сказки "Як дваровы чалавек вернасць сваёй жонкі спытываў" защищает перед паном доносчицу-жену). Рисунок. Добрые жонкі – Жаночы касцюм, с. 100. Именно с такой женщиной можно всю жизнь "разам гараваць, разам працаваць, разам аддыхаць", "жыць ў ласцы, у згодзе" [191, с. 175]. Обратим внимание на зеркальную отображаемость образов таких мужчины и женщины: она не случайна. Даже в двойном идеальном самообразе (сказка "Сьвіное рыло") муж и жена практически идентичны: более всего на свете они любят "кветкі да Божыя пчолкі" [189, с. 240] и друг друга. Словом, женщина по-настоящему хороша лишь в том случае, если представляет собой "клон" мужа, только еще более тихий, скромный и нетребовательный – и судя по текстам сказок, достаточно маловыразительный и малочисленный. Рисунок: Семья палешуков (нач. 20 в.) – Белорусы, с. 339. Именно в этом и кроется вторая возможность объяснения непопулярности этого светлого образа и популярности обратного образа Бабы – шумной, скандальной, хитрой. В отличие от "идеальной" жены, послушно копирующей черты мужа, этот образ в сказке функционально необходим: он задает модель взаимодополнения, сопоставления, а тем самым и более богатый мужской самообраз. Ведь и позитивные, и негативные черты Мужика (особенно если учитывать его константную "тихость", характерологическую "неброскость") отчетливо видны именно на фоне Бабы – близкой, но бесконечно "другой". Баба, вокруг которой часто организуется сказочное действо, служит динамике сюжета и характера не только Мужика, но и других героев: с помощью неуемной Бабы мы более глубоко и развернуто постигаем черты и Попа, и Черта, и даже самого сказочника. Да и они сами постигают себя в ином ракурсе и качестве: Черт осознает свою уязвимость, Поп – нечистоту. Что касается сказочника, то он оказывается в раздвоенной позиции – негодующего и одновременно, отчасти против воли восхищающегося ухарством Бабы. Но более всего Баба выявляет характеристики 211 Мужика. Так, в ряде сказок кроткий Мужик именно в противостоянии Бабе обретает силу ("каваль" из сказки "Каваліха"), в дурне просыпается хитрость ("Мужык дурэнь як варона, а хіцёр як чорт"), и т.д. Баба как Другой. В этом смысле Баба, безусловно, представляет собой наиболее явственный образ "значимого Другого". Если противопоставляя себя Чужому (например, Пану), Мужик осознает свое тотальное отличие, то сопоставляя себя с Другим (Бабой), он идентифицируется со своей социальной (в частности, гендерной) ролью – да и во многом со своей личностью. Это происходит в силу не только различий, но и сходства (общности быта, любви к детям, уважения к старикам, соответствия разделяемым нормам и ценностям). Поскольку же такое сродство лишь частично, и другие качества Мужика и Бабы противополагаются, то Баба служит своеобразным "пучком" возможных смыслов, альтернатив мышления, действия, и тем самым – отправной точкой более глубокого самопознания. Во многом именно благодаря Бабе (как, впрочем, остальным Другим и Чужим) бессознательные самохарактеристики основного белорусского ЭС – Мужика – рационализируются и тем самым выводятся из тени "этнического бессознательного": не случайно и психологи, и антропологи как безусловный факт признают первостепенное значение Другого в самотождественности и личности, и общности. Между Мужиком и Бабой происходит круговорот взаимовлияний, благодаря которому каждый из них приобретает новые характеристики. По этой причине напряжение между этими персонажами иллюстрирует и даже задает модели взаимообращения традиции и инновации. Интересно, что знаменитая концепция психолога А. Адлера, связывающая мужчину с новаторской деятельностью, а женщину – с хранением традиции, в отношении героев белорусской сказки "не срабатывает": они дополняют друг друга, обмениваясь инновативными и традиционными функциями. Баба и Девушка: грани различия. Существует еще одна поразительная деталь, связанная с образом Бабы. При всей его яркости и убедительности он не складывается в единое целое. В отличие от Мужика, возрастные типажи которого, различаясь деталями, тем не менее органично входят в единый образ (юноша, зрелый мужчина, старик представляют собой непротиворечивое личностное единство), женщина в разных возрастах не тождественна самой себе. Так, девочка (или юная Девушка) часто предстает перед нами в одном из двух обличий. В первом случае она являет собой романтическую, невероятно добрую и нежную натуру, обладающую магическим очарованием: "яна седзіць сабе на пеньку, плеце вянок з кветак да пае песьні. Яна пае, а гаўядо вушы развесіло, слухае, стаіць бы 212 ўкопанае. Нават птушкі пазлеталіса, седзяць кругом на дзераве да слухаюць... Паслухалі разбойнікі да й не магуць варухнуцца, баццэ яна закалдавала іх сваёю песьняю" [189, с. 176]. Рисунок: Девушка – Жаночы касцюм, с. 94. Обратим внимание на сходство Девушки со "светыми" людьми и с мужским образом музыканта, зачаровывающего мир волшебными звуками: не случайно героиня сказки "Дзеўчына" уже самим фактом присутствия в разбойничьей шайке перевоспитывает убийц своих родителей. Не случайно в нее влюбляется царевич. И не случайно она умирает: совершенство в этом неидеальном мире обречено. Рисунки: Девушка в венке –Этнография Беларуси, с. 125. Белорусская девушка. Рис. С натуры М. Микешина. 1856 г. – Шпилевский, с. 115. Второй образ Девушки – смекалистая умница. Наиболее распространенный типаж здесь – дочь, которая спасает своего отца хитростью и умом (в некоторых сказках она хромоножка, калека). Так, в сказке "Два браты" Пан задает братьям – богатому и бедному – загадки: если отгадает богач, то бедняк должен будет отдать ему единственную корову, если же случится наоборот – все семь коров богатого брата перейдут к горемыке. На первый взгляд, загадки просты: кто милее всего на свете? что быстрее всего на свете? что сытнее всего на свете? Братья препоручают отгадки женщинам – жене богача и дочери бедняка. Жена богача уверенно отвечает: милее всего ее жизнь с мужем, быстрее всех их жеребец, а уж более сытого существа, нежели их кабанчик, на свете не может быть. Дочке бедняка приходят в голову другие ответы: "Э, татка, сакалок! Лажысь, каа, спаць (утра мудрэй вечара). Первая загадка – мілей за ўсё ў свеці сон..., а быстрэй за ўсяго – мысьлі..., сычэй за ўсяго, каа, зямля" [166, с. 540]. Объясняет она это так: во сне уходит горе; мысль мгновенно переносит человека в любое место; земля кормит людей и все живое. Мудрый Пан (чрезвычайно редкий случай в сказке) не только присуждает бедняку коров жадного брата, но и женится на девушке. Примечательно, что, как и первый, этот образ глубинно совпадает с образом, нет, не Бабы, а Мужика: вспомним поиски им "красоты", "чистоты", "благодати", попытки связать повседневность со сверхжизнью. Как и деревенский философ – Мужик, Девушка пытается проникнуть за барьеры, ограждающие горний мир от дольнего – и этим отличается от самодовольной жены богача, которая за привычным кругом вещей и представлений не способна увидеть великого смысла. По аналогии с анализом мужского идеального образа здесь можно говорить о ближнем идеале смекалистой девушки 213 ("Мудрая дзяўчына", "Кацярына", "Два браты", "Не сіла, а смеласць" и др.) и о дальнем идеале ("Дзеўчына" и др.). Подобным же внутренним зрением в сказке обладает Ребенок ("Чалавечае вока"). Вероятно, причина девичьей мудрости в том, что она еще очень юна и потому "не забыла "врожденной" истины, которую беспощадно заглушает взрослая женская доля. Почему этой истиной в течении всей жизни продолжает обладать Мужик ? Повидимому, это объясняется различием стиля жизни и поведения Бабы и Мужика. Если Мужик занимается богоданной "мудрой" работой, то женщина проводит дни в суете ("Заўжды яна бярэцца не за свае дзело, а наробіць, бы кот наплачэ"), причем, эта суета тоже задана Богом. Можно предположить, что здесь также задействована оппозиция "Поле – Изба (Хата)", противопоставляющая мудрость природы (вспомним сказочные панегирики лесу, озерам, земле) бытовой рутине, связанной с замкнутым пространством дома. Итак, Девушка (причем и в первом, и во втором обличьях) резко отличается от Бабы: в первом случае – несказанной добротой и душевной тонкостью, а во втором – умом и проницательностью. Качество такого ума – живость и острота. Так, героиня сказки "Кацярына", которой Пан приказал из горсточки льна за день сделать ему сорочку, платит той же монетой: посылает ему палочку с тем, чтобы Пан сделал из нее веретено. После серии подобных заданий и ответов Пан велит Девушке, чтоб она "ні прышла, ні прыехала, ні сытая, ні галодная, ні голая, ні адзетая" [206, с. 198] – и она буквально исполняет приказание (так, вместо платья на нее наброшена рыболовная сеть). В итоге хитроумная Девушка выходит замуж за Пана. Обратим внимание на два момента. Первый из них – близость способов действия Девушки и Мужика (я уже писала о том, что именно букальным исполнением приказов Мужик часто побеждает вышестоящих). Вероятно, причина в том, что и Мужик, и Баба изначально были сотворены одинаковыми (в области и мыслей, и чувств, и действий), и лишь неодобрямое высшими силами поведение Бабы придало ей такое количество отрицательных черт. Девушка же – создание безгрешное, ее ум и душа еще не замутнены страстями и претензиями. В этой отрешенности от женской житейской суеты и состоит ее сходство с Мужиком и Ребенком. Цена оригинальности. Следует обратить внимание и на другую деталь: в обеих сказках (и "Два браты", и "Кацярына") Девушка выходит замуж не за Мужика, а за Пана. Почему народ с такой радостью отдает ее за наиболее Чужого из всех фольклорных персонажей? Здесь возможно несколько объяснений. Первое в том, что конкретный Пан из этих сказок – хоть и самодур, как и все "панство", однако умен и справедлив: 214 "совокупный сказочник", народ, так любит свою героиню, что даже готов придумать для нее хорошего Пана. Другое объяснение реалистичнее. В традиционной крестьянской культуре девушка с таким живым и своевольным умом вполне может остаться "вековухой" – как раз по причине обладания этим умом (достаточно вспомнить хотя бы сказку "Самая разумная", чтобы понять: общество востребует от женщины иных качеств). То же можно сказать и о других характеристиках, выделяющих Девушку из общей массы – случайно ли, например, романтическая героиня сказки "Дзеўчына" собирается замуж не за Мужика, а за царевича? Таково же отношение и к женской смелости. Героиня яркой сказки "Не сіла, а смеласць" – Девушка крохотного роста с силой, "як у камара", – побеждает целую шайку разбойников, заперев их в костеле, который они собрались было ограбить. Причем в сказке Девушка сталкивается не только с "перевернутым" разбойничьим миром, но и с миром мертвых: выслеживая разбойников, она падает в яму, где лежат их жертвы, и выбирается из нее совершенно реалистическим и страшным способом: "Схапіла яна аднаго да другого, аткуль і сіла ўзеласа, да давай іх складываць у кучу кала сьцены, наверх яшчэ пасадзіла аднаго, а сама стала яму на плечы да й схапіласа рукамі за веткі. Але ветка абламіласа й тая дзеўчына грымануласа на мерцьвецоў... Схапіла яна сук, стала на мерцьвеца да давай карпаць землю да забіваць у песок той сук..., стала на сук нагою да й схапіласа аберучкі за край. От вылезла яна з тое ямы" [189, с. 234]. Сказочник восхищен девичьей неустрашимостью и логикой ее действий, однако, мужчины, который взял бы ее замуж, в сказке не находится. Единственный, кто делает ей предложение, – Злодзей, да и то с корыстными целями. Из всего этого следует вывод: Девушка, выделяющаяся из общей массы смелостью, добротой, незаурядным умом не ощущается как Своя. Она гость в крестьянском мире, и сказочник это понимает – оттого и изыскивает ей особую судьбу: либо делает ее пани ("Два браты", "Кацярына"), либо – пусть с сожалением – но "убивает" ("Дзеўчына"), либо оставляет в одиночестве ("Не сіла, а смеласць"). Возможен и еще один вариант: святая девушка выходит замуж за такого же святого человека, и их жизнь проходит в гармонии – и вдалеке от людей, например, на пасеке ("Свіное рыло"). В обычной крестьянской жизни ей не находится места. Да и трудно было бы представить, чтобы из такой Девушки могла "произрасти" сварливая Баба, типичная для сказочной повседневности. Тем самым между ними проводится явственный водораздел: взрослый образ никак не вытекает из юного. Рисунок: Белорусские девушки в 1910 гг. – Этнография Беларуси, с. 166. 215 Разумеется, в сказке встречаются и девушки, которые удачно вступают в брак с юношами из их села, но в этом случае мы узнаем о них очень мало. Иногда автор бегло и достаточно штампованно констатирует их красоту, чаще – верность и умение любить: "Што яна ні рабіла, як не ўбіваласа, чуць на себе рук не налажыла [речь идет о браке с нелюбимым человеком. – Курсив мой. – Ю.Ч.], нарэшце мусіла нібы згадзіцца, толькі веселле ўсё аткладвала, каб прыждаць свайго ненагляднаго да хаць яшчэ разік зірнуць яму ў вочы" [189, с. 50]. Вот у такой-то верной Девушки обычно все в итоге складывается хорошо: она выходит замуж за любимого, и сказочное действо заканчивается радостным аккордом – свадьбой. Рисунок: Белорусская парочка. –Живописная Россия, 268. Вопрос о том, как будут складываться отношения супругов после свадьбы, не ставится – и это понятно: за порогом сказки начинается повседневность ("гаравалі, працавалі..."). След Девушки здесь теряется: трудно связать эту тихую любящую юную женщину с той Бабой, о которой мы ведем речь (скорее, она становится "добрай жонкай", т.е. персонажем эпизодическим). Впрочем, этого и следует ожидать: Девушка в этом варианте изначально неотчетлива. Материнская любовь. Образ Матери гораздо более распространен, чем образ просто "добрай жонкі" (в случае, если речь идет о Матери, то она, как правило, является и "добрай жонкай"), – пусть не на уровне описаний, но, по крайней мере, упоминаний. Материнство воспринимается как главное предназначение женщины – отсюда многочисленные, пусть и очерченные одной-двумя фразами, образы "потенциальных" матерей – женщин, мечтающих о ребенке. Как правило, все они добры: часто ребенком одаривает их Христос (или Богоматерь) после того, как женщина проявит заботу о страннике. Как и Отец, Мать терпелива: она не понукает ребенка, не заставляет его принимать решения "по своему образцу" (вспомним сказки об излишне "разумном" сыне, не слушающемся родителей и без успеха пытающемся жить своим умом), а терпеливо ждет, когда его собственный опыт заставит его поступить, "как должно". Мать жертвенна. Если белорусская Девушка жертвует всем ради любви к юноше (что особенно видно в песнях), то Мать готова все отдать для блага своих детей. И наконец, в отличие от Бабы, Мать глубоко чувствует присутствие в мире некоего глубинного, неподвластного начала, которое взывает к послушанию. В этом смысле особенно примечательна сказка "У п'ятніцу не смейсе, а у недзелю не плач", одна из тех крайне немногочисленных сказок, где женщина является центральным и при этом чрезвычайно положительным персонажем. 216 Рисунок: Белорусская крестьянка с детьми – Жаночы касцюм, вкладыш 1, с. 3. Итак, женщина, мать двоих детей, пойдя за грибами в неурочное время ("у сьветую недзельку") встречает в лесу молодую "да вельмі харошую жанчыну", которая дает ей рецепт правильной жизни: "У п'ятніцу не смейсе, а у недзелю не плач да дзела не рабі, та Бог табе ўсё дасць" [189, с. 265]. Женщина догадывается, что это Богоматерь, и начинает жить в соответствии с полученным советом: в пятницу, оказавшись в компании веселых подруг, молчит, "бы вады ў рот набрала" [там же, с. 266], в воскресенье отказывается работать и даже ходить в лес за ягодами и грибами, несмотря на то, что ей "зайздросно, што людзі назбіраюць грыбоў да ягад на ўсю зіму, а цябе няма чаго й хвораму даць"[там же, с. 265]. Дела ее семьи сразу же идут на лад, так что женщине начинают завидовать люди. Да и не только люди – Черт начинает преследовать ее, выжидая, чем бы можно было ее искусить. В тот момент, когда она бежит в церковь поставить воскресную свечу, Черт проникает в дом и душит младшего ребенка в колыбели. Старший ребенок от страха прячется в печь. Вернувшись домой, родители видят погибшего младенца. Отец приходит в отчаяние, а мать, повинуясь указу "у недзелю не плач", смеется. Муж, решив, что она помешалась от горя, зажигает печь – нагреть воды и вымыть маленького покойника. Жена же ничего не делает ("дзела не рабі"), а только хохочет. Даже увидев, что старший ребенок угорел в печи, она не прекращает смеяться. "Памылі, убралі яны сваіх дзяцей да й вынесли на гору" [там же]. Там, на горе, придя поставить к умершим детям свечи, Мать вновь встречает Богородицу, и та отдает ей чудесным образом оживших детей. Эта сказка значительно сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что в ней одновременно сосуществуют две смысловые линии: первая – реально, а вторая подспудно. Первая непосредственно связана с сюжетом сказки, вторая исходит из Евангелия. В обеих задействованы Мать и Дитя: только на первом, бытовом уровне это реальные женщина и ребенок (дети), а на втором – Богоматерь и Христос. В евангельской линии четко прослеживается напоминание о казни и воскресении Христовом (откуда, собственно, и проистекают требования не смеяться в пятницу и не плакать в воскресенье). "Реальная" же линия представляет собой скол идеальной, евангельской, ее повторное возвращение в действительность: погубленные дети – материнская любовь, тождественная религиозной вере – чудо (воскрешение детей). Обратим внимание, что чудо воскресения детей происходит на горе (аналогия с Голгофой). Другая аналогия прослеживается в поступке отца: если библейский Отец 217 отдает Сына за грехи человечества, то сказочный Мужик сам разводит огонь в печи. Однако глубинно эти образы не совпадают, а напротив – противоречат друг другу. БогОтец знает, ради чего Бог-Сын претерпевает крестные муки, Мужик же слеп. Внутренним зрением в этой сказке обладает материнство. Рисунок: Белорусские дети (нач. ХХ в.) – Этнография Беларуси 469. Женщина – святая и грешная. Что может означать требование не смеяться и не плакать на ином, уже не библейском, а чисто поведенческом уровне? Сдержанность. Во имя чего-то высшего, пусть даже и не вполне понятного на рациональном уровне, героиня отказывается потакать эмоциям и тем самым в некоторой мере отстраняется от повседневности. Этим она выгодно отличается от типичного образа Бабы, всецело сотканной из сиюминутных страстей. Всем своим поведением она исповедует "тихость", но не потому, что так ведут себя другие, а потому, что такой образ жизни задан идеалом – Божьей Матерью. Послушание Высшему началу, основания которого заложены в душе человека – это знание, которым иногда обладает Мужик, но которое в абсолютном большинстве сказок неподластно Бабе – сопутствует истинному материнству. Впрочем, здесь следует обратить внимание еще на одну деталь. Типичная сказочная Баба – при всех ее недостатках – тоже, как правило, имеет детей. Порой сказочники не упоминают об этом, порой упоминают, но совершенно очевидно, что и она – мать. Здесь мы сталкиваемся с тем же парадоксом, который в наиболее четком виде оформлен в белорусских песнях: мать и свекровь, являющиеся, по сути, одним и тем же персонажем, оцениваются по-разному: мать – как святая, свекровь – как злодейка. Дело здесь – в различии точек зрения, представленными разными наблюдателями, а также – в противоположных функциях образа. Думается, в сказке происходит то же самое. Однако при попытке перевести это несовпадение на символический уровень, можно уловить в нем идею пограничности женщины: место женщины – между Бабой и Матерью, и выбор всегда за ней. Первый путь заключается в потакании собственным слабостям – жадности, эгоцентризму, похоти и т.д. Но женщина может последовать путем Богоматери – помогающей людям и делом, и советом; доброй к каждому встречному (не случайно именно Божья Мать вместе с Христом идет по грязи к нуждающимся в них людям); всепрощающей (в ряде сказок именно она не позволяет Сыну наказать людей: "Хацеў ён, каб спрэсу загубіць збожэ тых паганых людзей, але Боская Матка заступіласа за іх да й пачала прасіць Хрыста, каб ён змілуваўса" [189, с. 106]. Именно этот женский тип мы часто встречаем в мемуарах. Рисунок: 218 Богоматерь – альбом "Живопись Белоруссии", с. 22 или 46 (лучше) . Баба – наименее стабильный, наиболее динамичный образ белорусской сказки. Вспомним женщину из сказки "У Бабы чортава галава": Св. Николай даровал ей постоянно меняющееся лицо. Если попытаться осмыслить это не прямо, а символически, женщина предстанет перед нами шкатулкой с многими потайными ящиками – обладательницей неведомой даже ей самой тайны – тайны, которая изменяет и ее самое, и мир вокруг. Инородец, или Свой Чужой (образ Еврея в белорусской сказке) Кто он – Свой Чужой? Выше говорилось о том, что Свои, Чужие и Другие – образы достаточно ситуативные, меняющиеся в зависимости от перемены обстоятельств. Чужой может стать Другим (например, при росте контактов и взаимопонимания), а Свій – Чужим (например, если он противопоставляет свое поведение ценностям группы). Но существует и еще более ситуативный образ. Это образ Своего Чужого. Кто он – Свой Чужой? Это те Чужие, которые "вкраплены" в систему "нашего" (жизни, быта, социального статуса и т.д.), но одновременно и отграничены от него в силу религиозного и/или этнического своеобразия, а также вследствие отличающихся от "своих" конкретных, визуальных характеристик. Последнее даже более важно, чем первое. Почему? Потому что ни понятия об этнической принадлежности, ни представления о принципах, разделяющих религии (конфессии), взгляд носителя традиционной культуры – крестьянина не отмечает: он просто не владеет информацией о них. Не случайно в народных представлениях восточных славян (как показала О.Белова в статье "О "жидах" и "жидовской вере", образы чужой веры в народном сознании часто смешиваются: так, баптисты, хлысты, староверы, беспоповцы воспринимаются как почитатели "еврейского" Бога). Потому именно визуальные особенности, в первую очередь, отделяют этносы друг от друга на бытовом уровне. Почему они все же не совсем чужие, а "Свои Чужие"? Потому что "Мы-этнос" (в нашем случае это белорусы) и "Они-этнос" (в нашем случае евреи) могут пересекаться в других характеристиках – в силу сходства быта, климата, ландшафта, типа хозяйствования, повседневных контактов, и т.д. Итак, Свой Чужой – это промежуточный персонаж, звено, отколовшееся от неких "Чужих", но уже частично "о-своенное" по причине частых контактов. При этом Свой Чужой не ассимилирован, во всяком случае, в достаточной мере, для того, чтобы его можно было бы счесть "своим": потому в случае его описания тексты наиболее красноречиво подчеркивают именно отличие. Вероятно, элементы сходства 219 предполагаются автоматически, подспудно: так, например, в белорусских сказках часто упоминается бедность цыгана и еврея, но основная фиксация идет именно на дифференциирующих характеристиках (языке или акценте, религиозных обычаях, манере одеваться, моделях поведения и т.д.). В силу такого дистанциирования Свой Чужой не тождествен Другому. Другого хочется понять (это понимание влечет за собой попытку; вспомним хотя бы факт крестьянского происхождения Злодзея). Понять Чужого, даже Своего Чужого представитель "Мы-этноса" не пытается – предполагается, что это невозможно. Скорее, он удивляется странности "Своего Чужого". Это удивление (негативное или позитивное) и старается зафиксировать сказка. Этнические стереотипы, связанные с Цыганом – навязчивость, попрошайничество и жульничество: "цыган валочытца па свеце, свайго хаджайства не мае, а тое ўжывае, што гдзе запарве або выдурыць" [191, с. 26]. Цыган хитер, но не предвидит последствий своих поступков. Потому, несмотря на хитрость и способность к колдовству, Мужик способен перехитрить Цыгана. Рисунок: Цыганский табор – Шпилевский, с. 89. Стереотипы, связанные с Татарином, – иноверие и отсутствие сообразительности: он не понимает, почему белорус осеняет себя знамением, видя крест, но не крестится на столб [191, с. 184]. Иноверие понимается как следствие связи с нечистой силой ("чужой" как существо Хаоса): такова татарка, которая "няміла каней і седакоў, а потым душыла іх на сваіх грудзях" [173, с. 450]. В борьбе христианства (добро) и "басурман" (зло) побеждает первое: татары слепнут, когда монахи выходят к ним с иконами [173, с. 241]. Но тем не менее "Свой Чужой", сосед-татарин не воспринимается как потомок тех – давних и страшных полумифических существ. Белорусы и евреи: немного истории. Наиболее яркий образ Своего Чужого в культуре белорусской деревни – Еврей. Однако до нашего погружения в текст отметим исторически подтвержденный факт: отношения белорусов и евреев, живущих в Беларуси, практически никогда не были омрачены конфликтностью. Не случайно на Всебелорусском съезде в Минске (1917 г.) еврейские организации выражали белорусам благодарность за что отсутствие погромов. Известно, что на территории Беларуси евреи начали заселяться со времен правления Ягайлы, после Кревской унии; в основном это были беженцы из Германии. Они эмигрировали по причине антиеврейских настроений, обострившихся в связи с некоторыми постановлениями IV Лютеранского собора. С этого периода на белорусских 220 землях начинается обширный культурный взаимообмен между двумя народами (в языковой, религиозной, поведенческой и др. сферах) . В этом случае неизбежна та или иная степень взаимоуподобления этносов (что – в случае белорусских евреев – отмечает, например, А.Киркор), так что можно говорить о "своем" компоненте в "чужом" этническом характере и наоборот. В то же время на фоне сходства быта, имущественного статуса и т.д. отчетливо выражаются и различия, которые в сказках гиперболизируются – и в силу "зримости", наглядности, и в соответствии с законами жанра. Каков же образ сказочного Еврея? Раввинская мудрость. Первое, что бросается в глаза – это книжность, причем, носящая специфически религиозный характер. Это качество персонифицировано в образе раввина (впрочем, иногда это бывает просто умный, "навучны" еврей) , к которому люди обращаются по любому бытовому поводу. Результат всегда один: "Рабін сядзеў над бубляю да мысляваў" [189, с. 114]. Это долгое сидение над "бубляю" не приводит ни к какому внятному результату: для Мужика обращение к священным книгам в поисках ответа на вопрос, который решается с помощью собственного трудового опыта, представляется достойным насмешки. Рисунок. М. Шагал. Изучают Библию. Шагал, Графика, (рис. 24) с.33. Так, молочник, коровы которого перестали давать молоко, идет за советом к раввину. "Той чытаў, чытаў Біблю да й кажэ: "Гэто еляк сасе твае каровы". І радзіць рабін пахцяру ўзяць ат усіх кароў патроху таго, што дарам выліваецца, наліць у кашэрны гаршчок, у пятніцу зварыць, а ў шабас ужываць разам з гугелям, а што астанецца, дак тым вышмараваць у кароў вым'е. Падзякуваў пахцяр рабіну, зрабіў рыхтык так, як ён радзіў, але нічога не памагае. Каровы не тое, што не даюць малака, але й самі пачалі худзець, пятрэць, от бы на іх якая хвароба прышла" [189, с. 216]. В итоге помогает деревенский пьяница, за три кварты самогонки выследивший виновника – пастухамузыканта (это колдовская сила его гуслей истощает коров). В роли самородкадетектива не случайно выступает пьянчужка: даже самый презренный "свой" более смышлен, чем самый образованный "чужой". Более того, он умен и смекалист вопреки образованию: именно это и призвана подчеркнуть оппозиция "Ученый Еврей – МужикПьяница". Не от мира сего. Обратим внимание и на нарочито ироничный, гротескный характер предлагаемого средства – употребления того "што дарам выліваецца" с праздничной пищей. Эта противоположность человеческим правилам призвана усугубить "чуждость" Еврея. На первый взгляд, использование экскрементов в пищу 221 означает пренебрежительное отношение к обычаям Чужого (вспомним хотя бы сказку "Недапад", где вышеупомянутый "недапад" с удовольствием съедают паны). Однако такой предрассудок по отношению к какому-либо этносу (группе) можно рассматривать глубже. Антипища – есть одна из примет "потустороннести". Не случайно депегиры (демоны-людоеды в тунгусском фольклоре) питаются нечистотами. (Вспомним, что души покойников в "Сказании о Гильгамеше" едят глину – субстанцию, из которой был некогда создан человек. Это тоже пример "наоборотной" пищи). По общему мнению современных культурологов и фольклористов переворачивание обыденного (в нашем случае в оппозиции: еда – экскременты) есть отчетливый признак не просто противопоставленности Чужого, но и его связи с запредельным миром. Не случайно различные виды антипищи, "несъедобной еды" предлагают своим подопечным знахари-"ведзьмары" – люди, находящиеся на пограничье "яви" и "нави". "Внутреннее, культурно освоенное пространство мыслится как земное ("свое" – земное, человеческое), а пространство чужого коллектива, "чужие земли" – как потусторонние" [175, с.223]. Чужой – живет ли он в "дивьих" землях, или в такой же покосившейся избе, как и ты сам, – в буквальном смысле не от мира сего. О том же говорит свойственное всему славянскому фольклору сравнение Чужого с волком – наиболее потусторонним, наряду с вороном – персонажем изустного творчества. В белорусской сказке с волком сравнивается не только Злодзей (что понятно: и тот, и другой живут в лесу "наоборотной", ночной жизнью), но и Цыган, и Еврей: "Бегаў, бегаў воўк без прытулку, надаело яму бегаць, баццэ жыду без пачпарта" [189, с.252]. Не случайно в ряде заговоров «евреями» называют волков: "Святы Юрай-Ягорай, рассылай сваiх ярэя (вако) па цёмных лясах, па дзiкiх балатах..." [162, с.156]. О близости Еврея (да и вообще Чужого) к "тому свету" свидетельствует и ряд белорусских обычаев. Так, при ряжении (на Коляды, Пасху и т.д.) полесские крестьяне надевали маски еврея, цыгана, татарина и др., причем маска цыгана была черной, а маска еврея – белой. И черный, и белый цвет в традиционных общеславянских поверьях устойчиво соотносятся с загробным миром. В некоторых районах этот смысл дополнялся кривизной маски еврея, а также горбом, "украшающим" фигуру: последнее было призвано показать близость еврея к черту [147, с. 166-170]. В свете этого совет раввина не просто смешон: в нем содержится намек на запретные, магические знания, которые являются прерогативой Чужого. Скорее, как и в случае с Попом и Чертом, смех призван амортизировать страх перед неизвестностью, опасностью, таящимися в глубинах образа Чужого. 222 Чуждость – и близость. Однако, как мы уже говорили, Еврей – не просто Чужой (обладающий мистической потустороннестью, заведомой непознанностью "чуждого" содержания). Одновременно он – давний знакомец, Свой Чужой: отсюда – проявленное сказочником знание еврейского быта (гугель, кошерная посуда) и религиозных обрядов (шаббат). Об этом промежуточном положении свидетельствует и речевая характеристика сказочных евреев. С одной стороны, сказка передает специфический акцент: "А цаму ви не привезали коней?" [191, с. 35]; "Цуес..., я ведаю, сто ты добры цалавек, ведаю, сто ты лепс ат усіх знаесса" [189, с. 217]. С другой стороны, в отличие от полонизированного Пана (что подчеркивает речь, часто состоящая исключительно или же почти исключительно из польских слов), еврей говорит по-белорусски, вкрапления идиш в его речи редки и связаны, в основном, с обрядовой терминологией. Вот на этих-то воображаемых "весах" между запредельностью чуждости и бытовой близостью колеблется и сам образ Еврея в глазах белорусского крестьянства, и отношение к нему Мужика. Книжное знание. Итак, Еврей образован и начитан. С этой чертой связан набор культурных смыслов Мужика и, в первую очередь, недоверие книжному знанию: я уже говорила об этом, анализируя образ крестьянского сына, захотевшего стать "самым разумным". Книжное знание отдаляет от житейской мудрости, от непререкаемого опыта предков и – главное – от трудового этоса. Не случайно "разумны" сын в сказках, как правило, бездельник. Таким же бездельником предстает и ученый Еврей. Так, в сказках "Жыд" и "Як школу будавалі" он описан как человек, парящий в эмпиреях (что косвенно доказывает его принадлежность не к "миру сему", а к некоему "иному"), и потому неприспособленный к здравой, продуктивной, единственно возможной жизни. Такова, по мнению большинства современных этно- и социопсихологов, обязательная сторона автостереотипа: жизнь, которую проживает Мы-этнос, представляет собой наиболее (если не единственный) правильный из всех возможных вариантов бытия. Образ, противоречащий этой установке, всегда в определенной мере чужд. Даже изначально "свой", нарушивший ее, обретает большие или меньшие черты "чуждости" (Лакей, Разумный сын, Охотник и т.д.). Но наиболее явственно это видно на примере Чужого или Своего Чужого. Вот как рисуется он в сказке: "Жыў сабе жыд слаўны да гучны да вельмі навучны. Ён нічога не глядзеў, толькі на Біблі седзеў, бо такі розум маў, што й на свет не пазіраў; на зямлі і пад зямлёю ўсё знаў і нікога не пытаў" [191, с. 92-93]. Тем не менее, этот "мудрец" ни в малой степени не разбирается в повадках коров, что вызывает у сказочника иронию: "Ён такі пісьменны, такі навучны, такі разумны, што за розумам і 223 свету не бачыць" [там же, с. 93]. Не меньший повод для юмора – беспрекословное почтение, выказываемое ребе со стороны его "паствы": несмотря на то, что его советы наивны, смешны и нелепы, евреи прислушиваются к ним и строят свою жизнь в соответствии с ними. Вспомним, что в аналогичных обстоятельствах крестьянин, как правило, не просит совета у Попа (Ксендза), а строит жизнь самостоятельно, учитывая опыт предшествующих поколений. Если он все же испрашивает руководства у священника, как правило, ни к чему хорошему оно не приводит (скорей, наоборот: часто в совместных проделках именно Мужик ведет за собой Попа). Еврей же наивно исполняет рекомендации раввина. Такая жизнь чужим умом представляется крестьянину по меньшей мере странной. Сила и слабость чужого знания. При насмешливом отношении к чужой религии, в ней предполагается запретная (и оттого страшная) сила. Не случайно даты иудейского календаря (главным образом Йом-Киппур, т.е. Судный День) связаны с мистическими поверьями. Так, в соответствии с полесскими (не только белорусскими, но и украинскими) верованиями, в ночь на Йом-Киппур ("хапун") Черт похищает Еврея и мучает его в лесу или на болоте. Предварительно он задувает поминальные свечи, чтобы похищение человека оставалось незамеченным. Потому евреи приглашают на молитву христианина с церковной свечой. Доказательство этому мы встречаем и в сказках: "Тут якраз падышлі асеньніе свята. Сабралосо в тую карчму, дзе служыў удалы хлопец, вельмі много яўрэяў са ўсее акругі. Ведамо, баяцца, каб іх чорт не ўхапіў і заўжды наймаюць сабе хрышчонага чалавека на сьвята, каб ён абараняў іх ат чарцей. Сабраліса да й мыслююць, што цепер ім нема чаго баяцца чарцей, бо ў іх е хрышчоны чалавек" [189, с. 178]. Здесь возможны два сопутствующих вывода. Во-первых, отчетливо наблюдается связь Еврея с Чертом. Казалось бы, Черт в данном случае выступает недругом Еврея. Но есть предыстория (ее упоминают и П. Демидович, и М. Федеровский), которая усложняет ситуацию. Она связана с библейской притчей о золотом тельце. По преданию, Моисей разбил созданного евреями золотого тельца, истолок его в порошок и наказал всем его пить. Вероятно, этим он пытался увеличить силы евреев (дело происходит во время странствия по пустыне). Но колдовство не бывает безнаказанным: потому перед изумленными евреями вновь предстал разбитый телец (Черт), и евреи пошли за ним. Для того, чтобы собрать свой народ, Моисей заключил договор с Чертом: вместо того, чтобы забрать разом всех, он предложил Черту отдавать каждый год по два еврея. На ту же связь с нечистым указывает и уже упомянутое нами представление о том, что Еврей носит шляпу для того, чтобы прятать под ней рожки. Что касается религиозности Еврея, 224 то она вовсе не противоречит этому: резонно предположить, что здесь срабатывает то же убеждение, что и в случае Попа (который столь старательно молится именно потому, что грешен и за ним "чорт ходзіць па пятам"). Думается, что в ситуации с еврейской религиозностью оно еще более усугубляется чуждостью еврейской веры. Второй вывод проистекает из факта приглашения крещенного человека на сборище евреев. Это представление глубоко символично: оно означает осознанную необходимость группы "Мы" для "чужой" группы. (Как мы увидим впоследствии, Чужой не менее нужен "Мы-этносу"). Уже из приведенного поверья очевидно, что еврейская вера отнюдь не всегда действенна – вероятно, поскольку, по мнению Мужика, имеет в основе изначальную червоточину – договор с Чертом. Как мы уже говорили, в крестьянском мировоззрении факт такого договора чреват: с одной стороны, он дает большие возможности, а с другой – всегда востребует платы, причем часто платы непосильной. В случае с иудаизмом ситуация еще более усугубляется в силу евангельских напластований на фольклорные тексты: так, например, в сказку проникают ассоциации, связанные с Голгофой и, по мнению крестьянина, доказывающие неправоту "яўрэйскай веры". Истинная вера для Мужика – христианская, пусть и в специфической народной модификации. Однако вспомним: и в христианстве (во всяком случае, в церковном), по глубочайшему убеждению крестьянина-белоруса, наличествует связь с Чертом: об этом свидетельствуют и образ Попа, и присутствие Черта в церкви, и т.д. Возможно, отсюда во многом проистекает одно из основополагающих качеств белорусского ЭС и в целом менталитета – веротерпимость. Уверенность в том, что не существует безгрешных религий приводит к тому, что параметром оценки другого этноса становится не само существо его веры (тем более, для стороннего наблюдателя она всегда является "тайной за семью печатями"), а ее бытовые проявления и связанные с ними этнические характеристики. Тем самым для Мужика важнее не то, в действительности ли евреи распяли Христа, но то, в каких человеческих качествах реализуется чужая вера. Бездельник ли Еврей? Обратим внимание на общепринятое смысловое соответствие "религиозное (книжное) знание – безделье – еврейство". Если связь первых двух членов триады не проблематична (мы отдали ей дань в анализе крестьянского отношения к учености), то в применении к Еврею они нуждаются в пояснении. Широко известен факт, что в абсолютном большинстве европейских стран (царская Россия – не исключение) еврейская диаспора была лишена прав на владение и обработку земли. В очень и очень многом это явилось причиной того, что евреи исторически были вынуждены осваивать городские профессии (а значит, получать 225 образование), либо же – профессии, не связанные с землей (торговля, шитье, выделка кож, содержание постоялого двора и т.д.). Отсюда – сколь популярный, столь и неправомерный стереотип "еврейской лени", распространенный в крестьянской среде. Однако, как отмечает Зм. Бядуля в работе "Жыды на Беларусі", в некоторых белорусских губерниях евреи получили хоть и ограниченное, но право на крестьянский надел. Резонно предположить, что отношение к евреям в Беларуси строилось, одновременно исходя из двух "точек отсчета": во-первых, из наличия религиозного образования (и соответствующего талмудического характера "книжности") и, во-вторых, из неумелости неофитов-евреев в крестьянской работе. Элементы антисемитизма. Впрочем, есть и третий, субъективный момент. Он связан с фигурой сказочника. Так, ироническое отношение к Еврею, как к неумехе и книгочею-бездельнику, – общее место множества сказок. Но при этом, как правило, в них не содержится агрессивных выпадов в его адрес. Над ним смеются, ему удивляются, вскользь – как аксиому – упоминают его "причуды" и недостатки, но ни злобы, ни, тем более, черносотенных призывов в них нет. Иное дело, когда конкретному сказочнику свойствен антисемитизм: тогда мы встречаем в текстах недвусмысленную агрессию и сцены расправы над "паганымі жыдамі". Однако показательно, что такие призывы немногочисленны, и это еще более удостоверяет нас в мысли, что они связаны не с общей установкой белоруса, а с конкретными этническими предрассудками конкретного человека. Так, например, в сборниках А.К.Сержпутовского этой социальной хворью "болен" лишь один сказочник – Азёмша, что отчетливо проявляется в принадлежащих ему текстах ("Мужык і жыд", "Як школу будавалі", "Баязлівы", "Хаўрус" и др.). Более того, именно он гораздо жестче, нежели остальные сказочники, относится не только к евреям, но и к другим своим персонажам. Здесь можно говорить о ксенофобии (и шире – о недоброжелательности) как о личностном качестве конкретного сказочника, но не о ксенофобии как о компоненте этнического характера белоруса. Не случайно бродячий сюжет о распятии Христа евреями, в белорусских сказках встречается сравнительно редко. Более того, само преломление этого сюжета нетипично. "Фокус" текстов, где упоминается Голгофа, смещен в сторону от еврейской темы. Так, в сказке "Ластаўкі" это событие, скорее, подано как проблема теодицеи (т.е. оправдания Бога за мировое зло). Задавая вопрос, почему ласточки высоко летают и кричат, сказочник отвечает на него так: птицы спорят с Богом. Когда распинали Христа, ласточки дважды воровали гвозди, которыми евреи пытались прибить Его руки к кресту. Но на третий раз Бог запретил им это делать. С тех пор ласточки, взлетая как можно выше, гневно "выговаривают" Богу за жестокость. Таким образом с исполнителей казни 226 акцент перенесен на Бога. В чем причина такого сдвига? Вероятно, наиболее корректное объяснение здесь – крестьянский фатализм. С этой точки зрения, исполнитель может действовать лишь в том случае, если действие дозволено, более того, предначертано Богом. Так что "сдвиг", о котором мы говорим, таит под собой более значимый пласт, связанный с верой и в целом с мировоззрением белоруса. В этом смысле даже те, кто распял Христа, несмотря на всю чудовищность своей функции, в конечном счете действовали с "разрешения" Бога: иначе он дал бы ласточкам возможность спасти Иисуса. Однако этого не произошло, и единственное, чем можно объяснить такое поведение Всевышнего – уже известной нам максимой "Бог ведае, што робіць". Несмотря на этот перенос акцента, мнение о виновности евреев в смерти Христа встречается в белорусских легендах, однако показательно, что евангельская вина не переносится на соседа-еврея. Таким образом существует водораздел между "паганымі" библейскими евреями, распявшими Христа, и Евреем-соседом, т.е. между абсолютно Чужим и Своим Чужим. "Наш" Еврей: элементы общего. В чем же состоит это "свое" в применении к Еврею? Во-первых, во многих сказках Еврей, как и сам Мужик, беден. Его работа (даже если он "карчмар", "ландар") приносит ему совсем не большие дивиденды: ведь его клиенты, как правило, крестьяне. Кроме того, по свидетельству Зм. Бядули ("Жыды на Беларусі: бытавыя штрыхі"), трактиры не были собственностью корчмарей: они арендовали их у пана. Рисунок: У корчмы (нач ХХ в.) – Белорусы, с. 356. Даже в сатирических описаниях Еврея часто подчеркивается бедность. Так, в сказке "Хвароба над хваробамі" "трасца" (лихорадка) предстает в образе худой, изможденной еврейки. С одной стороны, сама ассоциация "трасцы" и еврейки вряд ли очень уж положительна: известно, что в белорусском языке слово "трасца" семантически связано с назойливостью, надоедливостью ("Прычапілася трасца..."), и эти черты сказки устойчиво приписывают Еврею: "Прычапіўся ка мне Янкель Чараваты да почаў кучыць, каб я атвёз у Петрыкаў. Што тут рабіць, нельга адкаснуцца ад жыда" [190, с. 246]. С другой стороны, "трасца" вызывает сочувствие – "зелёная, худая, от бы тая жыдоўка, што анучы збірае. Дрыжыць бы асіна, і кажэ тоненькім, пісклявым галаском" [191, с. 38]. Вряд ли реализм этого образа – исключительно плод таланта сказочника: логичнее предположить, что таких евреек белорусский крестьянин многократно встречал в действительности. Рисунок: 227 Еврейка с ребенком – Шпилевский, с. 58. Вспомним и бедного Корчмаря из сказки "Прошча", который в сотрудничестве с Попом придумал религиозное чудо – пустил по реке образок, уставленный свечами. Подобным же образом в некоторых сказках действует и Мужик ("Мужык, пан і ксёндз", "Аб злодзею Кліну" и др.). Если в образе "трасцы" ударение падает на знакомую Мужику не понаслышке бедность (еврейка, собирающая онучи, вполне соответствует типажу "бедной вдовы"белоруски, если, конечно, исключить момент иронии в отношении к Чужому), то в образе "бедного корчмаря" упор – на хитрости, причем, аналогичной хитрости Мужика. Между этими качествами – хитростью и бедностью – существует своего рода пропорция. Она строится не изнутри (от персонажа сказки – Еврея), а извне, со стороны наблюдателя-Мужика. Если Еврей беден, то он, как правило, "по-мужичьи" хитер ("Прошча"), и отношение к нему позитивно. Это равностороннее отношение бедняка к бедняку, исключающее взаимные претензии и обман. В этом случае Мужик даже любуется хитростью Еврея. Если же Корчмарь или Купец богат, то на него переносятся "чуждые" черты Богача и даже Пана. "Чужой" Еврей. Так, сказка "Мужык і жыд" строится на противостоянии "ландара" и парабка – богатого Еврея и бедного Мужика. "Ландар" бесконечно обманывает Парабка в денежных вопросах, что не столь уж трудно, поскольку последний – пьяница. Тем не менее, включив неискоренимый в крестьянском сознании (пусть даже и отравленном спиртным) талант хитрости, Мужик берет реванш: используя еврейский культ семейственности, вытягивает из "ландара" лошадей и одежду – якобы для того, чтобы послать это добро его родителям на тот свет [189, с. 72-73]. Что здесь важнее – богатство или "еврейство"? Скорее всего, первое. Это доказывается хотя бы тем, что совершенно аналогичным образом Мужик (Ахрэм) обходится с Паном ("Брахня"). Скажу более: часто "карчмару" ("ландару") вовсе не приписывается никаких особых недостатков, кроме самого факта богатства (именно с этим мы сталкиваемся, например, в сказке "Карчмар і мужык" [188, с. 54-55]): это уже считается вполне резонным основанием для того, чтобы богатство приуменьшить. Здесь срабатывает мотив, о котором мы уже неоднократно писали в приложении к Пану или Богачу: "Ён у нас пакраў, а мы свае дабро возьмем назад. Дак гэто ж не грэх" [189, с. 244]. Тогда ум и хитрость, присущие корчмарю в случае его бедности, совершенно исчезают: они становятся исключительной принадлежностью Мужика. Это доказывает тезис о том, что главный недостаток богатого Еврея – отнюдь не "еврейство", а богатство. Можно сказать, что сам факт наличия больших денег напрочь отшибает ум богача (еврей ли он, 228 пан ли или же деревенский "скупердзяга"). В этом случае Мужик неизбежно "включает" испытанный механизм обмана и оставляет его в дураках . Так, в сказке "Завоцкіе коні" Мужик, счастливый обладатель хороших коней, объясняет горожанам, что кони заводские, поскольку он сам их "завел", т.е. высидел, как курица, из яиц. В качестве яиц он предъявляет тыквы. Наконец, один из любопытствующих за большие деньги покупает "яйца" и принимается их высиживать, предаваясь мечтаниям о том, "як ён будзе ездзіць на завоцкіх конях, як ён з іх зробіць добры "гішэфт" [189, с. 116]. Процесс высиживания длится три недели и заканчивается тем, что, увидев выскочивших из-под кустов зайцев, незадачливый хозяин кидается за ними, думая, что это, наконец, вылупились жеребята: "Бяжыць да крычыць: "Кося, кося, мае конікі, дам аброку!" Сустракае ён людзей да й просіць: "Ой, галубцікі, ой, родненькіе, лавеце маіх жараб'ят, бо ўцекуць. Гэто ж завоцкіе коні". – "Ашалеў, – кажуць людзі, – без парток бегае за зайцамі" [189, с. 116-117]. Еврей – этническая принадлежность или социальный статус: Первым делом в этой сказке бросается в глаза то, что Еврей нигде не назван евреем. В одном месте он именуется купцом, в другом мужиком. Собственно "еврейство" отображается только в речевой характеристике, да и та набросана мелкими штрихами и в малом количестве ("ой, галубцікі", "гішефт", "уступіс"). Вся остальная речь Еврея передана по-белорусски. Это еще раз доказывает, что главное в Еврее – не этническая характеристика, а имущественный статус (социальная храрактеристика). Именно его обеспеченность вкупе с городским происхождением – причина глупости, которую он и проявляет. Другая существенная черта Купца, вокруг которой и разворачивается сказочное действо, – совершеннейшая некомпетентность в крестьянском хозяйстве. Собственно, она-то и высмеивается. Подобные упреки белорус высказывает далеко не только Еврею, а всем, кто занят не сельскохозяйственными работами – начиная от Пана и кончая собственным сыном-"разумником", т.е. лентяем. Таким образом, собственно-этнического возмущения по отношению к Еврею Мужик не высказывает: его насмешка – отголосок уже знакомого нам презрения к богатому "гультаю". Рисунок. Евреи-купцы – Шпилевский, с. 146. В пресловутом спаивании народа Мужик (в отличие от некоторых печально известных исследователей) тоже не склонен винить Еврея, во всяком случае, не исключительно его. Несмотря на то, что факт "корчмарства" Еврея – общее место белорусской сказки (впрочем, и белорусской жизни в царской России), как и в случае с продажей души Черту, Мужик четко осознает возможность выбора. Так, в сказке 229 "Палешукі й палевікі", разумно и стройно вскрывающей причины общественных бедствий, под финал, когда люди благодаря своему эгоистическому поведению оказались в тупике, и "стала ў іх жытка гарэй як пад панамі" [189, с. 103], появляются торговцы-евреи с задорной припевкой: "Мі купцы з места слаўнаго Брэста, маем тавары – па чарцы гары, розныя зёлкі, стужкі да голкі; што хто захочэ, возьме за клоччэ. Возьмем мы смушкі, збожэ з кадушкі, дак вам за тое плацім мі ўдвое перцам, імберцам, гарэлкаю, чэрцам" [там же]. Сказочник подробно и красочно описывает покупной ажиотаж среди женщин и пьянство мужчин, заливающих водкою недовольство жизнью. "От с тае пары, – подводит он итог, – атаўбаваліса яўрэі ў кожнай вёсцы да й збудавалі сабе карчмы да кромкі... П'юць мужыкі да веселяцца, а пра работу й забылі" [там же]. Напомним, что до появления евреев герои сказки – полешуки и полевики – прогнали врагов, панов (т.е. совершили революцию), после чего оказались рабами собственной алчности, лени и воли к власти. В сказке отчетливо проводится мысль о том, что положение, в котором оказывается народ, "заработано" им самим и что выбор – трудиться, затевать бунты или пить – каждый делает самостоятельно. Вот слова реального белорусского крестьянина, сказанные в более поздний период, но, думается, типичные и для того времени, когда сочинялись сказки: "… гаварат, што жыды ў сваіх карчмах распівалі наш народ. Праўда, не мала нашых мужыкоў, якія насмерць запіваліся ў жыдоўскіх карчмах. Але, ужэ ад Саветаў, ад 1939 року, жыды не маюць манаполек, а народ як піў, так і п'е далей, а цяпер то ўвогулеў нас няма жыдоў, а народ п'е больш, чым піў перад вайной" (крестьянин Петр Болтрик из д. Смоляница Свислочского района) [181, с. 373-374]. Так, перед лицом Чужого (Еврея) проступают значимые черты белорусского ЭС – самокритичность и ответственность за происходящее вокруг. Еврей как зеркало для белоруса. В отличие от некоторых (по счастью, как правило, небелорусских) авторов, занятых происками "малого народа" и "руки Сиона", рядовой крестьянин-белорус знает: свою судьбу человек (и социум) созидает собственными руками. Скажу больше: именно в отношении к другим этносам и этногруппам, особенно – к находящимся в столь унизительном положении, как евреи в империи, сказывается чувство собственного достоинства народа: оно заключается вовсе не в том, чтобы параноидально искать и искоренять "козлов отпущения", якобы ответственных за неудачи своего этноса, а в том, чтобы объяснять эти неудачи, прямо и честно глядя в глаза ситуации. Лишь народ, обладающий этим умением, может не просто отказаться от обвинения Чужих – он может воспитать свое отношение к ним как к Другим, и потому 230 не случайно в белорусской сказке встречается немало положительных образов Еврея. Таковым в конечном счете оказывается назойливый Янкель, который, не пытаясь обмануть и продешевить, щедро платит крестьянину, отвезшему его в Петриков: "Рад Янкель Чараваты, заплаціў умоўленые дзецять злотых да яшчэ апрыч таго даў мне добрую кватэрку" [190, с. 246-247]. Таков ландар из сказки "Жонка", делящийся с доверчивым Мужиком полезной "мудростью" – не верить коню в дороге, а жене дома. Безусловно позитивен хитрый корчмарь из сказки "Проща" – во-первых, тем, что беден, во-вторых, тем, что находчив. Кроме того, его союз с Попом исподволь подводит к мысли о том, что лишь отбросив национальные и конфессиональные дрязги и объединив усилия, можно добиться весомого результата. Даже у нелепого купца, послушно высиживающего яйца, не отнять ни доброжелательности, ни доверчивости. К слову, наивность, доверчивость Еврея – пожалуй, одна из центральных его черт, освещенных в белорусской сказке ("Завоцкіе коні", "Карчмар і мужык", "Баязлівы", "Мужык, цыган і яўрэй" и мн. др.). Казалось бы, это должно опрокинуть все наши представления о мифологизированном общеславянском образе Еврея – хитром пройдохе. Однако этого не происходит: Свой Чужой (Еврей) умен и пройдошлив на фоне откровенно Чужих (например, Пана), но сказочный Мужик заведомо умнее Еврея, что он многократно доказывает делом (в том числе, изяществом обмана). Подытожив, можно вполне обоснованно предположить: отношение к Своему Чужому в белорусской сказке колебательно, ситуативно. Оно зависит не столько от глубинных религиозных или этнических различий (суть которых в повседневной жизни остается непознанной), сколько от конкретного поведения конкретного персонажа в определенной ситуации. Именно поэтому мотив "библейской вины" евреев в белорусской сказке (как, вероятно, и в самой толще народной жизни) существенно меньше, чем, например, в традиционной русской культуре. Основные социокультурные причины этого связаны, с "чертой оседлости", проходящей по Беларуси, благодаря чему белорусы и евреи исторически находились в плотной сети бытовых взаимодействий и узнавали друг друга не понаслышке, а в повседневной практике. Известно, что чем более "дальним" оказывается Чужой, тем более мифологичен (и нередко страшен) его облик: достаточно вспомнить "дивьих людей", которые гораздо более напоминают загробных монстров, нежели человеческие существа. Отношение к "ближнему" Чужому гораздо более конкретно и реалистично. Несмотря на то, что на нем остается отпечаток "непонятности", и сама она востребует объяснения (первично такое объяснение имеет мифологическую компоненту и, следовательно, связывается с "магической" чуждостью), ткань повседневного общения в значительной степени эту 231 чуждость сглаживает, благодаря чему возможно даже использование определенной степени "нечистоты" Чужого себе во благо, о чем далее. В остальном же к Своему Чужому прилагаются те же требования, что и к Своему (например, в вопросах богатства, труда и т.д.). Отношение к нему варьируется с учетом соблюдения или несоблюдения этих требований. О том же свидетельствует очевидец, реально живший в то время (конец XIX – начало ХХ вв.) и в том месте (белорусская деревня), которое мы реконструируем, исходя из текстов белорусских сказок: "... в сундуке был комплект выходившего в Харькове журнала "Мирный труд". Это был реакционный, шовинистский журнал. Много внимания он отдавал евреям, которые убивали христианских детей, чтобы их кровь влить в мацу, и франкмасонству. Однажды у нас был в гостях дядькин зять, прежде дьяк, а ныне уже поп. "Мирный труд" этому попу как раз подходил по воззрениям, видимо, и он считал, что... жиды и франкмасоны – это самая страшная беда для человечества. Сев за стол с отцом, он завел разговор о франкмасонах, и отец мог продемонстрировать свою компетентность в этой проблеме. Однако в жизни у него не было никакой национальной враждебности, и хорошим его приятелем был кузнец Абрам из Гричина, хотя пригласить к себе в гости Абрама ему, вероятно, никогда не приходило в голову. Назначенный от деревни в 1905 г. слушать графа Бобринского, который приехал, чтобы поднять православных мужиков на борьбу против католиков и евреев, он был впечатлен только тем, что граф говорил без перерыва более часа и за это время выпил целый графин воды, а сама сущность проповеди графа осталась без результатов" [198, с. 275-276]. Рисунок. М. Шагал. Понюшка табаку. – Шагал, Графика, рис. 36, с. 44, или "Голова старика", с. 31. Чужой и Свой Чужой. Таким образом, Чужой и Свой Чужой кардинально различаются. Чужой – в силу своей территориальной дальности и/или давности – не просто отличен от "Мы-этноса", но нередко и вовсе "нечеловечен" (свидетельство этой анти-человечности в приведенной цитате – кровь христианских младенцев). Более того, представитель "Мы-этноса" не подвергает сомнению существование такой "нелюди" на теоретическом уровне и даже имеет фактологические подтверждения этому (в виде ли устных преданий или же журнала "Мирный труд"). На практическом же уровне все эти ужасы не имеют никакого отношения к Своему Чужому ("Абраму из Гричина") и не могут привести к конфликту с ним. Однако не следует забывать, что наш персонаж является не Своим (именно поэтому крестьянину не приходит в голову пригласить Абрама в гости), а Своим Чужим. В этой относительной (большей или меньшей – в разные периоды и в разных ситуациях) 232 чуждости и, главное, в ее сердцевине – "потустороннести", "нездешности", "запредельности" – существует момент строгой функциональности и необходимости Чужого в непосредственной близости к Своему. Потому-то сказки, как правило, так или иначе подчеркивают различия (вследствие чего, даже если нет прямого указания на этничность, в качестве маркера используются акцент, словесные вставки, детали быта и обряда и т.д.). Функция Своего Чужого в народной культуре. В чем же состоит эта функциональность? Во-первых, в необходимости знаний. Здесь уже говорилось о двойственном отношении Мужика к знанию, которое, с одной стороны, граничило с нарушением традиционного трудового кодекса и в целом крестьянского этоса, а с другой было востребованно с точки зрения развития культуры. Отвлечемся от образа Еврея и будем говорить о Своих Чужих вкупе, ибо каждый из них функционально необходим. Приведу несколько примеров из быта, которые были запечатлены не только сказочниками, но и этнографами. На Полесье во время засухи исстари в колодец бросали украденный у соседа-еврея горшок: "чужое" могло вызвать дождь. Как правило, кузнецом был цыган, лекарем – немец, корчмарем – еврей. Тем самым Чужой становился социально необходимым. Но причина востребованности Своего Чужого глубже. В традиционном сознании инновация (внесение в культуру нового) несет на себе отпечаток неправедности: вспомним, что даже везение в делах сказка связывает с нечистой силой, а уж если речь идет о новом роде деятельности… Потому нововведение – особенно если оно было быстрым – часто осуществлялось Другими и даже Чужими: в отличие от Мужика, они были менее связаны законами и правилами и потому имели возможность нарушать ход событий. Это мог быть Москаль, побывавший в дальних краях; это могли быть Сын крестьянина, отданный в науку, Цыган, Еврей или Немец. "Неправомерность" нового знания вовсе не означала его бесполезности. Более того, поскольку связь Чужого с потусторонними силами – аксиома народного сознания, то использовались не только новый предмет или новое умение: использовались сама его особая, "чуждая" природа. И в этом отношении можно говорить о другой причине необходимости Чужого в "нашем" строе жизни. Это связано с необходимостью в Чудесном. Чужое как чудесное. "Чудесное – это противовес обыденности и размеренности повседневной жизни" [172, с. 48]. Свой Чужой является нарушителем привычного уклада. В силу того, что помимо черт, сближающих его с Мужиком, существуют черты и отдаляющие, и главная из них – потустороннее, непостижимое начало, он обладает даром магического воздействия. Оно может быть отрицательным: потому, например, дни 233 еврейских праздников на Полесье считались неподходящими для многих работ: например, на Кущи не квасили капусту, ибо считалось, что она сгниет. В "Прымхах і забабонах беларусаў-палешукоў" А.К.Сержпутовский приводит следующее поверье: если сеять рожь перед Йом-Киппур, когда евреи молятся в синагоге ("школе"), то она не уродится. Тем не менее, вовсе не все колдовские действия Своего Чужого признавались вредоносными: например, в Столинском районе до недавнего времени считалось, что знахарь-еврей может победить ведьму [146]. Тем самым признавалось, что "чужое" колдовство может быть сильнее своего и быть полезным. Вспомним, как евреи из сказки "Ведзьмар" спасаются от Черта с помощью крещеного человека. Здесь можно говорить о "зеркальности": не случайно в случае тяжелого заболевания или при необходимости мести обидчику существовал "верный" способ добиться благоприятного исхода – пожертвовать деньги на "яўрэйскую школу" (синагогу). Рисунок. Хоральная синагога в Минске. Нач. ХХ в. – З.В. Шыбека, С.Ф. Шыбека, 97. Что такое – белорусская толерантность? Толерантное отношение к Другим и даже к Чужим, которое прослеживается в сказках и которое выше объяснилось функциональной необходимостью (многосотлетнее существование в полиэтнических государствах; нужда в новых знаниях; потребность в Чудесном), в реальности – гораздо более сложное явление. Поскольку его специальный анализ не входит в мои задачи (тем более, исследованием этого феномена занимается большое количество ученых), и я не буду останавливаться на нем детально. Однако хотелось бы еще раз подчеркнуть ту черту, которая уже была упомянута в контексте веротерпимости: как не существует совершенных религий, так и нет и не может быть безгрешных людей. С целью обоснования этого тезиса, на наш взгляд, лежащего в основе белорусской толерантности и самого белорусского ЭС, позволю себе пространную цитату из сказки "Гуслі": ее обширность извинит необходимость. Итак, музыкант Иванчик оказывается в аду – и что он там видит? "Каго толькі там не было. Перш-наперш вынырнула лысая галава ксендза, а поруч з ёю кіпелі ў смале доўгія кудлы папа... разам выскачылі з смалы маладзенькая паненка, абняўшыса са старым панам, старая пані, хурман з бізуном, лёкай з пляшкаю ў горле, камісар з ксёнжкаю пад пахаю, пакаёўка, кухар, акамон, цівун і много другіх дваровых людзей... сам ландар з Соркаю, рабін з Бібляю, цодык з Тораю, маламед з ксёнжкаю, каваль, шавец, кравец, крамар і крамарка, шапар, нават анучнік і той высунуў са смалы сваю голаў і патрос пейсамі... Пашоў Іваньчык да другого катла..., дак тут ужэ паказаліса нашы браты хрысьціяне й усе больш самые набожные людзі, да такіе, якіх лічылі пры 234 жыцю чуць не сьвятымі. Пабачыў тое наш Іваньчык дай думае сабе: "Не, мабыць, кожнаму чалавеку прыдзецца закаштаваць гарачае смалы" [189, с. 215]. Там же Иванчик встречает крестную мать, которая некогда отказалась взять на себя заботу о нем и отдала совсем маленьким в пастухи. И Иванчик великодушно снимает грех: он говорит, что именно в пастушестве и был счастлив. "Толькі ён гэтае прамовіў, як яго хросная матка вышла з катла ўся ў белум убрані, бы сьнег, і стала поруч з ім" [там же, с. 216]. Герой другой сказки "Усё і ў галаве не змесціцца" спасает всех мучеников ада, "бо яму было вельмі шкода тых людзей. Бо чым яны вінаваты, што іх такімі Бог сатварыў і так ім на раду назначыў" [189, с. 223]. Вот в этом-то и состоит корень качества, которое называется "толерантностью". Оно берет начало из мужественного, а значит, и терпимого отношения к реальному человеку –– несовершенному, грешному, чуждому, но в то же время способному к улучшению себя и мира. При всех своих недостатках и даже пороках человек – творение и ученик Бога, а значит, в нем (в Своем ли или в Чужом, в разбойнике или в праведнике) заложен огромный потенциал Блага. Оттого никого не судят ни Иванчик, ни безымянный юноша из сказки "Усё і ў галаве не змесціцца", ни совокупный МужикБелорус, который предстает перед нами в других сказках, созданных народом. Вероятно, некоторые исследователи и публицисты правы, и такая установка может привести к бесконечному терпению, а значит, и к безграничному страданию. Возможно... Но не в меньшей степени возможно и то, что судьба народа, лишенного умения понимать и сопереживать, будет трагична. Вся история человечества есть свидетельство того, что такое неумение приводит не просто к ошибкам и жертвам, но в конечном счете – к гибели собственного этноса в бесконечных войнах и конфликтах. Тем более, что речь идет о ХХI в., когда судьбы народов становятся частью общей судьбы человечества, отныне разворачивающейся в пространстве мировой культуры. Нашу правоту или неправоту покажет время. Часто сказка заканчивается так: "Дак от вам не казка, а праўда", "Дак от якіе то былі гуслі", "Дак гэто, мабыць, так Бог даў", "От якое было здарэнне", "Дак от якая была справа", и т.д. Это оставляет впечатление незаконченности, а значит, и возможности изменений. Белорусская сказка упорно не ставит точки. Не будем ее ставить и мы... 235 Очерк 5. Менталитет, картина мира и идентичность традиционного белоруса Менталитет и картина мира белорусского крестьянина Выше уже отмечалось, что менталитет народа всегда существует латентно, он никогда не "бьет в глаза", поскольку проистекает из не вполне осознанной этнической картины мира – модели мироздания, свойственной представителям одного народа. Напомню, что основные ее оппозиции таковы: Космос – Хаос; сакральное (священое) – профанное (мирское); мужское – женское; свое – чужое; жизнь – смерть; добро – зло. Важно и то, что этническая картина мира строится на категориях времени и пространства, которые выражаются в отношении к истории своего этноса и к его территории. Проследим, как эти универсальные, т.е. свойственные всем культурам критерии преломляются в менталитете и самоидентификации белорусского традиционного крестьянина – и тем самым подведем итоги рассказу о воззрениях и ценностях исторического белоруса. Космос – Хаос Итак, в менталитете белоруса, как и в менталитете любого традиционного народа "космизированным" (т.е. единственно верным, упорядоченным, данным высшей силой) является образ жизни и поведения группы "Мы" (крестьянства). Отсюда – локальноместный характер идентификации. В идеальном качестве образ "Мы" соотносится с образом "Крестьянского Бога" – общего предка, "культурного героя", который научил людей жить, трудиться и взаимодействовать друг с другом в соответствии с заповедями. Единственной формой истинно святого труда для традиционного белоруса является труд на земле: "Як бы нам с табою зямлі атыскаць? Патаму хоць нам без зямлі тожа можна жыць, а па-настаяшчаму няльзя" [191, с. 35]. Другое следствие исполнения заветов Бога – практицизм: " каб кожная рэч ішла на патрэбу чалавеку" [189, с.105]. В целом эти представления складываются в особый тип поведения – миростроительство. Самый яркий образ Хаоса, иллюстрация сатанинского уклада – Пан, что подчеркивается его нечеловеческим происхождением и поведением (истеричность, злоба, развращенность, лень, "нечеловеческая" речь, остутствие здравого смысла и т.д.), а также – гораздо менее недоброжелательный образ Черта (суетность, неумелость и т.д.). Мир маргиналов – Злодзея и Москаля – отличаются от крестьянского мира тем, что эти персонажи противопоставляют "Божескому" труду на земле удачу и отсутствие оседлости. Исходя из этого, можно выявить целый ряд качеств белорусского менталитета: в противовес Пану и Черту – спокойствие, здравый смысл, 236 флегматичность и в целом "тихость", интровертированность, доброжелательность; в противовес Москалю и Злодзею – расчет не на удачу, а на собственные усилия, трудолюбие, оседлость. Сакральное и мирское Сакральное (священное) – профанное (мирское) в менталитете белорусского крестьянина мало разделены: Бог ходит по Земле, и крестьянин имеет с ним непосредственные отношения. Отсюда характерны следующие качества и воззрения: неотрывность веры от быта, основанная на убеждении, что Бог может в любой момент прийти к человеку; модель веры "лицом-к-лицу" с Богом, откуда сравнительно небольшая по сравнению с русским крестьянством воцерковленность; "христианский пантеизм", где Бог – посредник между природой и человеком: ведь именно Бог учит человека преобразованию природы на пользу ему и обществу; образ "святога чалавека" как гармонизатора сакрального и профанного путем праведной жизни. Добро – Зло В фольклоре превалирует точка зрения на взаимосвязь и неразрывность добра и зла: "Без ліха няма й дабра" [189, с. 45-46]. Традиционному белорусу присуще убеждение, что зло пожирает себя само ("Марцыпаны", "Воўчае котло" и др.), а попытка его искоренения приводит к еще большему злу. Отсюда – недоверие глобальным попыткам переустройства мира, даже из самых добрых побуждений. Крестьянин уверен, что убив зло, заодно уничтожишь и добро. Отсюда – и фатализм, и терпимость, и долготерпение, о которых то со знаком "плюс", то со знаком "минус" говорят исследователи. Но более значимыми, более самобытно белорусскими чертами в менталитете народа представляются окольность (и соответствующая ему модель косвенных действий) и в целом путь доброй мысли: молитва, жалость (в том числе и по отношению к грешникам). Внутреннее совершенствование понимается как единственно верная модель усовершенствования мира. В целом модель победы над злом, заданная Богом, – трансформация зла в добро. Потому общение со Злом, например, с Паном, предполагает особые техники лавирования, "ускользания": недопонимающее-недослышащее поведение и т.п. Часто под ними кроется издевка, но тайная: с одной стороны, она связана с осторожностью, а с другой – с возможностью сохранения собственного достоинства. Свое – чужое 237 "Свое – чужое" порождает антитезу "мы – они" и практику "самостроительства". Для выявления менталитета здесь особенно значимо несколько моментов. Первый – тот факт, что Пан является "абсолютно Чужим", ставит под сомнение "аристократическую версию" происхождения белорусского менталитета и самосознания (о ней подробнее далее, при анализе современного менталитета белорусов). В противном случае образ шляхтича, по крайней мере, сохранял бы хотя бы какие-то положительные черты. Итак, полностью свой – это трудовой человек, крестьянин. Второе наблюдение: если герои (пусть даже и "чужие") бедны так же, как сам крестьянин, они понимаются как положительные герои. Следовательно, для традиционного менталитета белоруса важно представление о равенстве в бедности и недоверие к богатым и богатству. Идеальным считался вариант скромной достаточности. Третье: предпочтение практического разума и здравого смысла перед книжной ученостью, отождествляемой с ленью и неумелостью. Четвертое: Чужие необходимы тогда, когда приносят новое знание. Отсюда можно вывести зачатки трансферного характера белорусской культуры, когда чужое знание осваивается, приобретает собственный этнический колорит и используется в целях развития собственного культурного массива. Пятое: для белорусского крестьянина критерий "этнической чуждости" отступает перед критерием "социальной чуждости". Еврей часто называется "карчмаром"; пан-поляк представлен не в этническом качестве, а в качестве эксплуататора, термин "маскаль" употребляется по отношению не к русскому, а к солдату. Та же тенденция прослеживается в самоназвании "мужык". Вероятно, здесь кроется один из корней сравнительно спокойного принятия советской власти, оперирующей именно социальными, а не этническими категориями и настаивающей на интернационализме как на высшей ценности. И наконец, самоидентификация крестьянства той поры – локально-местная: крестьяне воспринимают как полностью своих лишь жителей "ближнего круга" – собственной и наиболее приближенных к ней деревень. Тем более, в нее не включены горожане. Жизнь – смерть В мировоззрении любого традиционного общества смерть не воспринимается как трагедия, а скорее как обязательная часть жизни. Это объясняется отсутствием выраженной личностной позиции крестьянина: для него важнее жизнь рода, чем 238 собственная жизнь. Потому страх смерти считается не только позорным, но и напрасным, ему противопоставляется мудрость "рода": "Круці не круці, а трэ памерці". Мужское – женское Несмотря на популярный тезис о равенстве мужчин и женщин в быту, в фольклоре явственна противоположная позиция: традиционная белорусская культура предстает практически полностью маскулинной. Наиболее негативным женским качеством представляется любопытство, поскольку оно нарушает вековечный, данный Богом уклад жизни. Другой недостаток – женская самостоятельность. В идеале женщина должна представлять собой клон мужа, его вторичную ипостась. Наиболее ценным состоянием женщины представляется материнство, а самой значимой функцией – послушание как основа сохранения традиционного образа жизни. Этническое время в менталитете традиционного белоруса Значительную роль в менталитете народа играют его представления о времени и пространстве. В традиционном этносе, в том числе и в белорусском, этническое время определено ритмом сезонных работ и его обрядовым оформлением ("зажынкі", "дажынкі" и т.д.). Ритмичность реализуется в нескольких вариантах времени: дня и ночи; недели, месяца; сезона; года; жизни человека. Белорусский крестьянин имеет представления о прошлом: сказки и легенды – пусть и в мифопоэтической форме – предлагает варианты происхождения не только Космоса, но и народов ("Палешукі й палевікі", "Адкуль пайшлі беларусы", "Адкуль татары на Беларусі" и т.д.), сословий ("Адкуль сяляне й паны", "Адкуль паны", "Адкуль шляхта", "З чаго ліхо на свеце" и др.), социальных явлений ("Хто выдумаў грошы", "Як Хрыстос вучыў людзей" и др.). В целом зонирование времени проходит по оси "праздники – будни". В праздники время "переворачивается", изменяются модели поведения (таков поиск в ночном лесу "цвета папераці", который приводит крестьянина к ситуации искушения Чертом). Отсюда – двоякая роль праздника: он несет отдых, но таит опасность: не случайно герой сказки чаще встречается с чертом в праздник. Аналогичен результат зонирования "дня – ночи": ночью проще погубить душу. Потому в сказках будни воспринимаются как радость: "пасе ён гусі да разглядвае Божы сьвет, а кругом так гожэ, так радасно…". Итак, исторический белорус предпочитает день ночи, труд – досугу, а будни – празднику. Эта ситуация по-настоящему изменится лишь к концу ХХ века, о чем далее. Отсутствует и еще одна, важная для сегодняшнего мировоззрения характеристика этнического времени: белорусский крестьянин XIX-начала ХХ века не осознает ценности своей биографии. Сказочные биографии, где они встречаются, типичны и одинаковы. Его, скорее, волнует "биография" семьи, рода, поселения. Это 239 неудивительно: традиционной культуре не свойственна ценность проявлений личности (свидетельства – норма "невыпячивания", выражающаяся оборотами "як усе", "як людзi кажуць" и т.д.). Этническое пространство в менталитете традиционного белоруса Традиционному белорусу присуще понимание пространства как "малой родины": ведь вследствие особенностей отечественной истории, основой идентичности белоруса искони служила связь с землей. Не случайно "Чужому" (Пану) присуща мобильность: "пакруціцца з тыдзень ці больш да й зноў паедзе чорт ведае куды" [189, с. 77]. Остальные "чужаки" тоже оторваны от земли: с ней не связаны ни "маскаль", ни "злодзей": "маскаль" – воплощение дороги; локус "злодзея" – лес. Чужд крестьянину и город: "Витьковцы считали настоящей только тяжелую физическую работу, а точнее – работу крестьянскую, презирали работу в разных учреждениях…" [197, с. 65], что проявляется в образе "вучонага" сына-бездельника. Тем самым этническое пространство выражено в близлежащих пределах: "domus" (дом) и "pagus" (округа). Переносный смысл слова "земля" (территория) отождествляется с прямым. Отсюда идеальный образ родины: "земля зраджайная, сенажаці мурожные да берагі – сена некуды дзеваць" [189, с. 76]. Отсюда одушевление "малой родины": так, земля может петь веселые или печальные песни в зависимости от усиления или, напротив, ослабления гнета ("Адкуль песня"). Идентичность традиционного белоруса: этноним и этнический миф Этноним Как отмечалось во вводном очерке, об этничности в полном смысле слова можно говорить лишь тогда, когда существует этноним (т.е. этническое самоназвание). Важно, чтоб его разделял весь народ, и чтобы такое самоназвание являлось средством противопоставления Чужим и сопоставлением и Другими: например, мы – белорусы, а не русские и не поляки. Вследствие исторического пути народа, чреватого многими социально-политическими и конфессиональными пертурбациями, о едином этнониме, охватывающего все белорусские территории и все их население, в конце XIX века говорить сложно. В сказках этноним "белорус" не встречается, вместо него используется слово "мужык". Редко используется и слово "тутэйшы". Примечательно упоминание в ряде текстов понятия "белы рускі цар". В силу недостаточности фактов здесь можно лишь предполагать, что термин "белорусский" ассоциировался с официальными структурами (не случайно он относится к царю): возможно, на этом представлении сказалось наличие Белорусской губернии (1796-1801 гг.) и Белорусского генералгубернаторства (1801-1856 гг.). В этом проявляются ростки представления о "большой 240 родине" (вероятно, это связано с начатками грамотности и интересом к прессе части крестьян). Итак, как самоназвание устойчиво употребляется слово "мужык". Здесь примечательно указание на крестьянский характер труда и на "отписывание" от общности тех, кто не связан с ним (свидетельство – контакты с "нечистой силой" сельских специалистов; недаром "каваль", "стралец", мельник редко называются "мужыкамi", уж не говоря о горожанах). В связи с этим можно говорить о развитости локального аспекта идентичности (с землей, с деревней, землячеством и т.д.). Однако выявляется и более широкий идентификационный аспект: жители других деревень и регионов тоже называются "мужыкамі", а значит, потенциально понимаются как представителиуже не локально-крестьянской, а надлокальной этнокультурной общности. При этом они видятся менее полноценными, чем представители собственной "грамады". Таким образом, несмотря на несформированность общего этнонима в массах и на фаворитизм в отношении своей группы, единое самоназвание "мужыкi" указывает на то, что в XIX вв. уже сложилось представление не только о группе "Мы", но и возможности распостранения характеристик "Мы-группы" на соседние деревни и даже регионы (сюжет обучения соседей полезным умениям). Этнический миф В одном из предыдущих очерков отмечалось, что и древний, и современный мифы базируются на одной структуре. А. Пелипенко называл ее: "рай первозданный – рай потерянный – рай обретенный". Эта структура соответственно реализуется в "мифе о золотом веке", в "мифе о борьбе со злом" и в эсхатологическом мифе (миф о конце истории, о конечной судьбе человека и мироздания, о воскресении праведных и т.д.). Мифологема "рай первозданный" ассоциируется с образом "золотого века" – времени, когда "жылі людзі бы ў раю: гаравалі, працавалі да й бяды не малі... ў ласцы, у згодзе " [191, с.157]. В это время не было панов (социальный аспект), а Бог "прыхадзіў к людзям бы свой брат" [191, с. 134] (религиозный аспект), и тем самым общее братство понималось и в социальном ключе ("грамада"), и в сакральном плане (прямое общение с Богом, мифы о том, как Бог учил людей и т.д.). Порча золотого века связана с тем, что люди решили, что они "самі, бы богі", и потому Бог ушел на небо [191, с. 137]. В этот период появляются паны, использующие неразумие и эгоизм людей в своих целях [189, с.103], [173, с. 77-80]. Другая причина утраты "золотого века" – увеличение населения и уменьшение участков земли [189, с.173]. Можно сделать вывод, что главными критериями "золотого века" для белорусского крестьянства были: наличие земли и как экономического, и как 241 символического капитала; освященность трудовых практик человека высшими силами; отсутствие угнетения и равенство. В сказках не прослеживается идей о военном и государственном величии общности. Каковы причины этого? Вероятно, в первую очередь, такими причинами являются локальный ("местный") характер культуры вследствие весьма нечастых контактов между представителями разных регионов; бесписьменный характер крестьянской культуры, которым объясняется отсутствие детальных исторических представлений; идея Божественной санкции труда, а не, например, воинского кодекса; требование глубокой преемственности; акцент на повседневност, а не на великих событиях; норма "невыпячивания" личности ("як усе"); религиозная и этническая толерантность. Мифологема "рай потерянный" связывается с действиями врагов и панов – и в целом с имущественным расслоением, жадностью, эгоцентризмом ("самі бы богі"). В ряде сказок выражена идея, что причина всех бед – попытки радикальных действий даже в благих целях (яркий пример – сказка "Марцыпаны"). Вероятно, из этой установки исходят и крестьянский фатализм ("Яшчэ на раду чалавеку даецца доля. І што ты не рабі, як ты не старайся, а нічога не парадзіш, калі доля ледашчыцца" [190, с. 283]), и принцип косвенного действия, и в целом норма "окольности", а также путь доброй мысли как модель косвенных изменений реальности к лучшему. Таким образом ведут себя прототипы идентичности, т.е. наиболее чтимые народом герои ("Іванка-прастачок", "Іваньчык", "Гуслі", "Сьветы чалавек", "Святы чалавек", "Стары бацька" и мн. др.), подчас принося себя в жертву общему благу ("Сьвіное рыло", "Усё і ў галаве не змесціцца" и др.). Мифологема "рай обретенный" (понимаемая как достижение национального идеала) в сказках неявна. Образ счастливого (как, впрочем, и несчастливого) будущего не встречается. Причины этого – сам характер традиционного общества, которое зиждется не на стремлении к будущему, а на возобновлении великих, данных Богом "начал"; локальность самохарактеристики, обусловленная "местным" характером культуры ("мужык"); фатализм, препятствующий идее прогресса. В то же время фатализм предполагает и положительное наполнение, выражающееся в жизнестойкости белорусского крестьянства: "Што як ні ліхо жыць на свеце, але пажыву, та моо і будзе лепш" [191, с.186]. Вероятно, именно этот не только негативный, но и позитивный фатализм (как надежда на улучшение участи) – и есть культурно-психологическая причина вошедшего в пословицы и анекдоты долготерпения белоруса. Существенно и то, что в ряде сказок в качестве способа победы добра над злом предстает действие разума: "От як вырасце той ясны, бы сонейка, розум, да пачне свяціць людзям у вочы, то 242 тады ўсе пазнаюць, з чаго ліхо на свеце" [191, с. 137]. Значит, мы имеем дело уже не только со архаической неосознанной повторяемостью действий (мол, так было от века), уже не с латентной ментальностью, а с попытками ее трансформации в осознанную категорию – этническое самосознание. Часть III. Белорус – советский и постсоветский Очерк 6. Советский белорус Советский социум как общество Модерна Советский белорус – человек без этничности? Итак, фаза С (фаза активного национального строительства и осознанных национальных движений, охвативших весь народ) в Беларуси совпала с революциями начала ХХ в. и развивалась в условиях СССР. Прежде всего, следует отметить одну характеристику советского общества. Каким бы – "плохим" или "хорошим", "идеальным" или "тоталитарным" – мы бы его не считали, бесспорно одно. Советский проект – яркая, а в каком-то смысле – и наиболее "чистая", без примесей, попытка воплощения проекта Модерна, того общества о котором грезили французские просветители XVIII в. Да, обоществленного, да, антикапиталистического, бесконкурентного и тоталитарного, но строящегося на главной посылке Модерна – на идеале бесконечного и неуклонного прогресса. Рисунки. Советские люди – Минск, закладка. Рабочий, читающий газету – Минск, закладка. Пионеры – Минск. Закладка. Темы Модерна. Известный социолог П. Бергер называл "темами Модерна" будущность, абстракцию, освобождение, индивидуацию и секуляризацию. Даже при поверхностном взгляде ясно, что и советскому обществу в целом, и белорусскому обществу в период СССР присущи все эти темы. Тема будущности связана с идеалами нового бесклассового общества и жертв во имя его воцарения. При этом утопии "светлого завтра" сопутствовало реальное проектирование будущего (планы на шестидневку, квартал, год, семилетку, пятилетку и т.д.). А это проектирование привело к ощутимым изменениям менталитета. Размытая в традиционном обществе категория времени изменяется, и у человека появляется представление о времени общественной и собственной (индивидуальной, приватной) жизни, которое он может планировать и наполнять разнообразной деятельностью сообразно своим вкусам и предпочтениям. В деревне этому во многом препятствовали 243 строгие нормы общины (или, в белорусском случае – "грамады"), но в эпоху Модерна деревня играет все меньшую и меньшую роль. Тема абстракции предполагает бюрократизацию общества, его иерархию и, наконец, то, что является одним из условий нации – "воображаемость" сообщества (в понимании Б. Андерсона). Социум Модерна зиждется уже не на деревенской жизни, где члены "общины" или "грамады" лично знакомы друг с другом, а на городской – с ее анонимностью, с толщами незнакомых друг с другом людей, т.е. на "длинных" социокультурных связях людей. Освобождение в советских условиях (во всяком случае, на первых порах) было ведущей темой развития общества: в социальном смысле оно понималось как освобождение от гнета привелигированных слоев, в этнокультурном – как освобождение из "тюрьмы народов" – Российской империи. Особенно мощно тема освобождения звучала в период Великой Отечественной войны. Индивидуация "связана, прежде всего, с возникновением биографической идентичности и приватного пространства" [169, с. 101]. Рассматривать все советское общество как совокупность послушных винтиков и отсчитывать от него "винтикообразность" современной культуры было модно в 90-е. Теперь стало ясно, что любое общество в той или иной мере обречено на винтикообразность: в традиционной культуре этому способствует архаический патриархальный кодекс общины, в эпоху модерна –"конвейерность" во всех сферах жизни, а в эпоху постмодерна – тотальный потребительский бум. Важнее другое: в период Модерна резко слабеют и обрываются общинные связи. Хотя жизнь человека продолжает регулироваться "сверху" (и жизнь советского человека – наиболее яркий пример тотального контроля и самоконтроля), но при этом в ней возникают глубоко личные зоны, которых по определению не могло быть в сельской культуре, где "всем все известно". Это происходит благодаря двум основным факторам – образованию (кругозору) и городскому образу жизни. Отсюда гораздо более обширный, нежели в деревне, выбор – не только профессии, но и типа творчества, индивидуального досуга, собственной среды, хобби и т.д. Не случайно люди с выраженным самосознанием и "чувством будущего" появляются именно в цивилизации Модерна [2, р. 32]. Ярче всего эти качества проявляются у интеллигенции – части общества, взявшей на себя функцию выразителя и "формовщика" самосознания нации [196, с. 616-617]. Центрами культуры Модерна становятся города. И даже если аграрный сегмент общества остается велик, как это было в Беларуси советского периода, в городах все более важную роль начинает играть уже не традиционалистский "принцип подобия" ("як 244 усе"), а принцип личности (пользуясь клише советской эпохи, это представление можно обозначить так: "прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы"). В какой-то мере эти установки противоборствуют до сих пор. И наконец тема секуляризации. В этом смысле советское общество наиболее соответствовало требованиям Модерна. Если в других странах секуляризация понималась как обращение к земной жизни, нивелирование связи с высшим миром и высшими силами (т.е. более формальный подход к религии), то в советской культуре речь шла о принципиальном атеизме, о попытке абсолютного ограничения жизни человека и всего социума рамками земной жизни. Проблема идентификации советского белоруса и путь к ее анализу. Основной круг вопросов, возинкающий в связи с этой проблемой, таков: как человек из глубоко традиционной общности входит в модерный социум? Что он теряет, что приобретает? Как изменяется его менталитет по сравнению с недавним традиционо-крестьянским? Что в нем сохранилось в неприкосновенности, что было отринуто? И наконец, как сам белорус понимал свою "советскость"? Исходя из этого, мы сможем в целом судить о том, насколько устойчивую структуру представляет собой белорусский менталитет, а значит, и о том, насколько он сможет самосохраняться в дальнейших перепитиях истории. Рисунок: Советские люди – Мужчынскі касцюм, с. 63. Поскольку именно в период Модерна ведущую роль начинает играть личность, рассматривать менталитет советского времени следует, исходя уже не от общенародных текстов (фольклора), а от индивидуально-личностных текстов. При этом важно, чтобы судьба личности была типична, впаяна в обстоятельства времени подобно тысячам других судеб. Не менее необходимо, чтобы эти тексты были непосредственны, не рассчитаны на публику и/ или на цензора. Увы, в литературных текстах советского времени (за малым исключением "самиздатовских") всегда чувствуется оглядка на цензуру – внешнюю или внутреннюю. Потому нам остаются только тексты личного характера – мемуары, дневники и письма, причем именно последние – наиболее продуктивный объект для анализа. Недаром А. И. Герцен в "Былом и думах" писал: "Письма – больше, чем воспоминания, на них запеклась кровь событий, это – само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное". Потому в этом очерке я воспользуюсь кейсом № 2 – письмами известного белорусского советского писателя, написанными во время войны. Поскольку здесь не ставится цели анализировать его творчество и поскольку эти письма – глубоко личные 245 (они адресованы к жене писателя), я считаю необходимым заменить его имя инициалом – В. "Советский человек" и война. Перед тем, как приступить к анализу писем, отвечу на еще один вопрос: случайно ли из эпистолярного наследия В. выбраны письма именно периода войны? Нет, не случайно. Война – самое "советское время" из всего периода существования СССР. И в то же время именно тогда реализовалось сочетание советского и национального в том объеме, о котором в другие периоды советской истории говорить не приходится. С чем это связано? С одной стороны, с тем, что именно в этот период у большей части СССР появился общий образ врага ("немцы", фашисты), на то время сплотивший практически все республики. Кроме того, совпали цели власти и большей части населения. Даже недовольство советскими реалиями, память о раскулачивании, ужас перед репрессиями в те годы отступили. Мемуаристы вспоминают, что в период войны у людей возникла надежда – как показал дальнейший опыт, напрасная – на то, что после победы геноцид народов и всего "советского народа" будет невозможен. С другой стороны, поскольку в годы войны подверглись оккупации "малые родины" народов СССР, то это был период чрезвычайно обостренного чувства "своей земли". Как чувство "малой родины" взаимодействовало с чувством "Большой родины" (СССР) – один из важнейших в этом разделе. Судьба В.: обстоятельства места и времени. Когда началась война, В. было 30 лет. Как преимущественая часть белорусов его поколения, он родился и вырос в деревне. Отец его был книгочей, мало приспособленный к сельским занятиям, потому жизнь семьи была очень бедной. После революции ситуация изменилась: отца как самого грамотного выбрали председателем колхоза. В. не получил высшего образования: закончив профтехшколу, он работал слесарем на заводе, затем в заводской многотиражке, в редакциях провинциальных газет. Писал стихи: первое опубликовали, когда автору было 17 лет. В середине тридцатых он переезжает в Минск, где работает в молодежных газетах и продолжает сочинять стихи. В 1936 году женится на начинающей актрисе Ольге Л. (по-домашнему "Люсе"). В 1937 г. у них рождается сын, в 1939 г. – дочь. В сумятице первых дней войны он расстается с женой и детьми и лишь зимой 1941 г. узнает, где они. С этого момента и начинается их переписка, которая длится вплоть до освобождения Беларуси и воссоединения семьи. Все это время В. – "белобилетник" по здоровью – работает в белорусских газетах и журналах, расквартированных в Москве. 246 Письма, открытки, записки на обороте почтовых переводов освещают быт, мысли и мечты В. подробно – благо, пишет он их ежедневно. Вкупе они представляют собой семейную сагу, но не только; это и эпистолярный роман; и многотомная листовка; и дневник; и стихи в прозе; и так называемые "нравственные письма". Итак, как же отрабатываются в сознании "советского белоруса" темы менталитета, которые были выявлены в предыдущих очерках? Насколько и в какую сторону изменилась традиционно-крестьянская картина мира? Менталитет и картина мира советского белоруса Космос – Хаос Война и мир. Оппозиция "Космос – Хаос" осознается как противопоставление "Мир – Война". Хаос понимается как потеря точки опоры, сумятица, беспорядочное движение: "Может, ты мне и писала. Но дело в том, что за это время адрес мой менялся уже несколько раз… Может, ты уже в другом месте?" (2)2. Яркое изображение хаоса – начало войны: "Помнишь, мы даже не простились. Я побежал тогда к Лыньковым... Через полчаса я прибежал с Геней на вокзал, чтобы забрать тебя <…>. Но когда мы прибежали – поезда уже не было" (13); "Помнишь, Люсинька, как мы стояли за хлебом. Как Виленька [сын писателя. – Ю.Ч.], ничего не [понимая] бегал среди улицы со своим игрушечным деревянным ружьем <…> А помнишь, как мы мечтали о хлебе, и получив его, тут же забыли о нем, покидая дом…"(77); "В день выхода из Минска я был у него [писателя Хв. Шинклера – Ю.Ч.], сидели в щели до вечера, не надеясь, что останемся [живыми]. <…>. Они тоже ничего не взяли. Думали, переночуем и возвратимся" (26). Рисунок: Минск в руинах – Запрудник, 112 (верхнее фото). Хаос – это вопиющее нарушение в мироздании, победа непостижимых сил зла над смыслом, покоем – всем тем, что исторический белорус находил в оседлой жизни на собственной земле: и "новый" советский интеллигент здесь ничем не отличается от своего ближайшего предка – белорусского крестьянина. Образ Космоса реализуется в памяти о прошлом и в надежде на будущее: "Помнишь, Люсинька, как вечером перед воскресением [22 июня 1941 г. – Ю.Ч.] мы ходили вместе с детками в кино смотреть чудесную сказку "Майская ночь"? И тогда она произвела праздничное на нас настроение <…> и, пожалуй, всю ночь, мы были под этим Все письма содержатся в личном архиве автора и здесь даются под номерами, соответствующими времени написания: 1–8 (1941 г.), 9 – 148 (1942 г.), 149 – 242 (1943 г.), 243 – 265 (1944 г.). 2 247 обаянием сказки" (77); "Будем думать о времени, когда, как птицы, полетим в свои края. Гнезда наши разрушены. Будем вить новые" (26). Что же понимается под "витьем гнезд"? Как советский белорус надеется победить ставшую вдруг непонятной и враждебной действительность? Какими путями он надеяться вновь "космизировать" мир? Основные пути такой космизации все те же – миростроительство, самостроительство и домостроительство. Миростроительство. В общем плане миростроительство понимается как путь к победе. Потому главными миростроительными силами считаются красная армия ("наши") и партизаны. И те, и другие упоминаются в сугубо положительном, даже мифологизированно-положительном ключе: "В Москве праздничное настроение – сегодня 25 лет Красной Армии" (194); "Вообще, хозяевами действительными в Белоруссии являются партизаны" (133). Даже природные силы способствуют красной армии в ее походе: солнце радуется ее успехом, непогода строит заслоны на пути к врагу. Не правда ли, похоже на сказку? Потому что это и есть сказка, вернее, миф. Партизаны как истинные хозяева Беларуси – тоже вполне мифическая фигура: ведь речь идет о самом лютом периоде оккупации – о 1942 годе. В плане субкультуры – слоя общества, к которому относит себя автор писем – понимание миростроительства раздваивается. Что должен делать интеллигент для того, чтобы восстановить разрушенную войной реальность? В первую очередь, способствовать сплочению народа. В этом контесте примечательно большое количество упоминаний о выступлениях белорусских актеров, музыкантов, писателей перед фронтовиками, о собраниях и съездах, о лозунгах и листовках, о белорусском радио и т.д. Роль интеллигента несоизмеримо возрастает по сравнению с прошедшими годами. Он словно бы стоит "над аудиторией", формируя единое сообщество – белорусский народ – из разрозненных, разбросанных по всему СССР зрителей, слушателей, читателей. Обратим внимание на появление нового, неизвестного традиционной культуре принципа длинных социальных (социокультурных) связей. Он основан не на реальном знакомстве с соседями (тутэйшасць), а на четком знании о своей идентификации (я – белорус) и о том, что где-то, пусть в раздробленном войной виде, существует воображаемое сообщество белорусов, т.е. нация. Иногда в письмах принцип длинных социальных связей прилагается не только к сообществу белорусов, но и к некой, пусть и абстрактной величине – советским людям. Сделаю небольшое отступление. Часто возникает вопрос, почему белорусы в большинстве своем приняли советскую власть, а БССР стала "самой советской" из республик. Ответы на него, как правило, не даются: исследователи и публицисты 248 ограничиваются ссылками на "памяркоўнасць", "абыякавасць" забитого крестьянского люда. Вряд ли это может служить исчерпывающим объяснением. Вероятно, некоторые постулаты революционной и ранней послереволюционной идеологии были приняты белорусами потому, что соответствовали картине мира и менталитету большинства. Так, предположительно идеал советского братства и взаимопомощи возник (а в годы войны и упрочился) на почве, "взрыхленной" крестьянской формой поддержки, которую люди испокон оказывали друг другу. Изначально такая взаимопомощь исходит из твердого знания: "грамада" (как и любой другой тип общины) может выжить только благодаря согласию ее членов. Отсюда следствие: надо помочь соседу, попавшему в тяжелые условия, чем только можно, ибо смерть каждого – угроза для существования общности. Эта архаическая установка неизбежно растворяется в городской жизни, но в крестьянском обществе является залогом его сохранения и самосохранения каждого его представителя. В те годы, о которых ведется речь, эта установка еще жива в памяти, более того, она стала еще более действенной: ведь война – ситуация, угрожающая всем, в ней все – в равно невыносимых условиях, и выстоять можно лишь помогая друг другу. В этом случае становится понятно, почему в годы войны "советское братство" вовсе не было только лишь газетным клише. Потому неудивительно, что при том, что в обществе (и в сознании людей) уже появился новый тип длинных связей, ей сопутствует модель поддержки, основанная на традиционных "коротких" связях. Он выявляется в рассказах о взаимопомощи белорусов в Москве, в армии, в тылу: "Вчера я получил письмо от жены Ивана Черткова... Пишет, что со дня войны ничего не знает о муже. Какое бы было счастье, если бы я смог ей сообщить адрес" (72); "Мне присылал как-то письмо отец Басина. Я тогда ничего не знал о его сыне. А сегодня узнал, что он умер во время эвакуации... Если отец-старик об этом не знает, то, пожалуй, не стоит ему сейчас об этом говорить" (157); "Я тебе, кажется, писал о Пестраке <…> он еще был в своем изорванном и заношенном до дыр облачении. Говорят, сейчас его уже приодели" (224). И наконец, миростроительство в личном аспекте. Пример личных усилий проявляется в отсылках к собственной работе в газетах, в издательстве и т.д.: "Придется работать день и ночь. И сознание этого только радует" (12); "Готовлю статью для "Известий" о нашей газете, о партизанской борьбе в Белоруссии" (27); "Надо работать, больше пользы приносить" (104); "… уже скоро станет выходить армейская газета фронтовая на белорусском языке. Буду просить, чтобы и меня туда послали" (200). 249 Самостроительство. В первую очередь, установка на самостроительство (т.е. на самосовершенствование личности) реализуется в нескольких вариациях. Самый яркий пример – приобщение к текстам культуры: "Слушал я на днях 7 симфонию Дм. Шостаковича, видел автора. Очень молодой, скромный человек" (30); "Сейчас я все свободное время, как только вырву минуту, отдаю "Войне и миру" (56); "Учора ўвечары ў філіале Вялікага Тэатру слухаў оперу "Дэман" (69); "Эти дни хожу на оперу и балет. Стараюсь вобрать все, что можно. Полнее душа становится" (73). Существует ли подобное приобщение в крестьянской культуре? Разумеется, да. В первую очередь, это приобщение к нормам (по которым "наших" отличают от "ненаших"): ведь нормы тоже являют собой своего рода текст, текст достойного и недостойного поведения. Кроме того, любой человек, живущий в традиционном обществе, приобщен к текстам мифа, ритуала и фольклора (песен, сказок, народного театра и т.д.). И наконец, уже упоминалось, что в конце XIX в. белорусский крестьянин читал книги: от Библии до приключений Ната Пинкертона. Однако все эти типы приобщения пассивны и, за исключением последнего, неосознанны или осознаны лишь отчасти: человек без долгих размышлений, а порой и просто "на автомате" принимает то, что дает ему культура. В эпоху Модерна человек начинает отстраивать свой внутренний мир и свою жизнь сознательно, и самостроительство становится внутренней необходимостью. Есть и другое отличие. Человек, обладающий традиционнокрестьянским менталитетом, не создает текстов культуры. Вернее, конечно же, создает (откуда в противном случае фольклор?), но не мыслит себя их творцом: вот почему в сказках так часты оговорки: "як людзі кажуць", "казалі людзі", "казалі старыя", "так Бог даў" и т.д. Человек (даже тот, кто самостоятельно слагает сказку) непременно нуждается в санкции авторитетов: Бог, люди, старики… Идея такова: я лишь пересказываю, и потому спрос с меня невелик. Белорусский интеллигент осознанно создает собственные тексты, и для него важны ценность творчества и ценность авторства: "посылаю тебе стихотворение, посвященное Наташе [дочери]. Это стихотворение мне приснилось. Купил Нате глиняного соловья, она ему что-то шепнула, он вспорхнул и запел <…>. Но в этом ведь и секрет творчества, поэзии, которая своими далекими корнями входит в нашу жизнь еще от язычества" (250); "Переписал начисто стихи, написанные во время войны, соединил их в цикл под общим названием "Горкі вырай" (Вырай – это отлет птиц, ты, наверно, знаешь). Так вот – все мы сейчас – тоже птицы в горьком выраi" (62); "Задумал цикл стихов-песен о девушке, проданной в немецкое рабство" (101). Именно с этой идеей – идеей творческого предназначения – связан тот конфликт в душе белорусского 250 интеллигента, который незнаком крестьянству и напрочь отсутствует в традиционном сельском менталитете. Идея предназначения. Представления о творчестве существуют уже и в традиционном крестьянском этосе. Так, образ музыканта (Музыкі) – самое яркое изображение творческой личности в белорусском фольклоре. Но случайно ли музыкант тем или иным образом связан с "иными" силами – иногда святыми, но часто – и с нечистыми? Вероятно, здесь играет свою роль тайна, которой окутан музыкант: где он приобрел свое умение воздействовать на душу слушателей? Кто дал ему талант? Откуда приходит к нему чарующая мелодия? Вспомним и то, что в быту традиционного крестьянства все, для кого работа на земле не является самоцелью, в той или иной степени подозрительны (недаром колдовская сила гуслей истощает коров). Рисунок: Белорусский музыкант – Шпилевский, с. 53. Отсюда достаточно устойчивое представление о том, что музыкант продал душу черту, как и другие "сельские специалисты". Впрочем, если музыкант не гнушается крестьянской работой, отношение к нему положительное: труд и талант помогают друг другу. В этом случае "предназначение – труд – поэтическое мировидение" образуют органичную триаду ("пасе ён [юноша-музыкант] гусі да разглядвае Божы сьвет, а кругом так гожэ, так радасно. Яснае сонейко свеціць і хукае, бы на дзіцятко родная матка" [189, с. 213]). Предпочтение сельского труда городскому остается актуальным и для советского белоруса: труд на земле по-прежнему считается более плодотворным и истинным, чем городская работа: "Старайся не отставать от колхозниц, постигай все премудрости этого труда – пригодится… Я все более убеждаюсь, что мы с тобой, с детками должны обязательно пожить в деревне, не как дачники, а как настоящие колхозники" (56). Но в то же время понятие "труд" ("работа") значительно расширяется: оно предполагает любую – не обязательно физическую – деятельность на благо Родины: "Придется работать день и ночь. И сознание этого только радует"; "Но пока надо работать, делать все для того, чтобы очистить от немчуры нашу Беларусь" (12); "Просто надо работать, больше пользы приносить, насколько способен, насколько можешь" (104). Этим отношением маркируется, в частности, оппозиция "интеллигенция – бюрократы" ("Что им война? Стремятся только к одному – как бы удержать свои портфели. Вот и вся их работа") (217). Труд и творчество: конфликт. Однако в самосознании белорусского интеллигента назревает сложность, неизвестная крестьянину: труд и творчество входят 251 друг с другом в конфликт. Если труд – служение общественному благу, то творчество ассоциируется с личной свободой и даже счастьем. Вспомним: у белоруса-крестьянина счастье заключается "у ласцы, у згодзе" и непременно содержит в себе элемент горя. В письмах В. мы встречаем иной образ счастья: счастье – это возможность делать то, к чему призывает душа, а не то, что востребованно обществом – даже во имя самых благих целей. Отсюда столкновение между "надо" и "хочу", неизвестное человеку традиционной культуры: у него "надо" перевешивает, да так, что вопроса о "хочу" и не возникает (вспомним: крестьянин, который живет так, как ему заблагорассудится, быстро переходит в иной статус – "злодзея"). В письмах же – чем далее, тем более – встречаются сетования на то, что газетная поденщина отнимает силы, необходимые для поэзии. Но что же выбирает белорусский интеллигент времен войны? При всех терзаниях и метаниях – тот же впитанный с кровью крестьянский императив "надо": "посылаю вот тебе три стихотворения. Правда, стихи эти не в моей манере, не в моем стиле, но мне показалось, да и просто чувство подсказало, что писать о горе, о несчастии народа надо с такой силой, с таким чувством – естественным, простым и волнующим, с каким в "Слову о полку Игореве" на стене Путивля плачет Ярославна, или так, как причитывали и голосили когда то белорусские женщины в своих знаменитых плачах и народных проклятиях. Правда, нельзя механически брать форму старой песни и приспосабливать ее к новому содержанию. Мне кажется, что мои эти стихи слишком уж просты, чем я и недоволен, именно потому, что я, взяв форму народной песни, не совместил ее со своим собственным, свойственным мне, поэтическим качеством, найденным в лирических стихах, написанных в Белостоке и уже во время войны... Я знаю, что они могут подкупить чувством, но мысль, настоящая, открывающая стих, поэтическая мысль, здесь отсутствует, что нельзя сказать о многих моих стихах других. Но я здесь шел сознательно на популярность. Ведь народ, те же несчастные пленницы – белорусские девушки в Кельне и Берлине, они то будут помнить свою родную песню? Именно они ее в неволе эту давнюю материнскую песню, в которой когда-то пелось о тоске девушки, вышедшей за немилого, в "чужой, далекий край", который чаще всего был просто соседней деревней за две-три версты, эту песню они вспоминают уже в перевоплощении, вложат в нее, в теже привычные, готовые образы, свое девичье горе <…> дочери угнетенного, осмеянного, обесславленного народа, когда и собственный дом, и родная земля дороги и живут только в воспоминаниях, как надежды на спасение" (113). Вот он, тот случай, когда человек, прямо по Маяковскому, сознательно "сам себя смирял, становясь на горло собственной песне". Во имя кого? Во имя народа – например, 252 незнакомых девушек, угнанных в рабство. Это беспокойство о незнакомых, воображаемых людях – еще одно подтверждение того факта, что в эти годы уже можно уверенно говорить о наличии "воображаемого сообщества", т.е. нации, и о длинных социокультурных связях, объединяющих ее представителей. В письме прослеживается и другой момент, отличающий крестьянина (а ведь не так давно В. и был крестьянином) от интеллигента: если первый ограничивает свои функции ближним кругом (он влияет – да и то относительно – лишь на малую группу и старается соответствовать ей в своем поведении и мировоззрении), то второй убежден не только в своем праве, но и в обязанности быть выразителем истины для всего народа. Как пишет исследователь профессиональным и советской жизненным ментальности занятием Н.Н. Козлова, [интеллигенции] было "основным и остается производство норм, провозглашение универсальной истины за других и вместо этих самых других" [169, с. 137]. Поэтому интеллигент полагает, что его основная функция – наставничество: даже в личном письме В. сбивается на патетический слог: "Недавно я выступал с этими стихотворениями на радио для Белоруссии. В своем выступлении я специально обращался к девушкам Белоруссии. Девушки! Несите песню по всей земле. Пусть она будит народ, как когда-то в далеком прошлом ходили по нашей земле лирники с песнейпризывом, и песня звала людей на осознание своего достоинства, своих прав" (113). Интеллигент оценивает себя как "эксперта по этническому чувству", да и в целом осознает себя человеком, формирующим лицо и мировоззрение общества. Домостроительство. Самостроительство, т.е. сознательное творение собственного Я включает и третий, пожалуй, самый традиционный аспект – "домостроительство". В письмах это попытки обустройства быта, забота о семье, о здоровье детей: "Сюды-тады на картачцы даюць масла, сялёдцы. І вось сёння ўзяў я гэтае масла і думаў – сорамна мне яго есці. Трэба дзеткам. А як ім паслаць, як перадаць..." (35); "Старайся поддержать, сохранить их [детей] здоровье до того момента, когда мы, бог даст, опять будем вместе…" (13). Перечни покупок для семьи, бланки почтовых переводов и посылок свидетельствуют о том, что отношение автора писем к быту семьи коррелирует с крестьянскими представлениями о "дабрабыце", выявленными в сказках. Существует и сходство в механизме достижения целей (а именно хорошо известный нам по крестьянскому менталитету "окольный путь"), например, рассказ о передаче посылки семье: "Я привязал свою посылочку к сумке Мельникова, чтобы сошла за одну, поймал Мельников на вокзале около поезда Ривкина 253 и всучил ему. А он соглашается взять только одну Мельникову сумочку. Но я стою в сторонке и виду не показываю, что это моя… Все же согласился" (154). Итак, какой компонент в письмах превалирует – традиционно-крестьянский или ново-интеллигентский? По требованиям к себе, по планам и устремлениям – второй. Но по моделям действия, по ощущениям, по отношению к близким, к родине, к соотечественникам – безусловно, первый. Это наблюдение подтвердится далее, при анализе других оппозиций картины мира белорусского советского интеллигента. Сакральное – профанное Представления о святом и Боге в период "воинствующего атеизма". Сразу же обращу внимание читателя на изменение этой оппозиции. В традиционной культуре представления о сакральном и профанном создаются исходя из представлений о Космосе и Хаосе (сакральное связано с Космосом, а профанное допускает в себя тенденции Хаоса). В культуре Модерна – и ярче всего именно в случае "советского Модерна" – понимание сакрального и профанного гораздо более связаны с оппозицией "добро – зло". Причина общеизвестна. Это атеистический характер советского общества. Так неужели же в этот период совершенно размываются понятия "святое", "Бог"? Неужели за двадцать пять лет господствующая идеология атеизма искоренила их напрочь, оставив их разве что "уходящей натуре" – сельским старикам? Не так все просто: "свято место пусто не бывает"… Во что же трансформировались эти представления в менталитете молодого человека, принципиального (хоть и не ревностного) атеиста? И каким же путем можно исследовать то, что, казалось бы, не поддается исследованию? Здесь нам на помощь придет метод контент-анализа. С его позиции следует выявить лексемы, т.е. слова или выражения, которые связаны с сакральным сегментом культуры ("Бог", "бог", "святое", "заветное") и проследить, в каких же контекстах их употребляет автор. Благодаря этому мы сможем получить представление о ценностях, священных для советского интеллигента, и вскрыть черты их сходства и различия с ценностями белорусского крестьянства. Представления о Боге, о счастье и о священных ценностях. Слово "Бог" употреблено в письмах 35 раз. Чаще всего слово "Бог" относится к пожеланию встречи (9 раз); здоровья себе (3 раза) и близким (7 раз); пожеланию, чтоб "все было хорошо" (быт, здоровье и семейное счастье) (7 раз); победе и возвращению в Беларусь, например: "Дай бог, чтобы в этом году лопнул изверг рода человеческого – Гитлер" (5 раз); творчеству (3 раза); другим обстоятельствам (4 раза). Иногда пожелания связаны сразу с несколькими мечтами – встречей семьи и возвращением на "родную землю, свободную от немецкой мрази" (письмо 180). В итоге становятся очевидными наиболее значимые 254 ценности: единство семьи, здоровье семьи (особенно детей), возвращение в свободную Беларусь, лад в семье, творчество. Сравним это с цитатой из сказки: "Калі дасць Бог здароўе, у семейцэ лад да худобку, та не трэ большага шчасця" [191, с.63]. Не правда ли, похоже? Отличия от крестьянского менталитета диктуются либо ситуацией, либо статусом автора. Так, герою сказок – оседлому крестьянину, живущему на своей земле, разумеется, и в голову не придет грезить о возвращении на родину (однако эта мечта часто встречается в рекрутских и женских песнях). Но гораздо более важно вот что: в письмах советского белоруса родина понимается как далекое место, как счастливый край, откуда человек был изгнан – и это при том, что В. живет в Москве, в столице "великой Родины – СССР"! Дело в том, что для В. слово "родина" – почти однозначно обозначает "Беларусь". Вскоре мы вновь вернемся к этому моменту, который поможет нам понять: чего все же больше в менталитете советского белоруса – советского или белорусского? Обратимся к еще одному компоненту счастья, который есть в белорусском фольклоре, но отсутствует в письмах. В крестьянские ценности как обязательный комонент включается домашний скот ("худобка"). Кажется естественным, что в иерархии предпочтений журналиста и начинающего писателя этот компонент отсутствует. Но – вот что самое странное – отсутствует не вполне: традиционный образ счастья проникает и в письма горожанина: идея возвращения на Родину почти всегда связывается с темой деревни: "Когда поедем на родную землю, мы с тобой заведем свое хозяйство. Построим на Случчине свою хату и будем жить" (56). И наконец, последнее отличие: в письмах В. появляется новое понимание высшего предназначения – творчество. А ведь в фольклорных текстах творчество может быть следствием связи не только с Богом, но и с чертом. Тем не менее, сходство менталитетов – традиционно-крестьянского и модерносоветского – удивляет более, чем их различия. Как мы видим, характеристики исконного менталитета и самосознания никуда не исчезли: они лишь оттеснены вглубь, в самое приватное из пространств человека. Впрочем, и в сказках "божественное" для белоруса всегда внутренне, лично: вспомним хотя бы немую молитву "лицом к лицу с Богом". Но самое интересное, что не только характер, но и сам строй данных Богом ценностей в белорусском самосознании сохранился и поныне. Напомню уже приведенный пример: по материалам опроса общественного мнения, проведенного Институтом социологии НАН Беларуси (2004 г.), на первых местах в иерархии ценностей современного белоруса – здоровье (87%), дети (75%), семья (71%). 255 "Святое" и "заветное". Лексема "Бог" – не единственное слово, подразумевающее сакральное содержание. Повышенная эмоциональность отличает использование слов "святое" и "заветное". Например: "Все хорошее только впереди, в будущем. И в той вере, что живет во мне, в той моральной чистоте перед тобой, Люсинька, перед вами, мои деточки, которую я сохраняю в себе, как самое дорогое, заветное, святое для меня. Это – мой Бог, высшая сила" (15). Традиционная библейская максима "Бог есть любовь" трансформируется в "Любовь есть Бог", но само соотнесение ценностей остается в целости. Преимущественно концепты "святое" и "заветное" отнесены к любви, семье, детям, к Родине, причем, к "малой", крестьянской ("А в деревне пожить – это и моя заветная мечта") (227) и к творчеству ("всякое явление, вещь имеет душу и достаточно какого-то заветного слова, чтобы они ожили") (250). Можно сделать вывод: несмотря на атеистический характер культуры наполнение оппозиции "сакральное – профанное" в менталитете интеллигента претерпело гораздо меньшие изменения по сравнению с этосом крестьянства, чем следовало ожидать. Пожалуй, самое значимое различие – в акценте на ценности творчества. Однако если относиться к творчеству как компоненту "труда", и оно снимается. Труд – не только как необходимость, но и как священное предназначение – является культурной темой и в крестьянском, и в интеллигентско-советском менталитете. Добро (свое) – Зло (чужое) Свое – хорошо, чужое – плохо? Как мы помним, в традиционном менталитете понятия "добра" и "зла" соотносились с понятиями "свое" и "чужое". По преимуществу это соотношение сохранилось и в менталитете интеллигента. Однако причины такого сходства в разные периоды и в различных группах (крестьянство и интеллигенция) не совпадают. В крестьянской картине мира параллель "Добро (Свое) – Зло (Чужое)" объясняется тем, что принципом традиционной культуры является ее герметизм, закрытость, "тутэйшасць". Казалось бы, после того, как в течение четверти века газеты и радиоточки наперебой горланили о новой социалистической общности – "советском человеке", и именно этот образ стал центральным в образовании и воспитании, ситуация должна измениться. Более того, сама культура Модерна (в том числе и в советском варианте) побуждает к взаимообмену культурными текстами, а значит, в некоторой мере должна сглаживать оппозицию "Свое – Чужое". В свете этого понятно, почему для В. значимыми, любимыми, "своими" являются не только тексты белорусской, но и русской культуры ("Слово о полку Игореве", "Война и мир", "Преступление и наказание", симфонии Чайковского и Шостаковича и др.) и др. культур (английская поэзия, "Дон- 256 Кихот", "Севильский цирюльник", поэзия Гете и мн. др.). Казалось бы, оппозиция "свое – чужое" должна стираться, амортизироваться. Но здесь вступает в свои права время – период войны. Из социопсихологии и конфликтологии известно, что в такие моменты оппозиция "мы – они" обостряется вплоть до оппозиции "люди – нелюди". Неудивительно, что этнический стереотип "дальних чужих" в письмах представлен "немцами". Он сугубо негативен, о чем – чуть ниже. Но что интересно: этнических стереотипов "своих чужих" (в отношении уже не только представителей белорусской, но и в целом советской культуры) в письмах не встречается: нигде нет указаний на иную этническую принадлежность не только граждан БССР – Хв. Шинклера, Зм. Бядули, И. Любана и др., но представителей других республик СССР – М. Рыльского, И. Уткина, К. Симонова. Можно обоснованно предположить, что в эту сферу самосознания интеллигента проник совокупный интернациональный образ "советского народа". Вероятно, в том, что он был сравнительно легко воспринят и за 25 лет пустил корни в сердцах людей, сыграло роль слияние этнического и социального критериев оценки, присущее еще традиционной культуре. Вспомним: то, что неодобряемый персонаж – пан, было важнее, чем то, что он – поляк. Моральные установки, поведение людей, их сословные характеристики для белорусского крестьянина были всегда важнее, чем узко-этнические. Потому этнически "свой" легко становился "чужаком", когда нарушал ценности "грамады", например, богател сверх дозволенного предела или уходил в город. Если же "чужой" вел себя достойно, он постепенно становился если не "своим", то, по крайней мере, "своим чужим" или "другим": к нему относились порой с юмором, но без злости, а иногда и с горячим сочувствием. Разумеется, это – следствие долгих веков жизни белорусов в полиэтнической среде. Возможно, что именно такое отношение к чужакам и дало возможность более удачной, нежели у других народов, прививки "интернационализма" к древу белорусской культуры. В противном случае 90-е годы в Беларуси вряд ли отличались бы от ситуации в других республиках бывшего СССР и в странах соцлагеря, где тезис об интернационализме в пору "соцстроительства" использовался лишь формально и потому подвергся разрушению в первый же удобный момент (страны Балтии, Югославия, Чехословакия, Кавказ и др.). Потеряла ли Беларусь себя на противоположном пути? В 90-е годы такая точка зрения была очень популярна. Но теряет ли себя Европа, выработавшая принципы мультикультурного сосуществования разных народов, живущих "одним домом"? Потеряла ли себя Америка, изначально созданная как конгломерат различий? И 257 случайно ли XXI век – время не моноэтнических, а полиэтнических наций? Может быть, сегодня наступило то время, когда это качество (единство в различии) сослужит Беларуси добрую службу? Но мы забежали вперед. Вернемся в годы войны, к герою этого очерка – белорусскому советскому интеллигенту. Чужое Зло и свое Добро. В замечательной книге "Историческая этнология" этнопсихолог Светлана Лурье выделяет образы добра, зла и способ действия, которым добро побеждает зло, в качестве "этнических констант", формирующих модели жизни и систему ценностей этноса. В нашем случае образ Зла (врага) – "немцы", "фашисты". Они понимаются не столько как люди из плоти и крови, сколько как омерзительная внечеловечья сила: "немецкая сволочь" (111), (45); "немецкая мразь" (180) и т.д. Тем самым врагу отказывается в человеческой сущности. Он воспринимается как "нелюдь" или "недочеловек". Впрочем, нацисты и впрямь сделали все возможное, чтобы быть воспринятыми именно так. Рисунок: Территория Беларуси во время войны (карта) – История имперских отношений, с. 343. Образу Зла (Они), противостоит совокупный образ Добра. В него включены "наши" в лице Красной армии (12), (27), (194); партизан (120), (122), (133), (151), (237), (238) и "родного народа" (27), (56), (67), (68), (89), (113). Примечательно, что из него исключен И.В. Сталин: это имя в письмах не упоминается ни разу. Образ Добра многозначен и многопланов. Красная армия (общесоветский образ) и партизаны (белорусский образ) понимаются как активные агенты действия, как силы, которые воздействуют на ситуацию, а народ (под этим словом чаще понимается население БССР, реже – "советский народ") – как страдающее и "безмолвное" большинство. Способ победы Добра над Злом решается не только в плане прямых действий, но и в традиционном русле – в русле мифологизации общественных и природных явлений: "Ну, вось і вялікдзень. А вясны ўсё яшчэ няма. <…> Мусіць, і прырода спрыяе нам. Няхай фрыцы памерзнуць, паспытаюць яшчэ нашай і вясны... Так, мусіць, паступае на гэты раз і разумная прырода, заключыўшы саюз з чалавекам" (31). Тем самым "чужое Зло" оказывается беспомощным не только перед силами людей, но и перед родной природой, которая как бы "стоит" за правое дело… Наряду с фашистами образ зла включает и ряд других представлений: коллаборационисты, "бюрократы" и "мещане". Рассмотрим их по порядку. Коллаборационисты. В отличие от абстрактного образа "немецкой мрази" этот образ конкретен, его представители знакомы В.В. по довоенному прошлому: "Помнишь, 258 был такой Z3?.. Остался в Витебске и сейчас пописывает в угоду немцам статейки вроде "Почему мы называемся белоруссами". Это действительно может удивить – почему такая сволочь называет себя белоруссом? Вообще вокруг немецких громил нашлось и кишит немало холуев, именующих себя белоруссами и спекулирующих нашим народом, его историей, культурой, прикрывающих его именем самые подлые свои делишки, Помнишь композитора Y, с такой красной распухшей от пьянства мордой ходил из пивной в пивную? Он сейчас в Минске пишет гимны Гитлеру. Кое-когда появляются в минских газетках рассказики Х. А чего от него было ждать?.. Обиднее всего, что там оказался N. Сперва он жил где-то в деревне, избегал всяких связей со всем сбродом этим, разыскивал семью, а потом не выдержал, пошел на то, что в Минске устроили его творческий вечер, на котором он сам исполнил свои произведения… Об этом человеке трудно, конечно, делать поспешные выводы. Талант он безусловный... Видел я журнал под названием "Белорусская школа", издается в Минске на белорусском языке этой псарни. Какой там язык, боже мой! Вряд ли кто из белоруссов понимает его! На целые столетия отбросили всю национальную культуру и ее произведения, вытянули все самое допотопное, выдавая его за национальное. Недаром же они когда-то объявляли, что каўтун (болезнь головы) – национальное украшение, умилялись ему. Ну, да черт с ними со всеми. Придет и на них каўтун" (96). Рисунок: Территория Беларуси во время войны (другая карта-схема) – Запрудник, 108. Два языка. Что означает здесь противопоставление двух версий белорусского языка? Для этого сделаем экскурс в биографию автора писем. Письма В. написаны порой по-белорусски, порой по-русски. Очертить сферу, где превалирует каждый из языков, трудно: разве что белорусский чаще употребляется при воспоминаниях о доме, матери и т.д., а также, когда речь заходит об отечественной литературе и литературной среде. Литературный белорусский язык В. – порождение реформы письменности 1932 г., когда он был максимально сближен с русским. Вряд ли двадцатилетний юноша, тогда только что переселившийся в город, оценил это изменение как факт ущемления родного языка: вероятно, просто принял его официальную модификацию как "правильную", отличную от крестьянской "простай мовы". По этой же причине В. не противопоставляет белорусского и русского языков. Удивительно другое – то, что в письме белорусский язык противопоставлен… "коллаборационистский". белорусскому Критерий же, коллаборационизма воспринимаемому здесь – не как только сотрудничество с фашистами, но и использование языка и этнонима ("почему такая 3 Здесь и далее имена осуждаемых персонажей я буду заменять произвольными инициалами. 259 сволочь называет себя белоруссом?") в интересах врага. Потому употребление более архаизированной версии языка понимается В. как враждебный символический жест – как акт разрушения общей "мовы". Его возмущение вызвано не столько языком, сколько тем, что с его помощью проводится водораздел на "своих" и "чужих" не снаружи, а внутри народа. Впоследствии, когда злоба дня уйдет в небытие, в книгах белорусских писателей – в том числе и В. – версии белорусского языка в значительной мере сольются, что пойдет официальному языку только на пользу. Но в те годы В., как патриот и интеллигент советского образца, воспринимает это как надругательство над символической "кровью народа" – общим языком. Интересна также финальная формула: "Ну, да черт с ними". Таким финалом завершаются все фрагменты писем, относящиеся к морально запятнанным персонажам. Автор не требует для них наказания. Здесь мы можем провести параллель со сказками (например, "Марцыпаны"), где господствует представление о том, что зло самоуничтожается в положенный срок: "Придет и на них каўтун". Каким образом это сочетается с духом военного времени (вспомним название газеты "Раздавім фашысцкую гадзіну", где сотрудничает В.)? Вероятнее всего, здесь действует "закон должного места": в качестве публициста автор должен приложить все силы для победы над врагом, но как человек, выросший в белорусской деревне, он отказывается от агрессивных призывов и огульных суждений (в частности, в случае N.). Как мы видим, в менталитете советского интеллигента четко отпечатываются максимы крестьянского мировоззрения: должное место, самоуничтожение зла – и это при том, что речь идет о периоде опасности для народа, когда, казалось бы, должны возобладать однозначные призывы к уничтожению и внешнего, и внутреннего врага. Бюрократы. Тот факт, что "чужими" являются "бюрократы", не нов: в сказках им соответствовали образы "акамона", "камiсара", "сенатара", "генерала", "лакея", "багача". Их характеристики резко отрицательны. Не менее отрицательны они и в письмах: В. называет бюрократов "сволочами" (это слово, как и другие ругательства в письмах употребляются крайне редко, и это всегда связано с крайним возмущением автора. Причина известна: в воспоминаниях Н. Улашчика о белорусской деревне начала ХХ века специально отмечается отвращение крестьянина к ругательствам). Итак, бюрократы… "Они, сволочи, – пишет В., – не скитались, как мы, а живут себе в своих семьях и домах, и забывают, что есть люди, имеющие больше прав на то, чем они пользуются без права" (80); "Всем нашим начальникам и верховным животам <…> живется очень хорошо. Многие так и до войны не жили. Попривозили в Москву жен, 260 семейства, все у них есть. Что им война? Стремятся только к одному – как бы удержать свои портфели" (217). Если в отношении фашистов функция интеллигента – открытая борьба, то в отношении "бюрократов" предпринимается тактика брезгливого отторжения: "Я с ними даже дела не стану иметь. Поеду куда-нибудь на Полесье" (237). Особенное неодобрение автора вызывает нарушение традиционной ценности равенства – в частности в распределении ресурсов (одежды, продуктов): "А тот, кто распределял, небось себе лучшее выбрал… Ну, да черт с ними. Что поделаешь" (220). Итак, традиционная белорусская тактика молчаливого неодобрения действует и в более поздние годы, и в среде интеллигенции. Отметим и знакомый нам по фольклору фаталистический элемент: "Что поделаешь". Можно провести параллель со сказочной фразой: "што ты не рабі, як ты не старайся, а нічога не парадзіш, калі доля ледашчыцца" [190, с. 283]. Мещане. В письмах появляется и новая, неизвестная крестьянину модификация Зла – "мещанство". Это понятие относится не только к сфере личных взаимодействий, но и в целом к оценке поведения и даже творчества. Так, о знаменитом советском поэте и драматурге наш герой пишет: "Что-то мерзкое, мещанское во всей его любовной "философии" (92). В одном из следующих писем он конкретизирует свое отношение: "Мы с тобой разошлись в оценке лирики Симонова. Дело в том, что вся эта лирическая история с женой в московских мещанских кругах, пожалуй, была популярней, чем сами стихи. Видел я эту "прекрасную даму" сердца. Она – актриса московского театра Ленсовета. Автор даже роли дал имя своей возлюбленной. В.С. – Валентина Серова. Играет она эту роль блестяще, по оценке москвичей, видимо, только потому, что для нее роль написана. Мне ни роль, ни сама исполнительница не понравились. Дело в том, что это, пожалуй, одно и то же. Роль Вали – портрет Валентины Серовой-актрисы. Эта та серая, средняя девушка-бодрячок, которая по рецепту Лебедева-Кумача "с песней по жизни шагает". Пьесу мы смотрели вместе с Кузьмой Чорным. Ему тоже очень не понравилось. А это ведь драматург, у которого должен и Симонов поучиться. Вспомни его "Бацькаўшчыну". Какая выразительность характеров. Вообще, надо не завидовать, а сочувствовать автору, если он успех имеет. Это значит, что через год-два-пять его забудут. Успех настоящего искусства приходит не тогда, когда его выставляют напоказ, а тогда, когда уже самому автору не суждено ни успеха, ни славы, ни пивной, ни аванса. Как Маяковскому" (99). Рисунок: Кузьма Чорный (скульптура З. Азгура) – Сучасны беларускі партрэт, с. 42 261 Итак, мы видим, что категория "мещанство" для В. включает в себя искания популярности, адьюльтер, банальность мысли и ее выражения. Другие черты мещанства – суетность и ложная важность: "Цяпер многа такіх, якія жадаюць на вайне зарабіць славу. Y, якому яшчэ мінулым летам адбілі палец, цяпер дэманстратыўна ходзіць з падвязанай рукой з такім гонарам, што брыдка глядзець. Мяшчанскія вершыкі выдае за нейкую новую паэзію" (67); "…для таких, как М., который никогда не служил в армии и нацепил шпалу или две, это какой-то жизненный интерес. А по моему, в такое время тяжелого испытания для родного народа думать о каких-то шпалах – могут только люди, не видящие ничего дальше своего носа" (56); "Представь, как мне неинтересно с ним. Искусственный, всю жизнь рисующийся и надувающийся человек" (78). Здесь автор отталкивается от оценки парного самообраза (он и жена): "мы с тобой никогда не любили показывать, бравировать, щеголять, хвалиться" (50). Как мы видим, идеальная манера поведения в письмах коррелирует со сказками: имеется в виду хорошо известное нам и по фольклору качество, а именно тихость. Как и крестьянин, белорусский интеллигент советских лет не склонен привлекать к себе внимание, "выставляться", создавать некий публичный "имидж". Этничность как категория культуры. В чем сходство в понимании Чужих, свойственное обоим – и традиционному, и новому – типам менталитета? Пожалуй, главное в том, что социальное (в частности, политическое), этническое и моральное в самосознании белоруса по-прежнему неразделимы: об этом, например, свидетельствует смешение понятий "немец" и "фашист". О том же – пусть с оговорками – говорит и то, что и к образам фашистов, и к образам коллаборационистов прилагаются одни и те же негативные определения (сволочь, мразь, псарня и т.д.). О чем это свидетельствует? О том, что этническая принадлежность в самосознании белоруса (и традиционного крестьянина, и советского интеллигента) имеет меньший вес, чем моральное, духовное сродство, единство социального и политического статуса, общность ценностей и т.д. Получается, казалось бы, парадоксальная ситуация: этничность белоруса базируется не столько на этнических, сколько на социокультурных данностях. Однако на деле никакого парадокса здесь нет: это всего лишь доказывает тот факт, что этничность – категория не "кровно-родственная", а культурная. Именно поэтому абсолютно "своим" для белоруса В. может являться еврей Хв. Шинклер, татарин С. Александрович, украинец М. Рыльский, а также целый ряд русских и зарубежных, лично ему не знакомых, но уважаемых им культурных деятелей. И потому же "чужими" становятся "морально нечистые" белорусы. Можно назвать этот подход "советским" и откреститься от него, обвешивая его ярлыками "расплывчатого этнического самосознания" или 262 ментальной "абыякавасцi", а можно понимать его как следствие национального самосознания в современном смысле слова – как самосознания, в первую очередь, гражданского. Я разделяю последнюю точку зрения. Впрочем, между двумя типами менталитета (крестьянским и советским) существует и различие. Если традиционному крестьянскому самосознанию свойственно неразличение этнического и социального компонентов в характеристике "своих", "чужих" и "своих чужих", то новому типу, скорее, – игнорирование этнической принадлежности неодобряемых персонажей (мещане, бюрократы – вне зависимости от того, к какому народу те относятся). Разумеется, в этом сказывается и воздействие советской идеологии, но главным образом это свидетельствует о принадлежности автора писем к интеллигенции: презрение к ксенофобии – черта истинного интеллигента – и не только белорусского. При этом в отличие от крестьянского типа менталитета и отражающих его фольклорных текстов, в письмах белорусского советского интеллигента этноним "белорус" не только употребляется: он обжит и имеет четкое значение – гражданин Беларуси (пусть даже и понимаемой как БССР). "Свои" как составная категория: взгляд изнутри. Образ "своих" в письмах двоится – на "большой Мы-образ" (советский народ) и "малый Мы-образ" (белорусы). Но существует и еще один образ "своих" – самый проникновенный и самый близкий автору. Он зиждется на традиционном местном (локальном) фундаменте – на связи с "малой Родиной" автора, Случчиной, или, как он называет ее – особым "Слуцко- Копыльском государством" (39). Этот аспект образа "Мы" (случаки) не приходит в столкновение с белорусским образом "Мы": скорее образ Случчины является для автора квинтэссенцией, идеалом "белорусскости". Однако он входит в противоречие – и порой резкое – с общесоветским образом, например, с образом российской "глубинки": "Да и люди, мне кажется, всегда в деревне более душевные, доверчивые и товарищеские. И всегда на добро отвечают добром. Или может быть, это только свойственно нашим [Курсив мой. – Ю.Ч.] людям. Скитаясь по матушке-России я видел, что здесь народ хитрее, грубее и очень недоверчиво встречает горожан и вообще всех, норовя как бы извлечь из него какую нибудь выгоду" (223). Итак, недоброжелательный этнический стереотип может относиться и к тем, кто в других отношениях является "своим" (в письмах часты позитивные упоминания обо "всех людях", под которыми подразумеваются граждане СССР). Однако этот отрицательный стереотип встречается лишь в одном письме: в 263 остальных советский народ видится однородно – как "свои". Тем самым образ своих представлен в единстве трех пластов (земляки-случаки, белорусы, советские люди). Особенно интересно прослеживается в письмах изменение границ "своего" и "чужого" внутри собственной группы. Что я имею в виду? В первую очередь, то, что элемент "чуждости" проявляется уже не только снаружи (вне народа или хотя бы собственной группы), а внутри образа "Мы" (в котором есть и бюрократы, и мещане, и жулики): "Разве мало есть сейчас прохвостов, которые готовы спекулировать ради своей выгоды на чувстве землячества?" (78). С другой стороны, образ "своего чужого" (напомню: в сказках по преимуществу это еврей) перестает быть актуальным: и Хв. Шинклер, и И. Любан, и др. оцениваются автором писем как полностью "свои". Новое понимание добра: "не як усе". Соответственно смещается соотношение Добра и Зла: теперь уже они не столь однозначно, как в традиционной культуре, связаны с локальными представлениями о "своем" и "чужом", сглаживается однозначность – даже в негативных ситуациях (вспомним композитора N из письма 96). Но важнее другое: традиционное понимание добра, определяемое максимой "як усе", впервые ставится под сомнение. Это понятно: принцип подобия другим, определяющий нормы крестьянского общежития, не подходит интеллигенту, ценящему личностную свободу: "Может быть, я идеалист, но лучше быть хорошим, настоящим идеалистом, чем "хорошим", "приличным" в кавычках и умеющим сохранить за собой эти оценки и мнения других только хитрым, искусным и обманным маневрированием" (81). Жизнь – Смерть Идея смерти в менталитете советского человека. Наименее разработанным в письмах является оппозиция "Жизнь – Смерть". На первый взгляд, это может показаться странным: ведь речь идет о войне, и до смерти буквально "четыре шага". Тем не менее, такое отношение к смерти именно в тех обстоятельствах, скорее, правило. Во-первых, угроза смерти воспринимается как постоянный, а значит, и привычный фон жизни: "З поўначы да самай раніцы не давалі спаць адольфавы малойчыкі. Нашы гарматы б'юць іх, нашы лётчыкі нямала на той свет заганяюць і ўсё-ж лезуць. Закрыўшы вочы, лезуць на сваю пагібель. Усю зіму было спакойна, а с пачаткам вясны... кожную ноч пачалі лезці. Толькі прывыклі мы ўжо: стараемся не заўважаць. Але калі непокояць, то не вельмі прыемна" (32). Во-вторых, действует свойственное эпохе Модерна "замалчивание" смерти: вследствие направленности культуры на "живую жизнь", на время, а не на вечность В. избегает слова "смерть", и в письмах оно встречается редко. 264 В-третьих, в отличие от крестьянского этоса, включающего особые методики "контроля над смертью" посредством ритуалов, атеистическая культура не выработала адекватных средств "приручения" (термин Ф.Арьеса) смерти. Смерть воспринимается как конец всему: потому человек Модерна старается отодвинуть мысли о ней далеко вглубь. По всем этим причинам осознание постоянной угрозы смерти выражается в косвенных формах – в беспокойстве о здоровье семьи; о родителях и сестрах, оставшихся на оккупированной территории; о брате, находящемся в армии. Прямые упоминания о смерти лаконичны: "Расстреляли немцы многих крупнейших профессоров – Ситермана, Дворжеца, известного детского врача Гуревич, женщину... Над Ситерманом издевались. Заставляли его возить бочку с водой по улице и избивали. Тяжело писать даже об этом" (132)."Под Сталинградом убит Хвядос Шинклер... Все редеют писательские силы" (156); "Папы моего уже нет в живых. Его немцы замучили в тюрьме. Когда, за что – не знаю, но, видимо, за то, что он организовал колхоз, был его председателем и, видимо, за нас, за сыновей" (265). Философское понимание соотношения "Жизнь – Смерть" прослеживается только в одном письме – в ответе на рассказ жены о том, как в июне 1942 г., когда она спасалась с детьми в белорусских лесах, ей пришлось принимать роды у такой же беженки: "Главное, что ты глубоко поняла, что то, что ты видела в лесу, это бессмертие, утверждение вечной жизни. Женщина спасается от убийц, от смерти, но она думает не о гибели, а о жизни, она утверждает жизнь, перед которой бессильны все, кто хочет убить ее" (97). Как мы видим, акцент смещен с идеи смерти (свойственной, например, Древнему Египту или европейскому средневековью) на идею жизни. Это свидетельствует о динамической, "модерной" сущности менталитета белорусского интеллигента. Однако сохранились и элементы традиционного мифологического мироосмысления: показательно, что актом победы над смертью выступает не героизм (как в культуре Просвещения), не творческое бессмертие (как в культуре Ренессанса), но извечный органический акт – рождение человека. Это связано с гендерной составляющей менталитета. Мужское – женское Женщина-родина. Оппозиция "мужское – женское" в письмах В. – показательный пример сочетания традиционных (крестьянских) и инновативных (модерных) тенденций в менталитете советского белоруса. Женщина предстает и в древней функции хранительницы очага, и в качестве друга, и в качестве "творца", "соавтора". Но самая последовательная параллель, проводимая в письмах, – "женщина – 265 родина" или "женщина как родная земля". Первый фрагмент, иллюстрирующий это представление, таков: "А недавно мне снилось, что с моей кровати забрали казенное одеяло и расстелили домотканое материно, что она сама ткала. Я проснулся и всем говорил: "Ну, скоро будем в Белоруссии" (99). Одеяло, сотканное руками матери, как символ дома и – шире – Беларуси противопоставляется "казенному" как символу бездомного военного быта вдали от малой родины. Увы, до возвращения в Беларусь еще почти три года… Рисунок: Старая маці з крынкай – Этнография Беларуси, 335. Варианты: Бабулька Марыля.– Сучасны беларускі партрэт, с. 84; или там же с. 98. Второй фрагмент: "учора я сніў сон – бачыў цябе, дзетак. І такое рослае жыта, з такім буйным коласам, што і ў жыцці не бывае. І яшчэ – многа, многа цукерак. Праснуўся – і ўсё яшчэ здавалася, што гэта і праўда" (37). Женщина, дети, рожь и сласти – образ мирного счастья и радостной жизни на родной земле (под "родной землей" в письмах понимается исключительно Беларусь). Примечательно, что образ "женщины-родины" раскрывается через сны автора: можно предположить, что он относится к бессознательным структурам человеческой психики. Наиболее явно прослеживающаяся здесь идея – защита со стороны "рода, народа", поддержка, осуществляемая благодаря изначальной связи с землей, на которой рожден человек и символ которой – женщина. Женщина-мать. Этот образ представляет более частный "срез" первого: "Я часта цябе сню і ў снах заўсёды вобраз маці зліваецца з тваім вобразам. Вялікая маці! Цярплівая і многапакутная! Я некалі ведаў сваю маці такой і цяпер ведаю такой цябе. Ды хіба можа быць ў мяне іншае ўяўленне аб жанчыне. Я ненавіжу і ненавідзеў жанчынпустацветаў, якія не могут і не здольны быць мацерамі. Яны клапоцяцца толькі аб сваёй асобе… гэта прыгожыя жывёліны, якія хочуць падабацца ўсім і ўсякаму, а ўнутры – нікому не патрэбныя пустацветы. Вось чаму, калі я бачу на вуліцы жанчыну з дзіцём, або с цэлаю гарадой дзяцей – няхай змучаную, зняхіленую – я гатовы зняць перад ёй шапку і пакланіцца. Толькі ты ведаеш вялікае шчасце, толькі ты самая сапраўдная жанчына! – хочацца сказаць мне ёй (61). В качестве идеала здесь представлен типичный для традиционного менталитета образ женщины: можно вспомнить героиню ряда сказок (самый яркий пример – "У п'ятніцу не смейсе, а у недзелю не плач"), а особенно образ матери в белорусских песнях (свадебных и внеобрядовых). Рисунок. Семья белорусских горожан, 1936 г. – Жаночы касцюм, с. 142 (вторая стр. вкладыша). 266 Женщина-друг. В фольклоре этот образ прослеживается редко. В письмах же одна из главных функций женщины – функция друга, единомышленника: "я теперь с благодарностью вспоминаю, как ты поднималась надо мной, как более сильный и выносливый характер и душа, подчиняла чему-то высшему, и с трудом подымался, а поднявшись, радовался и думал о тебе только хорошее, понимая, что это только благодаря тебе (1937 год!). Сейчас я чувствую, что ты и в этом испытании – герой, а я посторонний наблюдатель" (51); "Ты – героиня была и будешь. Я это знаю!" (56). Тем самым новый образ "женщины-друга" связывается с традиционным образом "женщиныродины", принимающей на свои плечи самые тяжелые испытания. При сравнении со сказками собенно примечателен последний аспект: ведь во многих текстах (наиболее афористический пример – сказка "Як Хрыстос вучыў людзей") женщина предстает как слабое, неспособное к полноценному труду существо: "От і цепер жанчына працуе ад ранку аж да поўначы, але яе работы ніхто не бачыць. Заўжды яна бярэцца не за свае дзело, а наробіць, бы кот наплачэ" [189, с. 106]. В письмах представлен противоположный взгляд на женский труд: "Виноват за то, что ты всегда в десять раз больше страдала, терпела, чем я. Терпишь и сейчас больше, работаешь больше, бьешься, как рыба об лед, чтобы продержаться, вытерпеть, выстоять тяжелую годину" (45). Можно объяснить перемену в воззрениях на женщину и личной позицией автора, и спецификой военного времени, но наиболее верным представляется иное толкование. С одной стороны, в изменении образа женщины и появлении в нем новых граней (например, женско-мужских отношений, основанных на дружбе и родстве душ) сыграла свою роль широко декларируемая в СССР идея гендерного равноправия; с другой стороны (и это воздействие более весомо) – свойственная классической литературе характеристика женщины как существа, возвышенного, чуткого, духовно сильного. А белорусский интеллигент знает и любит классическую литературу, что нередко отпечатывается на его манере письма: "Это мои чувства к тебе, мои мысли о тебе, воспоминания – все лучшее, все самое возвышенное и чистое, чем я живу, как думающий и мыслящий человек... Я тебя знаю, родная моя, как бы тебе физически тяжело не было сейчас, ты нуждаешься в этих минутах хорошего и чистого откровения между нами, как нуждаюсь и я. Когда мы были с тобой вместе, то, о чем я так теперь часто пишу тебе, тонуло, терялось в будничной жизни. Но разве мы не стремились и тогда к этому духовному откровению? Эти минуты были. Мы их не называли словами, но они определялись чувствами" (51). 267 Женщина-соавтор. Новый аспект гендерных отношений (дружба, базирующаяся на духовном родстве) предполагает сотрудничество: "Но ты ведь не только читатель, но и мой критик, мой учитель" (128). Здесь ипостась "женщины-друга" связывается с другой гранью женского образа – "женщина-соавтор". В трех предыдущих гранях женского образа прослеживается элемент "органического" возвышения женской души над мужской (женщина как мать, как более тонкое, доброе и благородное существо). Но вот в этой, последней, характеристике (женщина-соавтор) В. ставит себя на первое место – место "автора", человека более образованного и талантливого. Отсюда – мотив наставничества в разных сферах: и многочисленные советы по усовершенствованию быта, и рекомендации в области чтения, самообразования, образования детей. Функция опеки переходит в мужские руки (вспомним: в предыдущих "ипостасях" женщины эта функция находится в ее руках): "Как бы я хотел вместе с тобой разделить все тяжелые работы, выпавшие только на тебя, на одну. Но старайся, родная (неразб. – Ю.Ч.), не забывать меня. Жить со мной духовной жизнью, которой дорожу я" (51); "Милая моя, хорошая, я все собираюсь да забываю похвалить тебя за то, что ты читаешь... Это наполнит тебя, даст тебе большую, полную, духовную жизнь " (118). С этой позиции автор оценивает известие о том, что жена пытается написать рассказ: "Какая ты у меня умная, какой великий человек. Я даже на тебя не в обиде за то, что хлеб у меня отбиваешь, пишешь рассказ. Дело не в рассказе и не в том, удастся ли он или нет. Главное, что ты глубоко поняла, что то, что ты видела в лесу, это (неразб. – Ю.Ч.) то, о чем надо писать, ибо это бессмертие, утверждение вечной жизни... Есть у Горького рассказ "Рождение человека"… Но для этой темы нужен новый Горький. Будем мы с тобой этим новым Горьким!" (97). Итак, автор приглашает жену к совместному творчеству. Сравним с мемуарами Н.Улащика, отмечающего чрезвычайно глубокий водораздел между мужской и женской деятельностью в белорусской деревне – и всего-то трудцатью годами раньше [197, с. 65]. Итак, новый – для гендерного дискурса и в целом для менталитета белоруса – мотив совместного творчества безусловно, связан с советским требованием равенства мужчин и женщин, но и не только. Он связан со свойственной Модерну убежденностью в том, что человек – вне зависимости от пола – должен целенаправленно строить автобиографию, развиваться, тянуться, расти. При этом маскулинный (предпочтительномужской) аспект в советском менталитете не исчезает полностью: он лишь затушевывается. Здесь можно говорить о несовпадении (во всяком случае, далеко не полном совпадении) деклараций женского равенства и реальных требований к женщине. Женщина воспринимается как вторичное alter ego мужчины. Отсюда, с одной стороны, 268 ее право на собственный путь: "я вчера решил, что ты опять пойдешь работать в театр. Так что готовься. У тебя сейчас большой жизненный опыт и много ты приобрела таких качеств, которые только помогут тебе" (237). С другой стороны, показательно словосочетание "я решил". Право решения остается прерогативой мужчины, так же как и право "рекрутирования в культуру" – то есть наставничества, советов, контроля и т.д. В целом на примере отношения "Мужское – Женское" мы видим существенное изменение менталитета белорусского советского интеллигента по сравнению с недавним крестьянским. Помимо традиционных представлений в него проникают элементы новой идеологии. Но несмотря на то, что этот образ становится более "прогрессистским", он сохраняет и традиционные тенденции (дом, дети и быт как основные функции женщины). Причем именно они представляются автору более значимыми: об этом свидетельствуют и приведенный выше фрагмент о материнстве как высшем предназначении женщины, и множество подобных других замечаний по ходу писем. Интересно, что в письмах не усматривается противоречий между ограничивающими друг друга, даже более того – мешающими друг другу образами "женщины-матери" и "женщины-соавтора": вероятно, в этом сказывается оптимистическая установка Нового времени (и, в частности, советского мифа) на возможность одновременной реализации человека в разных сферах. Эта тема (и ворох связанных с ней вопросов) будет осознана позже – в период феминистской критики, о которой я скажу в следующем очерке. Мужская роль во многом остается той же, что и в крестьянском менталитете: за мужчиной остаются функции обеспечения и защиты. Первая функция реализована прямо (почтовые переводы, подробные перечни содержимого посылок, справки из Союза писателей СССР, необходимые для прикрепления семьи к магазину и т.д.), вторая косвенно (преобладающее число писем включает заботу о здоровье семьи, медицинские советы, советы по налаживанию быта и т.д.). Расспространен и мотив сожаления о невозможности взять в свои руки семейный быт, помочь в благоустройстве семьи и т.д. Однако включается и новый мотив ("рекрутирование в культуру"), предполагающий заботу о духовном развитии жены и детей и представляющийся автору не менее значимым, чем традиционные формы заботы. Время и пространство интеллигента в менталитете белорусского советского В предыдущем очерке отмечалось, что в этническом менталитете соотношение "время – пространство" выражается в представлениях о территории и истории народа. Как это соотношение выступает в менталитете советского человека? 269 Этническое время Новые типы зонирования времени. Как мы помним, повседневное время деревни зонируется по оси "праздники – будни", а также в зависимости от сезонного распорядка работ. "Точками", которые отделяют зоны друг от друга являются праздники ("дожинки", "зажинки", религиозные праздники, воскресенья и т.д.). В советский период большая часть праздничных дней заменяется другими. Возникают новые общесоветские праздники: 1 мая, 8 марта, 23 февраля, 7 ноября, и со всеми ними В. поздравляет семью. Однако в письмах сохраняется и связь человека с традиционными и /или религиозными праздниками, хоть и в несколько ином контексте. В. отмечает их как пункты отсчета природных изменений, начала крестьянских работ или периодов досуга: "вялікдзень"; новый год, рождество. Они связываются с идеями "победы", "встречи", "возвращения на родную землю". Но самое интересное – то, что религиозно-мифологический компонент переносится и на антирелигиозные советские праздники: солнце упоминается как помощник Красной армии (194); непогода на Пасху как выражение "покровительства" природы (31). Таким образом, прежнее мифо-религиозное мировоззрение в атеистическом СССР не исчезает: оно лишь отходит в тень, существует подспудно, неявно, но все же существует. Да, менталитет сохраняется в своих общих чертах, несмотря ни на какие смены общественного строя… Праздники и будни. Менталитет традиционного крестьянина пересекается с менталитетом советского белоруса еще с одной позиции – соотношения праздников и будней. Уже отмечалось, что в традиционном этосе ценностным "перевесом" обладают будни. То же характерно и для советского этоса: "Выходной у меня всегда пустой скучный день, и чувствуешь себя, как вышибленный из жизненной колеи. Даже мысли хорошие не идут в голову, и какая-то праздная пустота. Я убедился, что чем больше работаешь, тем больше и плодотворно мыслишь" (57). Вероятно, это связано со свойственным белорусу мощным трудовым кодексом: вспомним, что идея досуга в сказках не прослеживается вовсе (вернее, прослеживается исключительно в отношении пана, горожан, т.е. "чужих", а для крестьянина праздник – это время опасное: именно в праздничные, "бездельные" дни и ночи его часто искушает черт). Эта характеристика белорусского менталитета устояла при всех изменениях и надломилась только в недавнее время, о чем в следующем очерке. Прошлое, настоящее, будущее… В культуре советского Модерна настоящее ценно почти исключительно как шаг к будущему. Это "время Ч", когда будущее творится. И хотя само по себе настоящее – время, полное бед и лишений, оно понимается как необходимый этап подготовки к "светлому завтра". "Завтра" куется 270 "сегодня", и советский интеллигент воспринимает себя современником и строителем великих событий. Он не просто проживает свой срок подобно предкам и по их законам: он живет в истории и сознает это. Однако современность воспринимается им не как самоцель, а лишь как средство достижения будущего идеала, и потому играет подсобную роль. Прошлое, настоящее и будущее скреплены биографией человека и переживаются через нее, но главное для советского человека время – не сегодняшний, а завтрашний день. В традиционном менталитете происходит по-другому: время переживается не личностью, а общиной, да и переживается ли? Во всяком случае, образ будущего в крестьянской культуре размыт, а настоящее понимается как скол прошлого, которое должно вновь и вновь кроиться по "священным лекалам" – и по возможности без отступлений. Удивительно ли, что личная биография представляется крестьянину неважной? В этом сказывается действие максимы "як усе": человек рождается, как все, женится, производит на свет детей и умирает – тоже, как все. Важна не личность – важен род. Поэтому в традиционной культуре нет ценности детства: ребенок понимается как "недоделанный" взрослый. Ему надо привить навыки и умения, необходимые во взрослой жизни, чтобы он повторил – желательно без вариаций – жизнь отца и деда. Именно идея повторения окутывает смутные крестьянские представления о будущем. Ясно одно: оно должно строиться по образу и подобию некогда бывшего "золотого века". Рисунок: Крестьянский мальчик – Мужчынскі касцюм, с. 78. Самое интересное, что при всей направленности в будущее, в письмах белорусского советского интеллигента традиционные воззрения о "золотом веке" сохраняются: под ним подразумевается довоенное время. Как всегда в мечтаниях о золотом веке, факты, доказывающие, что он не был таким уж "золотым", стираются. Потому в письмах В. почти не упоминается 1937 г., когда он, исключенный из газеты за "недоносительство", был вынужден уехать из Минска и работать сторожем в Пуховичах; когда его друзья (А. Пальчевский, С. Граховский, В. Дубовка и многие другие) были принесены в жертву репрессивному молоху; не вспоминаются ужасы раскулачивания и невыносимый быт военного коммунизма. Помнится только хорошее: "Как много мы пережили, перечувствовали и как много узнали. А главное, что мы узнали, это то, что мы не умели ценить свое счастье. Счастье жить вместе, жить на своей родной земле" (77). Впрочем, то, что по сравнению с войной мирная жизнь имеет черты "золотого века", естественно. Поэтому в этой точке традиционное понимание будущего 271 накладывается на новое без швов и рытвин. Разница – в отношении белорусского крестьянина и советского интеллигента не столько к будущему, сколько к настоящему. В первом случае оно понимается адаптивно: человек должен приспособиться к отлаженным и "навсегда пригодным" моделям жизни, которые предоставляет ему община. Во втором случае оно активно: в настоящем человек поступательно по кусочкам отвоевывает будущее: "Будем жить и твердо верить в наше счастье, в наши лучшие надежды. Ведь мы так мало были вместе и как много впереди. Нам еще предстоит настоящая наша молодость" (81). Образ молодости здесь не случаен, как и возникающие далее образы зрелости и детства. Вспомним: текстам традиционной культуры не свойствен акцент на поколенческих различиях – за исключением старости как периода мудрости ("стары бацька") и юности как периода сумасбродства (крестьянский сын). В остальных случаях возраст героя не важен: он как бы рожден в среднем возрасте и пребывает в нем, пока имеет силы вести хозяйство. Потом он – рывком – переходит в старость. Детство же, как я уже говорила, в большинстве сказок и вовсе игнорируется. Появление категории "детство". В целом детство стало наделяться содержанием особого периода в жизни человека лишь в Новое время. Но даже в ХХ в. в крестьянской культуре понимание детства – как особого возраста, требующего внимания не просто к здоровью (этот мотив как раз звучит в сказках), но и к духовному развитию – не проявлялось. Главным считалось то, что сын унаследует отцовское имущество, и его надо научить разумно использовать это наследство. В письмах В. проявились обе –и старая, и новая – тенденции. Ребенок понимается и как продолжатель отцовских функций (традиционный взгляд), и как самостоятельный человек, индивидуальность которого следует взращивать (современный взгляд): "он мой наследник. В наследство ему не останется ни имений, ни поместий, ни, может быть, собственного угла даже, но ему я могу передать то, что сохраняю и берегу в собственной душе. Я хочу, чтобы сын мой был человеком. А это самая высшая должность на Земле" (217). Итак, с одной стороны (традиционно-крестьянский менталитет), сын понимается как наследник, с другой (менталитет Модерна) – наследство, которое он получит, невещественно. Это не просто совокупность практических умений и навыков социализации (и тем более, не "гаспадарка", как в сказках) – это знания и эмоции, которую следует развивать, приобщая ребенка к культуре. Отец пытается делать это на расстоянии: "Читаешь ли ты им сказки из "Гуси–лебеди"? Что им нравится и вообще, интересуют ли их сказки?"(125) "Какие ты новые стихи выучил? Ты проси маму, чтобы она тебе читала стихи и книжки. Помнишь ли ты еще "Трудно дело птицелова"? Когда я 272 приеду к вам, или ты с мамой и Наталочкой ко мне приедете, ты мне расскажешь все новые стихи, что ты выучил" (18). Рисунки (белорусские дети): Девочки в национальных нарядах – Этнография Беларуси, 500, 501. Мальчик (портрет "Костик") –– Сучасны беларускі партрэт, с. 77. Большое значение придается тому, чтобы дети знали родной язык: "Через год-два [сын. – Ю.Ч.] будет учиться в школе. Только бы на своей родной земле и на своем родном языке. Оленька, он понимает хоть, когда ты ему читаешь белорусские стихи?... Вилика именно в таком возрасте надо учить языку – настоящему – живому, народному" (227). Важно и то, что максима "як усе", являющаяся императивом воспитания в традиционной культуре, у носителей нового типа менталитета подвергается сомнению: "Это очень интересная деталь, что Вилик в саду чуждается коллектива... Черта эта необходима и полезна, но только когда не дать ей возможности перерасти в свою противоположность – в пренебрежение, в самолюбие и ненужную гордость. Умение наблюдать, умение сомневаться, самому оценивать явления по-своему – все это необходимо" (204). Но поскольку тип менталитета советского интеллигента "модерен" не в полной мере, в письмах, пусть и в шутливой форме, встречаются фрагменты, отсылающие к традиционному строю отношений (в частности, к идее мужского доминирования): "Мой умница, мой хороший сынок… Вот он один там среди вас, баб, мужчина, а вы его обижаете. Скажи ему, что я приеду, и мы с ним вместе за вас "возьмемся" (131). Ценность ребенка понимается и в контексте связи с прекрасным будущим, и в более "органическом" контексте: ребенок видится автору мерилом естественности, нравственности: "Все что искренне – естественно. Вот почему дети не любят лицемеров и сразу же их угадывают. Сам по себе мир, природа – это ребенок, ибо она естественна" (77). Как традиционный компонент в новом типе менталитета можно рассматривать не только содержание, но и форму воспитания детей, в белорусской культуре искони отличавшуюся мягкостью, отсутствием директивности: "Вилинька уже постепенно может приучаться к буквам… Только нельзя ему этого навязывать, никакого, ни малейшего насилия. Важно найти такие точки соприкосновения с ним, чтобы интерес к книге, к рисунку, к цифре получил для него свой смысл, а не был для него обязанностью, повинностью. Спешить не надо, Боже сохрани!" (204). О такой же терпеливой модели обучения – посредством игры – в белорусской деревне вспоминает и Н.Улащик. Здесь 273 мы вновь сталкиваемся с формой "окольного пути", исключающего принуждение. Отсюда же – в более общем смысле – общая для традиционного крестьянина и советского интеллигента "этика ненасилия": отец отходит в тень, позволяя детям совершать собственные ошибки (тот же путь в сказках избирает Бог в отношении людей). Родительская мягкость выражается и в том, что слово "дети" встречается редко: в основном, сказочники говорят о "детках", "деточках" (ср. в сказках; "працавалі, каб зарабіць крыху хлеба да ўзгадаваць дзетак" [189, с.132]; "[Хрыстос] вучыў іх, як на свеце жыць да дзетак пладзіць… да гадаваць" [191, с. 125]. Точно так же называет детей В. Однако в письмах есть и то, чего нет в сказках: дети осознаются как человеческая категория, обладающая самостоятельной психологической и характерологической ценностью: в этом сказывается динамическая идея Модерна. С другой стороны, она выражается и в том, что высокий статус старости как мерила мудрости, представленный в сказках ("Стары бацька"), в письмах не прослеживается. Ценность зрелости. Наиболее значимым статусом в письмах наделяется период зрелости: "Как будто наступил какой-то полдень, когда солнце высоко-высоко стоит над миром. И все так ясно-ясно, и так далеко-далеко видишь и различаешь. Да это и есть настоящий полдень, полдень нашей зрелости, зрелости мысли, а отчасти – чувства" (77); "А потом все же буду продолжать те темы, которые мне наиболее близки. Это тема, на которую я думал писать еще задолго до войны, а сейчас она приобрела еще большую ясность. Полдень человеческой жизни, зрелость, познание самого себя – связь личности с судьбой народа, который тоже дожил до ясного полдня, до зрелости, и вот опять на него обрушилась ночь. Но именно в борьбе этого человека, личности, как и народа в целом, с темной, страшной силой и кристаллизуется ясность этого полдня, этой настоящей зрелости" (113); "Эти дни напряженно работаю над поэмой "Поўдзень" – о войне, о зрелости человека, о матери, о детях, о тебе, о себе и т.д." (256). Как же автор понимает суть зрелости? "Помнишь мой маленький стих о том, что я завидую не листу, который прилип к дереву и трясется вместе с ним под дождем и ветром, боясь оторваться и упасть, потому что внизу – бесплодие, а зерну, которое, наоборот – радо малейшему дуновению ветра, радо буре. – Упасці, упасці! Каб новым нарадзіцца дрэвам і зноў пад ясным сонцам выспяваць. <…> разве надо бояться нового? В этом наша зрелость!" (113). В этом фрагменте сплелось несколько тем менталитета – и тема предназначения, и тема связи человека с родной землей, и тема особого самосознания, которое предполагает не послушание общим истинам, а обращение к 274 собственным силам. Помимо связи с землей, все они новые, несвойственные терпеливофаталистическому духу крестьянской культуры. Отличия в традиционном и динамическом взгляде на время. Категория "события". Этническое время в письмах резко отличается от этнического времени сказок. Может показаться, что это связано с тем, что сказки и письма – все же различные жанры, имеющие разные цели, но вряд ли дело только в этом. Ведь и в сказках, и в письмах я прежде всего обращала внимание на дух повседневности – на то, как рядовой человек в обыденной жизни воспринимает время, что оно значит для него – бурный водоворот или спокойное озеро, поросщее тиной болотце или обильную реку. Эти представления в человеческом сознании существуют латентно, они выказываются ненароком, и именно эта латеность, "ненароковость" – и есть самое ценное: только благодаря ей мы и можем понимать, как относился к времени реальный, а не сконструированный идеологией человек. Итак, каковы же различия в традиционном и модерном взглядах на время? И каковы их причины? Во-первых, война полностью нарушает заведенный распорядок жизни, а значит, рушится и традиционное понимание времени как священной категории, регламентирующей и периоды усиленных трудовых действий, и периоды отдыха. Вовторых белорусский интеллигент живет не в деревне, а в городе, и его жизнь не связана с сезонными работами и оторвана от природных изменений ("Хотя где ее [весну] в городе увидишь, заметишь ее постепенное приближение? Все эти приметы непонятны горожанам. Весна всегда ставит их перед фактом, когда вдруг надо снимать пальто и галоши и надевать легкий костюм. Вот и все, что представляет человек, не знающий прелести природы" (51). Но главная причина – не в этом. Сам взгляд на время изменился: ощущению "рядового" каждодневного времени стало сопутствовать понимание исторического времени. Главная категория такого времени – это событие. Несмотря на то, что отпечатки исторических событий прослеживаются в преданиях и ряде сказок ("Цар Пятро", "Сьвiное рыло"), в целом жизнь крестьянства происходила в "темницах долгого времени" (Ф.Бродель) – во внесобытийном "потоке жизни". Если поток – наиболее явная форма времени в повседневности, то событие задает времени новый отсчет. В нашем случае это война, в свете которой изменяются ценности и приоритеты человека: они перестают быть локальными (представляющими интересы семьи и узкого круга), или даже этническими, а приобретают значение в свете интересов "всего народа" ("в такое время тяжелого испытания для родного народа думать о каких-то шпалах могут только люди, не видящие ничего дальше своего носа") 275 (56), "Сейчас каждый человек, стиснув зубы, напрягает все свои усилия для спасения своего счастья, своей Родины" (4). Таким образом, событие понимается как момент, объединяющий всех советских людей вне их этнической принадлежности. Пожалуй, именно в этом аспекте наиболее явны отличия рассматриваемых традиционной и модерной этничности. Это связано и с характером самого события (мировая война), и с изменением позиции человека по отношению к этому событию и к другим его участникам: речь идет о формировании длинных социальных связей, охватывающих и советских людей, и все народы, пострадавшие от нацизма. Тем самым в точке "события" формируется государственное и мировое "воображаемое сообщество". Такое понимание не могло возникнуть в традиционной культуре из-за мощного разграничения на "мы – они", порождающего герметизм, отграниченность не только от других этносов, но даже и от других регионов. При этом в письмах четко ощущается и момент желанного времени – победы, после которого можно снова с чистой совестью вернуться к привычному, стабильному существованию на родной земле. Автор писем еще не знает, что неторопливое традиционное время непоправимо разрушено… Личное время человека. Как мы помним, личное время крестьянина состоит из работы и досуга. Личное время белорусского интеллигента 40-х гг. ХХ в. дополнительно включает приобщение к мировой культуре. Время досуга, как и в крестьянской культуре, видится второстепенным по отношению ко времени труда. Время, сознательно отведенное на приобщение к высокой культуре, – новый мотив в этничности. Можно предположить, что оно заменяет присущее традиционной этничности "время молитвы", – не церковной, а "немой", производимой наедине с Богом. Сходна сама цель этих двух типов досуга – прикосновение к полноте бытия: "Эти дни хожу на оперу и балет. Стараюсь вобрать все, что можно. Полнее душа становится" (73); "Может, трудно тебе урывать время, но читать надо. Это наполнит тебя, даст тебе большую, полную, духовную жизнь. Как бы мне хотелось, чтобы ты прочла Толстого "Войну и мир"… я жил буквально несколько месяцев великим миром его героев" (118). Итак, в период воинствующего атеизма функцию, компенсирующую "отсутствие" религии (как вместилища духовных и моральных ценностей), выполняют тексты высокой культуры. Воистину свято место пусто не бывает. Впоследствии постмодернизм заклеймит такое отношение к классическим текстам и "обожествление" их авторов, но в те (да и в более поздние) годы причащение интеллигента к культуре, в частности, к литературе заполняло лакуну "высокого", "трансцендентного", образовавшуюся после "отмены" религии. "Божественного", 276 Этническое пространство Родная земля как символический капитал. Общим для крестьянина XIX в. и для белорусского интеллигента середины ХХ в. является понимание земли как основного достояния: народ, лишенный права на собственную территорию, видится "угнетенным", "осмеянным", "обесславленным", "когда и собственный дом, и родная земля дороги и живут только в воспоминаниях, как надежды на спасение" (113). Далее начинаются различия… Крестьянин "впаян" в реальное пространство малой родины и идентифицирует себя как "тутэйшага" постольку, поскольку живет на своей земле. В отличие от "мужыка" этничность интеллигента базируется не столько на фактическом, сколько на метафизическом – невещественном, духовном – понимании Родины: она присутствует в его жизни как символ, как память, даже если он оторван от нее. Наряду с традиционным образом пространства в новом типе этничности прослеживаются и начатки представления о "большой Родине", т.е. СССР. Образ, объединяющий это пространство, – красная армия. Поскольку она представляется "своей" ("наши войска", "наши"), то и вся страна, которую армия защищает, видится своей – но только в какой-то мере. Не случайно "нашей землей" автор почти исключительно называет Беларусь: "Вести с фронта очень хорошие. Наши везде гонят немца. Возьмут Смоленск, а дальше и наша земля" (233); "на Гомельском направлении наши усиленно освобождают нашу землю" (235). Здесь одно и то же слово употреблено в двух разных смыслах: "наши" – армия как общегосударственная советская структура, "наша" земля – в значении "белорусская". Тем самым образ Отечества, лежащий в основе этого типа этничности, включает – пусть не в равной мере – два среза этнического пространства: "Большая Родина" и "малая родина". Однако образ "Большой Родины" в письмах в основном декларативен (и вовсе не удивительно, что автор пишет о СССР в тоне газетных штампов). В отличие от него ощущение малой родины эмоционально и личностно. Малая родина как эпицентр этнического пространства. Образ "малой родины" по сравнению с крестьянским сущностно не изменяется: об этом говорит не раз упомянутое в письмах стихотворение В. "Горкі вырай": Мой родны, сіратлівы дом – Бязлісты вяз с пустым гняздом! Але ўжо ловіць прагны слых Ваш лёт, далёкія буслы. Зазелянеў магутны вяз 277 І зноў вясна склікае нас. Бывай, мой вырай – шлях пакут, І я за птушкамі ў свой кут! Как мы видим, образ "малой родины" полностью соответствует тому, который Колас определил как "родны кут". Показательно, что назвать первую книгу "Горкі вырай" автору не позволил Главлит (главное управление по делам литературы и издательств): думается, причина этого – именно малый образ Родины, противоположный официальной установке на образ "страны огромной". Двойное моделирование этнического пространства. О сохранении образа малой родины как основного, наиболее "живого", эмоционально воспринимаемого компонента этнического пространства свидетельствует отрывок из письма: "Это он [Кузьма Чорны. – Ю.Ч.] мне рассказывал об алешыне (ольха), что растет где-то между Слуцком и Тимковичами и у которой он всегда любил, когда шел домой из Слуцка, посидеть, помечтать. Мы ведь земляки – случаки. Поэтому очень близок и понятен нам и свой пейзаж, и язык, и человеческие характеры, свойственные нашему СлуцкоКопыльскому государству" (39). Таким образом, можно говорить одновременно о процессе моделирования большого пространства в малом (государство моделируется в Случчине, а Случчина – в ольхе) и об обратном процессе – моделировании малого пространства в большом (образ Слуцко-Копыльского "государства"). Тем самым "большая" модель государства приобретает человекоразмерность, а "малая" – величие. Важно здесь слово "государство", приложенное к родной территории. С одной стороны, в этом просвечивает идея традиционной крестьянской закрытости: автор словно бы отделяет Случчину от всех других районов – как заповедник истинно народного, истинно белорусского духа. С другой стороны, метафора "государства", невозможная для дореволюционного крестьянина, показывает: мы имеем дело с принципиально иным, нежели крестьянский, типом приобщения к Родине – с гражданской идентичностью. Этноним и этнический миф в этничности советского белоруса Помимо "этнических априори" – времени и пространства, а также особой картины мира в самосознании человека существуют две структуры, благодаря которым он считает себя этнофором. Это этноним и этнический миф. Этноним У традиционного белоруса (во всяком случае, в массе) этноним не был выработан. Это легко объяснимо. Там, где главную роль играет "тутэйшасць", т.е. локально-местное самоопределение, не может быть общенародного самосознания: для него просто нет 278 фундамента. Самоназвание "мужык" и тот факт, что жители окрестных деревень тоже называются "мужыкамi", говорит о том, что в тот время народ самоидентифицировался не на этническом, а на социально-стратовом (сословном) фундаменте: на фоне панов, горожан, священников и т.д. "мужыки" выступают как особый народ, но в любом случае речь идет не об этносе, а о демосе (трудовой массе). В письмах мы сталкиваемся с противоположной ситуацией. Этноним "белорус" (вариант: "белорусс"), а также слова "белорусский", "Беларусь" ("Белоруссия") используются очень широко. Контекст их употребления указывает на нерасторжимость этнического и национального: Беларусь предстает и в качестве "родной земли" (этнический аспект), и в качестве автономного – пусть и условно (впрочем автор об этом на тот момент не догадывается) – элемента государственного целого (национальный аспект). Противоречий между этими контекстами в письмах нет: порой они даже сливаются. Я уже говорила о том, что слово "наши" одновременно используется и в смысле этнонима ("есть там и люди наши, и связь с ними поддерживается" или "может быть, это только свойственно нашим людям"), и в смысле политонима, символически выраженного в образе советской армии: "Наши гонят немцев, каждый день идут вперед" (98). Вероятно, на сравнительно быстром формировании этнонима (от "мужыка" к "белорусу") сказалось влияние двух тенденций. Первая проявляется в понимании белорусского литературного языка и созданных на нем текстов как основы культуры. Логика здесь такова: я – белорус, поскольку тружусь на благо Беларуси и свои произведения создаю по-белорусски. Именно из сферы литературы черпается почтение к слову "белорус", воспетому Богушевичем, Купалой и др.: "я помню, что новый язык (литературный), на котором я встретил и стал читать Купалу, Багдановича, Алеся Гаруна, сперва удививший меня ("у нас так не говорят"), а потом ставший глубоко кровным и родным, потому что я на нем мыслил…" (227). Вторая тенденция связана с официальной этнической принадлежностью (в том плане, в котором в СССР употреблялся термин "национальность") – "белорус", "БССР". В этничности белорусского интеллигента военных лет эти тенденции совмещены. Особенно важно, что они совпадают в функции преодоления "местных" различий: новая Беларусь выглядит не совокупностью локальных участков, как это было свойственно традиционной этничности, а целостным ареалом, обладающим особой культурой. Отсюда – исчезновение самоназвания "мужык", представлявшего белоруса как особый этносоциальный тип. Тем не менее – пусть и в ослабленном виде – в письмах 279 прослеживается и традиционный "местный" компонент: "по слухам, и наши случаки не подкачали. И там сильно развито партизанское движение" (133). Тем самым самообраз В. представляет структуру, содержащую три компонента: "белорусский советский писатель", "белорус", "случак". Думается, в те годы аналогично сознавало себя и большинство других представителей белорусской интеллигенции. Впрочем, "советскость" отступает перед "белорусскостью". Вспомним фразу из письма о коллаборационисте: "почему такая сволочь называет себя белоруссом?" (96). О чем она свидетельствует? О том, что именно "белорусское" кажется автору идеальным. (То же следует из фрагмента, где "цивилизованная" белорусская деревня противопоставляется недоброжелательной и неухоженной российской глубинке). Значит, "наше" по-прежнему понимается как позитивное, лучшее, а "не наше" (хоть, казалось бы, и тоже "свое", советское) – как худшее. Так через пласты господствующей идеологии неосознанно пробиваются латентное, скрытое даже от самого автора исконное содержание культуры и мышления. С этой точки зрения особенно примечательно то, что автор нигде, кроме как в наименованиях официальных учреждений (Союз советских писателей) или наград (Герой Советского Союза), не использует термина "советский". Этнический миф Этнический миф, как уже отмечалось, основан на универсальной структуре "рай первозданный – рай потерянный – рай обретенный". Она реализуется в "мифе о золотом веке", в "мифе о борьбе со злом" и в эсхатологическом мифе. Рай первозданный. В письмах прослеживается связь с традиционными этническими представлениями. Образ "рая первозданного" вполне соответсвует фольклорному: своя земля, мирный труд, отсутствие угнетения и равенство. Разумеется, эти компоненты "золотого века" скорректированы в соответствии с установками Модерна, советской культуры и принадлежности к интеллигенции. Особенно показательно отношение к земле. Она понимается уже не как локальный участок территории, на котором проходит жизнь человека, но как "Родина" ("бацькаўшчына"): а значит, речь идет уже о местной, "тутэйшай", а о целостной этнокультурной идентичности. В крестьянском самосознании земля – и экономический капитал, и основа самоидентификации: "Чалавечку, чый гэта двор / Гэта, пане, мой чорны вол! / Да я пытаюся, чый гэта паліварак? Гэта, пане, мая саха і падпалак!" [140, с.91]. Однако она ограничивается двором и "палiваркам", т.е. конкретным клочком территории и землей, на которой работает крестьянин. В самосознании интеллигента понятие земли теряет 280 "вещественную" конкретность, наливается символическим смыслом и расширяется: "наша земля", "родная земля" понимается тождественно "Беларуси". Рай потерянный. Причина утраты "рая", как и в сказках, связывается с происками врагов (в сказках чаще – панов). В целом образ "рая потерянного" вполне соответствует традиционному представлению о бесправной жизни угнетенного народа. В этой точке взгляды крестьянина XIX вв. и советского интеллигента сходятся. Совпадают они в точке идеала – освобождения от гнета (в первом случае панов, во втором – фашистов). Однако способ обретения рая в письмах и сказках разный: вместо крестьянских моделей косвенных действий ("окольности") и "пути доброй мысли" он заключается в открытой борьбе – военной и/или идеологической. Впрочем, идеологическая борьба выстраивается по тому же фольклорному, народному образцу: "я стараюсь найти в своих листовках такую форму, сравнения, близкие к быту и жизни крестьянина, поговорки, чтобы все это более западало в память, доходило" (236); "… надо это решать средствами народной песни" (101); "Девушки! Несите песню по всей земле. Пусть она будит народ, как когда-то в далеком прошлом ходили по нашей земле лирники с песней-призывом, и песня звала людей на осознание своего достоинства, своих прав (113)". Разумеется, отождествлять тексты стихов и листовок с текстами фольклора не стоит: это разные жанры, имеющие различные цели, задачи, способы выражения и т.д. Потому речь идет не о едином стиле мышления крестьянства и интеллигенции, а о стилизации со стороны интеллигенции: пример – мифический образ лирников, зовущих к осознанию своих прав. Здесь налицо несовпадение крестьянских и интеллигентских воззрений: реальный крестьянин понимает угнетение не в правовом, а в моральном или в философском контексте: "Бог так даў, што ні горы, ні лес, ні людзі не роўныя. Яны і цяпер не роўныя і ніколі не параўняюцца" [190, с. 64]. Словом, интеллигент конструирует новый, качественно иной взгляд на мир, вуалируя его старой, фольклорной формой, и сам не замечает, что смыслы-то разные. В этом вопросе снова наблюдается присущая интеллигенции тенденция "провозглашения универсальной истины за других и вместо этих других" [169, с. 137]: интеллигент создает желательный образ прошлого, полезный для нужд современной идеологии. Однако именно таким образом проб и ошибок, путем конструирования идеального прошлого и будущего, интеллигенция формирует идеалы на основе внятных "народных" (или пусть даже "псевдонардных") образов. Но в любом случае советский интеллигент, подчас неявно для себя самого, использует "пути-дорожки", протоптанные памятью поколений народа. Так, остаются нерушимыми испытанные образы действия – 281 трудовой кодекс, идея пользы и идея "должного места": "Надо работать, больше пользы приносить, насколько способен, насколько можешь" (104). Рай обретенный. Образы "рая обретенного" в самосознании крестьянина и "нового интеллигента" во многом сходны: мирное небо, жизнь на "своей земле", встреча с семьей и даже жизнь в деревне ("Построим на Случчине свою хату" в письме 56; "мы уже с Кузьмой Чорным сговорились после войны ехать в Тимковичи, на его родину, там уцелела его хата на две половины, одну займут они, а другую мы" в письме 227). Тем не менее, этот образ более отчетлив, чем крестьянский (где будущее не прорисовано и предполагается как продолжение прошлого). Причины этой отчетливости в проекте Modernity, воплощаемом интеллигентом. Что включается в такой проект? Во-первых, наличие идеала будущего, в то время как в крестьянском самосознании он размыт; во-вторых, вера в свои силы и активный посыл к преодолению негативной ситуации – в противовес традиционному фатализму. Однако при всей этой отчетливости образ будущего в сознании интеллигента менее органичен, более раздроблен, нежели крестьянский. Причина этого – гораздо более широкий, нежели в традиционной культуре, спектр жизненных выборов интеллигента: в этот спектр входит несовместимое – и жизнь в полесской глубинке (227, 237), и активный культурный досуг (чтение, походы в театр, на балеты), и писательство, и работа сельского учителя (227), и – в то же время работа жены в театре (237). Предварительные итоги: менталитет и этничность советского белоруса Белорусский интеллигент: личный тип этничности. Как мы видим, этот тип этничности менее органичен, чем традиционная крестьянская этничность. Тому несколько причин. Во-первых, речь идет об этничности не общности, а конкретной личности (хоть и типичной для советской "национальной интеллигенции" тех лет). Если коллективная этничность "грамады" завязана на восприятии данных "от Бога" и от "века" норм, обычаев, моделей действия, то личная этничность интеллигента – продукт развитого самосознания. Личность не впитывает, подобно губке, культурные установки: она пытается их осознать, истолковать и в итоге изменяет или отвергает часть из них. Во-вторых, коллективная этничность строится на культурных текстах одного происхождения (трудовые и досуговые практики, обряды, фольклор и др., исходящие из бытовой повседневности). Личная идентичность гибридна: она складывается на основе разнородных культурных текстов и дискурсов, в том числе и заимствованных, и "внеповседневностных" (дискурсы белорусской народной и профессиональной культуры, русской классической культуры, зарубежных культурных достижений). 282 И, наконец, народная культура и традиционная этничность свободны от наносного – от официальной "струи": герой же этого очерка живет не только в мире духовной культуры, но и в пространстве газетных штампов, лозунгов, официальных клише. Этничность как компромисс между "белорусским" и "советским". Тип этничности новой "белорусско-советской" интеллигенции – живая иллюстрация попытки соединить традиционную крестьянскую и официальную идентичности, включающей советское гражданство и республиканскую принадлежность. Сложившийся тип этничности – компромисс между ними. От традиционной этничности он отличается высокой степенью самосознания и малым вниманием к локальным различиям, от официальной – мощной эмоциональной составляющей. Однако есть и моменты сходства: как и первый тип, он тяготеет к образу "родной земли"; как и второй, он связан с государственной принадлежностью и одновременно – с осознанием четкого места собственного этноса (автономии) в государстве. Имеет ли этот тип этничности собственную специфику? Для этого следует ответить на главный вопрос: являются ли "белорусское" и "советское" антиподами в самосознании интеллигента тех лет? Казалось бы, так и есть, и отвечать здесь не на что. Но если мы отвлечемся от идеологических шаблонов, ситуация предстанет вовсе не такой уж однозначной. Итак, как известно, советское государство провозгласило интернационализм как центральную идеологическую установку. Кроме того, был исключен религиозный компонент самосознания, у разных народов играющий разную, но всегда существенную роль в этничности. И наконец, следствием политики "центра" стала руссификация и в целом унификация (советизация) республик. По этим причинам, как представляется ряду современных авторов, в пространстве советского государства фактор этничности исключался. Отсюда часто выводят современные проблемы с идентификацией. Однако далеко не все так просто – и особенно в те годы, о которых идет речь… Во-первых, советская правящая элита не была последовательна в "национальном вопросе". Как отмечает В.С.Малахов, мероприятиям, направленным на формирование "новой исторической общности", противостояла политика институционализации этничности и поощрения этнических элит. Это явно прослеживается в письмах: в военной Москве существуют белорусские газеты, белорусское радио, часто проводятся вечера белорусской культуры, пленумы белорусской творческой интеллигенции, литературные вечера, гастроли белорусского театра и мн. другое. Во-вторых, в годы Великой Отечественной войны центральный для 30-х гг. ХХ в. вопрос о "буржуазном национализме" отошел глубоко в тень. 283 В-третьих, языки народов СССР в эти годы широко использовались в сфере агитации – с целью привлечь все советские этносы к борьбе с фашизмом. И, наконец, именно в военные годы цели власти и почти абсолютного большинства граждан слились (достижение победы). Отсюда можно сделать вывод, что в этот период противоречие между "советским" и "национальным" было менее отчетливым, чем до того и, уж конечно, чем после. Что же представляет собой белорусский советский интеллигент? Чем он похож на своего ближайшего предка – "мужыка"-крестьянина (напомню, что в 1926 г. горожане в СССР составляли всего лишь 18%, а следовательно слой городской интеллигенции в очень и очень многом черпался из молодых крестьян, после революции ушедших учиться в города)? Чем отличается от него? Насколько переменились его ценности и устремления? И наконец: чего в нем было больше – советского или белорусского? Проанализируем на примере уже известных нам "краеугольных камней" белорусского менталитета. Трудовой кодекс. Именно трудовой кодекс играл, пожалуй, самую важную роль в идентификации белорусского крестьянства. Разумеется, трудовой кодекс советского интеллигента по форме отличался от крестьянского. Основную роль в этом играло различие социальных статусов крестьянина и интеллигента. Но по сути трудовой кодекс белорусского интеллигента строился по традиционному образцу, включавшему неприятие лени ("ни одного стихотворения нового не написал. Я такой лентяй? Страшно!" в 237) и антипатию к бездельникам (рассказы о "бюрократах" и "мещанах"). Религиозный компонент идентичности. По известным причинам в те годы он не выражен, да и не мог быть выражен. Возникает вопрос: почему господствующий атеизм в БССР был принят спокойнее, чем в России, и особенно – чем в Польше (где в конце концов партия была вынуждена смириться перед религиозностью населения)? Для ответа достаточно вспомнить о том, что религия для белоруса всегда более выражалсь в личной вере, чем в культе. Если же участь, что в этом очерке речь ведется об интеллигенте "советского образца", то и вопрос должен ставиться иначе: чем была замещена религия в его самосознании? Судя по письмам В., во-первых, это тексты классической культуры: именно они воспринимались как вместилище духовности. Во-вторых (и это совпадает с крестьянским мировидением), это пантеистическое, мифо-поэтическое отношение к природе: не случайно облик грядущей победы связан с образами птиц (жаворонков, ласточек); с полуднем (как временем зрелости и для личности и для природы); с ликующим праздничным сиянием солнца (в контексте 25-летия Красной армии); с 284 непогодой, помогающей изгнанию врага. Последний аспект весьма и весьма сходен с крестьянским пониманием мира как резервуара скрытых смыслов, которые подлежат "расшифровке" человека. Тихость. Именно по принципу "тихости" (скромности, деликатности, "невыпячивания") автор сравнивает себя и жену с цветком маттиолы: "Он тоже похож на нас… мы тоже с тобой никогда не любили показывать, бравировать, щеголять, хвалиться" (письмо 50). С этой же позиции он пишет о К.Чорном, являющемся для него едва ли не самым ярким "этническим авторитетом": "этот человек с великой, как вселенная душой, смеется редко <…> он улыбается умной проницательной улыбкой, своими глубокими все слушающими и понимающими глазами" (79). Похоже, эта ценность белорусского крестьянина без всяких трансформаций перешла в систему ценностей советского белоруса. "Норма окольности" как косвенный путь в достижении целей. Вспомним, что именно такой путь автор использует, когда ему надо отправить посылку семье. Вряд ли это случайно: вероятно, эту тактику поведения он впитал в годы своего крестьянского детства и отрочества. Однако существуют и изменения. В предшествующем, традиционном типе "окольности" превалировал момент адаптивности ("Калі чалавек ідзе з ветрам, та яму лёгко йці, а калі проціў ветру, та вецер яго валяе") [189, с.179]. У советского интеллигента тип косвенного пути распространен в быту, но его профессиональная жизнь предполагает уже не адаптивность, а активность. Однако эта активность выражена в менее "трафаретной" форме, нежели востребованная пропагандистским аппаратом (вспомним попытки В. приспособить текст листовок к запросам народа с помощью белорусских речевых оборотов, пословиц, поговорок и т.д.). Приверженность малой группе. Это качество менталитета остается свойственным и новому типу этничности. Среда общения автора – почти исключительно белорусская диаспора в Москве. Контакты с представителями других народов СССР, работающими на радио и в газетах, сравнительно невелики и отдаленны: белорус держится "своих". Однако возникают и новые тенденции: например, расширенный образ, "воображаемое сообщество" белорусов, куда включаются и интеллигенция, и массы (вот оно новое понимание "белорусского народа" – образа, по понятным причинам отсутствующего в традиционном крестьянском самосознании). Новым является и оборот "все люди", под которым понимается не "грамада", а население СССР. Тем не менее, этот образ более абстрактен и более слаб, чем образ "своих", белорусских. Напрашивается вывод о том, что тенденция к советскому (и в целом модерному) 285 универсализму не сумела – во всяком случае, в те годы – победить идею малого круга, "грамады", "талакi" "Должное место". Как мы помним, оно означает трезвое принятие ситуации, связанное с максимой "делай, что должен, и будь, что будет". Однако содержание традиционной модели "должного места" отличается от новой советской – хотя бы вследствие водораздела между "военным" и "мирным" временем. В ситуации войны модель "должного места" интеллигента означает труд на благо Родины (воинский или же, в нашем случае, публицистический и литературный); реальную помощь соотечественникам по модели "талакі" (рассказы о попытках установления утерянной связи между членами белорусских семей, об уходе за тяжело больным К.Чорным и др.); попытки пробуждения "духа народного" в массах (рассказы о листовках; о работе в газетах "Партызанская дубінка" и "Раздавім фашысцкую гадзіну"; об обращении к девушкам, угнанным в Германию и т.д.); заботу о близких. Но дело не только в особенностях военного и мирного времени. Разница – и в специфике крестьянской и "интеллигентской" жизни. Так, например, забота о быте семьи – одна из основных характеристик традиционного крестьянского менталитета, но она не включает попечительства о духовном развитии семьи – жены и детей. Итак, менталитет белоруса, сохраняя свои основные характеристики, все же изменяется по сравнению с его предыдущим типом. Изменения в менталитете белорусского советского интеллигента: вместо выводов Изменение типа социокультурных связей. Итак, короткие социокультурные связи ("грамада", "талака", сеть личных знакомств) в нации уступают место длинным социокультурным связям. Отсюда, несмотря на сохранение "местной" самоидентификации (выраженной в метафоре "Слуцко-Копыльского государства", в тяготении к собственной малой группе и т.д.), расширяется значение слова "наши" (Красная армия, граждане СССР, люди, пострадавшие от оккупантов и др.). Это свидетельствует о возникновении "воображаемого сообщества", т.е. нации, причем многослойной, полиэтнической. Да, проект "советской нации" не состоялся, да и – теперь это очевидно – не мог состояться. Но надежда на подлинную, а не фальшивую автономию, на "государство внутри государства", судя по письмам, в тот период была реальна. В военные годы СССР еще не понимается как искусственное построение: это понимание придет спустя десятилетия, да и то не ко всем: иначе не существовало бы ностальгии по "золотому веку" СССР, которая до сих пор правит бал в некоторых умах и сердцах. Но в годы войны "советское братство" – категория, реально присутствующая в 286 самосознании большинства людей. Возможно, его причина –"патриотизм обреченных": перед образом врага советские люди действительно почувствовали свое единство. Сработали и другие факторы: вековечная привычка белорусов жить в полиэтнических государствах; исходящее отсюда отсутствие шовинизма и т.д. И при этом, казалось бы, противодействующая тенденция – постоянное возвращение к "роднаму сіратліваму дому"… Но впрямь ли они противодействуют? Или предваряют день сегодняший, где союзы государств – вовсе не помеха региональному патриотизму? Четкий надлокальный этноним. Соответственно трем образам Родины этноним ("белорус", "белорусс") понимается в трех планах – как принадлежность к "малой родине" ("Слуцко-Копыльское государство"), как включение в СССР ("советская Беларусь") и наконец – как принадлежность к Советскому Союзу. Все эти понимания абсолютно позитивны и не мешают друг другу. Оптимистическая направленность в будущее. Она понимается не только как реконструкция довоенного состояния культуры и жизни, но и как его совершенствование. С одной стороны, будущее выступает как скол прошлого, как возвращение к "золотому веку". Здесь играют роль и верность традиционной модели мировидения (где прошлое предстает образцом жизни), и реальная ситуация: даже чудовищная коллективизация, даже память о недавних репрессиях отступают перед ужасами настоящего – войны. Однако старому образу "золотого века" сопутствует новая идея, не присущая традиционному крестьянскому бытию – идея самосовершенствования путем приобщения к культуре и себя самого, и своего ближнего круга, и круга своих потенциальных читателей (рекрутирование в культуру). Сочетание различных культурных языков и кодов. Несмотря на употребление белорусских идиом, а также на традиционные зачины и финалы писем, автор использует ряд кодов, которых не существует в крестьянской культуре: элементы властного дискурса ("Толькі не спекуліруйце на тэмах, а сур'езна, з вялікай дзяржаўнаяй адказнасцю" (67); публицистические клише ("Эти дни с особым удовлетворением, в каком-то творческом порыве пишу стихи" (244); "выстоять тяжелую годину" (45); классические литературные обороты ("Почему ты меня так мучила своим молчанием?" (109) ; "Вот напишу тебе и пойду по темным пустынным улицам в свое неуютное логово…" (35). Что это значит? То, что изменился язык, а значит, картина мира человека. По новым кодам можно судить о том, что в жизни человека все большую роль начинают играть государство с так называемыми "большими идеологиями", масс-медиа (пусть даже в примитивном, на наш сегодняшний взгляд, состоянии) и профессиональная 287 культура. Все это указывает на то, что человек идентифицирует себя уже не столько с этнической, сколько с национально-гражданской общностью (советские белорусы). Двуязычие. Часть писем написана по-белорусски, часть по-русски. Что означает выбор языка? Выбор самоидентификации. Если белорусский язык знаменует идентификацию с крестьянским прошлым и с современной литературной средой, то русский – с текстами русской классической культуры и с советским дискурсом. Родным языком автор считает белорусский (вспомним его мечту о том, что сын будет учиться "на своей земле и на своем языке"). Однако это не мешает ему значительную часть писем писать по-русски. Совмещение различающихся типов идентификации (нацио- гражданской, языковой и локально-местной) для советского интеллигента не выглядит нонсенсом – вероятно, потому что сама советская идентичность гибридна, сложена из разных, порой несочетаемых "кусочков". Преодоление локальных, узкоэтнических различий. Оно сказывается в изменении границ "свой – чужой", "свой – свой чужой" внутри белорусской и советской общностей (самое яркое свидетельство – отсутствие деления по принципу "национальности"). Четкое осознание роли личности, причем не только в построении проекта собственной жизни, но и в целом – в жизни страны и в грядущей победе. Отсюда внимание к своим чувствам, переживаниям, акцентирование личностных ценностных представлений ("ты прости мне, что в такой суровый час пишу тебе о своих чувствах, которыми сыт, грет и обут не будешь. Милая, родная, в этом мое – несчастье. В мирное время писать о войне. Помнишь "Баладу пра салдата"? А во время войны жить и радоваться воспоминаниями о метиоле" (50). Очерк 7. Постсоветский белорус: реальность и виртуальнось Интернет как поле исследования: проблемы и возможности Интернет как пространство "человеческих документов". Почему в поисках менталитета современного белоруса я обращаюсь к интернету? Интернет – не просто средство связи или "библиотека библиотек". Это наиболее адекватная метафора современного социума с его раздробленностью на субкультуры, с его разнообразием и постоянными изменениями. В интернете, как и в обществе, постоянно происходят бури разного масштаба – от "бури в стакане воды" до "бури столетия": он чутко, как барометр, показывает колебания настроений не только людей, но и целых групп. Интернет плюралистичен, множествен: на виртуальных страничках запечатлено не универсальное, раз и навсегда заданное знание о мире – а ведь именно 288 таков характер и домодерного (традиционного) и модерного знания: только в первом случае считается, что его дал Бог, а во втором – наука и просвещение. Современное знание о мире рождается здесь-и-сейчас, складываясь из мнений, эмоций, убеждений, а также (из песни слова не выкинешь!) из провокаций, выпадов, озорства и даже хулиганства. Ну что ж, неча на зеркало пенять… Ведь все это присутствовало и в предшествующих моделях знания (чем не хулиганство белорусские байки, русские частушки, анекдоты и т.д.?), но тщательно скрывалось под личиной глубокой серьезности: вспомним хотя бы, как серьезно, солидно, без грана экстравагантности "подавал себя" Советский Союз… Важно, что это новое знание возникает в режиме коммуникации – противоборства, а то и конфликта разных мнений. Знание в интернете никогда не закончено, оно всегда – в становлении. Потому интернет – манящее, соблазнительное поле исследований. Однако по тем же причинам исследовать его чрезвычайно сложно. Сложно, но необходимо: ведь ныне именно интернет стал вместилищем "человеческих документов" (Н.Н. Козлова), т.е. текстов, созданных рядовым человеком в структурах его повседневной жизни. Ранее эти тексты представляли фольклор, письма, мемуары – ну, а теперь виртуальные "странички". Я не стану использовать здесь научные, художественные, публицистические тексты, размещенные в интернете: ведь в них высказываются эксперты – люди компетентные или, по крайней мере, претендующие на компетентность в определенной сфере. Хотя, конечно, и с ними мы столкнемся – но там, где они являются не "авторитетами", а всего лишь "пользователями"; где их мнение можно оспорить; где все равноправны, и авторитеты не "равноправнее" любого второкурсника. К проблеме правомерности использования интернет-источников в исследовании ментальности. Думаю, читатель не раз сталкивался с брезгливым отношением к интернету. "Интернет – это помойка," – эти слова звучат из уст не только бабушек и дедушек, но и серьезных ученых. Да и в передачах ТВ беспрерывно муссируется вопрос: интернет – это хорошо или плохо? Казалось бы, более, чем за десять лет, которые прошли с момента воцарения интернета в быту, можно было бы уже понять: в интернете, как и во всех продуктах человеческой деятельности, есть свои "плюсы" и "минусы". Главный "плюс" для гуманитарного анализа, он же главный принцип интернет-коммуникации – спонтанность и непосредственность реакций людей, а также наличие "обратной связьи". Интернет – воистину сеть, и каждый пользуется ею в меру своих способностей и качества "снастей": и лишь горе-рыбаки выгребают из 289 огромной сети лишь "чернуху" да "порнуху". И наконец, интернет просто есть, и с этим придется смириться даже недоброжелателям. Какую же пользу может принести интернет исследователю ментальности? О главном я уже сказала: интернет демонстрирует динамичность, спонтанность картины мира, представляет воззрения людей как становящееся, возникающее буквально на глазах отношение к миру, обществу, этносу и своей роли в культуре. "Пролистывая" интернет-странички, видишь, как оно изменяется, утверждается, упрочивается, каким неравновесным, спорным оно является. Здесь мы имеем дело как с неосознанным формированием, так и осознанным конструированием этничности – причем, не со статикой, а с процессом. Есть и другие причины обращения к интернет-источникам. Во-первых, интернет-пользователи – значимый сегмент общества (по данным прошлого года среди них было более 34% граждан Беларуси, а судя по стремительному росту пользователей интернета сейчас их должно быть не менее 40 %). Это большой процент населения страны, причем по преимуществу молодого (от 18 до 29 лет), которое в течение следующих десятилетий будет определять развитие культуры. Во-вторых, интернет – это виртуальный "срез" общества. А наше общество – это общество субкультур, групп. Потому интернет представляет не отдельную субкультуру (хотя существуют сайты и блоги, посвященные конкретным субкультурам – начиная от толкиенистов и "автостопщиков" и кончая, например, одиозными клубами самоубийц). Однако в целом интернет-сообщество – это группа, включающая различные субкультуры, страты современного белорусского социума, т.е. мегагруппа. Более того, слой интернет-пользователей – один из наиболее образованных в Республике Беларусь: 53% из них имеет высшее и незаконченное высшее образование. В-третьих, анонимность человека в интернете. Вернее, иллюзия анонимности: специалист может вывести на чистую воду почти любого интернет-"злоумышленника". Но многие пользователи воспринимает интернет как абсолютно анонимное пространство: это и побуждает часть из них высказываться, не подыскивая парламентских выражений. Именно эта "анонимность" вызывает больше всего нареканий со стороны противников всемирной сети. Признаюсь: мне тоже не по душе безнаказанность тайных грубиянов… Но для исследователя менталитета анонимность (пусть даже иллюзорная) является ценной: она препятствует самоцензуре. Человек не стесняется высказать те мысли и чаяния, которые по тем или иным причинам (например, в силу своего характера, или вследствие сложившихся в культуре норм общения) в реальной жизни выглядят неуместно, а то и недопустимо. Кроме того, форма дневника 290 (забегая вперед, скажу: именно сетевые дневники, или "блоги", составят поле исследования для этого очерка) побуждает к саморефлексии, а также – к размышлениям над судьбой Отечества, над менталитетом, ценностями, будущим и т.д. Эта рефлексивность требует обоснований (особенно если учесть полемику, возникающую вокруг каждого из этих понятий): здесь надо находиться во всоружии доводов. Отсюда – пусть порой и "доморощенная", но широкая начитанность и в целом культурная компетентность, необходимая для подтверждения своих мыслей. И наконец, "дневниковый" характер блогов побуждает к исповедальности, к эмоциональности человека. Благодаря этому мы можем анализировать не только когнитивную (познавательную), но и эмоциональную сторону этничности. Главные для нас вопросы таковы: насколько этничность белорусского интернетпользователя изменились по сравнению с проанализированными выше ее типами? Что в менталитете и этничности белоруса осталось непоколебимым даже в рамках современной "мозаичной культуры" (А.Моль) – культуры, которая складывается из кусочков разного "цвета", "формата", направленности? Для ответа на эти вопросы я обращусь к блогам, или интернет-дневникам. Форумы (публичные интернет-площадки для "острых" дискуссий) не так интересны: высказывания на них гораздо более скоропалительны и гораздо менее обдуманы, чем содержание блогов, потому в этой книге будет очень мало форумных реплик. До того, как приступить к теме – "белорусскости" в блогах – необходимо сделать несколько предварительных замечаний, предназначенных для читателей, которые находятся с интернетом "на Вы". Интернет-пользователь без ущерба для себя может пропустить следующую подглавку. Основные термины, которые понадобятся при чтении этого очерка. Байнет – белорусский интернет. Блог (от англ. web log) – авторский сайт, содержащий записи по принципу дневника. Блог отличен от дневника типом носителя (электтронный, а не бумажный) и наличием обратной связи: он создается в расчете на читателя, который может открыть дискуссию с автором и другими блоггерами в виде комментариев (реплик, "комментов"). Тем самым блог создается на грани личного и публичного пространствБлоги бывают тематические (фотоблоги, киноблоги, музыкальные и т.д.) и политематические (включающие разноплановые тексты); авторские и групповые (социальные, корпоративные и т.д.). Предмет этого исследования – авторские политематические (т.е. разноплановые по тематике) блоги. Материал для анализа представлен более, чем 150 291 блогами белорусских интернет-пользователей и комментариями к ним, большая часть которых цитируется в этом очерке. Блоггер (сегодня все чаще используется форма "блогер") – член интернетсообщества, создавший свой блог. Он выступает под ником (псевдонимом) или под собственным именем. Блогосфера – совокупность блогов и одновременно сообщество блоггеров. Пост – текстуальное (визуальное, аудиальное) сообщение в блоге. Комментарий (коммент), реплика – ответное сообщение по теме поста, сделанное другим блоггером, или "гостем". Ветка – ответвление от дисскуссии, развивающее одну из тем блога. Поскольку количество блогов интернета огромно и с каждым днем разрастается, я ограничусь блогосферой наиболее популярных в Беларуси интернет-платформ: "Живой Журнал" (http://www.livejournal.com), "Живой Интернет" (http://www.liveinternet.ru), "ТUT.BY" (http://blogs.tut.by) и ряда других. Методология, или Что и как искать. Методология этого очерка, в сущности, та же, что и в предыдущих – текстуальный анализ человеческих документов. Однако, с одной стороны, в интернете эти документы представлены в невероятном количестве, а с другой – они мозаичны, обрывочны. Важной может оказаться единственная реплика, даже единственное слово, особенно если оно является ключевым (или индексным). Можно согласиться со польским лингвистом А.Вежбицкой: существуют слова и словосочетания, представляющие собой центральные точки, вокруг которых организованы целые области культуры [152, с. 37]: например, для русской культуры, по Вежбицкой, это "душа", "судьба", "воля". Критерии ключевых слов: общеупотребительность, частое использование в сфере эмоций или моральных суждений, формирование вокруг них ассоциативных комплексов и т.д. [там же, с. 36]. Поиск материала был организован вокруг следующих ключевых слов и выражений: "я – белорус", "белорусскость", "ценности белоруса", "идеалы белоруса", "белорусская культура", "белорусская толерантность", "белорусская национальная идея", "памяркоўнасць", "рахманасць", "современный белорус", "доброта & белорус", "пассивность & белорус", "радикальность & белорус", "Беларусь & Родина", "Беларусь & Отечество", "белорус & стабильность", "белорус & этничность", "белорус & этническое самосознание", "белорус & терпение", "белорус & спокойный", "белорус & деревня (село)", "белорус & город", "белорус & труд", "белорус & гендер", "Беларусь & независимость", "Беларусь & государство", а также вокруг словосочетаний "мой родны кут", "за Беларусь", "мы, белорусы…" и мн. др. За исключением слов, не имеющих 292 русских аналогов ("памяркоўнасць", "рахманасць"), все концепты были дублированы на белорусском и на русском языках. Полученный кейс № 3, составленный из фрагментов интернет-текстов, поможет нам ответить на вопросы о ментальности и идентичности современного белоруса и о том, насколько они соотносятся с ментальными и идентификационными моделями, характерными для белорусов давнего и не столь уж давнего (советского) прошлого. И напоследок: часть высказываний принадлежит не белорусским блоггерам, а "сторонним наблюдателям" – россиянам, украинцам и др.: ведь сегодня очевидно, что культура может существовать лишь в диалоге, а человек строит образ своего этноса, основываясь не только на собственных оценках, но и на оценках "значимых других". Особенно важны точки совпадения и несовпадения таких оценок (самооценок и оценок со стороны). В каждом случае цитирования реплики "стороннего наблюдателя" это будет особо оговариваться. Орфография и пунктуация источников максимально сохранены. Картина мира и менталитет современного белоруса (по материалам блогов) В этом разделе обратимся к тем же категориям картины мира, что и в предыдущих очерках: так будет проще проследить изменения, которые происходили с менталитетом и воззрениями белоруса более, чем за столетие. В то же время станет очевидным и то, что не изменилось: устойчивые представления, ценности, воззрения, сценарии (модели) поведения и т.д., словом, те константные характеристики, которые и составляют фундамент белорусского менталитета. Космос – Хаос Напомню: в соотношении "Космос – Хаос" реализуются представления этнофоров о "заданном" сакральном порядке, о желательном устроении мира, о ценностях и идеалах, цементирующих этнос. Прежде всего, следует отметить, что традиционные практики космизации – миростроительство, домостроительство и самостроительство – в сети (во всяком случае, в чистом виде) практически не встречаются. Это неудивительно – такова цена широты выбора, в том числе и внутреннего выбора самоидентификаций современного человека. При этом наиболее бросающиеся в глаза критерии, по которым определяют "белорусский Космос" наши современники, на первый взгляд, традиционны: А) пресловутые порядок и стабильность. Несмотря на распространенную в интернете критику белорусского телевидения по поводу "лакировки действительности", в реальности довольно значительная часть белорусских блоггеров (38 постов и комментариев на эту тему) нет-нет, да и возгордится уравновешенностью белорусской 293 жизни – и особенно запальчиво – при противопоставлении ее жизни российской: "Вы не согласитесь с тем, что хамства, мусора, грязи, бомжей, нищих в нашей стране или в отдельно взятом городе Минске на квадратный метр гораздо меньше нежели в Москве? На мой взгляд – это очевидно" [122]. Впрочем, речь реже идет об "общем", чаще – о частных сферах: "Люблю я все-таки Беларусь... у нас чистенько, уютно, милиция есть, сервис налаживается..." [25]; "Ах, до чего же хорошо проехаться после изнуряющего московского метрополитена в нашем маленьком, таком уютном и домашнем метро!" [102]. Те же достоинства – и даже чаще – отмечаются и сторонними наблюдателями – россиянами ( "В двухмиллионном Минске за несколько дней своего пребывания я не видел бомжей ... Наверное, эти лица без определённого места жительства и есть, но, повторюсь, мне они как-то не попадались" [42]; "[Белорусы] живут не с шиком, не богато, но зато стабильно средне, а стабильность это залог успеха. Они живут и знают, что будет завтра и послезавтра" [130]) и украинцами ("Я года три назад в Гомеле была – мне страшно понравилось. Люди показались вполне спокойными и довольными жизнью, гуляния всякие в парке (причем искренне радостные), полное отсутствие рекламных щитов на улицах бесконечно радовало глаз. Видно, что промышленность в стране активно работает" (блоггер xiao1mao1) [106]. Б) спокойствие: "По крайней мере в том районе, где я живу, можно спокойно гулять в любое время суток. Вообще серьезных организованных преступных группировок по-моему не осталось… Беларусь ни с кем не воюет" [129]. Еще более высоко критерий спокойствия оценивается сторонними наблюдателями, преимущественно россиянами: "Должен также отметить, ту энергетику, которую я ощутил в Беларуси. Эта энергетика, как мне показалось, совсем особого рода, – спокойная и позитивная, нацеленнная на постоянный труд и работу, где каждый ощущает себя на своём месте и осознаёт свою миссию. Где несмотря на все трудности, которых хватает, никто не впадает в депрессию и отчаянье со всеми вытекающими. Словом, надо смотреть на РБ и учиться "[87]. Вот еще более восторженный панегирик Беларуси из уст москвича: "Никакой грязи. Никакой вони. Тихо. Чинно. Чисто. Достойно. Минск – столица. Величественная, гордая, добрая. Был и в квартире. Папа – электрик. Мама работает экономистом. Считает кто скока гвоздей и кирпичей по республике погрузил-отгрузил. Дочь – библиотекарь. Вполне себе обставленая московская квартира однако. Такой себе твёрденький средний класс. И подъезд чистый. И лифт. И двор. <…>. Белорусы работают. Они трудятся. Они стараются сделать лучше. Хотите позитива ? Езжайте в Беларусь. Только умоляю – НЕ ГАДЬТЕ ТАМ" [43]. А это 294 пишет украинец: "Между прочим, я очень люблю слушать радио Беларуси. В отличие от украинского, оно не визгливое-напуганное, а спокойное... Отчасти может сложиться впечатление, что я попал в советское детство. Но как и в детстве, на белорусском радио все спокойно и слушая его я ощущаю, что все будет хорошо..." [20]. Кратко отношение к Беларуси со стороны можно определить так: "Спокойствие и детерминированность жизни" [13]. Интересно, что автор последней реплики, россиянка, как следует из дальнейшего содержания поста, понимает детерминированность жизни в целом позитивно. Как же относятся к ней сами белорусы? Двояко. Конечно, хотелось бы чего-то "такого-разэтакого": блоггеры жалуются на малое число развлекательных площадок, на излишне официозный характер жизни, на рутинность бытия, но, как правило, сразу же включается "датчик" сравнения – преимущественно с Россией: "… белорусская жизнь выглядит всё более приличной – особенно по контрасту с регулярно появляющимися в европейской прессе сочинениями на вольную тему относительно impoverished post-Soviet country <…>. Нет, конечно, и бедных людей по-прежнему достаточно (но нищих, хватающих вас за полы в каждом подземном переходе, как в Москве, я что-то не заметил), но... При всем при том – достаточно благоустроенная и упорядоченная жизнь, может быть, скучноватая – но, наверное, даже любители "зажигать не по-детски" предпочтут такую скуку "развлечениям" вроде взрывов в метро или падающих на голову крыш аквапарков4… Было приятно поводить по Минску приехавшие в гости две компании московских друзей, первой фразой которых – как сговорились – было: "Чисто-то как!" [56]. Контрастной по отношению к собственному уютному "космосу" представляется российская реальность (17 из 26 постов) – и в бытовом, и в социально-политическом смыслах. В плане быта Россия (в частности Москва: для Санкт-Петербурга белорусские пользователи делают исключение) кажется белорусу излишне огромной, плохо приспособленной для жизни, беспорядочной, опасной и т.д. В социально-политическом плане Россия видится родиной олигархов, коррупции, заказных убийств т.д.: "Если у нас бардак, – пишет весьма скептически настроенный по отношению к собственной действительности белорус, – то у вас беспредел" [42]. Каковы причины утрированной "хаотизации" образа России в сознании постсоветского белоруса? Во-первых, это действительные изменения российской реальности в 1990-е годы. Во-вторых, тот факт, что Россия видится белорусу не просто соседом, но соседом, претендующим на господство, покушающимся на белорусский суверенитет (популярные 4 в 2008 г. Необходимо отметить: эта запись была сделана незадолго до взрыва на праздновании Дня Независимости 295 в байнете клише, относимые исключительно к России, – "имперские амбиции", "старший брат" и т.п). Такому пониманию способствуют не только особенности исторических взаимоотношений двух стран, но и высказывания современных российских политиков и культурных деятелей, а также реальных и виртуальных знакомых. Невыносимой представляется сама мысль, что огромная "страна бепредела" может поглотить – пусть даже не фактически, а культурно – компактную упорядоченную Беларусь. В-третьих, взгляд на российскую действительность как на "дикую", "беспредельную", "хаотическую" во многом инспирирован самой Россией, в частности российской независимой прессой: "Влияние российских СМИ в 1990-е гг. способствовали постепенному росту недоверия. В эти годы в России процветала самокритика, изобличение отрицательных сторон российской жизни <…>, к тому же плюрализм социально-политической сферы был столь велик и неорганизован, что для обычного белоруса Россия стала быстро восприниматься как страна хаоса и несправедливости" [48]. Да и сами россияне нередко ощущают свою действительность неупорядоченной по сравнению с беларусской: "Стоило только пересечь границу с союзным государством, как контраст с Россией оказался невероятным. Вспаханные и ухоженные поля, великолепная дорога (в Беларуси одной бедой меньше, если судить по известному изречению), движущиеся (!!!) тракторы и даже трава ярче на этой земле" [78]; "Она [Беларусь. – Ю.Ч.] спокойная. Улицы чистенькие. Но дело не в улицах только, сама страна оставляет на душе ощущение неописуемой чистоты. Синеокой. Непонятной, но с ней соприкасаешься – и чувствуешь: стало чище... И чистота эта не "огнём очищающая душу", а влажная, прохладная..." [128]) Европа? Советский Союз? С чем связывается такое – подчас преувеличенное – "благолепие"? Часто – с европейским влиянием, которое, по представлению и отечественных, и российских блоггеров, более ощутимо в Беларуси. В блогосфере это выражается по-разному: от простодушных перечней собственных достижений ("Сначала был создан старо-белорусский язык, а потом белорусы помогали создавать русский и книги сначала Скорина напечатал, а потом помогал русским, и конституция у нас была создана первая в Европе" [3]) до выводов, противопоставляющих белорусам-европейцам азиатский характер русских: "лично моё мнение: белорусы – это отставшие европейцы. а русские – преуспевшие азиаты, и чем больше прокручиваются поколения, тем лучше эта разница видна" [45]). Нередко Россия называется "Азией" или "Азиопой". В связи с этим возникает вопрос: насколько правомерны сетования ряда исследователей и литераторов (шагнувшие из книг и прессы в блогосферу) на комплекс 296 белорусской неполноценности перед "Старшим Братом" ("Беларусь прекрасная страна, только, к сожалению, с победившим всё комплексом неполноценности" [16]? Впрямь лы "мы" так комплексуем перед "ними"? В интернете, во всяком случае, белорусские пользователи отнюдь не чувствуют своей приниженности перед россиянами, скорее, наоборот. Тезис о "европейскости" Беларуси широко представлен в постах и комментариях россиян: "Вообще же Минск – очень яркий и красивый город, где удачно сочетаются современные высокие строения и старый Минск с его двухэтажными домами и узкими европейскими улочками" [42]; "В Москве и других крупных российских городах часто встречаются магазины, специализирующиеся на беларусском текстиле или мебели, но принадлежат россиянам и оформляются россиянами. Часто на этих магазинах изображены средневековые замки, мельницы и едва ли не немецкие деревенские домики, что создает какой-то непривычный, хотя и красивый и даже желанный образ Беларуси... Один знакомый автору человек даже утверждал, что "Беларусь – это католическая страна, как Польша или Чехия" [44]; "Жилые районы по окраине города больше всего напоминают... Швецию! Красивые, в меру яркие (цветастые) бетонные дома с большой цифрой на стене для указания адреса. Во дворе – парковка и небольшая детская площадка. И по крайней мере там где я жил в течении недели, квартира была типично шведская. Невероятно впечатляет, и весьма и весьма познавательно. И так как и парковка, и детская площадка были чистенькие и в хорошем состоянии, не как в России – грязные и заброшенные, то можно было почти поверить в то что находишься в Швеции" [110]. Впрочем, существует противоположная точка зрения: часть блоггеров связывает спокойствие и порядок в белорусских городах не с европейским, а с советским (вернее, идеализированно-советизированным) компонентом культуры. Примечательно, что жители ближнего зарубежья воспринимают советский компонент белорусской повседневности со знаком "плюс", во всяком случае, более доброжелательно, чем сами белорусы. Даже слово "совок" в одной из следующих записей употребляется без пренебрежения: "та социально-экономическая ситуация в сегодняшей РБ, которую я увидел, является тем, что можно было бы назвать "почти идеалом" для бывших республик СССР" [42]; "город весьма "советский" в своём стиле. Это и широкие, прямые улицы с колоссальными зданиями <…>. Город – прям, впечатляющ и велик" [110]; "Минск произвел положительное впечатление <…>. Гостиница совковая, номер приличный, чистый, виды из окон красивые, стоит относительно недорого. Сам город достаточно красивый, в центре очень много советской застройки, с ее имперским 297 размахом и прямолинейностью" [47]; "Минск, как по мне – олицетворение именно того светлого будущего, к которому 1/6 суши шла 70 с гаком лет. огромные проспекты, большие здания классической советской архитектуры, отличные парки, несколько "модерновых" комплексов как дань современности <…>, новый общественный транспорт одного цвета (автобусы все темно-зеленые, а троллейбусы светло-зеленые), чистенькое метро, ни одного мента на улице <…> – воопщем все гуд" [58]. Иное дело – белорусские блоггеры. Как правило, их вовсе не радует советский компонент в градостроительстве, в стиле жизни и в целом – в культуре ("Выглянешь в окно – сплошь советские панельные дома, окрашенные в серое") [94]. Напротив, поводом для радости является то, что "налет совковости, довольно сильный в Беларуси еще в конце 90-х, помаленьку стирается. В Минске появилось много мест, приятных во всех отношениях – я имею в виду рестораны, клубы и прочие места отдохновения от трудов праведных" [56]. Причина таких разночтений понятна: в отличие от российских и украинских блоггеров, познавших причуды "дикого капитализма" и уставших от него, жители современной Беларуси видят и другую сторону "идеализированно-советской" медали (Впрочем, это не мешает многим из них приходить в ужас от постсоветской – "азиатской", "варварской" России). Словом, каждый тоскует по тому, чего у него нет… Порядок как проблема. В свете этого неудивительно, что чистота белорусских городов порой воспринимается не как достоинство, а как недостаток. Недостаток спонтанности, полноты жизни, словом, "карнавального" начала: "Поддержание правопорядка организовано прежде всего как «борьба за чистоту», то есть профилактика по недопущению самой возможности загрязнения территории... детальное воплощение порядка требует воздержания и умеренности во всем, самоограничения и аскетизма, обратной стороной которых являются нежелание мириться с бытовыми неудобствами в общественных местах – так для удовлетворения своих (малых) нужд жители вынуждены обращаться в массовое бегство по центральным дворам, в подворотни и закоулки. Исход из дисциплины и «побег в карнавал» становится закономерным итогом политики воздержания, с неизбежностью приводя к гигантским горам мусора после любого праздника… Так что минская чистота – результат не уборки, а именно «зачистки», то есть тотального «наведения порядка» на фоне тщательного обустройства ландшафта, из которого должно быть исключено все случайное, сингулярное и спонтанное... Однако соблюдение чистоты стиля – лишь внешняя сторона медали. Обратной ее стороной становится катастрофическая нехватка публичных мест, которые позволяли бы сегментировать население по имущественному статусу и 298 финансовым возможностям… Только у нас можно увидеть прямо на улице столь умопомрачительные и вызывающе сексуальные наряды, которые девушки в других столицах одевают лишь в места, недоступные массовым взглядам и осуждающим оценкам" [12]. Итак, культ порядка и чистоты понимается вполне традиционно – как попытка устранить Хаос "местного масштаба ("непорядок", мешающий стабильной и правильной жизни). Однако есть и отличие: прежде для белоруса не было свойственно воспринимать хаотические тенденции как позитивное начало – раскованность и непосредственность. Более того, ни крестьянин, ни советский интеллигент не считали, что избыток Космоса может привести к Хаосу (примеры – вызывающие наряды девиц, гигантские горы мусора и т.д.). Впрочем, это точка зрения интеллектуала (философ А. Сарна); рядовые пользователи, как правило, гордятся чистотой на улицах, уютным метро и т.д. Космос: "малый" и "большой". Космос – это не только внешняя упорядоченность жизни. Скорее, внешняя упорядоченность – это "вершки". Главное – "корешки" – это упорядоченность культурных смыслов и ценностей, задающая представление о "правильной жизни" и диктующая образ счастья. В белорусской традиционной культуре (как и в других "культурах бедности") счастье вопринималось как ограниченный ресурс: если у кого-то его больше, значит, другому не хватит. Эта уравнительная концепция "малого счастья", равные кусочки которого должны быть поделены между людьми, продолжала работать (и даже культивировалась "сверху") и в СССР и распалась лишь в последние годы. Ныне идеалы и интересы людей столь разноплановы, что говорить о едином, разделенном на всех образе счастья, о "равенстве в счастье" невозможно. Причины известны: это и рост личностной автономии; и материальное расслоение; и большое количество субкультур, каждая из которых несет собственные ценности; и гораздо больший, чем у крестьянина или у советского человека спектр выборов; и осведомленность о жизни в других странах, и т.д., и т.п. Отсюда же – противоречивость представлений о "правильной" жизни: ее правильность определяется не "грамадой" и не идеологическим аппаратом, а каждым самостоятельно. Судя по блогосфере, можно обоснованно говорить лишь о "вершках" – о сложившемся представлении белорусов о "малом" или "бытовом" Космосе (порядок, стабильность, уют, спокойствие и т.д.), но не о "корешках" – не о "большом" общекультурном Космосе, охватывающем людей сетью разделяемых смыслов. Более того, подчас создается впечатление, что и образ "малого Космоса" предназначен, скорее, для стороннего наблюдателя (россиян, украинцев, поляков и др.), а нашими блоггерами используется по преимуществу для поддержки белорусского имиджа перед "чужаками". 299 Является ли современный "смысловой" мир белорусской культуры упорядоченным, непротиворечивым, органичным, как это было в давние годы, о которых я писала в предыдущих очерках? Вряд ли. Вспомним: крестьянин относился к миру как к сосуду, в котором запечатаны высшие смыслы: они как бы вложены туда Богом. Каждое явление (возделывание земли, уход за домашним скотом, ремесла, обустраивание быта) таило в себе отпечаток высшего смысла. Советский человек, по крайней мере, до 70-х, тоже исповедовал высшие смыслы, связывая их со страной, с победой, с трудом и т.д. И хотя речь в предыдущем очерке шла о единичном случае, воззрения героя были для того времени вполне типичны. У нашего современника гораздо более разработана система личных ценностей, частных интересов, предпочтений и воззрений. Они могут объединить группы, субкультуры, но не весь социум. Более того, их разнообразие мешает ему объединиться – и это не частная белорусская проблема, а общемировая тенденция. Итогом является то, в современности невозможно говорить о неких единых практиках космизации миростроительства, мира – о самостроительства сходных и и последовательных домостроительства. Они моделях обрывочны, мозаичны, как мозаична сама культура… Это разнообразие и приводит к тому, что в интернете наличествуют разные – порой противоположные – версии этничности. Впрочем, об этом чуть ниже. Что же объединяет необъединимое? Социальность и "национальность". При попытке ответа мы снова сталкиваемся с тем, о чем я уже писала. Напомню: общебелорусская идентичность изначально складывалась не как собственно-этническая, а как социальная и государственная. Причем, это верно и в случае, если отсчитывать ее возникновение от ВКЛ, и в случае, если считать началом СССР и предреволюционные десятилетия. Социальность в ней преодолевает "национальность", вернее, этничность. Жившие в разных селах и местечках группы "тутэйшых" на рубеже XIX-XX вв. объединялись не столько по этническому принципу (он существовал латентно, повседневностно и, скорее, чувствовался, чем определялся), сколько по принципам социальной справедливости и солидарности. Кстати, об этом выразительно свидетельствует и поэтическая "проповедь" классиков литературы: Янка Купала: Наша гора, нашы слезы, Кроў i пот крывавы Стануць у спекi i марозы За нашыя правы [171, с. 11]. 300 ------------------Але хоць колькi жыць тут буду, Як будзе век тут мой вялiк, Нiколi, браткi, не забуду, Што чалавек я, хоць мужык [171, с. 4]. Якуб Колас: Выйдзем разам да работы, Дружна станем, як сцяна, I прачнецца ад дрымоты З намi наша старана [170, с. 8] Максим Богданович: Беларусь мая! Краiна-браначка! Устань, свабодны шлях сабе шукай [143, c. 168]. Понятно, что речь в этих стихах идет не о "возрождении" этноса, как это принято было считать в 90-е годы, а о конструировании нации. Ценность независимости. В свете этого неудивительно, что в разноголосице блогов на истинно "космический", упорядочивающе-объединительный смысл претендует лишь одна ценность, и ценность социально-государственная – ценность независимости (49 постов и комментариев на эту тему). Все остальное – язык, народная и современная культура, традиции и т.д. – вызывают споры. Ценность независимости бесспорна. Интересно, что она воспринимается не формально (как обретение независимости в 1991 г.), а как идеальное состояние, которое еще следует завоевать – и на уровне личности, и на уровне государства. Впрочем, содержания, которые блоггеры вкладывают в понятие независимости, тоже разноплановы (западный путь; направленность и на Восток, и на Запад; изоляционизм; независимость государства и личная независимость человека и т.д.). Отсюда возникает впечатление, что независимость, скорее, воспринимается как желанное "наше все", чем реальная, во многом практическая категория. Тем не менее, именно независимость ныне считается первоочередным условием "космизации" общности. Сакральное – Профанное 301 Выраженного дискурса о "сакральном" (в религиозном смысле) в белорусской блогосфере не прослеживается. Скорее, он едва просвечивает, нежели ярко выявляется. Но даже в таком стертом варианте заметно, что современное понимание "сакрального" несет на себе отпечаток и традиционного, и советского представлений. В первом аспекте вера понимается как неотрывная от повседневности (синтез сакрального и профанного). В связи с этим отмечается ее языческий и – шире – агностический компонент: "Пры тым, павер, я бачыў мноства людзей, што абсалютна шчыра й жарсна моляцца камяням, крыніцам, дрэвам... Але тут цікавей далей – сярод беларусаў атэістаў і таго малей! Бальшыня нашага народу хутчэй агностыкі, якія, пры тым, з забабоннай дабравейнасьцю ставіцца да царкоўных абрадаў" [34]; "Когда я сегодня по ТВ увидела, как люди в военной форме пускают по реке венки из цветов со свечками "в память о погибших в Брестской крепости", то поняла, что нашу языческую песню не задушишь и не убьешь" [33]; "наш народ скорее суеверен ("пярун бы вас всех побраў"), чем религиозен. Псевдорелигиозность. Приметы. Сплевывание и постукивание. Иконы – как альтернатива идолов. Их можно целовать и на них молиться..." [66]. Обратим внимание: если в двух первых примерах язычество воспринимается как естественная для белоруса модификация религии, то в последнем чувствуется недовольство. Вероятно, в этом сказывается религиозное образование и воспитание (воскресные школы, религиозные праздники, наличие религиоведения в вузах и т.д.). Рисунок: Маска козы – Этнография Беларуси, 231. Во втором аспекте идея святости относится к Родине, ландшафту, истории, памятникам культуры: так, святыми местами Беларуси признаются Собор Святой Софии в Полоцке, озеро Нарочь, Беловежская Пуща, Мирский и Несвижский замки, Борисоглебская (Каложская) церковь в Гродно и Брестская крепость [26]. Это аналогично пониманию "святого", "заветного" в письмах советского белоруса. Впрочем, как уже сказано, тема сакрального в блогах не распространена. Вероятно, причины этого можно объяснить возрастной спецификой состава интернетпользователя (самый активный сегмент байнета – молодежь [23], менее интересующаяся религией, чем старшие группы), а также наличием специализированных религиозных блогов и форумов, исследование которых не входило в задачи этой книги. Можно предположить, что на это – по крайней мере, в какой-то степени – повлияла и сравнительно малая связь веры и церкви в сознании белоруса, в истории постоянно находившегося "меж двух огней" – двух ветвей христианства. Отсюда выводы, порой выраженные в достаточно резкой форме: "Беларусам рэлігія фіялетавая" [75] 302 Добро – Зло Материалам этого кейса свойственна гораздо большая (по сравнению с предыдущими) рефлексия, значительно более развитый анализ специфических белорусских "черт", чем в предыдущих типах менталитета. Следствие этого – более рационализированный критический самообраз: современный белорус видит причины зла не столько в происках врагов (и/или чужих) или в воздействии неких фатальных сил, сколько в собственных недостатках. Интересно, что "достоинства" и "недостатки" народа отчасти пересекаются с отмечаемыми в традиционном самообразе, а отчасти противостоят ему. Достоинства. А) Доброжелательность: "Настоящий белорус всегда примет человека, накормит, напоит, поговорит с ним по душам и выслушает его внимательно и участливо. И если ты пришёл с добром в мой дом, в мой город, на мою улицу, то будь моим соседом – вот так скажет истинный белорус тому, кто захочет поселиться рядом с ним" [101]; Б) "Мирная созерцательность": "Веришь, белоруса (нормального – ведь бывают и атипичные) узнаю в походе или в экспедиции мгновенно! И не обязательно ему орать дурным голосом "Касіў Ясь канюшину", и не надо ему быть белобрысым и круглолицым здоровяком с добрыми до жалости глазами. Немного поговорить, а лучше вместе выпить, и темпоритм речи, мирная созерцательность выдаст его!!" [118]; В) "Окольный путь" как проявление здравого смысла: "То, что творится сейчас в России – «врагу не пожелаешь». Тем более не посоветую своему народу сейчас вливаться без оглядки в «россиянию». Лучше постоять в сторонке пока там поумнеют, а может чем и помочь" [68]; Г) Рассудительность: "Самое ёмкое слово, которое характеризует белорусов – это памяркоўнасць. Памяркоўнасть – корень каждого белоруса, его структура. Как, вы не знаете, что это такое? Попробую перевести. Мяркаваць – это значит думать, даже не думать, а размышлять. Если тебе предлагают: «Памяркуем?». это говорят : «Приходи, перетрём все темы, посидим, подумаем, обсудим, обсосём, рассмотрим проблему со всех сторон»" [30]. Но где же другие характерологические ценности, которые одобрялись традиционной и советской культурой? Где "тихость", где рационально-домовитый (по крестьянскому образцу) подход к жизни? Где хитрость – главное средство не только самосохранения, но и тайной победы над вышестоящим? Где, наконец, толерантность, которая в 90-е годы ХХ века чуть ли не поминутно воспевалась и прессой, и исследователями-гуманитариями? Разумеется, эти качества присутствуют и в 303 менталитете сегодняшнего белоруса: просто говорить об их однозначной "позитивности" уже не приходится… Толерантность – хорошо или плохо? Вокруг благостного понятия "толерантность" в блогосфере то и дело возникают споры. Некоторые блоггеры отвергают само это понятие: оно представляется им вежливым синонимом бесхребетности: "пресловутой толерантности, о которой так часто говорят в Беларуси, нередко подразумевая под этим не активное взаимодействие с другими, а пассивное терпение мнений остальных" дисциплинированность, [95]; послушание "Национальные (временами черты белорусов? переходящее в Ооо… покорность), неприхотливость и всетерпение ... А чтобы всякие там демократы не сильно придирались – всё это тщательно маскируется под словом «толерантность». Причём складывается такое впечатление, что белорусы сами себе придумали это слово для отмазки и тихо им гордятся" [54] (11 подобных постов и комментов). В свете этого неудивительно, что в смысл толерантности все чаще пытаются привнести более "боевитое" содержание: "Я очень люблю поляков, русских, украинцев. Но когда отдельные индивиды начинает выкалываться, ей богу, хочется немного поучить их уважению к ИНЫМ, чем он сам людям и культурам" [15] (подобные суждения высказаны в 16 постах и комментариях к ним). Впрочем, в целом представление о толерантности сохранило сходство во всех типах менталитета: "одно дело – отстаивать свои интересы и оставаться цивилизованным человеком. другое – гнуть своё, оскорблять и выглядеть хуже, чем те, кто спорит и ругается. мы – беларусы. они русские. и нельзя говорить, что кто-то хуже, кто-то лучше. перед Богом все равны. поэтому те, кто выпячивает грудь, рано или поздно будут принижены. и не важно, по какую они сторону границы. ОСТАВАЙТЕСЬ ЛЮДЬМИ!" [88]. Гораздо более дискуссионным становится комплекс "тихости" (спокойствие, деликатность, отсутствие аффектации). Тихий белорус? Вспомним: в предыдущих типах менталитета "тихость" оценивалась как одно лучших качеств белоруса. Сейчас она осмысляется не так однозначно, хотя прежнее ее понимание – воспитанность, культурность, деликатность – сохраняется и приписывается не только белорусам, но и самому символическому образу Беларуси: "Моя любимая, тихая, беззащитная родина. Такая гордость распирает за то, что нет ни одного человека на свете, который ненавидел бы белорусов Бывает едешь автостопом по Украине, заговоришь с водилой на русском, он сразу подозрительно: "Аааа, москали?" – "Не, мы белорусы" И сразу выражение лица меняется на сияющее 304 добротой. Неприятно, конечно, что этот мужичина не любит… москвичей, но вместе с тем приятно, что любит нас..." [4]. Рисунок. "Моя любимая, тихая, беззащитная родина…"– Вокруг света в Беларусь, с. 6. Примечательна история, рассказанная россиянином: "Едем в электричке из Витебска домой. Настроение радужное, все довольны, всем хорошо. Проехали границу с Россией (это сразу заметно – первая же автомобильная дорога, которую мы пересекали, – раздолбанная). На очередной остановке в вагон вваливается кучка молодежи. Пьяные, с пивом в руках, во весь голос разговаривают матом. Постоянно бегают курить в тамбур. Один из них, видимо, не найдя форточки, в которую можно курить, высадил ладонью стекло на двери в тамбуре... Ну, а мы так тихо, культурно, сидели. Короче, приехали мы в Смоленск, все выходят из вагона. Мимо нас проходит какой-то парень, который тоже всю дорогу в этом вагоне ехал. Поворочивается он к нам и говорит: "Удачи вам, братьябелорусы!". Вот такое у них, видимо, мнение о русских. Тех, кто спокойно ехал, автоматически посчитал белорусами. А русские – бескультурные гопы" [32]. С другой стороны, "тихость" все чаще воспринимается как синоним "абыякавасцi" и конформизма: "Спросил у студентов в начале лекции: «на чем мы закончили в прошлый раз?» В ответ – знакомое гробовое молчание… Может, они просто не ведут конспекты? Заглядываю в первый конспект и вижу – ведут, и хорошо. Значит, имеет значение что-то иное. Думаю, во-первых, причина – нежелание прявлять себя, ведь всякая речь выделяет человека из массы (курсив мой. – Ю.Ч.), а во-вторых, глубокая неуверенность в себе. Мотивации типа «если я что-то произнесу, то всем покажется, что я на что-то претендую – что я индивидуалист или прагматик, набиваюсь преподавателю в любимчики…», или даже «я никогда не отвечаю всем требованиям ко мне, и даже если отвечаю – лучше не проявлять этого» («Речь – серебро, но молчание золото»)". Причины такой слабой реакции автор усматривает в истории: "Кто погибал прежде всего? Все, кто выделялся. Все, чью позицию было легко идентифицировать... Оставались те, кто владел искусством мимикрии (без осознания этого искусством, что было бы тоже опасно), был безропотен и на внешний взгляд аутичен, но все же «себе на уме» (иначе белорусы давно бы превратились в литовцев, русских или поляков). Кажется, белорусы – прирожденные партизаны и подпольщики, но вряд ли это возможно возвести в ранг национальной идеи" [48]. Итак, адаптивная тактика тихости и "лазейки", которые она предоставляла в традиционном обществе (лавирование, ускользание из-под ударов "сильных мира сего" да и самой судьбы), ныне понимаются вовсе не так уж положительно. Это понятно: они 305 были спасительными в целях самосохранения этноса, но нация предполагает "культурную империалистичность", и стремление к безопасности здесь – скорее, помеха, чем подмога. При этом существенно, что на уровне поведения блоггеров "тихость" в значительной мере сохраняется: высказывания в массе своей менее радикальны по сравнению с российскими или даже украинскими. В них чаще ищутся компромиссные пути: "проста трэба іх (оппонентов. – Ю.Ч.) пераканаць... бо ўсё гэта – ад дрэннага выхаваньня й празмернай жосткасьці жыцьця" [36]; " галоўнае – умець чакаць і не "перагібаць палку" [14] и т.д. Таким образом, традиционный комплекс тихости раздваивается. В дискурсе о белорусском самосознании, о нации и т.д. (особенно у сторонников литвинской версии этничности, о которой далее) тихость признается не просто непродуктивной, а резко отрицательной моделью поведения. Белорус больше не хочет быть тихим. Но в быту тихость – подспудно, нередко против желания людей – сохраняется: впитанная "с молоком матери" культурная модель поведения оказывается более долговечной, нежели осознанный принцип. Белорусская хитрость. Вспомним, что для белоруса-крестьянина хитрость (чаще всего в форме "недопонимающе-недослышащего" поведения) была не просто тактикой выживания, но и возможностью уберечь свое "Я". Как современный белорус относится к хитрости? С одной стороны, сохранились и прежние воззрения: "Яна [хитрость] не калькуляваная, не мэта-рацыянальная... падаецца што ён [белорус. – Курсив мой. Ю.Ч.] – істота вельмі рэфлексіўная, калі застаецца сам-насам; а вось з іншымі ён пераўтвараецца у нейкага прасцяка" (блоггер kolik8) [34]. Вспомним, что именно эта адаптивная модель хитрости-"прибеднения" распространена в традиционном менталитете. Однако ныне она все чаще понимается как унизительная и для человека, и для культуры в целом: "Надоела уже эта привычка прибедняться, извиняться – да, вот мы такие, неказистые, что с нас взять, вместо того чтобы работать, развиваться... Тем более что ОГРОМНОЕ количество адекватных белорусов имеют и желание работать, преображать свою действительность, имеют самоуважение, интеллект, культуру, образование. Но им постоянно приходится краснеть за тех, кто еще живет в откровенно рабском состоянии и выдает себя за весь белорусский народ… Привычка прибедняться, извиняться, анекдотиками баловаться про "так вот и живем" – это ведь хорошо знакомый совковый менталитет. Кто-то отбросил его и вырос, кто-то с ним остался" [15]. "Совковый" ли? Разумеется. Настолько, насколько "совковый" менталитет производен от крестьянского – и усугублен жизнью в темные времена войн, коллективизации и 306 репрессий. Впрочем, и правомерность крестьянского менталитета ставится пользователями байнета под большой вопрос… Горожане? Селяне? Комплекс качеств, который можно определить как "сельский менталитет", сегодня также вызывает множество сомнений и нареканий. И это при том, что белорусский менталитет – не только в XIX в., но и в середине ХХ в., не только для крестьянина, но и для интеллигента – во многом строился именно на "идее села". Вспомним: даже в 40-х гг. ХХ в. – и с позиций более нравственной жизни, и с позиций "правильности труда" – белорус-интеллигент предпочитал деревню городу. (Кстати, не только в 40-х и не только белорус: вспомним русских писателей-"деревенщиков" в 70-х). Для героя предыдущего очерка – советского интеллигента – в "идее деревни" слились память о собственном крестьянском детстве, народнические взгляды белорусских писателей-предшественников (Я. Купала, Я. Колас, "нашаніўцы" и др.) и, наконец, запоздавшие романтические влияния – с их идеализацией народа, отождествляемого с крестьянством. Горожанин, "народный интеллигент" 40-х гг. ХХ в. даже испытывает своеобразный комплекс неполноценности перед людьми, трудящимися в поле, а не в кабинетах. В современном менталитете белорусских горожан (каковыми почти поголовно являются пользователи байнета) идея деревенской жизни как более здоровой – и физически, и нравственно – не слишком распространена. Напротив, крестьянский труд нередко видится непродуктивным, построенным не на здравом практицизме, а на предрассудках по принципу "так жили от века": "Перед тем как загрузить в подвал 9 мешков урожая 2007-го года, мы выкинули на помойку 5 мешков вырытых нашими руками в 2006-м году. Это при том, при сем, что мы еле-еле убедили тестя по весне не засаживать картошкой еще одно приличных размеров поле. «Бульбу садзить» и «бульбу капать» это те два столпа, на которых держится белорусский сельский менталитет с ХVIII века. Он не убиваем. Никогда вы не докажете человеку, выходцу из села, то, что проще ее купить <…>, никогда не докажете и того, что не нужно нам 9 мешков картошки <…>, учитывая то, что никто из нас не держит ни свиней, ни буйволов. Никогда не будет принят и тот довод, что по всем законам биологии, если уж сажать ее, то только самые лучшие, самые здоровые и крупные клубни, а не так называемые «семенные» – мелочь, которую и свиньям варить стыдно, и через два-три поколения таких посадок любая, самая лучшая, сортовая картошка вырождается, мельчает и дичает. Вы никогда не заставите белорусского крестьянина почитать какую-нибудь книжку по сельскому хозяйству. Он всегда тупо следует «заветам предков» и возделывает свой огород по передовым технологиям XIX века, разве что вместо лошадей и быков теперь 307 запрягают трактор или мотоблок… Вы никогда не сможете убедить его вместо ненужного бетонного круга, оставшегося после строительства колодца поставить беседку и детские качели. На месте кучи коровьего дерьма – цветник, а на отшибе участка выкопать маленький прудик, посадить там нимфеи и осоку и запустить цветных карпов. Это не-це-ле-со-об-раз-но, это «глупости» и это – «не занимайтесь ерундой» [89]. Маленькая ремарка: еще Н. Улащик в своем историко-мемуарном исследовании "Была такая вёска" отмечал, что белорусы XIX – нач. XX вв. равнодушно относились к садам и гораздо более серьезно – к тому, что реально может прокормить, т.е. к огородам. Так что речь и впрямь идет о целесообразности. Но понятие целесообразности с годами меняется – об этом свидетельствуют доводы возмущенного зятя. К теме "может ли Беларусь обойтись без сельского хозяйства" мы еще вернемся, а пока обратим внимание на то, что сегодня, как и в ту пору, когда создавался кейс № 1 (сказки), речь идет о противопоставлении двух менталитетов. Только представитель первого – сегодня не пан, презирающий "мужыка", а интеллигент, знакомый с крестьянским трудом и жаждущий его рационализации. Он изрядно изменился по сравнению с советским интеллигентом, почитающим крестьянский труд только за то, что он "истиннонародный"… Что касается второго типа менталитета (тесть), то это тот же, оставшийся в неприкосновенности "мужык", за прошедшие два века оставшийся верным завету предков: "Паміраць сабраўся, а жыта сей". Что смущает наших современников в крестьянском менталитете? Только ли упорство (чтоб не сказать – упрямство) в устоях, которые не соответствуют современной реальности и которые крестьянин нипочем не хочет менять? Или еще что-то? Скорее, "что-то еще". Дело в том, что Беларусь все чаще понимается (порой – в реальности, порой – в идеале) как современная держава, граждане которой обязаны преодолеть местнический "крестьянский комплекс": "Я сильно не люблю людей которые опираются на деревню. Например, на привозные запасы бульбы, сала и т.п. – потому, что этот уровень их устраивает, в случае чего они прицепят к своим “москвичам” прицепы и повезут с дач и деревень печки-буржуйки, дрова, бульбу и сало. Зачем им развивать страну? Для них страна и так достаточно развита. По сравнению с деревней. Основная задача – абы хуже не стало" [85]. Вот это-то "абы хуже не стало" (в другом варианте – абы не было войны") и есть центральная, пульсирующая точка несогласия нашего современника с его "предшественниками по менталитету". По ней можно судить о том, что традиционная минимализм требований к жизни (к удобству, комфорту, уюту, деньгам), как и аскетизм 308 белорусского советского интеллигента – нравится ли нам это или нет – в значительной мере канули в Лету. Впрочем, часть блоггеров по-прежнему задается вопросом: "Можно ли, живя в Беларуси, резко отбросить в своем сознании деревню, сельские корни?" [37]. Здесь включается типичная для белоруса осторожность, тот крестьянский "здравый смысл", который только что блоггеры сами и ставили под вопрос или даже отвергали. В целом проблема оправдания "крестьянских корней" в байнете решается как минимум с трех точек зрения: этической, культурно-психологической и практической. Этически эта позиция выражена в ряде высказываний (всего 12) приблизительно такого содержания: "наши родители так жили, это их жизнь, и лишать её, втягивая за уши в мир мобил не стоит, потому что как минимум это жестоко!" [там же]. С культурнопсихологической точки зрения, при построении современного национально-культурного проекта следует учитывать исторические данности: "сучасны беларускі этнас у зусім невялікай ступені паходзіць ад волатаў-ліцвінаў. усе ж такі ён фармаваўся цягам 19-га стагоддзя пераважна вясковым насельніцтвам, бо гарады былі ў меншай ступені беларускімі – яны былі габрэйскімі, польскімі, расейска-інтэрнацыянальнымі. то бок сенняшняе ўсведамленне айчыннае рэчаіснасці павіннае грунтавацца на гэтым разуменні, а адпаведна й візію нацыянальнага развіцца варта будаваць не ад Вялікай гісторыі, як гэта робяць зараз, а ад этнаграфіі, ці што. То бок знішчэнне культурных каштоўнасцей гэта з большага не злачынная змова расейскай імпэрыі, а цалкам натуральныя паводзіны селяніна, які намагаецца уладкаваць свае новае месца жыхарства: замест старога дома пабудаваць новы, замест культурніцкай пабудовы – гаспадарчую. тым больш гэта зразумела, калі паглядзець на такія ўпарадкаваныя беларускія весачкі. так што тутака беларускае нацыянальнае інтэлігенцыі варта шукаць новых падыходаў да беларускага народа, а мо й ня новых, мо аднавіць старыя" (6 высказываний такого рода) [17]. И наконец, практическая позиция (14 постов и комментов) вполне традиционна: "вот так вот одним махом взял и уничтожил всю сельскую культуру в нашей стране. "Молодец, умничка. давай тебе памятник поставим и медальку повесим... Будем развивать страну, промышленость т.е. да? а кушать что будеш? Хлебушек? В магазине купишь? А зерно откуда? Ах, зерно мы на Украине купим. А молочко/кефирчик будем из Росии возить. картошечку из Голандии. да, там вкуснее, не спорю. Но нету у нас в стране таких денег, чтобы все продукты закупать за рубежом. И никто не спорит с тем, чтобы развивать страну, но полностью уничтожить сельское хозяйство у нас не получится. да и не вижу в этом смысла. перевести его на качественно иной уровень – да, это надо. Но не таким путем" [85]. 309 Недостатки. Самокритические характеристики современного белоруса пересекаются с традиционными, хотя некоторые из них выражены гораздо более нетерпимо, чем в сказках: А) Лень (физическая и духовная): "… мне кажется, что надо задумываться и над своими действиями или бездействиями. Вот все говорят: "дай, дай, дай". А многим людям, может, просто надо и на себя посмотреть. Сколько у нас людей любят халяву, ничего не делать вместо работы, делать абы как, сколько хамов, сколько ворюг и взяточников. Вот попробуй из таких людей построить хорошее государство" [134]. К физической лени примыкает духовная – вялость, излишняя снисходительность к себе и другим: "разговор примерно такого плана: –Пойдём сходим на концертик... группы, посмотрим... Я. [Но это же] безвкусица сплошная... – Ну да, но ведь они хоть что-то делают, пытаются... Ну что позиция такая жизненная, или это белорусская ментальность? если что-то делаешь, то надо делать это хорошо, а не как-нибудь!". И тут же резкий вывод: "как живем, так и играем. Вполсилы" [92]. Б) Пьянство: "Знайсьці ды знішчыць гэны тэрор-злачынца не магчыма <…> Ён умных і разважлівых ператварае ў тупіц і недарэчных асобаў. Замест ветлівасьці паміж людзьмі, ён нормай робіць хамства <…> Гэты тэрор – алкагалізм. Трэба мець рашучасьць і адвагу, каб вызнаць – "я не дазволю тэрарызаваць сябе" [74]. Отметим: алкоголизм воспринимается как террор, т.е. убийство многих людей. Это совершенно аналогично пониманию пьянства как "хваробы над хваробамі", свойственного традиционной этничности (одна из "антиалкогольных" сказок так и называется). В) Пассивность, излишнее терпение. Эти характеристики нередко упоминалась и в сказках иронически. Но при этом они понимались и как техники выживания – и порой весьма плодотворные: "пажыву – моо, і будзе лепш". Цель – выживание – оправдывала пассивно-терпеливую модель поведения, а порой даже "освящала" ее: случайно ли "светыя людзі" в сказках отличаются обоими этими качествами? Напомню, из каких представлений это исходило: мир "запрограммирован" Богом, и в том числе запрограммирована необходимость колебаний: от хорошего к плохому, но и от плохого к хорошему. Потому не следует пытаться воздействовать на ситуацию – надо принять тактику каждодневного терпеливого выжидания. В принципе, это не белорусское "knowhow": эта модель свойственна всем традиционным этносам, и вовсе не случайно она стала ключевым понятием даосизма (принцип "недеяния"). 310 Однако сегодня терпение считается достоинством все реже и реже. Особенно в контексте "многотерпеливого белорусского народа-страдальца". С этой точки зрения любопытно наблюдение нашего современника-блоггера: "Знаете, как по-белорусски будет "пострадавший"? Пацярпелы. Что с того? Мне показалось забавным. Людей, которые прошли через какие-то испытания, лишения, боль, русские называют "теми, кто перенёс страдания", а белорусы – "теми, кто терпел" <…> Спешите проинформировать меня о существовании русского слова "потерпевший"? Спокойно – я в курсе. Если в русском языке есть варианты, то в белорусском, насколько мне известно, их нет" [72]. Итак, ныне пассивное ожидание своей участи видится не мудростью, а симптомом слабости, а оправдание: "Нічога не зробіш – лёс такі" понимается как нытье. Г) Пессимизм и фатализм. Пессимизм, или попросту "нытье" воспринимается даже более резко, чем бесконечное терпение. "Тэма ныцьця ў Беларусі мае глыбокія карані. Ня будзем тут ужо згадваць які “Трэнас” Сматрыцкага, але ж сяганем на пачатак мінулага стагодьдзя – калі ныцьцё квітнела ў нашай “гаротнай старонцы”. Напраўду, як сьведчыць гісторыя, было ня лёгка. Дзе тут знайсьціся пазытыву? Занядбаны народ, сьляпы, глухі, як пісалі тагачасныя паэты. “Край наш родны, бедна поле//Ты глядзіш, як сірата//Сумны ты, як наша доля…”. От так, от. Тэму ныцьця першым ўзьняў Ластоўскі. Прасіў супакоіцца ды не ганіць наш край, які не такі ўжо і страшэнны: “Плакаць і я ўмею…Чаму ня вучыце нас любіць і разумець гоман бору, плеск вады ў сонцы, задуму зьмеркаў?”. Вернемся ў наш час… музыканты ўсё пра тое: калі пра Беларусь, то з патасам ды са сьлязінкай на вачох… Вунь сёлета на “Басы” заяву падаў гурт з характэрнай такой назвай беларускай – “Крыўда”… што будзе, калі мы ўсе сядзем разам і будзем а-а-а? " [104]. Здесь впору задуматься: а что означало традиционное "нытье"? И что оно означает сейчас? Только ли фатализм и ощущение своей горемычности? В белорусском фольклоре (как впрочем, и в фольклоре любого традиционного народа) "жалобные" сюжеты – не редкость. Более того: ламентации (жалобы) – компонент не просто фольклора, но и самого традиционного мышления. И отнюдь не только белорусского. Так, американская славистка Н. Рис в книге "Русские разговоры: Культура и речевая повседневность эпохи перестройки" выявила, что две основные модели русской беседы – мольба и плач. Этот "плач" – жалоба на извечную несправедливость, окутывающую не только жизнь человека или определенный социальный строй, но и мироздание в целом. Возможно, жалоба – попытка избегнуть не только завистливого человеческого "сглаза", но и "заговаривание несчастий": у меня и так столько бед, да не постигнет меня следующая. В культуре, не рассчитанной на земную, материально-статусную 311 "успешность" человека (этим православная культура резко отличается от протестантской), жалоба свидетельствует о том, что человек смиренно принимает свои беды, не пытаясь их преодолеть, а лишь "констатируя", подсчитывая их и надеясь на сочувствие высших сил. Не так уж редко жалоба становится социальным ресурсом. Случайно ли история "молодых независимых" государств во многом имеет "жалобный характер"? Сетования по поводу великих достижений, которые были созданы на территории этих стран, но тем или иным образом "отняты" у их народов… Жалобы на угнетение со стороны "метрополии" (Франции для жителей Алжира и Марокко; Испании – для стран Латинской Америки, России – для стран постсоветского пространства). Однако есть и другая, более важная функция жалобы – самооправдание. Жалоба становится средством объяснения собственных неудач – от сложной языковой ситуации до неразвитости промышленности, или напротив, насильной индустриализации аграрных культур (именно на это после крушения "социалистического блока" жаловались Латвия, Литва, Венгрия и др. страны). Возможно ли отрицать насилие завоевателей по отношению к завоеванным территориям и живущим на них людям? Разумеется, нет. Но рано или поздно у жителей современных независимых (постколониальных, постсоветских, постсоциалистических и т.п.) государств должно возникнуть понимание того, что ресурс жалобы изжил сам себя. Судя по репликам блоггеров, в Беларуси момент такого прозрения уже наступает: "сумна, што "iдэнтычнасць" звязваецца з пессiмiстычным самауяўленнем, праз гаротнасць (ад Някрасаўскага "худого белоруса", Купалаўскага "пана сахi i касы", якi нясе на плячах "сваю крыўду" – да "чарнобыльцаў", "братоў Расеi" (чытай – малодшых)…" [34]. Осмысление собственной истории приводит к осознанию того, что за десятки лет независимости в постсоветских государствах можно было добиться более значимых успехов. Как итог этих размышлений возникает мысль: "А беларусы (впрочем, сюда можно подставить практически любой постколониальный народ. – Ю.Ч.), здаецца, самі павінны рабіць нешта, каб з імі лічыліся" [51]. Итак, пессимизм, "нытье" перестает восприниматься как оправдание "недоброкачественности" жизни и начинает пониматься как преграда для будущего. Существуют и другие причины того, что жалоба постепенно становится "жанром нон-грата". Это модернизация и вестернизация (особенно влияние США – хотя бы на уровне массовой культуры), которые связаны с культом успешности человека и в целом с тем, что можно было бы назвать "культурой оптимизма". Выходит, пугающие нас заимствования не всегда "убивают культуру", но могут воздействовать и позитивно… 312 Словом, традиционные ресурсы – жалоба, терпение, смирение, пережидание – сегодня перестают срабатывать. И хотя нередко историческое долготерпение белорусов понимается в прежнем положительном ключе ("белорусские люди – это пружина, которая, если надо, вытерпит самые страшные нагрузки <…> Веками мы, белорусы, умели быть терпеливыми, умели любить и ждать, не покладая рук работать" [109]), но в целом умение смиренно принимать невзгоды теряет свой позитивный заряд. Причина проста: "На адным пэсымізьме (паталёгіі) няможна сфармаваць агульную ідэнтычнасьць" [34]. Наиболее четкий и резкий вывод по этому поводу таков: "Беда в том, что нытья больше, чем желания что-то сделать. Даже в творчестве некоторые творческие белорусы вплотную подойдя к решительным и имеющим хоть какой-то смысл действиям, пасуют и перед собой, и перед так называмой просвещенной публикой, и оставляют все как есть. Чего же требовать от остального народа?" [97]. Как мы увидим далее, ряд блоггеров не ограничивается констатациями и призывами "надо что-то делать": у них есть и предложения… Д) Конформность. Яркий пример конформности приводит блоггер true-hans: "Получив возможность высказаться, депутат Артёмов, казалось бы, поразил всех здравомыслящих людей своим тактом, воспитанностью, осведомлённостью, ну и, конечно же, профессионализмом: он ведь политик... Подводя итог, он сказал буквально следующее: "Так вот чтобы, строя Белоруссию будущего, а Белоруссия – это часть нашей с вами России, чтобы вы имели в виду, прежде всего, национальные интересы русского, белорусского и других коренных народов нашей великой страны. И тогда, бог даст, со временем, через трудности, мы придем к восстановлению того, к чему мы должны стремиться – великой Российской империи." Вы, верно, подумали, что сейчас я стану критиковать депутата Артёмова? Если так, то вы ошиблись… Критиковать я стану именно белорусов. Потому что когда это произошло, вообще никто этим не заинтересовался и не был возмущён. Я не слышал дискуссий, презрения к этому человеку, возмущения, желания что-то в этой ситуации изменить. Я не видел вообще ничего. Потому что вообще почти никто в Беларуси этого, судя по всему, и не услышал. Вот это мне и показалось ужасным… С уважением к любому абсолютно оппоненту, у белорусов никаких проблем нет. А вот с уважением к себе у белорусов проблемы очень серьёзные…" [113]. Попытки оправданий, дескать, конформность – обязательная черта традиционной культуры, имеют право на существование. Имеют его и апелляции к общему прошлому России и Беларуси. Однако вспомним: даже традиционалист из традиционалистов – 313 сказочный Мужик – относится к конформности отрицательно, во всяком случае, если соглашательство не является маской, скрывающей планы и амбиции. Здесь речь уже не о хитрости, не о выходящем за все пределы терпении и даже не о адаптивных нуждах, а о крайнем равнодушии и нежелании идти на конфликт (мол, "называй хоть горшком"). Такая подчеркнутая, самоунижающая неконфликтность, по мнению автора приведенного поста, исходит из толерантности: "Слово толерантность происходит от латинского слова tolerantia – терпение. В жизни это качество даёт возможность достойным людям вести мирные переговоры во время войны, говоря с противником по сути и уважительно, а не разбрызгивать ядовитую слюну вместо того, чтобы по существу решать вопрос. Быть терпимыми и вежливыми к другим. Но это отнюдь не отменяет уважение к себе и оппоненту" [там же]. Но только в толерантности ли дело? Или в слабой выраженности того, что называется "гражданским обществом"? Нация – это совокупность людей, принадлежащих одному государству, но не только. Нация – совокупность людей, которые осознают себя активными, действующими силами – т.е. гражданами. Может быть, байнет и есть публичная площадка, где нарождается уже не нация-государство, а современная нация-гражданство? Вернемся к этому вопросу далее, при обсуждении версий современной этничности. Помимо недостатков характерологических, которые являются частью этнического самообраза, блоггеры выявляют и культурные (в широком смысле этого слова) недостатки. Это: А) Забвение языка (26 постов и комментариев): "kurt_bielarus: Розум кажа, што адна мова ніяк ня можа быць ЭТЫЧНА горш за другую, але сэрцам разумееш, што у нашых умовах гэты выбар мае асаблівы сэнс – гэта выбар паміж жыцьцём і смерцьцю нацыі" [94]; "Дзесьці чуў, што мова – ідэнтыфікатар нацыі, што існуе нацыя, пакуль існуе мова... Сёння нават страшна стала за беларусаў" [126]. Б) Незнание культуры и истории (19 постов и комментариев): "Шануйце сваю мову! Шануйце сваю гісторыю! Шануйце сваю культуру! Шануйце сваю Беларускую Зямлю!" [36]; "… няўжо вас не хвалюе тое, што беларусы ня ведаюць сваіх песьняроў, акрамя Я.Коласа і Я.Купалы, й не шануюць сваёй літаратуры" [9]; "Может, я чего-то в этой жизни не понимаю, но люди сами хоронят себя, забывая свой язык, культуру" [32]. В) Дробление комментариев). культуры Примеры: "Я на противостоящие считаю наибольшим сегменты злом для (8 постов Беларуси и стало "оппозиционирование культуры", это и привело к потере национального самосознания и полному обескультуриванию <…> Я за рок концерты как бы они не назывались: "Рок 314 для Беларуси" или "Рок за Беларусь" [84]; "… мне не падабаецца, што беларуская мова, гісторыя і культура становяцця сцягам палітычнай барацьбы, нейкай гламурнай модай, губляючы свой сэнс, шчырасць, сапраўднасць... Мне не падабаецца, калі ў касцёле я чую прамовы палітычнага зместу, мне не падабаецца, што беларускасць набывае такія пачварныя, гіпертрафаваныя формы. І мне не падабаецца, што альтэрнатыўныя палітычныя сілы ў іх палітычным блуканні выйшлі ў балота пустых абяцанняў і незразумелых гульняў з Захадам..." [91]. Г) Предпочтение материального духовному (8 постов и комментов). Эта проблема – плод имущественного расслоения общества. И традиционное крестьянство, и советский человек жили в "культурах бедности", а значит, идея ограниченного ресурса благ (всем понемножку) не могда не оказывать на них своего воздействия. Отсюда, например, сказочный сюжет о разбогатевшем – и сразу же "оскотинившемся" крестьянине, а также неприязнь к мещанам в письмах белорусского интеллигента. Разумеется, и в то, и в другое время были и богатые люди, но богатство не демонстрировалось – в первом случае, из-за нежелания навлечь на себя недовольство "грамады", во втором – гнев государства и неприязнь своего круга общения. Думается, в обоих случаях свою роль сыграла и максима "невыпячивания". Но главное все же в другом: и сказочный крестьянин XIX в., и белорусский интеллигент середины ХХ в. ни в коей мере не отождествляют счастье и деньги. Напомню: первый говорит: "Калі дасць Бог здарове, у семейцэ лад да худобку, та не трэ большага шчасця", ценностями второго являются единство и здоровье семьи, освобождение Беларуси, творчество, а о деньгах нет и речи. Лишь финал ХХ века дал народам бывшего СССР возможность отождествлять материальную успешность человека с его весом и ролью в обществе. Это породило не только имущественное расслоение, но и расслоение в мышлении. Чем плохи деньги? Для "мужыка" тем, что они порождены чертом с целью нарушать крестьянское равенство и посеять раздор между людьми. Для советского интеллигента – примерно тем же, разве что исключая "чертово происхождение". Словом, в обеих культурах деньги понимаются как то, что разделяет людей. Сегодня проблема переведена в другую нематериального: плоскость – плоскость отношений материального и "…очень часто экономические ценности доминируют над всеми другими (моральными, духовными, политическими и т. д.). Формируется патологическая зависимость от материальных благ, причём, прогнозируя ответы типа "попробуйте жить без денег, еды, жилья и т. п." хочу подчеркнуть – патологическая, основанная на постоянной гонке за увеличением потребления. Зависимость – это состояние противоположное независимости. Вот такая зависимость и порождает отказ от многих 315 ценностей, которые не имеют "денежного" выражения" [27]. Словом, для сегодняшнего мировоззрения беда – не в природе денег ("чертовой" или капиталистической), а в материализации культуры, когда из нее вымывается все, что не имеет практического измерения: "Чаму не карыстаюцца беларуская мовай? Ў тым ліку таму, што карыстаючыся расійскай, англійскай, нямецкай, французскай можна атрымаць эканамічныя, інфармацыйныя і г.д. перавагі. Чаму браканьер забівае жывёлу? Таму, што звон манет, поўны шлунак даражэйшыя. Вось так і з незалежнасцю" [там же]. Свое – чужое В блогах оппозиция "Свое – чужое" чаще всего решается в связи с отношением к России (отождествляемой с "Востоком") и к Европе (или к Западу в целом). Эта тема освещена выше, в русле оппозиции "Космос – Хаос". Сделаю лишь несколько замечаний по поводу того, как видит общность "Мы" (белорусский народ, белорусскую нацию) современный пользователь интернета. Разрозненно… Разнообразно… Полярно… В отличие от традиционной культуры, где образ "своего" очерчен четкими гранями, в современной интернет-культуре он более широк, но не складывается в единое целое. Он может включать: а) всех этнических белорусов, б) белорусов как полиэтническую нацию, в) белорусов в контексте Европы (но уже не в контексте объединения с Россией). Иногда идеи "мы – этнические белорусы" и "мы – часть Европы" сводятся воедино: "Беларусь не стане еўрапейскай, пакуль ня стане нацыянальнай" [45]. В целом соотношение "Свое – чужое" более всего прослеживается в разрезе трех проблем: А) "Запад или Россия?", Б) "Кто я, современный белорус?", В) "Белорусский или русский язык?". Запад или Россия? Несмотря на обилие констатаций (белорус – это европеец, поскольку мы живем в центре Европы и отделяем себя от "азиатской" России), размышлений по этому поводу в сети не так уж много. Но там, где они возникают, "европейскость" белоруса часто понимается не как данность, а как идеал, и потому тезис "мы – европейцы" чаще отнесен из сего дня в будущее: "Ня так даўна, на сустрэчы, дзе сярод жыхароў нашай краіны быў яшчэ і француз, я ў рамках падтрыманьня размовы… задаў пытаньне: хто з прысутных можа сказаць пра сябе, што ён – еўрапеец. Адказы здзівілі ня толькі француза, але таксама і тых, хто іх даваў. Толькі адна асоба пераканаўча ствердзіла, што яна з’яўляецца еўрапейцам" [73]. В связи с этим блоггерами выдвигаются условия, при которых белорус сможет правомерно считать себя европейцем – от формальных (включение Беларуси в Евросоюз) и политических (демократизация, либерализация, свобода инициативы, 316 предпринимательства и т.д.) – до моральных и поведенческих, например: "я перакананы, што нягледзячы на байкавую "шчырасьць", реальныя беларусы надзвычай няўдзячныя людзі. Як на дарогах сябе паводзяць, у транспарце, у грамадскіх местах... прычына – прыгонна-калгасны менталітэт, пры тым яшчэ і сакралізаваны адраджэнскай традыцыяй" [63]. Итак, факт нахождения Беларуси в центре Европы в отличие от 90-х гг. ХХ в. больше не воспринимается как самодостаточное "право на европейскость": требуются определенные подвижки – правовые, интеллектуальные, моральные – чтобы стать истинным европейцем. Что такое "истинный европеец" в блогах не поясняется. "Европейские ценности" тоже понимаются весьма размыто. В итоге вырисовывается некая идеальная цивилизация, единственный оговариваемый признак которой – противопоставленность демонизированной России. Европейский путь понимается как будущее, а пророссийский – как прошлое. Неудивительно, что представление о восточно-славянском братстве (и, тем более, единстве) в белорусской блогосфере не популярно. Пожалуй, единственным почти общепризнанным большинством блоггеров аспектом исторического единства Беларуси и России является память о Великой Отечественной войне, как "память о реальной войне, в ходе которой выжившие в войне белорусы сознательно были реально действующей частью антигитлеровской коалиции, частью советского народа, частью советской военно-политической машины, сокрушившей Германию. <…> Нерусофобия белорусов – в очень значительной степени следствие исторической памяти про разгром нацистской Германии" [65]. Рисунок: Современные реконструкторы: модель Великой Отеческтвенной войныЖурнал "Вокруг света", с.29 (фото снизу) или с. 26. Тому, как решается проблема "Кто я?", будет посвящен один из следующих разделов, а именно, раздел о современной этничности. Сегодня ответы на этот вопрос слишком развернуты и дискуссионны, чтобы анализировать их походя. Белорусский или русский язык? Для многих блоггеров демаркационной линией "свой – чужой" остается язык: "Я складаю думкі, мару, мне сьняцца сны на беларускай і па-беларуску! Хтосьці скажа, што ўсё марна, бо беларуская мова зжыла сваё, што гэта мова толькі нацыяналістычных калгасьнікаў, што ў сьвеце хутка будзе толькі адна мова і дакладна не беларуская. А мне да фіялетавай зоркі, што яны там скажуць!.. Гэта мая мова, мова майго народу. І я зраблю ўсё, каб мае дзеці ведалі і размаўлялі менавіта на матчынай мове!" [125]; "Што будзе мацней: расейскамоўнасьць, якая так і будзе заўсёды 317 цягнуцца пад Расейскі культурны і інфарматыўны ўплыў, ці годны беларускі патрыятызм, які, урэшце, прывядзе да паўсюльмеснага ужываньня беларусамі сваёй мовы. Я веру, што другі шлях эвалюцыйна непазьбежны, бо беларусы маюць гонар" [83]. Столь резкое противопоставление белорусского языка русскому объясняется тремя основными причинами. Первая – популярность тезиса "один народ – один язык", из учебников и прессы проникший в блогосферу: "Беларусам можна стаць толькі праз мову... альбо застацца бязглуздым расейскамоўным саўком" [6]. Вторая – влияние знаменитой гипотезы Сепира-Уорфа, в соответствии с которой язык воздействует на ментальность. Большинство блоггеров, пишущих на эту тему – образованные люди гуманитарной "закваски" – знакомы с этой гипотезой и прикладывают ее к современной белорусской реальности: "мова ў пэўным чынам вызначае працэс чалавечага мысьленьня. Адчула на ўласным вопыце. па-беларуску мне прасьцей быць адчыненай ды шчырай. А мацюкацца ды і зусім не патрэбна" [94]. И, наконец, третья причина: государственный статус русского языка связывается с наследием социалистической модели развития и/ или "подчиненной" позиции в отношении России: "Уходя в белорусскую ментальность, будто бы создаешь для себя потаемный внутренний мир, начинаешь жизнь с чистого листа... Русский же стал для меня каким-то черствым, пустым, безразличным, повседневным…" [94]; "Ня верце мясцовым правакатарамрасейцам... Яны хацяць адабраць у нас вашу БЕЛАРУСКАСЦЬ, нашу СПАДЧЫНУ, нашу КУЛЬТУРУ, НАШУ МОВУ. Яны хацяць зрабіць з вас расейскіх халопаў. НІКОЛІ, НІКОЛІ яны ня будуць да нас адносіцца з павагай і любоўю" [36]. В связи с этим в сети не столь уж редко встречаются обвинения, адресованные русскоязычным пользователям, якобы считающим белорусский язык "непрыгожым", "мовай нацыяналістычных калгасьнікаў". Однако обнаружить подобные высказывания в их постах мне не удалось. Иногда такое отношение выражают "сторонние наблюдатели" – россияне и представители российских диаспор в других странах, которым белорусский язык представляется "переиначенным" русским. Показательный пример – надменные высказывания о Беларуси и белорусском языке российского писателя Д. Галковского, вызвавшие в блогосфере волну возмущения со стороны и белорусско- и русскоязычных блоггеров. Стремление к компромиссу. Напротив, русскоязычные белорусы изо всех сил стараются сгладить противоречия в языковой сфере: "Мы любим наш белорусский!! Я готова умереть за то, как нежно и трепетно он звучит, но по сути мы даже не знаем, на какой "редакции" языка нам говорить – времен влияния Польши или России? <…> Да и наш русский далеко не чистый русский. Он уже давно приобрел оттенки "нашести" с 318 кучей словечек типа "абы что". И для тебя "В лесу родилась ёлочка" так и останется в оригинале в уголках сознания, как бы ты ее не переводил, и бабушкины сказки тоже…" [94]. Встречаются и апелляции к билингвальной направленности мировой культуре: "Интересно, почему англоязычная поэзия не мешает Набокову считаться великим русским писателем? А французский язык Кундере совсем ни капельки не помеха, чтобы быть великим чешским писателем?" [135]. Но главная причина, по которой язык уже не "сплошь и рядом" считается основным признаком этноса – здравый смысл, унаследованный от белорусского крестьянина прежних столетий: "Нельзя оценивать белоруса только мовой. Так же как ирландца, шотландца, да и кого бы то ни было еще" [там же]. "Мова –важны складнік, але не абавязковы. Мая бабуля ад нараджэння размаўляла па-беларуску, але не ўсведамляла сябе беларускай. Яна была руская. У нас хапае людзей рускамоўных у жыцці, якія яшчэ большыя нацыяналісты, чым тыя, якія гавораць па-беларуску. А ёсць такія беларускамоўныя людзі, на якіх паглядзіш і думаеш –лепш бы ты ўвогуле не гаварыў, ніводнай мовай" [55]; "… некаторыя таварышчы-нацыяналісты абгрунтаваным лічаць меркаваньне пра тое, што нацыя і нацыяналізм паўсталі праз з’яўленьне нацыянальных моваў. Цяжка ўявіць сабе што-небудзь больш абсурднае. Гэта падобна на студню, ваду ў якую вёдрамі прыносяць з ракі… наяўзброеным вокам бачна, што мова з’яўляецца нечым другасным адносна народу, а той, хто хоча давесьці адваротнае, проста выдае прычыну за наступства. Гэта як бы ён сьцьвярджаў, што машына, якая на хуткасьці 180 км\г уляцела ў сьцяну, ператварылася ў блін таму, што спачатку ў яе адляцеў бампер" [5]. Делается все более распространенным "посреднический" взгляд на эту проблему, который разделяют не только русскоязычные, но и часть белорусскоязычных блоггеров: "А вообще, не важно на каком языке мы, теперешние беларусы, говорим, главное, что мы думаем, и как воплощаем в реальность наши мечты… Я говорю на русском и на белорусском. И мне дорога эта страна" [94]; "У эпоху постмадэрну, суцэльнай глабалізацыі моўная пытанне становіцца ўсё больш размытым <…> У гэтай праблемы ёсць розныя бакі. Але не трэба разумнічаць і выдаваць свой бок за адзіны правільны, што зроблена як у гэтым, так і ў мінулым пасце. Канечне, знявага ні да чаго добрага прывесці не можа" [15]. Интересно и то, что сравнительно малое число блоггеров требуют решить языковую проблему разрубанием "гордиева узла" – однозначным воцарением одного из языков. Напротив, мы узнаем уже знакомую нам ментальную модель – "окольный" путь 319 изменений: "Для мяне мова – гэта перш за ўсё сродак сувязі з людзьмі... Галоўнае – зразумець адзін аднаго, а не прыйсьці ў чужы манастыр са сваім статутам <…>. Тут справа, здаецца, не ў менталітэце, а у тым, што людзі па сваёй прыродзе жадаюць размаўляць на той мове, на якой ім зручней. І чалавека ніколі не прымусіш размаўляць на той ці іншай мове. Сітуацыю трэба выпраўляць адукацыяй, асветай і г.д. – у гэтым выпадку людзі самі пачнуць размауляць па-беларусску. Гэта вельмі даўгі працэсс, але іншага шляху няма" [14]. Предлагаемые меры. Какие же меры предлагаются для ненасильственного, "естественного" изменения статуса белорусского языка? В первую очередь, создание условий для реального, а не формального двуязычия: "Трэба пачаць з выконвання Канстытуцыі. Калі па Канстытуцыі ў нас дзьве дзяржмовы, то яны павінны быць раўнапраўнымі ва ўсім (адукацыя, СМІ і г.д.). Ну і сярод насельніцтва паціху праводзіць адпаведную "агітацыю". І тады паступова, пачынаючы з малодшага пакалення, людзі зразумеюць, што ім трэба ведаць і вывучаць мову. На мой погляд тут нічога складанага няма, галоўнае – умець чакаць і не "перагібаць палку" (блоггер huper_by) [там же]; "Галоўнае каб людзі жадалі вывучаць мову, а не прымусова!" [там же]. Часто в качестве наиболее действенного инструмента, с помощью которого можно мягко и без напряжения усвоить белорусский язык (и в идеале – впоследствии перейти на него), понимаются песни белорусских музыкальных групп ("Троіца", "Палац", "N.R.М.", "Крамбамбуля" и др.). Почему не литература, например? Нет, ссылок на литературу в целом и на конкретные литературные проекты в интернете хватает, но круг книгочеев – особенно среди молодежи – в виртуальной, как, впрочем, и в реальной действительности – гораздо уже, чем круг меломанов. Причины этого хорошо известны. Они отнюдь не специфически белорусские, а скорее, "постсоветские": ведь именно литература в СССР замещала дискурсы и даже целые сферы культуры и общественной жизни, которые были под гласным и негласным запретом. Когда же общественная ситуация изменилась, литература утратила свою функцию арбитра, "учителя жизни". Словом, прошли времена, когда литература сплачивала большие группы людей, когда уже само название текста было "брендом", а фамилия автора – паролем. Впрочем, такой "парольностью" по-прежнему обладают имена некоторых белорусских писателей – Василя Быкова, Максима Богдановича, Владимира Короткевича (чуть реже упоминаются Янка Купала и Якуб Колас), а из современников – Светлану Алексиевич, Андрея Хадановича и Адама Глобуса. Рисунки: В. Быков – Запрудник с. 170. 320 М. Богданович (фото) – История имперских отношений, с. 188. Короткевич (бюст) – Сучасны беларускі партрэт, с. 154, или История имперских отношений, с. 443. Белорусский язык как элитарное know-how. Итак, литература утратила свою "арбитражную" позицию, и на первый план выходит требование развлекательности. Отсюда – новый по сравнению с теми же девяностыми – мотив: "Калі "жаночыя раманы" і інш. будзе друкавацца па-беларуску (а яшчэ пажадана пра беларускую рэчаіснаць) ... і гэта будзе цікава і прадавацца ... Лічыце, што зрухі ў моўнай сітуацыі пачаліся. А пакуль на "элітарнай" мове ствараецца "элітарная", "узнёслая" літаратура ... гэта падман і нарцысізм. Філасоўскія стогны ўжо даўно не цікавы... Дзе беларускамоўны "Лук'яненка"? Дзе беларускамоўная "Усцінава"? [133]. Что это значит? То, что за последние два десятилетия белорусский язык и белорусская культура не только утратили налет "вясковасцi", но и приобрели характер "элитарного проекта". Ситуация изменилась коренным образом: если еще в 80-х гг. белорусский язык зачастую считался "гаворкай" села, а в 90-х настойчиво выдвигалось требование сделать белорусский язык престижным и элитарным, то сегодня он порой представляется прерогативой узкого круга интеллектуалов (культурологов, философов и др.). Итак, пусть противоречивыми путями, но цели 90-х (придание белорусскому языку статуса "городского", "высокого языка) были достигнуты. Впрочем остался насущным главный вопрос: как же сделать его обиходным? Путь к "белорусскости". Дискуссии в блогосфере по языковой проблеме можно подытожить словами одного из блоггеров: "я не предлагаю всем завтра же начать говорить по-белорусски. Просто нужно чтобы каждый понемному, на своем месте не забывал о нашем языке. Ведь это совсем не сложно. Совсем не сложно сделать выпуск новостей на белорусском языке на НАЦИОНАЛЬНОМ телеканале, совсем не сложно сделать рекламу на нашем языке, совсем не сложно объявить о прибытии поезда побелорусски. Просто нужно чтобы каждый, где работает, сделал хоть что-нибудь для своего языка: бизнесмен назвал новый ресторан сакавiтым белорусским словом, строитель возле недостроенного дома поставил табличку «Стой! Небяспечна!», владелец крупного Интернет-портала сделал белорусскую версию, продавщица сказала бы «Калi ласка» вместо вымученного «пожалуйста». Просто нужно каждому по крупице сделать что-то для НАШЕГО языка. Тогда мы сами будем себя уважать, и нас тоже будут уважать. Это к тому, если кто-то не понял при чем тут имидж страны…" [99]. Жизнь – смерть "Смерть чужая". Упоминания о смерти в блогах так же редко, как и в кейсе № 2 (письма советского интеллигента времен войны). Иное дело – в белорусских сказках. В 321 них смерть непроблематична. Она понимается как закономерная часть жизни, как ее "правильное", "закономерное" продолжение. Недаром французский историк Ф. Арьес назвал архаическое, крестьянское представление о смерти "смертью прирученной". Что касается восприятия смерти в ХХ и XXI веках, то в целом оно не изменилась: это все та же "смерть чужая", по Ф.Арьесу. Знание о ней отодвинуто в смутную тень далекого будущего. Можно перефразировать слова знаменитой героини М. Митчелл: "Я подумаю о смерти завтра". Впрочем, это "завтра" никогда не наступает. Смерть замалчивается. Дополнительная причина такого замалчивания в интернете – молодой возраст большинства блоггеров. То, что их внимание направлено не на потусторонний, а на "посюстронний" мир, – закономерно. В блогах слово "смерть", как правило, употребляется в переносном смысле "смерть языка и культуры" ("А вопрос белорусского языка для меня такой болезненный потому, что не хочется, чтобы он умер под натиском существующих обстоятельств, в том числе и экономических" [27]) или в усилительной функции ("Мы любим наш белорусский!! Я готова умереть за то, как нежно и трепетно он звучит" [94]). Однако существует контекст, в котором смерть упоминается не фигурально, а прямо: память о героях и жертвах (жители Беларуси, погибшие в войнах, главным образом, в Великой Отечественной и др., белорусские герои, предки). Смерть и память. Этот контекст объединяет прошлое, настоящее и будущее, связывая народ в диахронном плане. Забвение погибших понимается как недопустимый нравственный изъян: "Не магу сказаць калі, бо было гэта ўжо вельмі даўно, я неяк звярнуў увагу, што нашым суграмадзянам зусім няма справы да памяці пра сваіх продкаў. Тут бы нічога дзіўнага, каб размова ішла пра люмпен ва ўсіх яго праявах. Дык жа не. Нават з майго бліжэйшага атачэння “сьвядомыя беларусы”, якія з пенай ў роце і слязмі на вачах крычаць ды жаляцца пра страчаную спадчыну, загубленую культуру і гэтак далей, абсалютна не звярталі і не звяртаюць увагі на магілы продкаў. Паглядзіце, ці багата з тых, хто ахвотна ладзіць флэшмобы, пікеты, рознага кшталту іншыя акцыі пратэсту ды актыўна асвойвае за мяжой навуку жыць у сучасным грамадзтве спажыўцоў, адведаў хоць бы раз магілы тых, на каго спасылаецца, кім, як быццам, ганарыцца, чыім імем клянецца, калі сцвярджае публічна свой “адраджэнскі” ды “нацыянальны” светапогляд. У якім стане знаходзяцца, як часта адведваюцца, а галоўнае, якое месца займаюць у сэрцы магілы ў Плябані, Уладыках, Відзах, Мілавідах, Смалянах і іншыя, раскіданыя па ўсім абшары нашай зямлі. Урэшце-рэшт, а гэта мо і самае галоўнае, усе нашыя могілкі, асабліва старыя, даўно закінутыя, а часам проста нагадваюць сметнікі... Ёсць, праўда, знакавыя месцы, такія як Курапаты, якія для большай часткі апазыцыйнага 322 грамадзтва даўно перасталі быць брацкай магілай, а сталі зручнай і ўжо перманентнай нагодай чарговы раз наехаць на ўлады. З другога боку і самі ўлады ды й усё неапазыцыйнае беларускае грамадзтва ставіцца да “сваіх” магілаў гэтак сама. Ёсць некалькі афіцыйных ідэалагічна-заангажаваных месцаў, а па-за гэтым самае дзікае стаўленне, апагеем якога з’яўляюцца тысячы і тысячы непахаваных савецкіх жаўнераў з апошняй вайны. Але і такія месцы, як Трасцянец, маштабы трагедыі якога маюць агульнасусветнае значэнне, каму па сапраўднаму ён патрэбны ў гэтай краіне, хто, колькі працэнтаў (часткаў працэнта) з мінчукоў пабываў там (ці хоць бы ведае пра гэта месца)... Але справа здаецца нават сур’ёзней. Сучасная цывілізацыя, часткай якой з’яўляемся і мы, увогуле ігнаруе мінулае, асабліва ягоныя трагічныя старонкі. Гома-спажыўцу не трэба забіваць галаву цяжкімі думкамі і развагамі пра мараль і адказнасць. Ён жыве і павінен жыць толькі радасцямі ды задавальненнямі сёняшняга дню, бяручы з гісторыя толькі тое, што патрэбна для ... тых жа радасці і задавальнення. У гэтым, якраз, і праяўляюцца вынікі атэізацыі і дэмакратызацыі еўрапейскай цывілізацыі, якія яна зазнала з часоў рэнесансу" [100]. Итак, вопрос о смерти неизбежно вызывает вопрос о жизни. Обратим внимание: речь идет уже не о "тоталитарном наследии СССР", которое, по мнению большинства блоггеров, является корнем современных белорусских проблем, а об общей для всего Запада проблеме – направленности на будущее, напрочь игнорирующей прошлое – и особенно пршлое трагическое. Интересно, что сторонние наблюдатели (россияне и украинцы) как раз изумляются стойкости белорусской скорбной памяти: "Белорусы чтят память и хранят историю. И вечный огонь действительно вечный. Вечный огонь находится на Площади Победы. Кроме него здесь еще стела и надпись на крышах домов по периметру площади "Подвиг народа бессмертен". Также посреди Свислочи (река вроде Кальмиуса в Донецке или Днепра в Киеве) есть Остров Слез, на котором находится капличка. Эта капличка окружена статуями скорбящих матерей. Внутри нее внизу натянуты струны, и если зайти внутрь и бросить монетку, то раздастся нежный печальный перезвон. Дивное ощущение. Выпускаешь из рук монетку, и вся капличка наполняется этим звуком..." [76] (всего – 9 постов подобного содержания). Рисунок: Хатынь – Белорусы, с. 121. Как совместить это с содержанием предыдущего высказывания? В том ли дело, что все познается в сравнении, и на фоне других народов бывшего СССР белорусы и впрямь в гораздо большей степени сохранили память о трагедиях ХХ века? Или же в 323 том, что эта память просто в большей степени "монументализирована", закована в официозные формы, и именно это бросается в глаза гостям Беларуси? Думается, эти предположения не противоречат друг другу. И возможно, "советская пропаганда" – со всеми ее благими и далеко не благими порывами, с ее настойчивой фиксацией на "партизанском подвиге" и на трагедии Беларуси – во многом оказалась права, а фраза "абы не было войны" имеет вовсе не хрестоматийно-советское, а современное и вселенское звучание. Мужское – женское Мужчина и женщина: смена ролей? Современное понимание оппозиции "мужское – женское" разительно отличается от того, как его понимали и крестьянин, и советский интеллигент. На запрос по ключевым словам выпало более ста ссылок, и большая часть постов оказалась созданной женщинами. Поскольку число белорусских блоггеров-мужчин составляет более половины (соотношение примерно 53: 47), можно предположить, что: а) эта тема более интересует женщин; б) женщина представляет гораздо более активное начало, чем прежде (вовсе не случайно женский образ в наших предыдущих очерках подавался глазами мужчин и лишь здесь – глазами женщины); в) именно активность жизненной позиции побуждает женщину высказываться на гендерные темы. Можно даже говорить о феминистическом реванше, который подтачивает мужскую, маскулинную модель культуры. Впрочем, этот реванш инициируют отнюдь не все "блоггерши", а лишь определенная категория женщин – образованные, самодостаточные, до тридцати пяти лет: косвенные указания на это прослеживаются в ряде текстов. С этими оговорками и следует принимать женский самообраз и мужской образ. Современная женщина все чаще предстает как умная, сильная, успешная и творческая личность. Образ мужчины амбивалентен: "Белорусские мужчины делятся на две категории – «сильные» и слабые. 1. «Сильных» я недаром беру в кавычки: обычно эта сила сопровождается повышенным уровнем агрессии и хамства, так что возникают сомнения в её подлинности... 2. слабые. физически слабее женщин. Поэтому могут обсуждать, имеет ли мужчина право бить женщину… Не могут конкурировать с приезжими – ни за рабочие места, ни за места в сердцах девушек. Поэтому боятся эмигрантов... В такой ситуации женщине приходится всю ответственность брать на себя. Так что белорусский феминизм – не от избытка творческих сил у женщин, которые ищут самореализации, а от недостатка ответственности у мужчин, которые потому и любят равноправие, что оно позволяет ничего не решать… То есть – я не требую, чтоб мужчина обязательно был активным и зарабатывал деньги, а женщина сидела дома – нет, 324 внутри семьи люди должны договориться сами о распределении обязанностей. Но – мужчины уподобились женщинам, и женщинам стало не из чего выбирать" [28]. Те же качества современных мужчин отмечаются и в другом женском блоге: "Многія мае знаёмыя дзяўчыны заўважаюць, што ў параўнанні з немцамі, палякамі, украінцамі, беларускія мужчыны – больш рахманыя, слабавольныя, безініцыятыўныя. А кансерватыўная мадэль: "Будзь мужчынай!" – нікуды не падзелася. <...> не жанчыны робяць мужчыну слабым, – яны проста замяняюць яго, калі ён сам не дае сабе рады са сваімі абавязкамі – у многіх проста не застаецца іншага выбару" [117]. Пользователь кaryzna дополнительно отмечает инфантильность мужчин: "Суть же проблемы в том, что слишком мало мужчин и очень много мальчиков... Потому то женщины и хотят взять все в свои руки, ведь они взрослеют раньше и надольше" [там же]. Блоггер shoihet (мужчина) возражает: причина инфантилизации мужчин – в женском желании доминировать: "я сталкивался с женщинами, которые пытались культивировать во мне слабость, потому что им это было удобно", а также обращает внимание на то, что эта ситуация ныне характерна для всего западного мира [там же]. Однако возражения вялы, и Негодующая Женщина – по крайней мере, на "страничках" интернета – с легкостью берет верх. Современная любовь – поворот на 180 градусов? Итак, речь идет не только о "феминизации" мужчин, но и о "маскулинизации" (омужествлении) женщин. В связи с этим переворачивается тема любви: "Прычыну маёй любові да беларускіх мужчынаў патлумачыць проста: мяне ўсё жыцьцё непрагматычна і неадольна цягне да няўдачнікаў. Ёсьць штосьці неапісальна кранальнае ў тым, як яны хутаюцца ў шалікі, вінавата пасьміхаюцца, какетліва камплексуюць, не адважваюцца зрабіць першы крок, адстаяць сваё меркаваньне і знайсьці сваё месца пад сонцам… Няўдачнік – унівэрсальная карма любога, мужчыны, на якім стаіць акцыз Belarus – яно ахоплівае як інтэлектуальную сфэру, так і матэрыяльна-побытавую. І аналізуючы іх вершы, і прыбіраючы з падлогі іх шкарпэткі, і слухаючы іхныя перадвыбарчыя выступы, разумееш: лузэрства той паловы жыхароў Беларусі, якую чамусьці называюць “моцнаю” – зьява генэтычная" [116]. Корни такой ситуации, по мнению автора поста, давние и социальные (идеологию мужских пессимизма и "лузэрства" она отсчитывает от П.Багрыма и Ф.Богушевича, автора поэмы "Кепска будзе"). Отсюда выводится формула "белорусской" любви: "Мне цябе шкада, таму я цябе кахаю" [там же]. Впрочем, такова и формула русской любви: "жалеть" и "любить" долгие века были синонимами. Но дело не в этом, а в том, почему же современный белорусский мужчина видится жалости, а не восхищения. слабым, несостоявшимся, достойным 325 Чего хотят мужчины? Посты мужского авторства по этой теме немногочислены и по преимуществу представляют два взгляда. Первый – традиционный взгляд на женскую активность: "Нарадзіць і выхаваць дзяцей – гэта такая сацыяльная актыўнасьць, якой большасьці фэміністак – як да неба" (kurt_bielarus) [там же]. Этот взгляд практически без изменений сохранился с тех пор, когда слагались белорусские сказки про "социально активную" –"падтыканую" и матерящуюся бабу. А значит, у ряда пользователей-мужчин женский идеал во многом сохранился в неприкосновенности: он тот же, что и в традиционной крестьянской культуре, и (в очень и очень многом) в культуре советской – женщина-мать. Вторая точка зрения касается уже не женщин, а мужчин: "Рускі мужчына, перад тым, як прагучыць стрэл, ірване на грудзях кашулю і мацюкнецца, можа плюнуць... усе бачылі і чыталі пра герояў. Такі апошні жэст – моцны, прыгожы. Беларускі ж мужчына смерць сустрэне моўчкі. Кашулю на грудзях ірваць не стане. Пашкадуе кашулю, а можа каму, няхай і з дзіркай, а спатрэбіцца... Мне думаецца, што ў жэстах, у апошнім жэсце і хаваецца тая ментальная розніца паміж героямі" [114]. Возможно, в этой неаффектированности эмоций находит объяснение "молчание" мужчин при обсуждении гендерных проблем. Кстати, этот взгляд тоже вполне традиционен: вспомним хотя бы сказочный мотив мужской "тихости" – в том числе и по отношению к агрессивной жене: " Злуе паганая баба да лупіць яго аберучкі та мешалкаю, та качаргою <…> шкода стала дурному бабу, што яна саўсем атсаділа сабе рукі, от і пабег ён ат яе наўцекача"[189, с. 84]. А чего хотят женщины? Итак, ныне тихость ассоциируется с "неуспешностью". В чем причины? Ведь именно она считалась одним из главных достоинств белоруса не только в XIX, но и, по крайней мере отчасти – в ХХ веке. В том ли, что ныне мерилом человеческой состоятельности считается успешность – и не столько личностновнутренняя, сколько социальная (успешность, которую видно со стороны)? В том ли, что в современной массовой культуре (и не только белорусской, но и мировой) позитивный образ немногословного, сильного, надежного мужчины (персонифицированный, например, в Брюсе Уиллисе) заменяется образом "мачо" (Антонио Бандерас)? Или – во влиянии феминизма, который из области "ученых штудий" перешел в область той же маскультуры? А может быть, дело в еще не успевшей зажить "травме перестройки", когда в ситуацию гораздо мобильнее и гибче вписались женщины (челночничество, смена профессии на менее квалифицированную, но приносящую доход и т.д.)? Или сработало отношение к алкоголизму – как по преимуществу мужскому пороку? 326 Все это верно – в той или иной степени. Но есть и другие, менее лежащие на поверхности, но не менее значимые причины. Вспомним святость, которой традиционный белорус наделял труд на земле. Ореол этой святости окружал и его самого – мужчину, от труда которого зависела не только семья, но и вся "грамада". Или, если обратиться к герою предыдущего очерка, – что такое "интеллигент" в СССР? Да, по Марксу, всего-навсего "прослойка". Но престиж образования и ума в советские годы был налицо. Их наличие компенсировало и социальную неуспешность, и небольшие зарплаты, и даже пьянство. Именно в советское время постепенно истаял пиетет по отношению к крестьянину, заменившись пиететом по отношению к интеллектуалу, который, впрочем, тоже оказался непрочным. Кроме того, пресловутое советское "бессеребренничество" (хоть и не столь безграничное, каким его пытались изобразить советские "мастера культуры", но все же являвшее реальную ценность – во всяком случае, для интеллигенции) стремительно и непоправимо "схлопнулось" уже в самом начале перестройки. И привычный трудовой кодекс (включающий весьма скромные надежды и амбиции), и интеллигентность – в том числе, крестьянская тихость, которая тоже представляла собой род природной интеллигентности – перестали "котироваться", и белорусский мужчина стал казаться неудачником… Впрочем, в блогосфере встречаются положительные высказывания о белорусских мужчинах. Однако они по преимуществу принадлежат "сторонним наблюдательницам" – и вряд ли это случайно: "КАК же я люблю белорусов!!! я не объективна, конечно, но мне кажется, что нет нигде больше таких людей… Какие они все светлые, добрые, улыбчивые, всегда готовы помочь... хорошие мои… И Мальчик здесь мой, любимый. Такой внимательный, понимающий и терпеливый" [111]; "есть на свете замечательная страна лесов и озер – Белоруссия. Там живут спокойные и длинноусые белорусы, <…> там – мои друзья, и я эту страну очень люблю" [120]. Вероятно, в России, откуда, как правило, исходят эти отзывы, и женщины, и мужчины уже "наелись" мачизмом с его атрибутикой – джипами, охраной и "баблом", и снова возвращается интерес к "внимательным, понимающим и терпеливым" мужчинам. Что ж, это вселяет надежды… Этническое время и пространство в самосознании современного белоруса В современной "мозаичной" культуре представления о времени и пространстве усложняются и дробятся. Интернет – наиболее правдивое отражение этой "мозаичности". Как в нем представлено современное понимание этнических времени и пространства? Этническое время 327 Изменения в этническом времени. Напомню: время крестьянина разграничивалось по оси "праздники – будни", "день – ночь", а также в зависимости от сезонного цикла работ. То же зонирование времени (за исключением трудовых сезонов) было свойственно и "народному интеллигенту" времен войны. Сегодня эти границы не столь очевидны, а порою – и вовсе стерты. Существуют общие и специфические причины этого переворота во времени. сезонного распорядка (вследствие Среди первых – забвение традиционного урбанизации); временные "сдвиги" (перенос праздников, переход на "зимнее" и "летнее" время); расширение внетрудовых дней – благодаря причудливому сосуществованию религиозных и светских (советских и постсоветских) праздников в Беларуси (1 мая, 8 марта, 7 ноября, Новый год, Рождество, Пасха, Радуница, День города и т.д.); и наконец, возникновение в белорусских городах "ночной жизни" – пусть пока скудной, но все же реальной. Специфическая же причина – преимущественно "ночной" образ жизни блоггера (вследствие дороговизны дневного трафика, воприятия ночи как "свободного"времени и т.д.). Что все это значит? То, что ночь и праздник стали считаться более привлекательными по сравнению с днем и буднями (последние воспринимаются как "рутинные", "однообразные", "скучные"). Вспомним: для белорусского крестьянина ночь – опасное время, когда на земле творятся кромешные дела, и бал правят черти и разбойники. Праздник желанен, но тоже ощущается небезопасным: черт чаще искушает сказочного "мужыка" по праздникам. Возможно, причина в том, что в будни "мужык" находится под защитой трудового кодекса, заповеданного ему Богом? А по праздникам человек уязвим: он пьет, веселится, ему труднее обуздать себя, а значит, легче подставить себя под удар нечистого… Это же отношение к праздному времени сохранилось и у "народного интеллигента": "Выходной у меня всегда пустой скучный день, и чувствуешь себя, как вышибленный из жизненной колеи". Самое любимое его время – утро, начало дня, и по крестьянской привычке, усугубленной военным бытом, это утро начинается ранно. Ночь существует лишь для того, чтобы набраться сил для нового дня. Сегодня понимание "дня" и "ночи", а также времени труда и досуга смещается. Появляется новый тип зонирования времени: "виртуальное время" (вечернее и ночное) – "реальное время" (дневное), причем первое обладает большей привлекательностью, чем последнее. Ведь именно в миг, когда распростившись с одолевающими его повседневными делами, человек оказывается у компьютера, он может – пусть на время – разлучиться с собственным реальным образом, часто вызывающим недовольство, и 328 реализовать свое "другое Я" (интернет-Я), более свободное, менее скованное нормами и требованиями – как требованиями со стороны, так и требованиями к себе. "Время труда". Главным предназначением человека в предыдущих типах менталитета является труд. В предыдущих – но не в нынешнем. Упоминаний о работе в блогах значительно меньше, чем упоминаний о досуге (встречах, концертах, путешествиях, увлечениях и т.д.). Значит ли это, что современный белорус мало работает? Разумеется, меньше, чем "мужык", но все же немало: среди блоггеров есть настоящие трудоголики. Вероятно, дело в том, что труд, ранее занимавший центральную позицию в жизни человека, ныне отодвинут на периферию, в пространство дел, пусть даже "интересных мне", но малоинтересных спутникам по виртуальному миру. Оно и понятно: как правило, блоги принадлежат все-таки досуговой культуре. Другой момент, связанный со временем труда: труд перестает быть величиной постоянной. За время жизни одного человека работу можно изменить несколько (а то и десятки) раз. И крестьянин, и даже (пусть и в меньшей степени) советский белорус знали, что их дело – на всю жизнь. Крестьянин не избирал труд: труд давался ему по факту рождения – и не только ему, но и детям, и внукам. Впомним обиду на "вучонага сына", который изменил данному от века призванию! У советского человека было большее пространство для маневра, но выбор делался на долгие годы, в идеале – на всю жизнь. Не случайно советские отделы кадров так подозрительно относились к "летунам" – к тем, кто часто меняет работу. А уж смена профессии была явлением еще более редким: чаще ее меняли "маргиналы", не вписавшиеся в пространство официозной культуры: поэты-кочегары, художники-дворники. Сейчас не только выбор работы, но и смена профессии – дело обычное и "ненавечное": "У Беларусі паўным паўно незанятых нішаў і не абавязкова для таго, каб здабываць на хлеб, зламаць сабе шыю" [81]. Третье: человек более не хочет соответствовать "законам", налагаемым на него трудом. А ведь такие негласные законы были всегда. В менталитете крестьянства XIX в. труд понимался как смысл жизни, советский интеллигент 40-х гг. относился к нему, как к виду общественного служения. В обоих случаях человек должен был делать то, что должен. Ныне время, потраченное на труд, должно соответствовать самым разнообразным запросам человека: "Мінае роўна год і я зноўку зьбіраюся на новае мейсца працы <…> Ведаю дакладна што не дзеля грошаў. Тут можна было б пагандлявацца, але не хачу. Адчуваю, што пачынаю тупець ад таго, чым займаюся зараз. Хачу дапамагаць калегам па працы, але тут чамусьці гэтым адчайна злоўжываюць, і стараюцца перавесіць на цябе як мага больш сваёй працы <…>. Хачу расьці і 329 разьвівацца. Хачу працаваць з нармальнымі адэкватнымі людзьмі. Хачу нармальную працу, каб заставаліся час, сілы і жаданьне для блізкіх людзей і любімай справы" [81]. Итак, время труда перестает быть бесспорным и главным временем жизни человека. И не случайно пресловутое белорусское трудолюбие ныне приписывается не городским жителям, а деревенским, во многом действующим "по старинке": "… хоць і кажуць, што беларусы працавітыя, але тое на вёсцы" [там же]. Время как биография. Время жизни блоггера, его биография в интернете размыта: "виртуальная личность" отличается неявностью (а то и намеренной поменой) возрастных характеристик. Указания на возраст блоггера косвенны, они, как правило, выражаются в давности воспоминаний (например, если блоггер вспоминает о 70-х или 80-х гг. ХХ в., делается ясно, что это человек зрелый); в указании на социальную позицию (студент, молодой специалист, молодая мать, отец взрослых детей и др.). Есть различия и в языке разных поколений, но они вовсе не обязательно явны: блоггеры, как правило, предпочитают неформальную манеру общения и используют интернет-сленг вне зависимости от возраста. Скорее, изменения видны в грамматике и синтаксисе, но это связано уже с реальной ситуацией – с большей грамотностью и начитанностью тех, кому за 35. Впрочем, проблемы грамматики можно легко обминуть: во многом именно для этого и существует специфический интернет-сленг (самый яркий пример – "олбанский язык", он же "язык падонкафф", сделавший безграмотность нормой). Кстати, благодаря такому сленгу сокращается и возрастная дистанция пользователей: все уравниваются и – это важно – "становятся" одинаково молодыми. С этой же целью в период господства рококо аристократы (и женщины, у мужчины, и даже дети) пудрили парики: искусственная седина как бы уравнивала всех в возрасте. Культивируемое интернетом (как, впрочем, и кино, и современной литературой, да и культурой в целом) время – молодость. Обратим внимание на то, что "идеальный" возраст человека в менталитетах белорусского крестьянства, советского интеллигента и нашего современника-блоггера не совпадает. В первом – это старость, понимаемая как синоним "мудрости", во втором – зрелость, а в третьем – молодость (как время любви, общения, досуга, путешествий и наслаждений). Потому в интернете – и в блогосфере, и на форумах – существует негласное правило: не приводить аргумента "Я старше и больше знаю". Напротив, культивация молодости приводит к тому, что блоггеры старшего возраста нередко стараются казаться более молодыми и "отвязанными" (с помощью речевых или визуальных средств, например, "аватар", т.е. картинок, на которых изображено ментальное "эго" автора). Вероятно, мы постепенно пришли к тому этапу развития общества, когда, по словам антрополога Маргарет Мид, не дети учатся у 330 родителей, а напротив, родители – у детей: они легче приспосабливаются к изменяющейся действительности, являются более мобильными, владеют тактиками более гибкого выживания в современном мире. Именно поэтому молодость становится наиболее "почитаемым" временем жизни. Словом, ныне быть молодым – "престижно". Время человека и время общности. Жизнь традиционного крестьянина была равномерна, тяготела к бессобытийности. Жизнь советского белоруса военных лет была подчинена масштабнейшему общественному Событию – Великой Отечественной войне. Все остальные события нивелировались в свете этого главного. Жизнь сегодняшних блоггеров протекает в ритме калейдоскопически сменяющих друг друга событий – частных и общественных, внешних и внутренних. Именно они и создают почву для дискуссий "здесь и сейчас". Если два века назад народ объединялся всеобщностью и равномерностью повседневной жизни, если в 40-е гг. ХХ в. он сплачивался и мобилизовался войной, то теперь точки объединения временны, они "плавают": основой дискуссии может стать и пост о визите к стоматологу, и пост о судьбах отечественной культуры, и неизвестно, какой из них снискает большее количество откликов. Вокруг событий формируется не постоянное целое (народ), а временные группы "по интересам". Впрочем, это является не столько чертой блогосферы, сколько современной культуры в целом: она становится более "временной" (временные трудовые и творческие коллективы, контрактная модель, разовые проекты типа антрепризы в театре и т.д.). По каким каналам в таком случае образуются связи людей? Связи длинные и короткие. Вспомним: в традиционном менталитете связи между людьми "короткие" (по принципу "лицом-к-лицу"), а в менталитете советского белоруса (да и в целом – менталитете Модерна) – по преимуществу "длинные", формирующие "воображаемую общность" – нацию. Для современного менталитета характерен новый виток превращения длинных связей в короткие: от нации – к группам. Итак, длинные связи (между белорусами, живущими в разных концах страны, а то и в разных странах; между белорусами и другими народами) укорачиваются: интернет дает возможность сиюминутного общения, невзирая на расстояния. Не случайно манера писать в интернете приобретает "устный" компонент (упрощенная графика, фонетизированное письмо: сокращения типа "плз" – пожалуйста, "что-нить" – чтонибудь и т.д.). Словом, мы имеем дело не столько с перепиской, сколько с разговором. Это качество высоко ценится блоггерами: "любо-дорого смотреть насколько разнообразен и интересен ЖЖ, который и есть модель этого самого личнообщественного общения. вот точно такое же, но где-нибудь во дворах, кафешках, заводских столовых" [86]. Интернет-коммуникации присуще преодоление отчуждения, 331 характерное для эпохи индустриализации и урбанизации. Зарождается и новая форма "местных связей", фиксируемая в "виртуальных землячествах" – minsk_by, minsk_news, аnother Minsk, poleschuki и т.д. Но это отчуждение преодолевается не на уровне всего общества, а на уровне групп. В этом смысле интернет верно отражает тенденцию современной культуры – "групповизацию" социума. Может ли он объединиться? Разумеется, может, но не в однородное целое традиционного крестьянства или "советских людей" (впрочем, последнее вовсе не было таким уж однородным: уже с 30-х годов номенклатура выработала собственный культурный анклав, а с начала 70-х в СССР началось субкультурное движение). Тем не менее, и тогда, и сейчас группы способны объединиться вокруг значительных событий в жизни страны, и интернет станет помощником такому объединению. гомогенизация социума в единую массу Но искусственное объединение, – путем агитации, пропаганды и др. испытанных в средств – ныне вряд ли возможно. Образ истории. Еще один значимый аспект этнического времени – это образ истории. Говорить о единстве такого образа в интернете чрезвычайно сложно, потому что он создается ввиду той версии этничности, которой придерживается тот или другой блоггер. В свете этого история представляется то "литвинской", то "советской", то "крестьянской", и т.д. Наиболее популярные версии этничности и соответствующие взгляды будут представлены далее. Сейчас лишь несколько слов о том, изменилось ли отношение к белорусской истории. Еще недавно история в блогах представала как череда трагедий: даже если речь шла о культурных достижениях белорусов, то они характеризовались как "отнятые", "забытые", "уничтоженные". Сейчас более популярным становится иное понимание истории: она конструируется прямо сейчас и создается каждым: "Беларусь исчезнет тогда, когда мы опустим руки и скажем "конец" [57]. В отличие от советского интеллигента, который имел схожие представления об истории, но в то же время жил всецело для будущего, а настоящее понимал лишь как средство достижения "светлого завтра", наш современник живет настоящим и ценит каждый насущный день. Отметим специально: в качестве творцов истории понимаются не политические лидеры, не интеллектуальные элиты, и, тем более, не "сторонние" страны, а все граждане страны: "Нашыя справы мы, беларусы, мусім рабіць самы. Ніхто за нас рабіць ня будзе. Гэта наша дзяржава, наша зямля, наша маёмасьць, наша мова і культура і наша права" [24]. Условиями творения современной истории являются здравый взгляд и оптимизм: "глядзець на сваё мінулае без гістэрыі – гэта, мусіць, першы крок да таго каб цьвяроза рабіць сваю сучаснасьць і будучыню" [124]. 332 В целом главным временем для нашего современника является настоящее: сегодняшний белорус склонен жить сегодняшним днем. Причины понятны: будущее в наши дни представляется не столько лучезарным (как это было, например, в советское время), сколько туманным и даже опасным. Что касается прошлого, то оно воспринимается людьми настолько по-разному, что образы прошлого, скорее, разводят их, нежели сводят воедино, о чем мы еще будем говорить в разделе об этничности. Потому современность являет собой единственный центр, равно ценный для всех блоггеров. Этническое пространство Большая Родина. Современное понимание Большой Родины сужено в сравнении с этничностью советского интеллигента. В качестве Большой Родины однозначно понимается Беларусь: "выхоўваўся я з маленцтва на глебе таго, што я – беларус, сын менавіта беларускай зямлі" [49]. Интересным представляется исследование, осуществленное блоггером diim-avgust в студенческой среде: "если еще несколько лет назад слово "белорус" будило ассоциации с "периферией", "толерантностью", "абыякавасцю", то в последние годы на первые строчки ассоциаций на "белорусов" стали вырываться "патриотизм" и "независимость". Возможно, здесь проявилось влияние идеологической политики, а может, влияния и глубже. А именно – у современных белорусов рвется существенная идентификационная связь с русскими" [48]. Вероятно, это и есть причина того, что даже блоггеры старшего возраста редко называют своей Родиной СССР. В свете этого не удивительно, что ни одного упоминания о союзном государстве Беларуси и России в качестве Родины в блогах нет – разве что ради шутки, или, как говорят ныне, "для прикола". И снова о парадоксе национализма. Итак, образ Большой Родины как независимой страны стал наиболее существенным компонентом современного самосознания. Казалось бы, сбылась мечта белорусов! Однако в дело вступает "парадокс национализма" (напомню, под "национализмом" в этой книге понимается не дурно пахнущая смесь ксенофобии и шовинизма, но национально-культурный проект, вернее, совокупность национально-культурных проектов общества и государства). Я писала о нем в одном из предыдущих очерков, потому здесь лишь напомню, в чем его суть. Она в том, что государственная независимость вовсе не ведет к обращению к корням или возврату традиций, на которых строилась национальная идея в конце 80-х – начале 90-х. Независимость, как и свобода, может быть "от" или "для". Проблема независимости "от" в Беларуси решена и формально (с 1991 года), и к нынешнему дню реально – в умах людей. Белорусских блоггеров, считающих, что белорусы и русские – 333 один народ, мне найти не удалось (в отличие от блоггеров российских: многие из них и поныне пребывают в этом заблуждении). Несмотря на то, что в сети время от времени появляются "крики души", подобные уже приведенному ("Яны хацяць адабраць у нас вашу БЕЛАРУСКАСЦЬ, нашу СПАДЧЫНУ, нашу КУЛЬТУРУ, НАШУ МОВУ. Яны хацяць зрабіць з вас расейскіх халопаў"), в целом блоггеры понимают, что отнять белорусскую независимость – вовсе не такое уж простое дело, и угроза этого сомнительна. А вот вопрос о "независимости для" остается открытым. В 90-х многие полагали, что независимость должна автоматически привести нас к "исконной духовности", к ярко выраженной этничности, к активному пользованию белорусским языком, к созданию самобытных художественных произведений – и тем самым решить наши культурные проблемы. Ныне стало ясно: государственный суверенитет – категория не "душевная", а прагматическая. Продолжу цитату из блога diim-avgust. На основе того же опроса студентов он делает вывод о том, что "старый идентификационный механизм («белые русины» как более «чистые» (свободные от монголо-татарских влияний), а потому более нравственные, культурные и пр.) начинает постепенно возрождаться (мы – «простые люди», не понимающие что такие «завернутости», как «имперские» или «экономические интересы», но ценящие доброжелательность к нам), но уже без существенного влияния БНФ. Факторы этничности при этом отходят на второй план, а социальные факторы («вклад в развитие Беларуси») постепенно становятся определяющими)" [48]. Фактор этничности отходит на второй план вовсе не случайно и не только в Беларуси. Причина этого состоит в том, что национальная идея – не столько "этническая", сколько социальная, даже социально-политическая. Принцип "нациигосударства" отделяет граждан определенного государства от граждан других, пусть даже и сопредельных стран (порою невзирая на единый язык и/или на сходные элементы культуры). Но в отличие от традиционного этнического самосознания, которое разделяет народы, которые живут на территории одной страны, этот принцип склонен нивелировать различия между ними. Да, он может "мобилизоваться", используя память об этнических победах и трагедиях, язык и другие элементы культуры в нуждах дня сегодняшего (активнее – в периоды реальной угрозы социуму), но при этом в какой-то степени унифицирует всех граждан страны – представителей и титульного, и нетитульных народов. Это верно для всех современных наций – и для американцев, и для французов, и для немцев. Впрочем, это вовсе не мешает возрождению традиций и усовершенствованию языковой ситуации, а лишь проясняет отношения государства и общества. Если функция государства – поддерживать фактическую, т.е. прагматическую 334 независимость, "независимость от", то "одушевление" независимости, создание "независимости для" – дело общества. Ждать, что независимость автоматически, сама собой приведет к развитию культуры – наивно и бесперспективно. Такое развитие может быть только результатом личного вклада человека. Малая Родина. Аспект малой родины в сети выражен несколько слабее, чем у белорусского традиционного крестьянина и даже чем у белорусского интеллигента советских лет. Понятия "малой родины" и "деревни", слитные в предыдущих типах менталитета, разошлись: в лучшем случае деревня предстает как "историческая малая родина" предков (прадедов и дедов), а собственной малой родиной для большинства авторов является город. Примечательно однако, что городу придаются те же уютные черты, приписывается тот же образ "роднага кута", что некогда деревне: "Раней нават горад называлі местам. Я зноў пакідаю яго чарговы раз, але ўсё быццам упершыню. І хачу зноў дакрануцца да яго, бо менавіта там, мне так здаецца, я адчуваю сябе больш дужым і патрэбным <…> …І толькі перагрукванне колаў стварае музыку, якую яшчэ ніхто не напісаў... Музыку пра Месца, з якімты не развітваешся, а вітаешся зноў і зноў, быццам расставаўся з ім не на гадзіны, дні, гады, а на тысячагоддзі і ўжо ніколі не спадзяваўся на сустрэчу!!!" [19]. Как и советскому белорусу, нашему современнику присуще возвеличивание малой Родины. Разница в том лишь, что первый возвеличивал деревню и округу ("Слуцко-Копыльское государство"), а второй – свой город. В свете этого показателен обширный пост могилевского блоггера, настаивающего на "высакароднасці цытадэлі беларусізма" Могилева по сравнению с другими городами, например, с "жабрацкай Вильняй" [53]. Это высказывание вызвало бурную критику: так, блоггер manivid пишет: "Высакароднасьць паняцце адноснае … мейсца як мейсца, ня лепшае і ня горшае за астатніх. а вось безпадстаўна абражаць іншыя гарады дакладна непрыстойна!" [там же]. Чувствуется, что существует своего рода конкуренция между городами (чаще других конкурируют уроженцы Гродно и Минска, реже – Минска и Витебска). В целом комплиментарно оцениваются и другие города Беларуси, каждый – в собственном духе: Гродно как воплощение "литвинской традиции" и европейской культуры; Полоцк как носитель православной духовности; Минск как столица и современный культурный центр; Брест как город-герой; Витебск – как цитадель творчества (от М. Шагала и М. Бахтина до "Славянского базара", последний, впрочем понимается неоднозначно) и т.д. При этом каждый из городов описывается его жителями сквозь призму "роднага кута", т.е. проецируя на город понятие "дома". Дом становится больше, но отношение к нему – то же верное и любовное, что и у крестьянина XIX в. Так 335 что прав блоггера te3a, отмечающий, что "тутэйшасць" як пачуццё малой радзiмы, "свайго месца" не сышло..." [34]. Рисунки: Старый Минск– Минск, закладка. Фонтан "Мальчик с лебедем" – Минск, закладка. Этничность современного белоруса: чересполосица версий Проблема субстрата. Долгие столетия считалось, что начало этничности (тогда она называлась "народным духом" или "душой народа") исходит из некогда существовавшей кровно-родственной связи. Что может быть проще: один этнос – одна кровь. И что может быть ошибочнее? Впрочем, ныне этот тезис осовременился, и своеобразие этноса, его отличительность нередко обосновывается различием субстратов и / или геномов. Чаще всего эта идея используется для разграничения белорусов и русских, из специальных исследований перейдя в интернет. Хотя подобные убеждения высказываются не столь уж большим количеством блоггеров (17 авторов), но небольшая численность компенсируется их чрезвычайной активностью. В этом контексте чаще поднимается вопрос о "кровном" различии русских и белорусов (балто-славян). Однако даже в постах "интернет-примордиалистов" (напомню: примордиализм – это идея "крови" и "почвы", которые якобы создают основу для различия народов) единство происхождения белорусов не понимается как основной фактор этничности: "… калі, напрыклад, чалавека ў сталым ўзросьце вярнулі на родную зямлю, растумачылі яму, скуль ён паходзіць на самой справе, то я ўпэўнены што ён адчуе сваю сувязь з продкамі, роднай зямлёй і г.д. <…> Я зараз не вяду гаворку пра чыстакроўных беларусаў. Хопіць беларускае сьвядомасьці і хаця б на чвэрць беларускага паходжаньня" [35]. В целом в интернете (как, впрочем, и в науке) тезис об "общей крови" все чаще подвергается сомнению. Более значимым основанием своеобразия представляется этничность – причем, не как врожденная, а как избранная человеком форма принадлежность к народу. С этой точки зрения наиболее распространенные возражения тезису об общей "крови" таковы: "Вось у мяне, сыходзячы з маіх каранёў, былі магчымасьці стаць беларусам, альбо рускім альбо палякам. Ва ўсіх выпадках я бы мог сказаць, што ў мяне ёсьць n-скія продкі... Пад уплывам бацькоў і асяродку ў якім я ўзгадваўся я стаўся беларусам" [там же]; "Ныне в националистической среде модно говорить о кровном единстве белорусов. Ей богу смешно. <…> сегодняшние запад Витебской и Гродненская области населяют как раз балто-русы: светловолосость и есть первый признак их тесных кровных связей с балтами. <…>. А возьмите палешуков – их 336 типаж всегда темноволос. Или взять моих любимих могилевчан – нельзя их назвать ни палешуками, ни балто-русами. В сотый раз убеждаюсь что единство народа делается не на единстве крови, а на единстве самосознания" [50]. Итак, мнения разошлись: часть блоггеров считает чрезвычайно значимыми различия субстрата, часть – игнорирует их. Это расхождение развивается дальше и глубже, и на его основе возникают версии белорусской этничности. На сегодняшний день основных версий этничности в интернете насчитывается семь. А) Археологическая версия этничности. Ее сторонники настаивают на значимости общего происхождения белорусов и на генетическом отличии белорусов от этносов-контактеров: распространенным критерием различия белорусов и русских признается отсутствие в белорусском субстрате тюркского и / или фино-угорского элемента, а в русском – балтского. Сторонники этой версии забывают о специфике исторического пути, который может связывать народы, возникшие на основе разных субстратов (большинство латиноамериканских этносов), и разделять односубстратные (бельгийцы и голландцы). Для этого типа этничности характерна направленность в древность и изыскания белорусской уникальности в языке, археологии, естественной антропологии и т.д. Б) Почвенническая версия. Она основывается на идее особых устоев белорусов, образа жизни, дохристианских верований, обычаев, фольклора и т.д. Основным фактором отличия белорусов от народов-контактеров (русских, поляков, украинцев, литовцев) считается язык. Для сторонников этой версии значимую роль также играет язычество как "уникальная вера" белорусов, сближающая их с природой и космосом. В) Народно-демократическая версия связана с деятельностью гуманитарной интеллигенции на рубеже XIX-ХХ вв. ("Наша ніва", Я.Купала, Я.Колас, А.Гарун и др.) и содержит мощный социальный заряд: "В современных белорусах течет кровь натерпевшегося крестьянства, а не великолитовской шляхты" [145]; "сучасны беларускі этнас у зусім невялікай ступені паходзіць ад волатаў-ліцвінаў. усе ж такі ен фармаваўся цягам 19-га стагоддзя пераважна вясковым насельніцтвам" [17], "Хто быў народам беларускім у 19 стагоддзі? Маецца на ўвазе не паходжанне і месца нараджэнне. Адказ даволі просты: сяляне і частка збяднелай шляхты" [93]. Впрочем, сегодня в чистом виде народно-демократическая версия почти не встречается: она сливается с советской или с национально-гражданской, о которых далее. Г) Аристократическая (литвинская) версия. Она связана с пониманием шляхты как цвета нации, с идеями "вольнасці" и национальной гордости, основанием для 337 которых признается период ВКЛ (Статуты ВКЛ, Магдебургское право, развитие городской культуры и т.д.). Ее сторонники настаивают на многовековых корнях белорусской элитарной культуры (Ф.Скорина, С.Будны, В.Тяпинский, Сапеги, Радзивилы и т.д.) и на том, что от самого своего возникновения она развивалась в русле европейской культуры. Будущее представляется итогом именно этой тенденции развития Беларуси, в свете чего ряд страниц прошлого (период Киевской Руси, советский период) отбрасывается за ненадобностью. Иногда сторонники этой версии разделяют население современной Беларуси на "литвинов" как интеллектуального цвета нации и "тутэйшых" (или даже "белорусов") как несознательной массы: "адмяжоўвацца трэба ад ідэі беларушчыны і замяняць яе сваёй літвінскай ідэяй" [10]. В интернете имеются не только блоги, но и сайты, провозглашающие такое разделение в своих манифестах, например, http://litvania.org/: "Литвинами становятся люди, которые чувствуют, что та нация, к которой они себя причисляли ранее, не даёт им ожидаемого культурного, ментального и национального наполнения. Некоторые белорусы, осознающими себя в историческом контексте литвинами, часто именуются белорусами-литвинами, это промежуточный этап перехода белорусов в нацию литвинов… Различия между литвинами и белорусами заключаются в широте и направленности культурного, исторического и ментального контекста". Наиболее распространенное возражение этой версии таково: "эти "сапраўдныя" белорусы хотят переделать "несапраўдных" через возрождение некоего средневекового сословия, белорусской шляхты. А как будете определять кто шляхта, а кто нет? По документам? По мове? А может быть по черепам?" [145]. Д) "Кривичская" версия более разнородна, чем предшествующие. Главная ее идея – древность, выраженная в индоевропейском происхождении кривичей. Она связывается то с ролью Полоцкого княжества в культуре славян, то с "литвинством"; понимается то как региональная идентичность, то как кровнородственная характеристика. Возражения ей преимущественно связаны с наличием других племен в белорусском субстрате: "любяць жа людзі фэнтазі, памроіць пра нешта амаль нерэальнае... Але ж, ну балцкі субстрат у беларусаў, ок, файна. Чым горшы варыянт "беларус-балт"? І чаму менавіта "крывіч", дрыгавічы не горшыя... Так, калі падсумаваць усе прачытаныя са школы гістарычныя (і калягістарычныя) кнігі, у галаве складваецца такая нацыянальнасць – беларус-ліцьвін-крывіч/дрыгавіч-балт". Можа так і запісацца пры наступным перапісе..." [103]. В крайнем варианте идея предпочтительности кривичской идентичности пародируется: "предлагаю создать язык дрыгавічоў, дрыгавицкую википедию и Народны Фронт Дрыгавічоў, который будет бороться против белорусской оккупации Дрыгавиччыны (которую проклятые оккупанты называют 338 «Гомельская вобласьць») " [71]. Словом, ныне (в отличие от ранних 90-х гг. ХХ в.) кривичская версия представляется, скорее, эмблематико-символической, чем претендующей на реальное воплощение. Скорее, ее главная цель – настоять на исторической самобытности народа. Е) Советская версия связана с народно-демократической и оппозиционна аристократической. Сразу замечу: ее сторонники немногочисленны. Число ностальгирующих по годам СССР в интернете невелико, и даже для них "советское" не понимается как идеал: скорее, оно служит точкой противопоставления, с одной стороны, для нынешней (цитирую одного из блоггеров) "совсем не советской" России, а с другой – абсолютизированному "литвинству". Приверженцы этой версии считают, что основы белорусской государственности и профессиональной культуры были заложены в советский период: "Сцвярджаць, што дэмакратыі пры Ягайло было больш, чым у машэраўскай Беларусі можа толькі клінічны прыхільнік БЧБ. Пачытайце УВАЖЛІВА пра правы простых беларусаў у ВКЛ і пра іх "шчаслівае" жыццё у тые часы" [134]; "Отличие нынешних белорусов от остальных восточноевропейцев, по-моему, в том, что мы стали в массе своей более советскими людьми, чем украинцы и даже русские, не говоря уже о прибалтах <…>. Т.е. советские инстинкты и привычки, хотим мы этого или нет, многие в народе останутся, а вот ассоциация их с Россией уйдет. Потому что Россия уже совсем не советская" [52]. Рисунки: Машеров – Запрудник, с. 126. Первый белорусский космонавт П. Климук с матерью – Запрудник, с. 126. Основной "точкой отсчета" для этого типа идентичности признается время Великой Отечественной войны. Одной из характеристик этой версии является установка на контакты со странами бывшего СССР (впрочем, нередко исключая из них современную Россию, как государство беспредела и беспорядка: "там на ўсходзе ўжо даўна зусім іншая краіна, у чымсьці куды больш капіталістычная, жорсткая і несавецкая, чым Беларусь. Калі б не было гэтай дзіўнай ілюзіі, за незалежнасць Беларусі бы было можна не баяцца. Нават прасавецкія беларусы (тыя, хто не сляпыя), думаю, не хочуць да пуцінскай Расеі" [79]). Впрочем нынешние сторонники советской версии вовсе не призывают к созданию нового варианта СССР. Нередко они скептично настроены и по отношению к Союзу Беларуси и России. Скорее, они противостоят вычеркиванию периода СССР из истории Беларуси или окрашиванию этого времени сплошь черной краской. 339 Ж) Нацио-гражданская ( или национально-гражданская) версия базируется на идее не только "внешнего" (государственного), но и "внутреннего" (личностного) суверенитета: "Свой мир, своя жизнь, своя судьба. Остальной мир пока не очень хорошо сознает это. В Москве принято считать Беларусь чем-то вроде "бесплатного приложения" к России. В Европе –"неправильной", "больной" страной, которую нужно срочно переделать на общелиберальный центральноевропейский лад. Действительность, как и всегда, сложнее. В этом остальному миру еще придется убедиться. И смириться с этим" [56]. Эта версия этничности настаивает на включении в белорусскую нацию представителей всех этнических групп (не только этнических белорусов, но и так называемых "меньшинств"), а также на том, что культурные достижения, созданные на территории Беларуси, должны считаться белорусскими вне зависимости от этнической принадлежности и (часто) языка авторов. Ее приверженцы не разделяют идеи "плохих" и "хороших", "вымышленных" или "реальных" периодов в развитии Беларуси. Они не центрируется на неком существовавшем в прошлом "золотом веке": скорее, исходят из принципа: "что ни век, то век железный" (А. Кушнер). Тем не менее, в каждом из периодов истории Беларуси они находят не только негатив, но позитивное зерно. Представители этой версии не задаются вопросами "генетического отличия" белорусов от иных народов Республики Беларусь и ближнего зарубежья. Сознавая значимость религиозного компонента этничности, они настаивают на равенстве конфессий. Свою задачу они понимают как построение национально-культурного проекта на основе идей гражданского общества и полиэтнического государства: "Нация, как носитель гражданственности, не может быть разделена на слои с разным доступом к правам/обязанностям по форме ушей и акценту, бо это обескровливает государство, ослабляет его <…> Национализм, как понимаете его вы, возможен как способ существования государства моноэтнического. Янский, жесткий, путь развития, часто направленный на внешнюю экспансию. Да ради бога, если у вас есть для этого ресурсы. Только их у вас нет. А поэтому, – на острова, к пингвинам, с таким размахом. Остаётся иньский, накопительский путь развития, когда всё в сфере идей, науки и культуры, что имеет отношение к Беларуси, хоть каким боком, признаётся за своё, вызывает гордость и приобщение к общенациональному богатству" [135]; "Беларусы, у дадзеным кантэксьце, УСЕ жыхары Беларусі, краіны, у якой яны жывуць, працуюць і плоцяць падаткі, служаць у войску, спажываюць nolens volens культурныя, інфармацыйныя й прапагандысцкія прадукты... ў дадзеным кантэксьце ані рэальнае, ані вымысьленае расавае паходжаньне ня мае значэньня. <…> сярод маіх знаёмых багата беларускіх патрыётаў, рупліўцаў 340 беларушчыны, расейскага, габрэйскага, украінскага, татарскага, польскага паходжаньня. Цяпер сярод сьвядомых беларусаў ёсьць і мулаты" [34]; "Самоназвание нации должно быть БЕЛОРУСЫ. Хотя бы потому, что оно таково сейчас и нельзя ломать национальную самоидентификацию через колено. Она этого может и не вынести. Причем литвинству и кривичской идее это не противоречит. Например, современный француз вполне может считать галлом или франком, бургундцем или нормандцем. Да хоть немцем, особенно если живет где-нибудь в Эльзасе. Но в первую очередь – он француз, он чувствует себя причастным к великой французской истории и культуре. Таким, я считаю, должен быть и белорусский национализм. В первую очередь, житель страны должен быть белорусом, а уже потом – литвином, кривичом, полешуком... хоть хоббитом. Я сам буду называть себя белорусом, хотя по крови – минимум на 97% русский. Потому что я ощущаю себя частью этой страны, этого народа" [7]. В последнем посте несколько изумляет процентная точность, но в целом его содержание вполне соответствует современному пониманию гражданской нации. В русле каждой из версий развивается собственная система координат (идеалы "элитарности" и "шляхетства", присуще аристократической версии; "великая держава", "равенство" и "дружба народов" как ценности апологетов советской версии; "кровь", "почва" и мудрость предков в почвеннической и археологической версиях; идеи мультикультурности и полиэтнического государства, присущие национально- гражданской версии и т.д.) Разумеется, эти версии, как и всякие попытки обобщения, упрощены, даже огрублены, хотя бы потому, что часть блоггеров одновременно исповедует несколько версий (археологическую, почвенническую и литвинсткую; народно-демократическую и советскую; народно-демократическую и нацио-гражданскую и т.д.). Но заметим: именно последняя включает маркеры этничности, присущие почти всем остальным: этногенетический миф, фольклор и обычаи как мерила идентификации (версии Б, В, Г, Д); роль интеллигенции и демократические идеалы (В); представление о достижениях и победах (В, Г, Е); ценности независимости и самобытности, присущие практически всем версиям (за исключением "советской" в ее крайнем – и редком в блогосфере – варианте). "Белорус" или "беларус": к вопросу об одной букве. Какими же визуальными средствами можно маркировать независимость и самобытность? Как отличить современных белорусов от покорного "больного белоруса" с колтуном в волосах и от советского белоруса, уже давно ставшего жупелом для постсоветских республик? Ряд блоггеров предлагает компромисс – изменение одной буквы: "беларус" вместо "белорус" не только в белорусском, но и в русском правописании: "Оспорить написание слова 341 "БелАрусь" никто уже не в силах, так как оно – единственное существующее официальное название нашего государства. Что совершенно верно, ибо страна должна иметь международное самоназвание СО СВОЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА, а не с языка соседей <…>, потому всё-таки правильно писать и говорить: БЕЛАРУС, БЕЛАРУСКИЙ" [121]. Помимо "языковой логики" включается и упомянутый мотив дифференциации: внутри единой нации есть "белорусы" и "беларусы" – идеальная нация: "беларусом становятся не только по праву рождения и крови, но и по образу жизни, личному вкладу в беларуское дело. Беларус живёт так, как должно жить беларусу, ощущает свою ответственность перед Родиной и народом Беларуси, борется за социальную справедливость и национальные интересы своего народа, защищает беларускую культуру, историю, беларуские святыни. Беларусы – это нация героев…" [18]. (Вскользь: обратим внимание, что в литвинской версии нация героев – не белорусы, а литвины). Можно ли изменить менталитет народа одной буквой? Разумеется, нет. Но вопрос "одной буквы" вовсе не так уж прост. Под ним скрываются самые разные содержания, важные для понимания трансформаций менталитета и самосознания. Что же это за содержания? Во-первых, это попытка дифференцироваться от имени, данного "извне" и "сверху". Во-вторых, речь ведется уже не об этносе, а о нации, т.е. о политической целостности (этноним заменяется политонимом, произведенным от названия государства). И наконец, то, что представляется еще более интересным и более значимым симптомом… Известно, что народы, использующие тот же язык, на котором говорят более сильные или более древние народы (например, австрийцы по отношению к немцам, американцы по отношению к англичанам), маркируют свою отличительность с помощью графики, фразеологии, произношения и т.д. Так что одна буква – это немало. Вспомним, какое недоумение первоначально вызывало требование, исходящее от украинцев: говорить не "на Украину", а "в Украину". Действительно, в русской речи это звучит не просто странно, но и не вполне грамотно. Но насколько приемлемо говорить о другой стране – "поедем на Украину"? Особенно если припомнить, что значило это название в Российской империи: "Украина" – территория, находящаяся "у края" России, российская окраина. И вот прошло несколько лет, и поначалу коробившее слух "поедем в Украину" прижилось. Конструкция, аналогичная конструкциям "поедем в Польшу" или "в Испанию" или "в Китай", свидетельствует о том, что предстоит путешествие не на периферию бывшего СССР, а в другую страну. Политкорректность, замещающая правильную грамматику? Разумеется, политкорректность. И хотя над 342 политкорректностью в интеллектуальных кругах принято посмеиваться, никто еще не доказал, что корректность, хотя бы и "полит", лучше хамства, в том числе и "политхамства". Одна буква в слове "Таллинн", две в слове "Алматы"… В свете этого слово "беларус" играет совсем иными гранями… Правда, возникает другой вопрос, относящийся уже далеко не только к смене этой красноречивой буквы. Ее и впрямь можно заменить, если на то будет воля белорусов. Вопрос шире: почему мы так жаждем отмежеваться от крепостного крестьянина – того, которому сочувствовал Некрасов и о котором писал Купала? Ведь это прадед и прапрадед большинства наших современников и земляков. Под личиной кажущейся покорности он нес незаурядные качества: работоспособность, жизнестойкость, мудрость, самоиронию и мужество. И дальше… Стоит ли вместе с водой выплескивать ребенка – вместе с почившим в Бозе СССР выбрасывать из истории вклад тех, кому довелось родиться на несколько поколений раньше нас? Они приходится нам "дедами". Да, известно, что конструирование одной преемственности, одной идентичности (литвины, кривичи, нация героев-беларусов) затмевает другую – более ближнюю по времени. Это и понятно: она нам знакома и потому мы точно знаем, что не идеальна. Но возможна ли идеальная общность? Существуют ли "нации героев" и "нации рабов" (эдак можно договориться и о расах героев и расах рабов, впрочем такое уже было)? Самое трудное – ценить свой народ со всеми его "но". Не вычеркивая ни одного периода из его истории. И независимо от того, как он называется – белорусы или беларусы. Современная этничность – результат или процесс? Было бы наивным считать, что этничность в современном обществе может ограничиваться какой-то одной, даже наиболее объемной версией. Нынешняя этничность – это разнополярная характеристика: да ведь и общество ныне разнополярно. Как и социум, этничность ныне существует в промежутке между разными веяниями, противопоставленными полюсами, разнонаправленными потоками информации, по преимуществу исходящими от массмедиа: потому ее можно назвать медиа-этничностью. Разумеется, от медиа-этничности трудно ожидать стабильности. Что ж, такова цена возможности выбора. Впрочем, и сам человек становится величиной все более непостоянной: переходя из одной субкультуры в другую, в течение жизни он принимает множество самоидентификаций, и этническая – лишь одна из них. Она вырывается на первый план в ситуациях, угрожающих этносу или унижающих его, но в повседневности (а именно в ней по преимуществу и проходит жизнь человека) ее жгучий, "мобилизованный" характер утрачивается. Впрочем, это 343 верно не только для нашего времени: недаром существует авторитетная теория "пульсирующей" – то нарастающей, то уходящей в "подполье" этничности. Что характерно именно для нашего времени – так это то, что этничность выступает не как результат, а как процесс. Она конструируется "на лету", сосредоточивается не в самих версиях, а в пространстве между ними. Словом, современная этничность – это постоянное соперничество и противоборство версий, и победа какой-то из них – временна и неполна, нравится нам это или нет… Кто мы – литвины или белорусы? Наиболее жаркий спор между сторонниками разных версий этничности разгорается не в пространстве между "аристократами" и "демократами" и даже не между "просоветскими" и "антисоветскими" пользователями. Он ведется между "литвинами" и "белорусами". Сразу же оговорюсь: речь вовсе не обо всех, кто называет себя "литвинами" или "потомками литвинов". Эти имена скрывают людей с разными идеалами, целями и амбициями. Общее в них лишь то, что "золотым веком" они считают период ВКЛ, а под термином "литвины" подразумевают, в первую очередь, прозападную и элитарную тенденции развития современной Беларуси. Почему часть "литвинских блоггеров" противопоставляет себя "белорусам"? Какие претензии предъявляются и к самому слову, и к его содержанию? Во-первых, это фонетическая связь со словом "Русь" (корень "рус"). Кстати, по этой же причине слову "белорус" иногда предпочитается прозвище "бульбаш", причем со знаком "плюс": так, в дискуссии о том, насколько этично называть водку этой "кличкой", читаем: "Если честно, мне "бульбаш" тоже никогда оскорбительным не казалось. Наоборот, как-то звучит даже получше, чем "белорус", подчеркивает нашу какую-то отличительность (хотя бы с точки зрения любви к картошке). Вот "белорус" гораздо больше напоминает, что это какой-то подвид "русского" [136]. Во-вторых, слово "белорус" часто связывается с советской эпохой – в частности, с названием "Белорусская СССР". Именно поэтому ряд блоггеров предпочитает называть себя не "белорусами", а "беларусами": по их представлениям, это фиксирует их принадлежность не к СССР, а к Республике Беларусь. И наконец, в-третьих, термин "белорус" ассоциируется с крестьянской культурой, персонифицированной в купаловском "дурном мужыке": "я схільны згаджацца з тым, што назва "беларусы" была штучна навязана ліцьвінам ў ХІХ стагодзьдзі, каб з дапамогаю замены мэнтальнасьці, з дапамогаю замяшчэньня шляхецкага сьветапогляду сялянскім пазбавіць наш народ волі да барацьбы за сваю свабоду і незалежнасьць" [98]. 344 Итак, точка накала – противоборство между пассивным бывшим селянином, довольствующимся малой толикой жизненных благ – "чаркай і шкваркай", и аристократом – с его гордостью, с понятием личной чести и т.д.… Каковы возражения оппонентов по поводу противопоставления "литвин – белорус"? В первую очередь, это невозможность "аднавіць літвінскае шляхетства": "Шляхецтва сучасных беларусаў – такое ж, як і “дворянство” і “козачество” – леташні сьнег, а яго адраджэнне – чарговая спроба “зьбеглых” падсунуць нерэалізуемую ідэйку пад лозунгам стварэння нацыянальнай эліты" (блоггер Звыклы беларус) [145]. Кроме того, отмечается безосновательность самоприписывания большинства наших современников к шляхте, а также – ее идеализации: "Шляхта – это феодальная категория, копая глубже – это те, кто закрепощали белорусский народ веками, те кто менял религию, язык и национальность в зависимости от политической конъюнктуры. Это великолитовское военное сословие, те, кто несли военную обязанность, а не просто в патриотическом порыве защищали родные края. Сотни тысяч шляхтичей в Беларуси – паранойя. На тридцать человек моей учебной группы только у одного есть бабушка шляхетского происхождения" (блоггер Владимир) [там же]. Нередко "литвинская идентичность", выраженная в крайней форме, воспринимается иронически: "появилось приличное количество сетевых литьвинов, которые на полном серьёзе утверждали, что являются отдельной (от белорусов) нацией, очерчивали её границы, обещали, что непременно отделятся от Беларуси, а также занимались созданием так называемой licvinskaj movy на основе латиницы (но не biełaruskaj łacinki –u saprawdnaj licvinskaj movy jaszcze svaje pravily!), и писали, что она от белорусской сильно отличается, например потому, что по белорусски dzievianosta, а по литвински –dzievacdziesiac" [71]. Краткое резюме по этому вопросу таково: "штучнае канструяваньне зь ліцьвінаў сучаснай нацыянальнай меншасьці на тэрыторыі РБ насамрэч выглядае постмадэрніскім фэнтэзі" [39]. Повторюсь: не следует думать, что все интернет-литвины производят резкий водораздел между собой и белорусами. Существует и примиряющая точка зрения: "ліцьвін, крывіч, беларус – гэта ня ворагі. гэта нават можа быць адна асоба" [71]. В сети встречаются – пусть и в небольшом количестве – проекты воссоздания ВКЛ. Некоторые из них не назовешь иначе, как продуктом розовых мечтаний: "Ня трэба ўвогуле пераймацца пытаньнем, як будуць выглядаць пачатковыя межы адроджанага ВКЛ - толькі з земляў РБ, ці ЛР [имеется в виду современная Литва. – Курсив мой. Ю.Ч.], ці РБ+ЛР, ці + Украіна, +Заходняя Расея, +Усходняя Эўропа і г.д. Галоўнае, каб 345 адроджаная дзяржава была не дэкляратыўнай, а сутнаснай пераемніцай тых традыцыяў і каштоўнасьцей, што бераглі нашыя продкі. А калі адродзіцца ядро, астатнія часткі самі захочуць далучыцца. Для гэтага існуе багата агульных перадумоў: балтыйскія гены, гісторычная спадчына, кампактны рэгіён, эканамічныя інтарэсы... Гэта ўсё мажліва, асабліва, калі адроджаную Вялікую Літву ачоляць выбітныя правадыры з эўрапейскай дынастыі, крэўна павязанай са старалітоўскай манархіяй" [8]. Если даже не обращать внимания на "старолитовскую монархию" и на "балтийские гены", все это слегка напоминает анекдот о том, съест ли слон пуд конфет: "Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?" Другие проекты менее одиозны: они предполагают воссоздание Великой Литвы не в территориальных, а в смысловых рамках. Так, блоггер gorliwy-litwin считает, что в основание проекта такой "внутренней Литвы", или "Литвы в сердце" могут лечь, например, антинацистские и антиязыческие идеи, неприязнь к которым должна объединить все этноконфессиональные группы "возрожденной Литвы": "Вообще-то, нас больше интересуют симпатии не россиян (а равно и не поляков Польши), а, так сказать, “русских белорусов” (четко позиционированных). Дружественный нейтралитет по большинству автономных культурных вопросов и четко выраженная солидарность в анти-нацистском и анти-языческом вопросах. На те же симпатии мы рассчитываем со стороны католиков-поляков и протестантов (не тождественных “русских белорусам”, хотя и принципиально русскоязычных). По сути, общебелорусская культурная и этическая коалиция против погано-нацизма. Успех литвинского культурного проекта зависит от симпатий и антипатий других этнических и конфессиональных групп страны (а отнюдь не внешних сил, как на протяжении последнего 100-летия упорно считают сьвядомыя). Конечно, это крайне сложная задача – найти свою нишу через легитимизацию у столь разных этнических и конфессиональных групп. У сьвядомых это вопрос “решается проще”: дави остальных (“ляхаў-жыдоў-маскалёў”) как тараканов, опираясь на дружественного оккупанта – вот и вся легитимизация. Именно так обстояло дело в 1940-х, именно это планировалось сьвядомыми (в культурном аспекте – надеюсь, без массовых физических зачисток) и в 1990-х... Задача крайне сложная, но это – единственный шанс для литвинов РБ" [61]. Итак, нынешнее "литвинство" – не столько "политическая" или "национальная"; не столько "реальная", сколько идеальная культурная общность. Сравнительно большая часть блоггеров понимает: если этот проект претендует на действенность, то он должен не разделять людей, разбивая общество на более или менее "продвинутые" группы, а сближать их: "На маю думку не трэба супрацьпастаўляць літвінаў беларусам. Трэба 346 прызнаць, што мы належым да беларускай нацыі (якая б яна не была) і літвіны – гэта культурная група беларусаў, культурныя каштоўнасці і памкненні якой могуць не супадаць з астатнімі групамі (уласна беларусы, палешукі, беларускія палякі і т.д.). Што для літвінаў свая – беларускамоўная культура, але пры гэтым літвінам свая таксама і польская культура і нават руская культура блізкая. Вось і трэба працаваць на стварэнне гэтай культурнай групы літвінаў. А гэта праца на дзесяткі гадоў (трэба адразу гэта разумець). І ў такім разе ёсць надзея на поспех, бо да літвінаў могуць далучыцца шырокія колы беларускіх грамадзянаў. Не кожны гатовы адразу адмовіцца ад таго, што ён беларус, гэта ж не кашулю пераадзець. Вось я не магу перастаць лічыць сябе беларусам і сказаць сваім дзецям, якім спрабаваў прывіць беларускасць, што яны ўжо не беларусы. І шмат іншых людзей гэтага не можа зрабіць... У такім разе літвінства не будзе абмяжаванай маргінальнай партыйкай. І рэпрэзентаваць сябе трэба не агрэсіўна, а спакойна. Беларусы не любяць агрэсіі і апазыцыйнасці... Дык вось і трэба працаваць на пазітывізм. Тады ёсць перспектыва [62]. Идеал есть идеал. С его помощью можно улучшить реальность или даже со временем (увы, намного превышающим время человеческой жизни) сконструировать новую, отвечающую более современным ожиданиям реальность. Но лишь настолько, насколько это отвечает устремлениям не научных и околонаучных фантомов, а живых, реальных людей. Ныне они по преимуществу зовут себя белорусами. И потому автор следующего поста прав: "80% насельніцтва разумеюць сабе беларусамі і ніхто гэтага у бліжэйшы час ня зьменіць. Ліцьвінскасьць можна пашыраць толькі у гэтым, беларускім, кантэксьце. Адрачэньне ад беларускасьці робіць з "ліцьвінаў" абсалютных маргіналаў. Тое ж самае, дарэчы, і з "русінскасьцю" – полацка-крывіцкай спадчынай. Ліцьвінскасьць і русінскасьць – дзве плыні, што зрабілі нашую нацыю. Беларускую. Гэта нашыя 2 крылы. Падымемся толькі тады, калі будзьма мець абодва" [80]. Кто я? Как решается проблема этничности в индивидуально-биографическом плане? Как правило, непротиворечиво. Если этничность групп различается – и подчас резко (яркий пример – "литвины" и те, кого нередко называют "совками"), то этничность конкретного человека менее проблематична. Проблема возникает лишь в случае, если в дело вступает графа "национальность". Тогда человек попадает в культурный "зазор": родившись и живя в Беларуси, он бы рад считать себя белорусом как представителем полиэтнической нации (белорусом-евреем, белорусом-поляком, белорусом-литовцем), но пресловутый "пятый пункт" (даже если он и не зафиксирован в паспорте) служит ему преградой. В конце концов, как гласит старый анекдот: "Бьют не по паспорту, а по морде". Дикое и с научной, и с моральной точки зрения отождествление "нации" и 347 "национальности", возникшее в советские годы, действует и по сию пору. Полешки в костер невежества подбрасываются иными радетелями "национального", понимаемого как "правильная" или "неправильная" кровь. Отсюда – растерянность некоторых блоггеров, принадлежащих "нетитульным группам" (блоггер vovidza): "Я бесконечно хочу, чтобы культура моей родной страны процветала. Я родился здесь, вырос, мои деды тут похоронены. Да, я русский, но неужели я не могу быть полезен Беларуси? Мулявин, например, смог, хотя был русским, но совершил, практически, подвиг, став едва ли не апологетом культуры другой страны. И пусть я пишу и пою на русском, но, когда доводилось играть в России, мне неоднократно говорили, что да, песни-то русские у тебя, братец, а белорусский колорит в них чувствуется. Я почитаю за честь такие мнения" [123]; (блоггер vadim_i_z): "И снова – а что такое "белорусы", что такое "белорусскость"? Я в этническом смысле не белорус, и язык мой родной – русский (белорусским владею, конечно, но большие тексты мне проще писать по-русски, так уж сложилось). Но я ощущаю себя гражданином именно "этой страны", а не России или иной соседней [34]. Ответ, адекватный современной ситуации (когда в Беларуси живет более 140 этнических групп), могут дать только сторонники нацио-гражданской версии этничности: "Беларусы, у дадзеным кантэксьце, УСЕ жыхары Беларусі <…> Самае істотнае – Вашае адчуваньне сябе гражданином именно "этой страны"! [там же]. Идентификация под "псевдонимом". Этническая идентичность в сети проявляется не только в декларациях или в рассуждениях. Существует и еще один параметр – имя человека. В сети царят особые имена – ники (от "nickname" – псевдоним). В отличие от наших "родных", реальных имен они не даны извне. Ники избираются самостоятельно: потому по ним – хоть и не по всем – можно судить о том, кем себя чувствует блоггер. Ники можно разделить по смыслу, по мотиву и по тематике. Первые – самая многочисленная категория. Они предполагают акцент на психологической связи между "реальной" и "виртуальной" личностями. Вторые связаны с мотивировкой появления в интернете (например, Простопрохожий, Mister_Flood): отсюда их подвижность (человек может иметь несколько ников, которые применяет в разных ситуациях). Третьи предполагают узкую направленность высказываний – чаще в сфере хобби, субкультуры (byker, zloj pank и др.). Понятно, что этническим содержанием наполнены только ники первой категории, да и то не все. В целом их можно разделить на несколько подкатегорий (которые, впрочем, нередко пересекаются): 1. Ники на основе имен, фамилий, инициалов: serge_le, nicolaev, slaw-alena, vovidza, andersch, vadim_i_z, sania_ales, viktorinka, ul-sciapan, plaschinsky, e-smirnov, 348 beliashou-links, wessnoff, m-panin, кaryzna, maryjka и т.д. Эта категория блоггеров пытается координировать реальные и виртуальные социальные роли. 2. Ники на основе имен исторических или мифологических персонажей, литературных и кино- героев: franz-josef, sestry-fromm, radzivil, lakshmi_7, kapitan-smallet, max_stalker, belyklyk, 4inga4guck, smysmymric, Vlad Zepesh. Встречаются и имена белорусских литературных персонажей: ded talash, talash, paulinka и т.д. Что выражают эти ники? "Парольную программу": псевдоним блоггера вызывает целый пучок ассоциаций, и порой можно делать выводы (пусть и предварительные) о его вкусах, пристрастиях, о чувстве юмора и т.д. 3. Характерологические ники, отмечающие черту характера и/или настроение: vsegdava6a1, hysterical-girl, will_o_wish, dziki_dzik. 4. Ассоциативные ники, понятные лишь блоггеру и его узкому кругу: poplavok-a, h-2-0, abrykos, utro-vecher, nikotin, bytmojet, kruchenij_shelk, furious_lamb, fool-fighter, te3a, beatleofdoom и т.д. 5. Экстравагантные (юмористические, каламбурные) ники: 4erep-axx-xa, bullochka, annahonda19, pigbig, net_mozgov, durakdurakom и т.д. 6. И наконец, этноориентированные ники, которые часто пересекаются с предыдущими категориями. Так, с первой соотносятся следующие ники: aliaksei, macsim_by, kurt_bielarus, agafon-bel, juras14, maryjka, ul-sciapan, dmitry_belorus, Eugeny Menchyk sammy_belarus; со второй – radzivil, nescerka, Paulinka и т.д. Этноориентированность ников определяется по следующим критериям: 1) предпочтение белорусского языка английским или латинизировано-русским вариантам (ksaverij-Бенедзікт, aliaksei, juras14, maryjka, ul-sciapan, siarjuk и т.д.); 2) соотнесение себя с "малой" родиной (menchyk, Vitek-Minchanin, minchanka, MinChanka, Garadzenec, palaszuk, leshiy_belorus и др.; 3) соотнесение себя с "большой Родиной", причем не только реальной – Беларусью (belyj_ross, belplay, macsim_by, kotka_by, kurt_bielarus, agafon-bel, dmitry_belorus, sammy_belarus, huper_by и др.), но и с "метафизической" – Литвой, Кривией (litvinka, licvinka, gorliwy-litwin, kryviec, helgi_litvin, radzimich и др.). Как мы видим, речь здесь идет не столько о местожительстве, сколько о самоидентификации с неким историческим периодом и территорией (этнические время и пространство). Разумеется более всего ассоциативных ников: из 250 ассоциативны 88. Незначительно от нее отстает категория блоггеров, избравшая ники, связанные с именами, фамилиями, прозвищами и т.д. (76). Однако часть авторов с этими реальными именами фиксирует в них и принадлежность к Беларуси путем так называемых 349 "расширений" – bel, by, br (12). Энтоориентированной по языку является подкатегория, состоящая из 26 ников. А в целом этноориентированных ников (по языку, территории, истории, именам, литературе и т.д.) – 58. Это более, чем пятая часть рассмотренного сегмента блогосферы. Что из этого следует? То, что этничность белорусских блоггеров высока и имеет явный (а не латентный, как в традиционной культуре) характер. Уж не говоря о том, что ярко выраженная этничность может проявляться у владельцев этнически нейтральных ников в постах и комментах (nicolaev, chareuski, plaschinsky, abrykos и др.). Какой можно сделать вывод? Тот, что современная этничность становится гораздо более индивидуализированной категорией, чем в предшествующие периоды. Вспомним: идентичность "мужыка" диктовалась ему повседневной жизнью – принадлежностью к "грамадзе", к деревне, к крестьянскому труду, сам он о ней не задумывался, а лишь принимал ее; этничность советского интеллигента шла двумя путями – "сверху" (от названия республики и связанных с ней гражданских ассоциаций) и "снизу" (от крестьянского детства и "тутэйшай" жизни). Современная этничность гораздо более многообразна: она может связываться со страной, с городом, с традицией, с языком и литературой, с реальностью и вымыслом, с определенным историческим периодом и т.д. Блоггеры пускаются в путь из разных "пунктов этничности" и потому их принадлежность более проблематична, чем у героев наших предыдущих очерков: отсюда споры, дискуссии, словом, все то, что составляет сущность блогосферы. Этнические стереотипы в блогосфере: кто свой, а кто чужой? Этнические стереотипы. Стереотипы – необходимый компонент этничности. Хорошо это или плохо? С моральной точки зрения, разумеется, ничего особенно отрадного в стереотипах нет. Стереотип – месторождение этнического предрассудка, который может привести (да и приводит) к нетерпимости и межнациональной розни. С функциональной точки зрения, не хорошо и не плохо – необходимо. Стереотипизация – неистребимое свойство человеческой психики. Именно благодаря стереотипам мы не воспринимаем незнакомые явления жизни как фатально новые: мы очерчиваем незнакомое мыслительными контурами, вписываем его в "рубрику" знакомого и продолжаем жить с новым знанием. Беда не в том, что мы стереотипизируем, а что стереотипизируем убого. Особенно это заметно (и особенно чревато!) в вопросах, связанных с этничностью. Почему в этой книге сравнительно немного говорилось об этнических стереотипах предыдущих героев? Потому что "мужык" имел достаточно малое представление о Других и о Чужих, как об особых этносах. Грань между собой и 350 цыганом он проводил по моральному признаку (цыган в сказках – бездельник и прощелыга), с татарином и евреем – главным образом, по вероисповеданию и бытовым особенностям. Более того, эти различия не более, а подчас и менее резки, чем, скажем, отличие от социально чуждых персонажей (пан) или жителей другого региона (вспомним хотя бы насмешки над "потомками радимичей", о которых писал еще Карский). Это следствие локально-местной идентификации ("тутэйшасці"), когда главный параметр самосознания – связь не со страной, не с государством, а с тем единственным, что принадлежит человеку "от века" – с землей. Случай нашего второго героя – белорусского советского интеллигента – еще более понятен: он воспитывался и становился собой в атмосфере "цветущего и сияющего" интернациализма, который в те годы действительно воспринимался как ценность, во всяком случае, среди интеллигенции. Белорусы и русские – "заклятые друзья"? О том, что белорусы практически всегда жили в полиэтнической среде, в своей работе не упомянет только ленивый. Это банальность, но банальность нередко бывает истиной. Именно такой опыт породил умение беларусов оставаться собой в составе мега-общности, охватывающей несколько, а порой и несколько десятков этносов. Это характерно для периодов пребывания наших предков и в ВКЛ, и в Российской империи, и в Советском Союзе. Нет, разумеется, этнические стереотипы существовали, но выражались не столь активно и открыто, как в других республиках СССР – в Прибалтике или, скажем, в Западной Украине. Понастоящему "национальный вопрос" был поставлен лишь в период перестройки. Немудрено, что именно в те годы обострились стереотипы – и "авто" (толерантность, "памяркоўнасцть", "абыякавасць", гостеприимство и т.д.), и гораздо менее доброжелательные гетеростереотипы. Последние в основном касались русских и России. Разумеется, стереотипы перекрестны: не только белорусы стереотипизируют русских, но и русские – белорусов. Однако тут есть большое "но". Примеры стереотипизации со стороны россиян по преимуществу доброжелательны (напомню: их восхищает чистоплотность, спокойствие, добродушие, своеобразная "уютность" белорусов и т.п.). Добавим: и в целом стереотипы "сторонних наблюдателей" (украинцев, поляков, граждан стран Балтии, казахов и т.д.) в отношении Беларуси и белорусов позитивны (из 86 комментариев и постов негативный оттенок имели только 21, в которых по преимуществу критикуется "советская" составляющая белорусской культуры). Стереотипы, создаваемые белорускими пользователями относительно России и русских, гораздо менее добродушны. И вовсе не случайно пользователь slaw-alena пишет: "Ведь белорусы совсем не любят русских. И это не младенческая ненависть к старшему брату, 351 который сегодня машинку подарил, а завтра подзатыльник отвесил. Гордые. Не любят, потому что – обязанными русским себя не чуют" [108]. Итак, как же белорусские блоггеры видят русских и Россию? Начнем с того, что образ России устойчиво связывается с СССР и в гораздо меньшей степени – с российской империей: под словом "империя" чаще подразумевается именно Советский Союз. Количество блоггеров, ностальгирующих по периоду СССР, невелико (примерно 1/7 отслеженных записей): это объясняется как возрастным составом пользователей байнета, так и тем, что идея "симбиоза" России и Беларуси за последнее десятилетие подверглась коррозии не только в виртуальной, но и в самой реальной реальности. Отсюда во многом и рост негативных стереотипов. Итак, претензии к России… Как правило, это "имперские амбиции", "великодержавный снобизм", "шовинизм", "беспорядок", "неравенство" (например, нищета части населения), "грубость". Чаще негативные стереотипы относятся к Москве и москвичам: судя по этому ясно, что Москва продолжает быть символом России, хотя за последние двадцать лет он изрядно утратил свою привлекательность для белорусов. Примечательно, что Москве часто противопоставляется Петербург как европейский, а потому более близкий ценностям и мечтаниям современного белоруса город: "Піцер – гэта не Расія! Піцер – нешта іншае <…> У чарговы раз пераканваюся ў сходнасці нашага з піцерцамі менталітэту" [96]. Впрочем, лучший способ преодоления стереотипов – доброжелательная встреча лицом к лицу – подчас приводит к неожиданным результатам: "что приятно удивило – хамства [в Москве. – Ю.Ч.] не встретил вообще. Москвичи, вы когда из Москвы выезжаете, у вас программа поведения меняется? Все без исключения люди попадались отзывчивые и приятные. Сложилось даже впечатление, что Москва покультурней Питера будет <…> Ещё интересный факт насчёт любезности. На Арбате мамке (филологу) захотелось зайти в дом-музей Пушкина. Милая бабушка кассирша, узнав, что мы из Беларуси, меня пустила бесплатно а мамке цену скостила в 4 раза. Вот и думай: это уважение, дружелюбие или жалость (брр)? И это не первый раз, когда такие поблажки делали именно потому что мы белорусы" [102]. Впрочем, все это из разряда констатаций. Ими и ограничивается большинство блоггеров. Лишь часть из них пытается обдумать причины негативных стереотипов белорусов по поводу России и россиян. По этому поводу в сети прослеживаются преимущественно три линии рассуждений. Русофобия? Ментальность? Экономика? Первая общеизвестна и потому не требует цитат: она распространилась еще в 80-90-е годы ХХ века, когда было 352 подвергнуто сомнению, а впоследствии и разрушено знаменитое (и в большой мере "дутое") "братство советских народов". И ничего удивительного в том, что недругом стал тот, кто прежде был "Старшим Братом". Обида на бывшего "старшего" сочетается со страхом: "старший", даже сброшенный с пьедестала, представляется более сильным (а также – наглым и нахрапистым), что порождает еще большую неприязнь. Как всегда в процессе стереотипизации, негативная черта человека (лично знакомого или "публичного" деятеля – Ельцина, Путина, Медведева, Чубайса и т.д.) распространяется на весь народ: имперские амбиции приписываются россиянам как таковым, по факту рождения в России. Увы, и это неудивительно. Во-первых, такова уж природа стереотипа: он распространяется на всех представителей стереотипизируемого народа (в нашем случае – россиян) огульно, отбрасывая в сторону все, что в этот стереотип не вписывается. Во-вторых, необходимый этап построения позитивного "образа Мы" – ломка сознания. И если народ долгие годы считался "младшим", он пытается максимально дистанциироваться от "старшего", а тем самым – и от своей прежней – подчиненной, зависимой – роли. В этом случае более выгодная в прежней ситуации позиция "старшинства" автоматически становится проигрышной: отныне "Старший Брат" – виновник всех бед. Впрочем, в блогосфере – хоть и нечасто – возникает вопрос: а так ли виновата Россия? Во всяком случае – во всем ли? "Насколько справедливо списывать общую историю исключительно на РФ, "менталитет русских", "<…> память и инерцию" и даже на <…> структуры языка, генерирующие в одном случае – демократию, права человека, толерантность и гиперцентрализацию госуправления, монополизм, коррупцию – в другом?" (блоггер marchenk) [94]. Речь идет о первом этапе жизни суверенной нации, который подразумевает "демонтаж всего советского". Настанет следующий, социоинженерный этап нациостроительства, уверяет автор, и станет ясно, что причины наших проблем кроются в нас самих. Показательно однако, что эту реплику посетители блога игнорируют. Значит, первый этап "демонтажа всего советского" (и роли России, которая воспринимается как рассадник этого советского) в умах и сердцах белорусов далеко не закончен… Вторая линия рассуждений связывает ухудшение отношения белорусов к русским с различиями в менталитете: "культура и традиция белорусов позволяет им находить свое место внутри большого политического и культурного организма, не растворяясь в нем. Русские как народ таким опытом практически не обладают. Зато у русского народа есть традиция мыслить себя вселенски... Русские обладают относительно непрерывной исторической и культурной традицией, хранителями которой выступают церковь, 353 государство, русский язык, обширное пространство расселения русского народа и его численность. Утрата одного или некоторых из этих факторов <…> не влекут за собою прерывания традиции в целом, ибо одновременно все эти факторы уничтожены или трансформированы быть не могут <…>. У белорусов не один раз могло быть уничтожено все или почти все: язык, государственность, церковь, которой они были привержены в данный момент истории, этническая самоидентификация. <…> Белорусская идентичность неизбежно вобрала в себя осознание возможности гибели и дала на него рациональный ответ – программу выживания и победы во имя выживания <…> Действительно, русским человеком быть в Беларуси нельзя. Обычные, самые невинные философские размышления в русском духе ставят человека в Беларуси перед угрозой полной неадекватности" [37]. Иногда к этой линии примыкают и объяснения по "научному", а чаще – по псевдонаучному образцу: различие субстратов, разные антропологически характеристики (форма черепа и т.д.). И наконец, приверженцы третьей линии пытаются изыскать объективные причины недоброжелательных стереотипов в новейшей истории, политике и в экономике: "Кризис в российской экономике 1998 года больно ударил по хозяйственной жизни белорусов, показав негативные стороны зависимости от восточного соседа. Однако рост негативного восприятия русских все же был незначительным по сравнению с ситуацией после прихода к власти Путина. Вначале это стало чувствоваться в экономической жизни страны. Рост цен на жилье в Минске (за десять лет – в 6 раз), сделавший его по большей степени недосягаемым для белорусов, объясняется большинством минчан <…> скупкой недвижимости россиянами. По-настоящему мощно стал чувствоваться рост негативных настроений в результате энергетической проблемы на пороге 2006-2007 гг." [48]; "Действительно, отношение большинства белорусов к тому, что происходит в России весьма негативное. Мне представляется, что такая ситуация стала более явной в последние годы. Особенно после известных слов и действий Владимира Путина, которые в принципе он мог бы и не говорить – имеются ввиду "мухи и котлеты" [42]. Далее автор предполагает, что недоразумения между россиянами и белорусами временны и не имеют "сущностного" характера, мол, "само рассосется". Значительное число белорусских блоггеров настроено менее благостно (об этом свидетельствуют 29 высказываний в блогосфере). Впрочем, есть и оптимисты: "С Россией в Беларуси [ссориться. – Ю.Ч.] никто не хочет и никагда не захочет! Что бы кто не [говорил. – Ю.Ч.] мы братья <…>. Просто беларусы по природе своей способны дружить не только с рускими, но и с остальными. Простой русский с паляком скорее всего [поссорятся. – Ю.Ч.] там НАТО, то-сё, а с белорусом русский скорее всего 354 договоряцца. Так дело в том что мы, беларусы, и с поляками умеем договаривацца. Вам может трудно будит понять, но мы с ними на самом деле близкие, почти так же как и с вами"5 [119]. Преодоление негативных стереотипов. Известно, что отношения представителей разных этносов улучшаются, когда стереотип начинает осознаваться не "истиной", а тем, чем он является в действительности – стереотипом. Когда становится ясно: не все так просто, и вовсе не все они "такие"… Парадоксально, но именно интернет, который столь часто (и часто справедливо) обвиняют в разжигании межэтнической розни, сегодня исполняет и обратную функцию – функцию коммуникации с Другими. А значит, и поиска взаимопонимания. И хотя в споре вовсе не обязательно рождается истина, но именно сеть – наиболее доступное место, где она имеет шанс "проклюнуться" из полифонии, а то и какафонии самых разных мнений – пусть слабо, пусть с переменным успехом, но хотя бы так. Самое ценное, когда это происходит не "сверху" (насаждением обязательных к исполнению директив и указов), а снизу – от человека: "…проблематично поссорить белорусов с россиянами или украинцами. На бытовом уровне я пока не испытал обломов со славянским братством. В любом зарубежном отеле русские, украинцы и белорусы кучкуются вместе. Вообще, достаточно проехать в плацкартном вагоне поезда Киев – С.Петербург (через Гомель, Могилев, Оршу), чтобы понять, что поссорить НАРОДЫ не выйдет [20]. Разумеется, негативные стереотипы можно пытаться предолевать и "сверху" – например, путем явной и скрытой (рассыпанной по страницам учебников и прессы) пропаганды. Однако в отношениях белорусов и россиян "внешний" путь вряд ли продуктивен: в полной мере он сработал лишь один раз – в СССР – и оказался несостоятельным, как, впрочем, и сам СССР. Тем более, что в процессе непростых отношений Москвы и Минска негативный стереотип муссируется и "сверху" – "четвертой властью", т.е. СМИ: "один из самых простых [способов] "самоутверждения" это позиционирование от противного. В Беларуси подобным образом позиционируются от России. Официальная пропаганда утверждает что в России почти голод, за пределами МКАД нищета, везде войны и террористы" [45]. Словом, путь официальных деклараций о "любви и дружбе" россиян и белорусов часто не достигает своей цели. Остается единственное – "внутренний" уход от негативных стереотипов. Для этого нужна малость – почувствовать ценность Другого, усомнившись в правоте массы, в "совокупном мозжечке" которой обильно произрастают стереотипы. B некоторые блоггеры пытаются В этом высказывании скорректированы элементы табуированной лексики, но в целом "олбанское" правописание оставлено без изменений. 5 355 это делать: "Мы – займеньнік, які быў і застаецца вельмі палітычным. "Нашыя людзі і краму на таксоўках не езьдзяць", "мы – белоруссы", "мы – беларусы", "мы...". Займеньнік множнага ліку пазбаўлены асабістасьці, канкрэтыкі персоны. За атаясамленьнем сябе з "мы" і непрыяцеля зь "яны" можна дазволіць багата таго, што ніколі б не дазволіў сабе ў стасунках з "ты, ён, яна". ... У нас (як, зрэшты, і паўсюль сярод людзей) "я" калі і магчымае, то толькі як рэдуцыяванае "мы" у апазыцыі да "яны". Але сапраўднае "я" кліча да адказнасьці за іншага, да клопату за іншага" [90]. Впрочем, комментарии на этот пост малочисленны, а отсутствие реакции показательно – ведь это тоже реакция. Другие этнические стереотипы белорусов. Современным белорусам свойственны и другие гетеростереотипы, но они выражены менее отчетливо, менее ярко, чем стереотип русских. Интересно и другое: если в прежних типах этничности стереотипы чаще относились к "своим чужим" (к инородцам и /или иноверцам, живущим рядом – в том же селе или местечке), а теперь речь реже заходит о тех, кто живет в Беларуси, чаще – о тех, кто живет в других странах. Это следствие увеличения числа виртуальных и реальных контактов с "дальними другими", большей информированности о том, как эти "другие" живут, свободного передвижения белорусов по миру и множества других причин. Но главное – это следствие (и свидетельство) того, что гражданская нация в Беларуси – не вымысел, что она на самом деле создается. В том единственном "месте", где и создаются нации – не в "крови" и "почве" и не в пространстве постановлений и указов, а в умах людей. Здесь кроется причина того, что образ непонятного и подозрительного "своего чужого" – еврея, татарина, цыгана – понемногу сходит со сцены. Впрочем, необходима оговорка: в этой главке (как и практически во всем очерке – за считаными исключениями) речь идет о блогосфере, а не о сфере форумов, где подчас торжествует трамвайное хамство "по национальному вопросу". В чем дело? Форумы – зона немедленного эмоционального отклика на события, зона мгновенных резких реакций, кратких реплик, которые тут же отсылаются в виртуальное пространство, зона непродуманных ответов… Отсюда – агрессивные попытки "закидать шапками" собеседника. Здесь годятся любые средства – в том числе, битье "не по паспорту, а по морде", и обозвать собеседника или публичную фигуру "по пятому пункту" – дело не столь уж редкое. Если блоггерами становятся люди, любящие писать, а значит (кто-то в большей, кто-то в меньшей мере) и – размышлять, то форумчанами становятся все: в том числе и те, кто ни писать, ни, тем более размышлять не любят. Потому, например, бытовой антисемитизм на уровне форумных реплик проявляется значительно чаще, чем в блогах, где все-таки требуется хоть как-то прояснять и уточнять свою позицию. В 356 блогосфере антисемитизм развит незначительно. Более того, создается впечатление, что он направлен не столько на белорусских евреев, сколько на "евреев вообще", на "какихто евреев" – на тех, кто "сделал революцию", на "израильских агрессоров", на тех, кто "вместе с москалями разрушил великую державу – СССР"… Это отношение вовсе не ново. Вспомним: почти так же относился к инородцам и "мужык"-крестьянин: мифические евреи, распявшие Христа, – одно дело, а "Абрам из Гричина" – совсем другое. В целом вырисовывается такое мнение (особенно ценное в свете того, что это мнение не белоруса, а еврея, причем не белорусского, а "cтороннего наблюдателя"): "Семья моей жены – из Белоруссии. Дедушка со стороны матери жены – из Пинска, бабушка – из Смиловичей, мать жены до войны (ей было на тот момент шесть лет) жила в Речице. Со стороны отца – из Бешенковичей, потом жили в Витебске. В Белоруссии жена никогда не жила. На мой вопрос, что она слышала в семье про белорусов, она ответила так: «всегда говорили, что отношения белорусов с евреями всегда были добрососедские и дружественные, были лучше, чему евреев с другими народами, и что многие белорусы знали идиш. Про украинцев я ничего подобного не слышала». Этот говорили и родственники и знакомые. Мой неотрефлексированный стереотип восприятия – такой же" [41]. Итак, на сегодняшний день в белорусской блогосфере еврейский, как, впрочем, и кавказский, африканский, китайский, арабский, "вопросы" не слишком актуальны. О них мало говорят, а если и говорят – то хрестоматийно-толерантно: "Один дядька с моей работы недавно в порядке непринужденной беседы по пути с работы домой завел разговор о том, как он не любит "нигеров" и что ученые там что-то окончательно доказали по поводу того, что интеллектуальные способности представителей черной расы уступают способностям белых. Мы с дизайнершей Катей, конечно обозвали его расистом и яростно вступились за всех афро-белорусов, афро-американцев и афроафриканцев. Но не в этом дело... А дело в том, что люди и вправду разные, и ничего в этом ужасного нет <…>. Ну пусть даже ученые и правы насчет интеллектуальных способностей, а кто сказал, что интеллект – это главное? Кто-то виртуозно играет <…> сложное соло на гитаре, а кто-то создаёт зажигательный ритм, почему первый круче второго? Они хороши вместе, когда один дополняет другого:)" [82]. Показательно и такое предложение: "Удалить из групы модераторов нациста и антисемита pryvid. Человек исповедующий взгляды в стиле "нігеры, жоўтыя, хачы й арабы не павінныя пераязджаць на сталае жыхарства ў Беларусь" и имеющий юзерпик со свастикой должен быть изган из группы модераторов" [40]. 357 Судя по частоте и контексту упоминаний, из "соседей" белорусские блоггеры наиболее доброжелательны к полякам и литовцам, которые воспринимаются как посредники Беларуси и Запада, а также как пример более или менее успешной интеграции в европейское пространство. Но, повторюсь, в целом тема отношений с этносами – и живущими в Беларуси, и "соседскими", и, тем более, "дальними" – в блогах обсуждается сравнительно мало, на порядок меньше, чем в российском или в украинском сегментах блогосферы. Разумеется, здесь действует комплекс причин: это и исторически обусловленное отсутствие "национальной истерии" по отношению к "иным", и давняя прививка полиэтнизма, и меньшее, чем в России, количество мигрантов-гастрабайтеров. Но все же представляется, что на сегодняшний день основной причиной этого является известная "зацикленность" на отношениях с Россией, затмевающих все остальные отношения, на стереотипе России, затмевающем иные стереотипы. В свете этого неудивительно, что другие народы (и соответственно – другие этностереотипы) отходят на периферию общественного сознания белорусов: им просто нет места… И снова о России. Я уже писала о том, что Россия часто воспринимается как источник потенциальной опасности для белорусской независимости: в этом звучат и отголоски прежних столетий, и "мухи-котлеты", и "газовые", "молочные" а также прочие тяжбы, которые остались позади и которые еще ждут впереди... Но, вероятно, главная причина недоверия к России не столько объективна, сколько субъективна. Речь не о потере фактической независимости, которую Россия может у белорусов отнять (да полно, может ли?)… Речь – об утрате культурной самостоятельности. А этот страх подогревается не только конфликтами чиновников, но взглядами самих россиян, причем зачастую – доброжелательными, например: "Белоруссы – они родные, как русские, только гораздо лучше" [16]. И невдомек обиженному российскому блоггеру, почему в ответ на добрые слова он получает множество обидных откликов… За последние двадцать лет белорусы осознали свою отличительность – и в первую очередь, именно на основе отличия от россиян. Негативный стереотип по отношению к России (но – заметим – не по отношению к русским, живущим в Беларуси) будет существовать до тех пор, пока не исчезнут взаимные обиды бывших "братьев" – "младшего" и "старшего". Что же дальше? Вероятно, прав блоггер czalex: " когда-нибудь сгаснет лицемерный пафос про "братство" и "разделенный народ", и на его место придут сухие добрососедские уважительные отношения" [44]). 358 Национальная идея как миф и как реальность Национальная идея и современный этнический миф. Поскольку современная этничность, как и само современное общество, – продукт Нового времени, она уже не так латентна, не так бессознательна (особенно по сравнению с идентичностью, свойственной белорусскому традиционному обществу и его выразителю – "мужыку"крестьянину). Современная этничность в очень и очень многом осознанна, рефлексивна. Именно попытки рефлексии и представлены в блогах. Но значит ли это, что она не основана на мифе? На протяжении столетий считалось, что силой знания человек победит мифы. Однако в ХХ веке стало ясно: знание не только не победит мифы, но всегда так или иначе "завязано" на мифологии и множит новые и новые мифы. Особенно яростно мифы взрастают на "национальной" почве. Хотя современные мифы принимают новый образ – образ идеологии (об этом писали такие знаменитые исследователи мифа, как Э.Кассирер, Р.Барт, Е.Мелетинский и др.), тем не менее, под идеологическими конструкциями возможно, а подчас и нетрудно рассмотреть очертания мифов о первозданном, потерянном и грядущем рае. Так, в блогосфере наличествует несколько вариантов представлений о "золотом прошлом" (рае первозданном), являющем предпосылки для идеального будущего (рай обретенный). Мифы вырабатываются сторонниками каждой версии этничности – потому они и различны, и порой кардинально. Так, сторонники "литвинской версии" в качестве идеи "рая первозданного" настаивают на сверхпозитивно понимаемом образе ВКЛ (великое, мощное, прогрессивное и демократическое государство), в свете борьбы за идеалы которого понимается вся последующая история Беларуси, а сторонники "советской" – на столь же позитивно трактуемом СССР. При этом оба исторических периода облачаются в мифологические одеяния "золотого века". В первом случае не принимается во внимание то, что в те годы на территории Беларуси вовсе не все были шляхтичами-литвинами, следовательно, если ВКЛ и было "раем", то для очень небольшой части населения. Во втором игнорируются сталинский террор, брежневский "застой", всесилие цензуры, торжество дефицита и дефицит правды… Миф о "золотом веке" существовал во все времена и всегда отличался сходными чертами – ностальгией по прошедшему идеальному состоянию мира и представлению о современной порче нравов. Однако этнополитические мифы современности имеют существенное отличие от "наивных" мифов древности. Если архаический человек воспринимал миф не как вымысел, а как самую что ни на есть реальную реальность, то современный – как возможность создавать из вымысла реальность, конструировать на 359 его основе идеологию – в образе мощной национальной идеи или спектра менее амбициозных, но не менее "национальных" идей. Словом, ныне мифология приобретает характер идеологии. Моменту, когда этнополитический миф станет "сверхидеей", предшествует долгое время противоборства мифов. Именно этот процесс, судя по блогосфере, происходит нынче в Беларуси. Разумеется, большая часть блоггеров воспринимает полюбившиеся национальные мифы архаически, т.е. как единственную и бесспорную реальность, но среди них постепенно выделяется слой людей, стремящихся к сознательному конструированию национального мифа: "Все мы знаем, что беларусы – тихий и послушный народ, не способный противостоять влиянию соседей. <…>. Ну – записали нас в русских со знаком качества. И как только человек начинает брыкаться и доказывать, что он не русский, ему припишут, например, польский гонор. Но беларусом его точно не сочтут: беларус же брыкаться и отстаивать сваю самобытность не может, потому что это не в его национальном характере. выход отсюда я вижу только один: изменить "национальный миф". <…>. Именно это делал Владимир Короткевич. Именно поэтому, несмотря на все минусы его произведений он так любим" [29]. Итак, сегодня слово "миф" теряет снисходительно-насмешливое значение, которое некогда придала ему рационалистическая ученость: миф понимается как средство продвижения идеалов будущего и оценивается как мощная сила сполочения людей: "Мы мусім займацца стварэньнем нацыянальнага міфа. Менавіта міфа, а не хлусьні. Мы мусім данесьці нашую праўду да масаў. У аснове ўсіх вялікіх гістарычных падзеяў ляжалі й ляжаць міфы. Міф ляжыць ў аснове нашага існаваньня, ўсё нашае жыцьцё прасякнута ім. Беларусы звыкліся з тым што заўжды жылі пад кімсьці прымаючы веру й культуру прыхадня, але мы мусім ім давесьці што некалі хтосьці жыў пад беларусамі. Гэта шакуе абыватая, гэта яму незразумела, незразумела яму й тое, што некалі мы былі вялікім народам і мелі не тое што маем зараз, і адпаведна гэта прываблівае. Гісторыя ўсіх дзяржаў пабудавана на міфах. Калі б Расея адмовілася ад свайго міфа мессіянства, які яна стварыла пасьля таго як быў захоплены Канстанцінопаль, мы б зараз мелі па-суседству ў лепшым выпадку невялічкую рэспубліку “Масковія”. Нашыя ідэі простыя: Нацыя і Дзяржава. Галоўным нашым прынцыпам мусіць стаць дзяржаўнасьць" [77]. В этом автор не одинок: мысль, что национальная идея своими корнями врастает в миф, распространенная в современной политологии и культурологии, из научного пространства шагнула в массы, в том числе и в блогосферу: "Нацыя – гэта не біялагічная пераемнасць (хіба толькі ўскосна), але пераемнасць гістарычнай міфалогіі" [60]. 360 С этой точки зрения, для удачной идеологии "великого государства" важна не столько истина (было или нет оно таким уж великим, да и кто ныне может подсчитать "процент величия" наверняка?), сколько разделенность мифа, вера в него людей и способность мифа мобилизовать массы. Так, Мали строит свою идеологию от реальной средневековой республики, а Гана – от воображаемого римского прошлого, но при этом оба государства черпают в нем силы для развития национальной идеи. Впрочем, здесь не обойтись без проблем: ведь разные мифы, лежащие в основе разных типов этничности, вовсе не объединяют, а разделяют социум. Возникает и другой вопрос: почему для роста современного самосознания, для современного мифа наиболее важным считается то, что кто-то жил "под белорусами"? Тезис, что нация состоятельна лишь в том случае, если другие народы жили "под нею" – да это же та самая идея, которая пользуется наибольшей нелюбовью белорусов, да и других постсоветских народов, и именно ее обычно приводят как главную претензию к России – пресловутые "имперские амбиции"… Не парадокс ли: возмущаться имперской идеей соседа – и мечтать о подобной? Национальная идея – лики и личины. Тезис "чем больше под нами жило народов тем лучше" и впрямь был популярен в века империй и колонизаторства. Да, впрочем, и позже – пока главным преимуществом и человека, и народа считалась сила. Именно на этом тезисе базировалась экспансионистская национальная идея. Ее разновидностью являлась идея мессианская, культуртрегерская – нести свет просвещения отсталым окраинам (в этом случае сила понимается не в физическом смысле, а в значении неоспоримой, данной Богом правоты). И что же теперь? Американцы пытаются загладить вину перед индейцами, уж не говоря о Вьетнаме и Корее. Английские, французские, португальские города наводнены иммигрантами из бывших колоний, западные немцы до сих пор живут под бременем "вины нации"… Россию призывают к покаянию страны Балтии, Украина, Грузия. Да, до середины ХХ века национальная идея (и продуцирующий ее национальный миф) понималась как идея экспансии. Но история не только круговерть кровавых переворотов. История есть смена поколений и внутренних переворотов в мышлении людей, а потому – история покаяний. В свете этого, не лучше ли, когда не в чем каяться? Ведь повод для национальной гордости можно найти и в "ненасилии" (вспомним уже приведенную цитату "Такая гордость распирает за то, что нет ни одного человека на свете, который ненавидел бы белорусов!"). Так, именно идея ненасильного протеста способствовала конструированию индийской идентичности и освобождению Индии от английского владычества. Кстати, та же Индия всегда – тихо, шито-крыто – ассимилировала ассимиляторов, и поэтому 361 англичанин-колонизатор потихоньку пропитывался индийским духом, вспомним хотя бы английские романы: по их страницам бродит множество отставных полковников, живущих в своих поместьях под звуки индийского гонга… Культурное влияние вообще не бывает однонаправленным: колонизированные культуры подспудно воздействуют на колонизирующие. Тем не менее, и этот – назовем его толерантно-приемлющим – вариант национальной идеи в современной Беларуси не срабатывает. Ведь именно такая ее специфика – тихая республика с добрыми, кроткими, работящими людьми – была "общим местом" советского интернационального дискурса. Нынешняя национальная идея ищется от противного, под рубрикой "good-bye, USSR". Понемногу (хоть и не совсем) отходит в тень и популярный в годы перестройки проект развития страны исключительно на основе автохтонных (исконных, вечных, традиционных) ценностей – герметично-этнокультурный (или "тутэйшы"). Впрочем, этот процесс более противоречив, чем предыдущие, хотя бы потому, что в некоторых смыслах "тутэйшасць" сохраняется. Более того, ряд блоггеров считает, что "белорусскость" может сохраниться только как "тутэйшасць": "С каждым приходом новой власти история все сильнее искажалась и деформировалась. Мы не знаем настоящей Белой Руси. Да и вряд ли когда-нибудь узнаем… В современном мире Родиной можно назвать лишь тот уголок, в котором ты родился и вырос" [115]. Тутэйшая нация? Парадоксально, но факт: с одной стороны, блоггеры рассуждают о вхождении в состав объединенной Европы, а с другой – говорят о закрытости, ментальной "отдельности", принципиальной "особняковости" белорусов, причем, часто оценивают ее со знаком "плюс": "цяга беларусаў да адзіноты, да індывідуалізму вельмі значная. Лічу, што беларусы – гіперіндывідуальныя па сваім менталітэце людзі; настойлівы калектывізм прыгнечвае нас. Гэта і адна з прычын таго, што беларусы няздольныя адстойваць свае інтарэсы гуртам" [21]. Эта распространенная точка зрения (распространенная настолько, что вошла даже в некоторые учебники по культурологии) не вполне верна: белорус не индивидуалист. Вспомним хотя бы максиму "як усе", игравшую такую роль в традиционной культуре, и в целом склонность к невыпячиванию – вряд ли это показатели "гипериндивидуализма". О том же свидетельствует и современный пример, приведенный блоггером diim-avgust, а именно молчание студентов в ответ на рядовой вопрос преподавателя: «если я что-то произнесу, то всем покажется, что я на что-то претендую – что я индивидуалист или прагматик, набиваюсь преподавателю в любимчики…», или даже «я никогда не отвечаю всем требованиям ко мне, и даже если отвечаю – лучше не проявлять этого». 362 Да и неспособность "адстойваць свае інтарэсы гуртам" тоже преувеличена: достаточно вспомнить хотя бы талаку. Просто круг белоруса исторически более узок, чем, к примеру, у русского, а тяга к приватности больше. Скорее, надо говорить не о гипериндивидуализме, а о некотором герметизме внутреннего мира белоруса, об исторической "оседлости сознания", базирующейся на ценности своего, привычного – своего места под солнцем, своей группы близких друзей, привычного круга знакомств, забот и радостей. С этой точки зрения, зачем нам "другие"? Нам и со "своими"-то неплохо… Словом, современная "тутэйшасць" соотносится далеко не только с местом: скорее, можно говорить о "тутэйшасцi сознания". Впрочем, и в отношении к месту понятие "тутэйшасцi" не исчезло, но оно чаще прилагается уже не к хате или усадьбе, не к селу и даже не только к городу, а к стране и ее обитателям: "Главный критерий у нас – это «тутэйшасць», т.е. местное происхождение <…>, и православному крестьянину его сосед-католик всегда будет ближе, чем православный откуда-нибудь из Урюпинска" (блоггер jakubaniec) [59]. Добавлю: это верно не только в контексте религии: белорусский поляк, татарин или еврей воспринимается более "своим", чем белорус канадский, а этнический русский, родившийся в Беларуси, жаждет "слиться в экстазе" с Россией не в большей степени, чем этнический белорус. Таким образом, речь идет об особой модели взаимотношений людей внутри единого национального пространства. Теплота "тутэйшасцi" как бы оживляет сухую прагматичную категорию нации. Но может ли этот путь ("корни", традиции, фольклор, язычество, самосохранительная замкнутость) стать национальной идеей? Сейчас все более очевидно, что нет. И потому, что нация не может держаться на коротких местнических связях (она принципиально – "воображаемое сообщество"), и потому что национальная идея не может основываться на самосохранении, "отгораживании" от Других, а ведь именно это – основная функция "тутэшасцi", да и – в некотором контексте – этнической традиции как таковой. Разумеется, без традиций нет и не может быть этнической общности. Культура, состоящая почти из одних традиций, может существовать долгие столетия (во всяком случае, могла еще несколько десятков лет назад), а культура, состоящая из одних новаций и заимствований – невозможна в принципе. Но нация по определению более "общительна", более открыта, чем этнос, она в гораздо большей степени живет будущим и настоящим, чем прошлым. Так что в современности национальная идея, построенная исключительно (или даже главным образом) на дне вчерашнем – традиции и особенно "тутэйшасці", обречена на провал. 363 И вновь о национальной идее. Помимо экспансии, мессианства и т.д. национальная идея может основываться и на других задачах – например, объединения (российское "собирание земель") или воссоединения (например, ГДР и ФРГ, Северной и Южной Кореи и т.д.), но насколько актуальны ли они для нас? Вряд ли даже самым страстным апологетам ВКЛ сейчас придет в голову пытаться отвоевать его территории в прежних границах (я нашла нечто подобное в одном-единственном блоге. Но и там надежда была не на завоевание, а на "балтыйскiя гены"). То же – и еще в большей степени – касается восстановления СССР. В итоге – очередной парадокс: на интернет-страничках бурлят самые разные, порой полностью противоположные варианты национальной идеи (самый активный из них – "литвинский"), "несформированность", но в то "размытость" же и время т.д: постоянны "ёсць вельмі сетования слабая на ее беларуская нацыянальная ідэя, якая, ўласна, ніколі і не была моцнай: пакутуючы ад шматлікіх войнаў селянін ў саламяным брылі выклікае непараўнальна менш гонару за сваю нацыю, чым гераічны крылаты вершнік, або волат-вызваленец" [112]; "Што ж робіць беларускую ідэю непрыцягальнаю? Па-першае, несфармуляванасьць для беларускага народа гістарычнай місіі, разуменьня свайго месца пад сонцам… Па-другое, праблемай беларускай нацыянальнай ідэі ёсьць яе неагрэсіўнасьць" [127]; "Што тычыцца нацыянальнай беларускай ідэі, то яе крызіс навідавоку. Мне нават падаецца, што ідэі гэтае ніколі й не існавала – былі адно што чарнавыя праекты. Што сто год назад, што цяперака... Адсюль з’яўляюцца канцэпты крываў-ліцьвінаў, рускамоўных- беларускамоўных, праваслаўных-каталікоў (а зараз і пратэстантаў) і г.д. Яшчэ больш абуральным ёсць праект т.зв.“багемных нацыяналістаў”, заснаваны на існаванні “вясельнага куфару беларускай нацыі”, што стаіць на гарышчы і дзе змешчаны апошняя ісціна, нацыянальная ідэя, праект нацыянальнага Адраджэння і пабудовы нацыянальнай дзяржавы, крытэрыі беларускасці і г.д. Мы ж павінны проста адчыніць яго і дастаць нацыянальную ідэю" [132]. Ирония последнего автора понятна: по свежим следам чтения интернет-текстов подчас создается впечатление, что все дело именно в несформулированности национальной идеи, что она должна укладываться в один всеобъемлющий слоган и зазубриваться гражданами Республики Беларусь наизусть. Иногда так и бывает. Но "лозунговая" форма пригодна лишь в ситуациях мобилизации общества – например, ввиду опасности, исходящей от внешнего врага, в периоды войны или гражданского конфликта. Потому лозунг "Жыве Беларусь!" срабатывает в ситуации экстраодинарной и не действует на массу в ситуации обыденной (Ну, вядома ж, жыве…). И потому же 364 лозунг "За Беларусь!" был бы уместен в обстоятельствах угрозы суверенитету страны, но не в мирный период (Естественно, что любой гражданин страны – за Беларусь). В мирное время национальная идея – не лозунг, а нечто другое… Может быть, путь? Может быть, более или менее общий, разделяемый людьми ориентир? Отношение к жизни и недоверие идеям. Ненадолго вернемся в прошлое. Вспомним размеренность и неторопливый жизни традиционного белорусского крестьянина. Такое впечатление, что его день расчерчен на квадратики, и каждый из них заполняется по мере проживания дня – трудами, заботами, отдыхом, воспитанием детей и т.д. Разумеется, жизнь с тех пор изменилась. Что же осталось прежним? Практический – рачительный, степенный (может показаться, что даже слишном степенный) – подход к жизни. "Практический" вовсе не значит прагматический, бездуховный, меркантильный и т.д. Мир воспринимается белорусом как пространство, данное для обживания – не сикось-накось, не второпях, не "как придется", а всерьез и надолго. И недаром сказочный Христос стремился сделать все "на патрэбу", "на карысць людзям". Можно вспомнить и более недавний пример – приведенную выше цитату о разных моделях гибели русского и белоруса: если русский красиво рванет на себе рубаху, то белорус побережет ее: а вдруг кому-то пригодится. Что это – скупость? Нет, тот самый рачительный, "добротный" взгляд на жизнь. Может быть, оценивая белорусскую конфессиональную историю как борьбу между католичеством и православием, мы напрасно игнорируем протестантизм, появившийся на наших землях в XVI в.? Похоже на то, что он пустил гораздо более глубокие корни в культуру, чем нам представляется: уж очень "протестантское" – бережное, тщательное, серьезное – отношение к труду, к вещи, да и в целом к жизни исторически исповедовал белорус. Очень возможно, что мы – по крайней мере, отчасти – унаследовали это отношение: достаточно вспомнить отзывы "сторонних наблюдателей" о белорусской жизни... Впрочем, восхищающие их упорядоченность, спокойствие, размеренность часто воспринимаются со знаком "минус" – но уже нашими блоггерами, сетующими на пассивное принятие жизни, которое не может породить активную национальную идею белорусов: "Нацыянальная беларуская ідэя – чаканне. А вось зменніца к лепшаму, а мы тут пачакаем" [131]; "шевелиться мы станем только когда уже трубы загорят. и по историческому опыту у нас в крови заложено, что поднимать страну мы может только из руин. а пока – толерантность" [22]. Можно сколько угодно ломать копья по поводу несостоятельности национальной идеи белорусов, но придется принять как данность: белорус не любит крайних мер в ситуациях, где можно обойтись без них (да и когда нельзя – тоже еще подумает, а ввязываться ли в драку или в склоку). Не любит резких альтернатив и скороспелых 365 решений (вспомним реплику о наклонности "памяркаваць", обсудить, со всех сторон осмотреть, "попробовать на зуб" ситуацию). Да, длительность этого процесса часто приводит к тому, что ситуация "рассасывается" сама собой, и подчас – не лучшим образом, но в любом случае это не хуже, чем постоянная готовность схватиться за вилы или автомат. Белорус предпочитает жизнь без катаклизмов: в связи с этим и впрямь можно говорить о некотором национальном флегматизме. Белорус с осторожностью относится даже к тем изменениям, которые должны бы улучшить его участь: уж слишком часто в истории они, обманывая, приводили только к худшему (и случайно ли по-белорусски "благі" – это "плохой"?). Потому любой очевидно новый и, тем более, радикальный проект вызывает настороженность. Словом, прав блоггер franz-josef: "Он [народ] такой, какой есть – сдержанный, неторопливый, немножко себе на уме, несклонный к резким решениям и радикальным переменам. Неплохой в общем-то народ – без русских крайностей, польского гонора, прибалтийских комплексов или чешской покорности судьбе" [56]. Это наследие "мужыка" в нас и приводит к тому, что путь быстрых перемен и яркой личностной активности не срабатывает. Разве что в исключительной ситуации. Но исключение на то и исключение, чтобы быть единичным. А в повседневности форма сопротивления во многом осталась той же – исторически воспитанной: для вида делаем, "как сказано", но незаметно топим начинание в вялости и безынициативности. Это проявляется и в крупном, и в мелочах: "Беседовала сегодня на тему внедрения системы 5S (она же "упорядочение") на белорусских предприятиях. Эта такая система (японского происхождения), когда все работники поддеживают общепонятные правила организации рабочего места и участвуют в регулярных уборках, а затем и в иных видах усовершенствования производства. Консультанты пожаловались: белорусы спокойно принимают любую новацию, легко внедряют, а потом часто так же легко забывают. И высказали предположение: у нас, мол, очень много компаний, где персонал нелоялен, и требует доплаты за любую переработку, такие кадры все и тормозят. В России, мол, все не так, там ради родной фирмы о свободном времени готовы забыть… Подумала: может, у нас все не так, как хотелось бы потому, что простые работники уже уважают себя как на Западе, а их вожди и учителя демократии тоже считают, что все здесь как в России… Плюс, конечно, саботаж как традиционный метод борьбы с оккупантами (в том числе желающими захватить идейно)" [105]. В этой ситуации сработали оба фактора – и практицизм, и исторически выработанная модель пассивного сопротивления. Но гораздо более значимым представляется второе. Не столь уж существенно, по каким причинам работники отказались от системы, куда важнее – каким 366 образом: спокойное (для вида) принятие, даже внедрение и – забвение. О том же свидетельствует комментарий к этому посту: "У нас все нововведения западные приживаются плохо и криво. Лучше мы сами лет так через 100 цивилизуемся". Да, белорус, "над которым" на протяжении веков "были" другие, в повседневной жизни действут по принципу "лучше уж мы сами…" Герметизм сознания? Или вариант чувства собственного достоинства, выкованного по традиционно-крестьянскому лекалу? Вероятно, и то, и другое. В любом случае попытки ломать белорусскую "упрямую вялость" через колено – даже из самых благих соображений – занятие бесплодное. Иное дело – проанализировать типичные модели поведения белорусов и с их учетом сконструировать проект совершенствования общества, не противоречащий менталитету. Беда в том, что этого-то делать и не хочется. Хочется, напротив, конструировать нацию по желательному или, по крайней мере, удобному в конкретной ситуации образцу: "нацыя герояў", "гордые литвины", "партызаны – беларускія сыны" и т.д. Единственное, что за последние десятилетия стало ясно наверняка: и виртуальным, и реальным лидерам вряд ли удастся добиться от белорусов признания даже самых соблазнительных вариантов национальной идеи, если при этом постоянно талдычить, что белорусы – такие-сякие "абыякавыя", "млявыя", что они утратили чувство национальной гордости, что у них не сформировано самосознание и т.д. Видимо, не так уж ничтожна гордость белорусов: подобные нападки народ пусть молчаливо, но не прощает. И вовсе недаром один из блоггеров пишет: "Нужно всячески стараться избегать дискуссий по белорусской тематике с т.н. белорусскими интеллектуалами. Потому как понял, что проку мне от этих обсуждений мало. Эти люди в Беларуси и в белорусах любят больше себя, чем Беларусь и белорусов в себе…" [11]. Увы, на эти "грабли 90-х" иные радетели национальной идеи наступают до сих пор: мол, надо переделать, исправить не очень-то удачный народ, не понимающий своего блага… Словом, прямо по Сократу: "Взяв, словно доску, государство и нравы людей, они сперва очистили бы их, что совсем нелегко". Ключевое слово здесь "нелегко". Сказать жестче – невозможно. И слава Богу. Потому что эта идея расчистки напоминает что-то очень знакомое... Что ж, "антисоветскость" зачастую является близнецом самой жгучей "советскости". Социальная инженерия и "латание дыр". Итак, какой же путь возможен при исторически выработанном недоверии народа к глобальным идеям и масштабным переворотам – и в жизни, и в сознании? 367 Я недаром вспомнила о размеренности, последовательности и тому подобных характеристиках исторического белоруса. Можно говорить о своеобразной "клеточной эволюции": сперва осваивается и заполняется (чинится, приводится в порядок) одна клетка жизненного пространства, затем другая, и жизнь приобретает характер последовательного латания прорех – несправедливостей, ошибок и т.д. Существует авторитетная теория, идеально соответствующая такой модели освоения и изменения мира – теория "локальной социальной инженерии" Карла Поппера. Вообще-то социальная инженерия – термин, подразумевающий намеренное изменение человеческих установок в нуждах "дня сегодняшнего", адаптацию социальных институтов, групп, людей в быстро меняющемся мире. То есть речь опять же идет о конструировании реальности. Но конструирование конструированию рознь. У нас на памяти – неудачные попытки сконструировать умозрительную общность под названием "советский народ", а также – то более, то менее удачные попытки сконструировать белорусскую нацию в зависимости от нужд дня сегодняшнего – то мирную, то воинственную; то героическую, то толерантную; то крестьянскую; то шляхетскую, то пророссийскую, то европейскую и т.д. Поппер называет подобные проекты "утопической социальной инженерией". Что же не утопично? Локальная социальная инженерия. Она не замахивается на "все и сразу". Она исправляет, чинит, латает те сегменты действительности, где разошлись швы, появились поломки и прорехи. Так проводил свою жизнь наш предок – белорусский крестьянин. Идея точечных, узкомасштабных изменений гораздо более привычна и приемлема для белоруса, чем постоянные попытки раз и навсегда перетасовать его жизнь и воззрения. Вот что пишет о подобных утопических попытках Поппер: "Если бы я должен был бы дать простую формулу или рецепт для различения того, что я определяю как допустимые планы общественной реформы и недопустимые проекты утопии, то мог бы сказать так: действуй скорее для устранения конкретного зла, чем для реализации абстрактного добра. Не пытайся обеспечить счастья политическими средствами. Стремись скорее уничтожить конкретные страдания. Но не пробуй реализовывать эти цели путем выработки и воплощения в жизнь абстрактного идеала общества, совершенного во всех отношениях... Ни одно поколение не может быть принесено в жертву для блага будущих поколений, во имя идеала счастья, может быть, вовсе и не реализуемого" [182, с. 61]. Реализация конкретного – чем не путь для белорусов? Здесь вовсе не имеется в виду "ненужность" абстрактных идей, идеалов, а тем более, что культурные элиты должны искусственно занижать свой уровень, ориентируясь на приземленные, тривиальные, псевонародные (а на самом деле 368 обывательские) идеи. Имеется в виду последовательность, логичность, внятность и исполнимость задач. Своего рода "лестничный путь" – сперва одна ступенька, затем другая… Именно таким образом можно двигаться к идеалу без ощутимых потерь и без травматизации сложившегося менталитета. Да и существует ли идеальная, раз и навсегда сформулированная национальная идея? Вряд ли. Она ткется из множества социальных, этнокультурных, политических и др. задач, которые необходимо исполнить здесь и сейчас. Что касается высокой идеи – идеала, спасающей общность от исчезновения и распада, то она возникает (вернее, становится явной) при необходимости, подобно Фениксу из пепла. И поминать ее всуе при каждом удобном моменте – значит, очередной раз "затирать" слова, которые должны быть священными. Прошлое как продукт и проект. Среди трех дискурсов национальной идеи, бытующих в интернете (их можно назвать "лозунгами", "сетованиями" и "предложениями"), наиболее интересен самый нераспространенный – третий. Именно он дает возможность "локального", "точечного" совершенствования действительности. Итак, что же предлагают блоггеры? Пожалуй, главная тенденция, прослеживающаяся в таких предложениях, – не просто "пережевывать" давно ушедшее, но сделать его актуальным. Если в 90-е гг. ХХ века достаточно было упомянуть о ВКЛ как образце великого прошлого, и это уже само по себе поднимало дух народа (пусть не всего, но во всяком случае – части), то сегодня речь о нем часто ведется на уровне штампов, констатаций без выводов и выходов в день сегодняшний. В противовес этому предлагается идея осовременивания и "опрактичивания" прошлого, например, попытка "маркетинга" литвинской версии в свете нужд современности: "Думаю, што калі гэта не гульня, то падыходзіць трэба сур'ёзна і распрацоўваць і тактыку і стратэгію грунтоўна. І выкарыстоўваць пры гэтым маркетынг, г.з. што маем "тавар" – літвінства... А гэта значыць прадуманая рэклама і т.д. <…> Гэта праца на дзесяткі гадоў. У такім разе літвінства не будзе абмяжаванай маргінальнай партыйкай. Тады ёсць перспектыва" [62]. Впрочем, перспектива может видеться и в полностью противоположном направлении: "Возрождать шляхту – тоже самое что возрождать институт дворянства в России или юнкерства в Германии. А народу белорусскому нужны дела – в университетах, колхозах, заводах, а не примеры славных дел из прошлого… Крестьянская кровь и “крестьянский” менталитет лежит в основе белорусского этноса. Его нужно развивать, а не приводить в пример мифических “правильных” шляхтичей" [145]. Что роднит два этих противонаправленных утверждения? Желание реального дела. Не самобичевания и не панегириков самим себе, 369 а сознательного исполнения социальных задач. Как говорил классический литературный герой: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели". За традицию – против неотрадиционализма. Итак, речь уже не ведется о том, как бы коллективно вернуться в "золотой век" (какой бы период истории под ним не подразумевался). Мы понемногу приходим к тому, что прошлое ценно не как догма, не как мощи, к которым надлежит прикладываться, а как фундамент будущего. Потому национальная идея должна не только сплачивать массы на основе общего прошлого, но и включать компоненты "престижности", "современности" и "изысканности", востребованные в свете будущего развития культуры. Существует ли что-нибудь подобное, по крайней мере отдаленно смахивающее на такой производительный "национальный миф" не в виртуальной, а в реальной культуре? Увы… Наш общепринятый миф явно запаздывает по отношению к сложившимся структурам культуры: "Разглядываю развешаные по всему Минску плакаты со слоганом "Мы Беларусы"... и как ни разглядывала все никак не могу узреть среди этих "Мы" врачей, инженеров, музыкантов, художников, ученых, программистов <…> а кто же я тогда? <…> это их [рекламистов. – Ю.Ч.] своеобразное ФЭ показывать беларусов такими, а весь национальный колорит сводить к льняным одеждам с краснобелой вышивкой, фигуркам из соломки, и деревенским потомственным алкоголичкам в маразме, облаченных в эти одежды, вооруженные соломенной поделкой и сотрясающим свой поселок городского типа горловым ором "Ой рана на Ивана" [46]. Резковато. И неудивительно, что эта резкость вызывает нарекания оппонентов. Но зерно истины здесь есть: кто же тогда "я", современный человек городской интеллектуальной профессии, и неужели "мне" нет места в пространстве родной культуры? Неужели традиционная культура – это все, что Беларусь может показать миру? Следует ли замыкаться исключительно на ней? "Честно говоря, – пишет уже другой блоггер, – я знаю, что к XIX веку бел. культура существовала только в виде народной, т. е. народ стал её единственным носителем. Ну и что? Это не значит, что сейчас никто не знает того, что было до XIX в. Пример – те же «Стары Ольса», играющие музыку, которая НЕ БЫЛА народной (конечно, есть исключения). Но в то же время, я включаю радио и слышу тёток, поющих нечто, «пришедшее к нам из глубин истории», включаю телевизор и вижу «девушек» в «белорусских» костюмах (интересно, ярко-красная помада и синие тени историчны?), захожу в книжный магазин и натыкаюсь на стопку книг типа «Беларускае народнае адзенне»… Из-за этого вся белорусская культура ассоциируется только с народной, современный человек уже не подозревает, что есть и другое: другая музыка, другое 370 изобразительное искусство, другая одежда, но тоже БЕЛОРУССКОЕ. То, носителем чего была аристократия. Или её у нас тоже не было? Были русские дворяне и польская шляхта? Нет. То, что было у нас, было самобытным. До сих пор часто вспоминаю дом одного шляхтича в Ракове под Минском. То, что я там видела, было именно белорусским…" [67]. На вопрос, почему белорусская культура устойчиво связывается с культурой крестьянской (мотив, распространенный в блогах, как, впрочем, и в жизни), блоггеры отвечают по-разному. Часть считает это "советским" рудиментом: "Ты ня першая, хто заўважыў загнаньне ўсёй беларускасьці ў сялянскую хату. Такая тэндэнцыя цягнецца з часоў БССР. Такая тэндэнцыя цягнецца з часоў БССР, яна была добра распрацаванай у сьцянох Крамля і Лубянкі. Галоўнай тэзай беларускай савецкай гісторыі было тое, што належнага разьвіцьця беларуская культура да 1917 г. ня мела, і толькі прыход "парціі зь Леніным" вызваліў яе з-пад акоў царызму" (блоггер praletar) [там же]. Другие блоггеры находят и иные причины: например, богатство народной культуры: "Мне немного неприятно то, что ты так недооцениваешь народную культуру <…>. Процедура передачи её из уст в уста делает произведение магическим. Кроме того, хочу заметить что беларусская народная песня весьма и весьма интересна и безумно сложна (!) в музыкальном плане, а во многих случаях и в поэтическом тоже <…>. Так что изучи сначала, а потом суди" (блоггер o3ero) [там же]. Вероятно, "проблема не в том, что мы не ту беларусскую культуру изучаем, а в том, что нам её (и ту и другую) преподносят не так в большинстве случаев. Не в той форме, в которой она была бы интересна и понятна современному беларусу"[там же]. Впрочем, почти все авторы единодушны в одном: каким бы богатым не было фолькорное наследие белорусов, оно не в силах не только вместить современную реальность, но и соответствовать ей. А в оторванном от времени, да еще и нарочито "омассовленном", упрощенном виде оно может служить лишь раритетом, но не живой традицией. Как "оживить" традицию? Вот яркий пример попытки сделать традицию нужной, современной и престижной: "… на маю думку, варта пазыцыянаваць рэчы, аздобленыя традыцыйнае арнамэнтыкай: на ўзроўні мажорных буцікоў ды брэндаў. Эксклюзіўна, праўдзіва, сымбалічна, стылёва, дорага, элітарна. І я буду вельмі задавлолены, калі нават самы апошні гопнік у гэтай краіне замест, скажам, шапкі з надпісам кшталту "sport", "xxx" (ці проста з недарэчнымі палоскамі), мецьме на шапцы вакол галавы арнамэнтаваную геамэтрычную паласу з "сонейкамі", "вядзьмедзямі", "крывулькамі" і іншымі загагулінамі, на якія так багата народная спадчына. І няхай яму 371 будзе да дупы сэмантыка й генэз гэтых арнамэнтаў, іх абарончая іста, я ўсё ж буду цешыцца, што традыцыя знайшла слушны кантакт з сучаснасьцю й будзе жыць а не існаваць адно ў галовах апантаных фальклярыстаў. Крыўдна толькі, што людзі якія могуць рабіць і робяць падобныя рэчы не згуртуюцца і ня зьдзівяць сьвет, скажам, інтэрнэт-крамаю ТРАДЫЦЫЙНА арнамэнтаванае, але СУЧАСНАЕ вопраткі. Ці мо ўсе такія цнатлівыя і "традыцыяй не гандлююць"? Ахвоці мне! Чаму б не паставіцца да гэтага як да нармальнага бізнэс-праекту? Думаецца, попыт будзе. І ня толькі сярод асабістых знаёмцаў" [107]. Интересно, что в дальнейшем обсуждении блоггеры предлагают не только виртуальные варианты такой одежды или аксессуаров: они обсуждают и юридические возможности, в частности, регистрацию предприятия, и площадки рекламирования "новых традиционных" товаров, и даже что-то вроде сетевого маркетинга. Откуда оживленность дискуссии – на такую, казалось бы, узкую тему? Причина проста: речь идет о конкретных действиях, возможных в русле той самой "клеточной эволюции", о которой было сказано выше. Не о излюбленных перепевах богатого и сложного, "великого" или "мученического" прошлого – о дне сегодняшнем. В более широком контексте этот вопрос ставит блоггер gorliwy-litwin: "лічу беларускую культуру пустой у сімвальным сэнсе, таму што ў ёй фактычна адсутнічаюць самадастатковыя культурныя каштоўнасці-сімвалы: не на ўзроўні дэкларацый нацыяналістычных інтэлектуалаў, а на ўзроўні масавай падсвядомасці. Такіх, напрыклад як галандскі цюльпан, або аргентынскае танга. Не лічу магчымым падыгрываць нацыянал-сацыялістычным ідэёлагам, што маўляў, бедныя прыгнечаныя беларусічкі не вінаватыя, бо панскі прыгнёт не даваў ім магчымасці нічога такога стварыць" [64 ]. Этот вопрос поставлен не с бухты-барахты: совершенно очевидно, что национальная идея нуждается в символическом выражении, и эти символы нужны не только для "внутреннего употребления", они должны быть признаны в пространстве мировой культуры. Потому что "мы" (группа, этнос, нация, цивилизация) начинаем реально существовать не только тогда, когда почувствовали себя этими "мы". Необходим и еще один фактор – признание со стороны "значимых других". И снова: Беларусь – в Европу. Почему тема "Беларусь – в Европу!" обрастает таким множеством споров? Отчасти потому что многие уже поняли: само по себе географическое положение "посреди Европы", или, если угодно, "между Востоком и Западом" не решает ничего или решает очень мало. Многие – но не все. Так, в байнете встречается точка зрения, сообразно которой белорус – европеец просто в силу того, что он не русский: "Практычна для ўсіх маіх герояў беларускасць –гэта еўрапейскасць. То бок, ужо не ёсць пратэстам супраць чагосьці, а выбарам за штосьці, на карысць чагосьці. 372 У дадзеным выпадку на карысць еўрапейскасці. І тут “я –беларус” значыць, што для мяне важныя еўрапейскія каштоўнасці" [55]. В качестве возражения можно вспомнить приведенный ранее пост о том, что "европейскость" – более идеал, чем действительность: "Толькі адна асоба пераканаўча ствердзіла, што яна з’яўляецца еўрапецем. І гэта быў не я" [73]. В целом вырисовывается следующая тенденция: когда надо декларировать нашу причастность к Европе (например, противопоставляя себя россиянам), мы называем себя европейцами. Когда же мы пытаемся не просто приклеить к себе красивый "лейбл", а серьезно осмыслить ситуацию, то получается, как у блоггера kapitan-smallet: "У вышэй згаданай групе (што лічыла каля 10 асобаў), я наважыўся прапанаваць тэст “на еўрапейскасьць”: ці можам, седзячы ў таварыстве немца, італійца, шведа, паляка сказаць “мы”, атаесаміцца з групай? Тэст падтвердзіў папярэдняе апытаньне – прысутныя не лічылі сябе еўрапейцамі" [там же]. Словом, в зависимости от ситуации мы попеременно используем две идентичности: декларативно-привлекательную (белорус-европеец) и реально мотивированную (белорус может стать европейцем в случае, если…). Каково же это "если"? Интеграция с Европой – это интеграция с европейскими ценностями и – более того – со сложившейся системой связей, взаимоотношений, моделей действия или даже привычек и манер. Вежливость, подменяющая искренность, "прохладная" отстраненность, политкорректноять, подчас кажущаяся чрезмерной, – это ведь тоже европейские ценности. Как сказал в частной беседе французский интеллектуал: "О каком принятии европейских ценностей можно говорить, когда слово "негр" у вас считается речевой нормой?" Ну, слово-то можно изжить, а что делать с другими общепринятыми качествами и моделями поведения? Да, белорус – человек малой группы, не общины – "грамады", но все-таки группы, чем и отличается от автономного, изолированного уже в течение нескольких столетий гражданина Европы. Что делать с исторической привычкой "не выпячиваться" – а ведь западная конкуренция предполагает продвижение именно "выскочек" – ярких, инициативных, отличающихся от других! (К слову, во многом именно эта тенденция приводит к печальной ситуации, когда талантливые люди предпочитают реализовываться на иной, небелорусской почве: "Мы, беларусы, надзіва шчодрыя людзі. Тэнісістка Марыя Шарапава з гамяльчанінам бацькам, жывучы ў ЗША, праслаўляюць расійскі сцяг. Выхадцы з Беларусі займаюць віднае месца ў расійскай палітыцы. Нашы маладыя спевакі перамагаюць на расійскіх тэлеконкурсах песні. Нашы пісьменнікі шчыруюць 373 зноў жа на рынку ўсходняй суседкі. І толькі няма прарока ў сваёй айчыне – на Беларусі" [69]). Что делать с искренностью, с той самой "шчырасцю", пусть и не бьющей через край, как у русских, но все же гораздо более ощутимой здесь, нежели в Германии, Британии, США или Франции? И – с другой стороны – что делать с местничеством, семейственностью? Часто его объясняют тяжким наследием "совка", но в реальности оно является плодом локальноместной идентичности (аналогичной болезнью болеют многие этносы, где "совка" никогда не было – например, латиноамериканские). Как искоренить пусть и покосившийся, но еще крепкий фатализм, особенно если учесть, что в сознании людей он очень и очень во многом сливается с мудростью? Уж не будем долго говорить о том, что "тутэйшасць" – пусть и в новом расширенном понимании, о котором я писала выше – безусловно, является преградой на пути вхождения в состав объединенной Европы… Словом, дело не только в исторических особенностях политических режимов в Беларуси. Любая политическая система (даже такая негибкая и довлеющая над человеком, каким был СССР) меняется гораздо быстрее, чем менталитет. И наконец, главное. Европа – не панацея. Подчас создается впечатление, что блоггеры игнорируют то, о чем знает каждый европеец: нынешняя Европа – вовсе не мультикультуралистский рай. Это не то декларируемое единство разных культур, которым оно видится наивному наблюдателю: яркие, отличительные черты европейских народов сглаживаются, амортизируются, а те достижения, которые мы привыкли связывать с ними, все чаще становятся своего рода "завлекалочками для туристов" – и испанские фламенко, и португальские фадо, и парижские жареные каштаны… (Другое дело, что – пусть даже в таком "попсовом", подстроенном под ожидания туристов виде – они не утрачивают своего значения национальных символов). Но факт остается фактом: ныне в Европе все более правит универсальное – "макдональдсы", "старбаксы", "C & A", "Ошаны" и т.д. Комфорт преодолевает различия. Он – вовсе не законное дитя активной национальной самоидентификации, скорее, напротив: ее активность мешает комфорту, в котором хочет жить современный европейский человек: "Размечтавшиеся на тему «Беларусь гэта Эўропа» интеллектуалы, такие, видно, забыли определить, что собственно из себя эта «Эўропа» представляет. Они создали в своём воображений некий образ такой тихой, культурной, христианской, и уважающей национальную самобытность цивилизации, в который, подобно кусочку из детского пазла, войдёт их 374 воображаемое национальное белорусское государство. В придуманной ими Европе нет гомосексуальных браков, запрета на ношение крестов, порнографии, замены столь дорогих им национальных ценностей на показываемые по MTV «общечеловеческие», там нет культа потребительства и вещей, насилия, нет «политкорректности», которая заставляет коренное население всё больше и больше отступать перед натиском иммигрантов-мусульман, нет тридцати процентов женщин, которые выбирают не рожать..." [70]. Так что стремясь в Европу, следует понимать: отказавшись от советских "клише", мы попадаем в сферу других клише – европейских: не таких одиозных и, возможно, менее скучных и давящих, но именно клише. Это не к тому, чтобы отказаться от европейского вектора развития или перестать мечтать о белорусском членстве в Евросоюзе. Это к тому, чтобы понимать: западноевропейская принадлежность сама по себе не станет почвой для развития белорусского самосознания и культуры. Чтобы твердо это знать – и не мечтать о невозможном. И не откладывать на "светлое европейское завтра" национально-культурные проекты, которые нужны сейчас… Заключение, или Белорус "на ростанях" Особенности белорусскй самоидентификации. Белорусский народ – так уж сложилась его историческая судьба – мог погибнуть (физически или духовно) много раз. И много раз казалось, что эта гибель уже его настигла или, во всяком случае, не за горами. История предлагала, а чаще приказывала белорусам: станьте русскими, станьте поляками, станьте советскими людьми. А белорусы жили. "Под Россией", "под Польшей", в СССР. Под именами, данными со стороны. Молились в церкви, в костеле, на языческом капище или вообще не молились. Говорили по-русски, по-польски, на трасянке. Но остались собой. Что послужило опорой? Как раз то, в недостатке или отсутствии чего укоряют белорусов, – четкое и стабильное, хоть и недемонстративное самосознание. На чем оно держалось в периоды, когда так называемые "объективные этнические маркеры", отличающие этнос от соседей (язык, территория, вера, государственная принадлежность и т.д.), – бездействовали или действовали не в полной мере? Можно ответить так: в разные периоды действовали различные принципы отличия белорусов от соседних этносов – иногда тот, иногда другой, порой несколько вкупе. Но было то, что оставалось цельным во все времена – этнический самообраз как представление о типичном белорусе, о его характере, ценностях и антиценностях; менталитет, подспудно диктующий выбор сценариев и стратегий поведения; и наконец, этос – особая 375 конфигурация, увязывающая ценности, сценарии, практики, элементы культуры и т.д. в одно своеобразное целое. На этом фундаменте и крепилась белорусская этничность. Можно сказать, что это и есть механизмы сохранения этничности, удерживающие культуру и общность от распада. Соответствие этим представлениям, сценариям, ценностям давало не только возможность общей жизни людей, но и возможность их самоидентификации в повседневности. Основные критерии такой "бытовой", повседневной идентичности в жизни традиционного белоруса-крестьянина – общая картина мира, "гаворка", характер труда и соответствующий трудовой кодекс, "данная от века" группа и выработанные способы взаимоотношений в ней, единый распорядок жизни, этнические и гендерные стереотипы, модели воспитания детей и мн. др. Идентификация "сверху" и "снизу". "Сверху" на этот вековечный пласт жизни и мышления людей накладывались другие идентификации – языковая (предполагающая владение уже не "простай мовай", но грамотой и литературным языком), религиозная, территориальная, государственная и т.д. – то есть, критерии, которые ученые считают объективными. Постепенно верхний слой проникал внутрь "низовой" идентификации. Но в случае если компоненты такой "верховной" идентичности резко менялись (как не раз случалось и с языком, и с религией, и с государством), у этноса всегда находились их бытовые двойники – "гаворка", фольклор, народная вера (совместившая элементы разных "ветвей" христианства и дедовских поверий), местная идентификация ("тутэйшасць") и т.д. Словом, в отсутствие "высоких" национальных представлений их роль выполняли повседневные аналоги, которые не только учили людей жить определенным образом, но и подготавливали их к восприятию возможных веяний сверху – на основе тех, что были уже пережиты. Не случайно фольклор (в частности, белорусские сказки) содержит модели отношения к панству, к богатству, к городской культуре, к законам и "маніхвестам", к той или иной конфессии, к военной или мирной жизни и т.д. Повседневность не только цементировала этнос и даже не только сохраняла его опыт, но и накапливала варианты реакций на возможное будущее, поскольку содержала золотой запас жизненных стратегий на периоды "безвременья". Именно в этом и состоит основная функция культурной памяти. Механизм двойной адаптации. В свете этого можно говорить о механизме "двойной адаптации" человека и социума к культуре и ее изменениям. На первом уровне человек выстраивал свои желания, чувства, воззрения, вкусы с учетом негласных законов крестьянской среды – "грамады". На втором сама "грамада" (и каждый ее 376 представитель) обладала представлениям и определенными ценностям. Имея методами опыт адаптации православного к и "верховным" католического, руссифицированного и полонизированного влияний, белорусы в нужный момент вынимали из "запасников памяти" методы вторичной адаптации и использовали их по назначению. Разумеется, это было не так просто: ведь влияния не были полностью тождественны своим прежним вариантам (например, православное культурное влияние в период ВКЛ резко отличалось от "военизированного" православия николаевских времен). Но это вовсе не значит, что каждый раз белорусам приходилось переиначивать весь свой уклад, а главное – перекраивать себя самих, как часто пишут публицисты, а то и ученые-гуманитарии. И снова о "советской" белорусскости". В 90-е гг. ХХ в. было принято укорять народ в том, что он-де потерял себя в процессе вынужденной "мимикрии" (увы, этот укор исходил не только сторонних наблюдателей, но и, главным образом, от ряда отечественных авторов). Это и неверно, и несправедливо: белорус сохранил себя в хитросплетениях истории. И получилось это как раз благодаря тому, что "низовой" – он же основной – слой идентификации оставался непоколебимым. Срабатывала спасительная тактика "быў ён хіцёр, але прыкідваўса дурням". "Хицёр" – на низовом уровне, а "прыкідваўса дурням" – на верхнем. Методом адаптации к установлениям "сверху" служила личина послушания, а повседневная адаптация человека к "грамаде" оставалась все тот же: трудовой кодекс, "гаворка", один и тот же распорядок будней и праздников, максима "як усе", единые гендерные и этнические стереотипы и т.д. Произошел ли ментальный слом, когда к власти пришли "советы"? И почему белорусы в большинстве своем приняли советскую власть без сопротивления? На мой взгляд, основных факторов два. Первый, объективный, известен: он связан с тем, что народ, который живет в условиях часто сменяющейся государственности (и всего, что с ней связано – официального языка, конфессии, культурных установок и т.д.) приобретает своего рода иммунитет против подобных перемен. Там, где этнос, не ведавший их, давно уже распался и/ или ассимилировался бы, народ, имевший этот опыт, способен выстоять, самосохраниться с помощью обращения к бытовым практикам, фольклору, акцентированию повседневных различий с народами-контактерами. Второй, субъективный – в том, что призывы коммунистов (равенство, социальная справедливость, земля как экономический и символический капитал, протест против господ и т.д.) во многом отвечали ценностям крестьян, и не только белорусских. А их, крестьян, в тогдашней "России" было большинство: напомню, что и через девять лет 377 после революции сельское население СССР составляло большую часть "советского народа" (горожанами были только 18%). И хоть большинство всегда "безмолвно", оно обладает особыми мыслительными и поведенческими тактиками, которые постепенно проникают и в "высший слой" этничности. Так было и в СССР: "верхи" – кнутом ли, пряником ли – влияли на народ, но и народ тихо, подспудно – самим своим поведением – изменял установки "верхов". Это одна из причин идеологического крушения СССР, да и вообще империй: какими бы лютыми не были попытки унификации этносов, на местах все директивы и приказы приобретали очень и очень специфический характер. Народы СССР адаптировались под требования власти, но и адаптировали их к себе, так что не стоит считать их пешками в политической игре. Потому под верхним, наносным слоем риторики и бодро улыбающихся плакатных лиц продолжали существовать эстонская невозмутимость, грузинская жизнерадостность, украинская рачительность, азиатское преклонение перед старостью… То же было и с белорусами. Что помогло белорусам не только пережить раскулачивание и репрессии, не только выстоять в войне, но вписаться в структуры нового государства? Накопленный за предыдущие века "золотой запас" адаптивных техник и средств, из которых почти все оказались пригодными в условиях СССР: и "должное место", и "косвенный путь", и умение изменять ситуацию снизу, исподтишка, под личиной выполнения приказа и многое другое. Что при этом дало возможность остаться белорусами? Давняя привычка создавать "малый анклав" в условиях государства: когда-то таким анклавом в чужеродной среде была собственная деревня, в СССР – собственная республика. Вспомним: герой одного из очерков, белорусский интеллигент – при всей его "советскости" – "своей землей" называет только Беларусь. Даже когда он оторван от малой родины, он несет ее в себе: очерчивает жизненное пространство ее нуждами; населяет его почти исключительно белорусами; сравнивает "наших" (т.е. белорусских) людей с русскими, "наши" деревни – с их "деревнями", "наше Слуцко-Копыльское государство" – с нелюбимой Москвой; постоянно мечтает о возвращении на "свою землю". Это не мешает "верхнему регистру" его адаптации: на этом уровне он – искренне советский человек, лояльный декларируемым идеалам (равенство, отсутствие панского гнета, всеобщее образование, интернационализм, труд и мн. др.). Таким образом сама этничность приобретает раздвоенный характер: ее первый пласт сформировался в детстве, в крестьянском окружении и потому имел традиционный "повседневностный" оттенок, но второй – возник ввиду государства и автономии (пусть даже и фиктивной) в этом государстве. 378 Так что следует говорить не о том, что белорус был самым "советским" человеком, а о том, что советские декларации на этом раннем этапе "пути к социализму" казались не только декларациями и не столько советскими, сколько "народными". Пусть не государство, но во всяком случае "равноправная" республика (тогда в возможность реальной автономии в СССР еще верилось); пусть власть "Центра", но не произвол панов; пусть "советизация", но ведь и "белоруссизация", которая в течение первого послереволюционного десятилетия ощущалась реально; пусть "советские труженики", но не "дурные мужики". Вероятно, на первых порах действовало и ближайшее сравнение – с Западной Беларусью, отошедшей к Польше, где "к началу 30-х гг. белорусский язык был переведен на польский алфавит, 300 национальных школ были переведены на польский язык обучения, социал-демократическая "Грамада" разогнана полицией, а ее лидеры арестованы; многократно закрывались белорусские газеты регулярно закрывались белорусские газеты; преследованиям подвергались также православная церковь, культурные и общественные объединения. Белорусские патриоты приводили эти факты как доказательство угнетения и конфликта с польским государством" [153, с. 114]. Итак, как казалось тогда, ценности "низового регистра" впервые были спроецированы на "верховные ценности". Создавалось впечатление, что речь и впрямь идет о исполнении вековечной мечты традиционного белоруса, о воцарении светлого идеала – причем, не в далеком будущем, а в реальной жизни. И хотя уже в тридцатых годах ХХ в. стало ясно, что идеал вовсе не идеален, в 40-х включился новый фактор, продливший сравнительно "мирные" отношения белорусского и советского. Война одновременно мобилизовала и "советскость", и этничность (и недаром слово "наши" в письмах В. включало оба этих контекста). Более того, война пробудила надежды на то, что после нее репрессии и отдельных людей, и целых культур прекратятся. (Это верно не только для белорусов: о такой надежде и даже уверенности свидетельствуют воспоминания многих и многих мемуаристов). Когда же выяснилось, что надежды не оправдались, вновь стали использоваться нажитые за долгие столетия техники "вторичной адаптации" – должное место, окольный путь, привычные "лазейки" для ускользания от требований начальства, номенклатуры, "органов" и т.д. При этом ряд белорусских традиционных ценностей и декларируемых советским партаппаратом идеалов по-прежнему пересекались: равенства, "братства народов" и т.д. Отличие ценности труда, состояло лишь в том, что на уровне государства они играли роль приманок и посулов, а на уровне человека воспринимались как истинные ценности. Сыграли свою роль и "привычка" к бедствиям, и уверенность в 379 том, что от добра добра не ищут, и сравнительно небольшие требования к материальному достатку… Но все эти установки белоруса были выработаны не в СССР, а задолго до него. Сохранились ли они теперь? Во многом – да, но даже то, что сохранилось, изменило характер, поскольку изменился контекст жизни белорусов. И впрямь, можно ли сказать, что современные белорусы основывают свою жизнь на ценности "должного места", превыше всего ставят труд на земле и не хотят учиться или работать за границей? Точно так же более нельзя – во всяком случае, без сильных натяжек – говорить о крестьянском компоненте в менталитете белорусов. Нынешняя этничность не является однородно-локальной (как в традиционном обществе) или "раздвоенной", сочетающей верхний и нижний регистры (как в СССР). Скорее, можно говорить об индивидуальных и групповых типах этничности, отчасти пересекающихся, отчасти резко опровергающих друг друга. Современная этничность состоит из напластования самых разных представлений и обретает жизнь в большом числе отличных друг от друга мнений. Причина – на поверхности: этничность уже не передается из "рук в руки", как было в традиционном обществе, и не "надиктовывается сверху", как в СССР; она формируется разными, порой взаимоисключающими информационными потоками. Механизмы трансляции этничности: исторические трансформации. В прошлые столетия ребенок узнавал о том, что он – белорус ("тутэйшы") в процессе обиходной жизни, в противопоставлениях "мы – паны", "мы – евреи", "мы – татары", "мы – горожане" и т.д. "Среднестатистический" ребенок советских лет по преимуществу узнавал об этом из школьных учебников ("Белорусская советская социалистическая республика" и т.п.), из радиоточек, с "голубых экранов" ("партизанские сыны", "Брестская крепость", "Беловежская Пуща", "Часы остановились в полночь", Ольга Корбут, "Песняры" и т.д.). Образы страны и народа, которые получались в итоге, не противоречили друг другу, несмотря на свою однобокость. Частные противопоставления и сопоставления (например, по принципу этнической принадлежности) в некоторой мере затушевывались общеполитическими: "как и весь советский народ" и так называемый "соцлагерь", официально белорусы противопоставлялись только "миру капитала". Этничность строилась и формально – по принципу "национальности" в пятой графе паспорта. Впрочем, во все времена (особенно в кон. 70-х-80-е годы) были те, чья этничность формировалась сложнее и разнообразнее: здесь уж возникали другие дискурсы – белорусской литературы (наибольшую роль в нем сыграли М. Богданович, В. Быков и – особенно – В. Короткевич); белорусского искусства; истории; интереса к традиционной культуре, к памятникам старины и т.д. Но это все же касалось не всех, а в 380 большей мере – детей из интеллигентных семей или молодежи, учащейся на гуманитарных специальностях (историки, филологи и т.д.). Человек, рожденный в конце 80-х – начале 90-х, узнавал о том, что он белорус, из разных источников, и потому его знания о собственной этничности редко бывали согласованными. Так, в 90-е годы ХХ в. учебники и официальная идеология в очень и очень многом противоречили друг другу: был период, когда устаревшие советские учебники мусолили доктрину "древнерусской народности" и "партизанского народа", а в вузах и в прессе пропогандировались литвинская и кривичская идеи. Потом ситуация перевернулась: новые учебники не соответствовали официальному дискурсу уже с обратным знаком. Затем учебники были приведены в соответствие с идеологией, но появился интернет, где за полчаса можно прочитать несколько крадинально различных версий белорусской истории, культуры и государственности. Да и теле- и радиовлияний тоже "не задушишь, не убьешь", как гласила забытая ныне песня. Современный белорус – тот, кто "выбирает кока-колу", покупает "прішпільны мабільны", ест чипсы "Лэйс", смотрит Евровидение… И тот, кто читает белорусскую поэзию, ходит на выставки белорусской живописи, ездит на фестивали белорусской музыки… И тот, кто отдыхает на Браславах или в Турции, на каникулы ездит в деревню к бабушке, трудится волонтером на реставрации белорусских замков, или летает в Европу. Словом, все смешалось в доме белорусском, как, впрочем, и в других "национальных домах". Осталось ли что-то прежним? Белорусская этничность: наследие и современность. Обратим внимание: интернет-блоггеры называют в числе черт белорусского "национального характера" те, что хорошо знакомы нам и по социально-бытовым сказкам, и по письмам советского интеллигента. Да, подчас меняется отношение к ним (вспомним хотя бы, как противоречиво ныне оцениваются традиционно понимаемая "тутэйшасць", толерантность, "тихость" и т.д.), но сами эти характеристики признаются основными в менталитете белоруса. Вспомним и об ощущении города и всей страны как компактного уютного мира – в противовес России и в частности Москве: "родны кут" ценится несравненно больше, чем огромное пространство, таящее в себе много возможностей, но и много опасностей… Вспомним и механизмы вторичной адаптации к инновациям: согласно кивнуть, для вида выполнить, а потом позабыть о них… Что это как не окольный путь? Остались в целости и сохранности и "сказочные" ценности, и – более того – их иерархия, о чем свидетельствует недавнее социологическое исследование НАН, о котором я писала в одном из очерков. Все это на подспудном, "низовом" уровне 381 роднит сегодняшнего и традиционного белорусов. Словом, опорные точки, за которые "белорусскость" удерживалась в истории, действуют по сей день. Значит, все тот же тихий, безропотный белорус? Тот же, да нет тот. Во-первых, белорусы никогда не были так безропотны, как это может представиться со стороны. Вспомним, как менялось в истории понятие "должного места": в мирное время – одно, в военное – другое; со своими – одно, с чужими – другое. Человек, который в обыденной жизни держался замкнуто и "аутично", в сложной ситуации оказывался активным и предприимчивым агентом действия. Возникала угроза – и люди, еще вчера разбредавшиеся по своим "норам", самоорганизовывались по принципу "талакi" – порой несколько человек, порой несколько тысяч. Так что белорусы – народ "с сюрпризом". И вовсе не исключено, что в острой ситуации (например, при реальной угрозе утраты независимости) тихий белорус утратит свою "тихость". Но это произойдет только тогда, когда привычные навыки "вторичной адаптации" перестанут действовать: пока ситуация не становится радикальной, эти навыки функционируют, и белорусы склонны экономить усилия. Во-вторых, к традиционным ценностям "низового регистра" прибавляются инновативные ценности "высшего регистра" – например, ценность независимости (об этом свидетельствуют не только материлы соцопросов, но и "человеческие документы" в интернете). Нельзя сказать, чтобы смычка ценностей проходила бескровно: и в самом деле просто ли совместить национальный флегматизм с идеей независимости; здравый смысл и конкретность мышления – с идеалом демократии (а ведь демократия по самой своей сути является идеалом, к которому можно лишь более или менее приблизиться, но не "овладеть" ей вполне); установку на "невыпячивание" – с необходимостью ярких талантливых людей, которые смогли бы быть символическими "лицами Беларуси" в мировом культурном контексте… Так что проблемы есть. Но была ли хоть одна нация, которая возникла одноразово и беспроблемно – под крики ораторов и согласный рокот толпы? Нация – это длинный, подчас многосотлетний путь на котором встречаются и виражи, и обвалы, и открытия. Словом, нация – это путь к нации. На пути к нации, или Семь соблазнов нациостроительства. В начале книги я выделила семь парадоксов этничности. Случайно ли основных соблазнов нациостроительства тоже семь? Или правы нумерологи, и эта таинственная цифра и впрямь что-то значит? Основные соблазны, подстерегающие белорусов на современном этапе, вовсе не уникальны – напротив, универсальны. В разные времена их испытывают разные этносы. 382 Первый можно назвать соблазном "закрытой двери". На начальном этапе белорусской независимости эта тенденция была отнюдь не редкой: из публицистики она шагнула в умы и сердца многих и многих и в некоторых намертво застряла до сих пор. Идея проста: для того, чтобы почувствовать себя отдельной нацией, мы должны "закрыться" от сторонних влияний (особенно от российского) и вырабатывать собственные формы жизни. Почему этот красивый и по виду логичный путь оказался неконструктивным? Потому что такие самосохранительные тактики продуктивны не для современной нации, а для традиционного этноса: нация не может развиваться из себя самой. Тем более, в век торжества масс-медиа, когда попытки "замкнуться", существовать "для себя" и "внутри себя" бесполезны: ныне мир охвачен процессом укрупнения социальных организмов (и не случайно речь все реже идет об этносах, а чаще – о цивилизациях как конгломератах различных наций). Безусловно, для того, чтобы нация не "рассыпалась", необходимо некоторое число разделяемых людьми ценностей, но сегодня они, скорее, имеют большее отношение к общему гражданству, чем к "уникальной крови и почве". Второй соблазн – однородность "национально-гражданского тела". В отличие от традиционной этничности современное гражданство "говорит" разными языками: я не имею в виду отношения между белорусским и русским, да и вообще не язык как таковой. Речь о культурных языках. Несмотря на то, что титульный этнос – белорусы – составляет 80% населения, существуют еще 20% белорусских граждан. Мы знаем о существовании диаспор, но не видим их, кроме как на уровне концертных номеров в редких "отчетных" концертах. Существуют еврейская, армянская, литовская, польская, мусульманская и др. общины, которые в очень и очень многом варятся в своем соку. Более того, мы не культивируем своеобразия регионов Беларуси: т.е. мы "в курсе", что культура и менталитет Гродненещины отличается от Минщины, но все наши знания – что называется, "вприкидку" и "вприглядку". И это – в эпоху мультикультурализма, когда в мире наряду с укрупнением социальных организмов (живой пример – Евросоюз) культивируется самобытность регионов: Прованс имеет свою "изюминку", Бретань – "свою", Эльзас отличается от Корсики и т.д. Мир национальной культуры должен быть разнообразным, и это разнообразие должно не затушевываться, а поощряться. Третий соблазн – отождествление белорусского с белорусскоязычным. Хочется напомнить слова одного из блоггеров: "Беларусы, у дадзеным кантэксьце, УСЕ жыхары Беларусі, краіны, у якой яны жывуць, працуюць і плоцяць падаткі, служаць у войску, спажываюць nolens volens культурныя, інфармацыйныя й прапагандысцкія прадукты. І тут самае істотнае – Вашае адчуваньне сябе гражданином "именно этой страны"! [34]. Речь должна идти о том, как повысить культурный "рейтинг" белорусского языка, но не 383 разбрасываться достижениями, которые создаются в современной Беларуси на русском языке. В конце концов Борщевский писал по-польски, а Гусовский – на латыни. Четвертый соблазн – отождествление "белорусскости" лишь с одной ее гранью (или с одним периодом) – язычеством или христианством; "литвинством" или, напротив, "крестьянской нацией" и т.д. О каком историческом пути страны можно говорить, если, ничтоже сумняшеся, отбрасывать этапы ее прошлого? Чаще всего такие попытки связаны с желанием "запихнуть" путь Беларуси в некую умозрительную схему нации: по этой логике исторический путь нации должен строиться последовательно, активно и уж ни в коем случае не должен включать длительных периодов смуты и "летаргии", а сама она должна быть господствующей среди народов-контактеров – если не политически, так, по крайней мере, культурно. Часто такие попытки предпринимаются из самых добрых побуждений (например, с целью поднять самосознание белорусов на более высокий уровень), но куда ведет дорога, мощеная "благими намерениями" – известно. Каждый отторгнутый нами сегмент прошлого приводит к тому, что мы забываем о своих ошибках, а потому вновь и вновь наступаем на те же грабли. И хотя я не склонна проводить параллели между жизненным путем человека и судьбой народа, метафора напрашивается сама собой: человек формируется не воспеванием собственных достоинств, но и – в гораздо большей мере – умением осмыслить свои недостатки. Нация формируется не сознанием собственной безупречности, а осмыслением разных, в том числе печальных, страниц прошлого. А для этого надо, как минимум, признать, что они были. Пятый соблазн двусторонен. С одной стороны, он заключается в распространенном представлении, что истинным народом являются только "простые люди", которые считаются автоматически близкими "к корням". На этом во многом строится риторика газет и социальной рекламы. Вспомним, как безуспешно одна из женщин-блоггеров искала образ молодой интеллигентной белоруски на билбордах. Однако с другой стороны, нередко убеждение в том, что истинный народ – это "я" и "такие, как я", но никак не население деревень и окраин, которое жаждет лишь "чарки и шкварки". Так подчас позиционируют себя "продвинутые" интеллектуалы. Обе эти тенденции – по сути романтические: первая связана с идеализацией "пейзан", вторая – с идеализацией героя, превосходящего косную массу. И обе они в равной степени непродуктивны, поскольку строятся на противопоставлении "элита – масса". Можно сказать более: они деструктивны, т.к. дробят культуру и нацию на противостоящие сегменты. Остается лишь согласиться со словами одного из блоггеров: "Полюби свой народ таким, каков он есть! При этом обязательно нужно помнить, что НАРОД – это не 384 какая-то узкая социальная прослойка, к которой ты принадлежишь, а все, все, все люди, которые так же, как и ты, считают эту землю своей Родиной. Вот, собственно, и весь секрет" [38]. Шестой соблазн – тяготение к прошлому, восприятие Беларуси в архаических тонах – объясняется распространенной точкой зрения: дескать, нация вырастает из этноса, словно колос из зерна, и в ее прошлом (т.е. традиции) заложено ее будущее. Разумеется, прошлое – точка отсчета (впрочем, далеко не единственная) для будущего. Вопрос в том, как использовать образ прошлого. Ностальгически – в контексте древнего величия этноса? Осуждающе – как причину "недостатков" этноса и культуры? Для сведения счетов с народами-"обидчиками"? А может быть, как возможность для анализа традиционных ценностей, мотивов поведения, моделей действия и того, каким образом возможно встроить их в прект современности? Как, скажем, в нынешних обстоятельствах можно задействовать привычные модели "должного места" и "окольного пути"? Как можно использовать в настоящем тактику "клеточной эволюции"? Как сделать конструктивным "путь доброй мысли", коль уж именно он традиционно задает особый тип действий? На этом пути неизбежны потери некоторых традиционных установлений: например, тех адаптивных тактик, которые столетиями служили средством самосохранения человека и общности, но ныне оборачиваются своей противоположностью – конформизмом и "тутэйшым" принципом "моя хата с краю". Все-таки нация – в первую очередь, гражданское общество, а это предполагает личный вклад человека… С этим связана необходимость преодоления еще одного традиционного соблазна – "соблазна невыпячивания". И хотя образ белоруса-крестьянина, ставший предметом одного из очерков этой книги, по-человечески чрезвычайно симпатичен – в том числе, своей тихой мудростью и деликатностью, он имеет и другую сторону медали. Вспомним, как один из блоггеров описывает и объясняет молчание современных студентов. Как преподаватель с большим стажем, могу с ним согласиться: так и есть, молчат... То, что с одной стороны, можно воспринимать как хорошее воспитание и высокую степень социального согласия, с другой стороны – печальный симптом нивелирования личности в угоду социуму, пусть даже социум представлен лишь одной студенческой группой. Но сколько других (и далеко не только студенческих) групп основывает свое поведение на тактике "як усе"! Если этническая идентичность может столетиями держаться на норме "тихости", то для национальной идентичности "молчаливого согласия" недостаточно. Развитие нации основано не на "согласии однородного", а на взаимодополнении разного. 385 И тревожно, если активность человека выражается в виртуальном мире, а в реальности господствует та же традиционная максима "як усе". Но ситуация еще более сложна. Напомню: культура нации во многом определяется государственной составляющей – законом, национальными ритуалами, унифицированным образованием, "печатным капитализмом" и т.д. Это очень мощные орудия, обеспечивающие согласие в обществе, а значит – и необходимую (а порой и излишнюю) меру его однородности. А если "снизу" к ней еще и добавляется традиционное кредо "як усе", тоже порождающее однородность… Тогда выходит, что культура регламентируется с двух сторон: как "сверху" – путем государственных установлений, так и "снизу" – благодаря "обрывкам" традиционного мировоззрения. И важнее здесь не внешний, а внутренний цензор, который благодаря установке на "невыпячивание" пресекает особенное, недюжинное и – как знать, возможно, лучшее из того, что может создать человек. Отсюда – следствие: нередко яркие личности оттесняются (а то и оттесняют себя сами) в маргинальное пространство культуры. Страх "меня не поймут" вновь и вновь порождает традиционную модель действия – реализовываться в привычной "малой группе", где десяток или сотня знакомых – реально и виртуально – оценивает созданный человеком текст культуры. Словом, одна из насущных задач современной культуры – научиться ценить "не такое" и не таких, "як усе", не ожидая, когда их признают "в чужом отечестве", как случилось с философом В. Степиным, певицей М. Гулегиной, танцором И. Васильевым и многими другими, о которых сейчас мы с гордостью, но и горечью говорим: они начинали в Беларуси… Как я уже писала, эти соблазны свойственны далеко не только белорусам. Но хочется верить, что именно белорусы смогут их преодолеть. Как? Путем упорной и последовательной работы над собой. С помощью здравого смысла, самоиронии и спокойной мудрости. Благодаря неагрессивному отношению к миру и людям. Именно в такой системе координат живет, мыслит и чувствует исторический белорус. Так что нам – не привыкать. 386 Список цитируемых источников 1. Federowski М. Lud bialoruski na Rusi Litewskiej [микроформа]: materyaly do etnografii slowianskiej zgromadzone w latach 1877-1893 / przez Michala Federowskiego. – W Krakowie: Wydawnictwo Komisii antropologicznej Akademii umiejetnisci w Krakowie, 1902. 2. Giddens, A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. – Stanford: Stanford University Press, 1991. – 264 р. 3. http://111290.livejournal.com/80186.html 4. http://4erep-axx-xa.livejournal.com/4867.html 5. http://adamovitch.livejournal.com/47397.html 6. http://agafon-bel.livejournal.com/219725.html 7. http://agafon-bel.livejournal.com/267113.html?thread=2147945 8. http://agafon-bel.livejournal.com/268884.html 9. http://alxandra.livejournal.com/8011.html 10. http://amberss.livejournal.com/61516.html?thread=280396 11. http://andersch.livejournal.com/46341.html 12. http://animintervent.livejournal.com/7591.html 13. http://anna403.livejournal.com/5340.html 14. http://ant1killer.livejournal.com/19701.html 15. http://a-paradeigma.livejournal.com/159992.html 16. http://atorin.livejournal.com/633959.html?thread=12562279 17. http://beatleofdoom.livejournal.com/537406.html. 18. http://belavolec.livejournal.com/7323.html 19. http://belplay.blogspot.com/2007/09/blog-post_1211.html 20. http://bert-s.livejournal.com/52650.html 21. http://bialkevicz.livejournal.com/569.html 22. http://b-ignat.livejournal.com/2461.html 23. http://bitcom2007.narod.ru/internet.htm 24. http://bl8dy-r8ts.livejournal.com/39661.html 25. http://blogs.mail.ru/mail/kryciuka/7FBE7EBE2789AAB6.html 2008-07-22 26. http://blogs.privet.ru/user/triss_815/44874426 27. http://bp21.livejournal.com/24695.html 28. http://bullochka.livejournal.com/220513.html 387 29. http://bullochka.livejournal.com/250198.html 30. http://bytmojet.livejournal.com/24473.html 31. http://cannemara.livejournal.com/1224.html 32. http://cannemara.livejournal.com/1224.html 33. http://cassandra-reve.livejournal.com/17625.html?thread=142297 34. http://chareuski.livejournal.com/24934.html 35. http://community.livejournal.com/by_politics/789619.html?thread=9119091 36. http://community.livejournal.com/by_vybary2006/262617.html 37. http://community.livejournal.com/empire_su/42568.html 38. http://community.livejournal.com/idea_by 39. http://community.livejournal.com/lithuaniae2009/436.html 40. http://community.livejournal.com/minsk_by/2162522.html?thread=28402010 41. http://community.livejournal.com/ru_korni/12602.html 42. http://community.livejournal.com/traveltobelarus/2397.html 43. http://community.livejournal.com/traveltobelarus/9453.html 44. http://czalex.livejournal.com/654434.html 45. http://darkwren.livejournal.com/451393.html 46. http://d-brusnikina.livejournal.com/32760.html 47. http://denissko.livejournal.com/8595.html 48. http://diim-avgust.livejournal.com/4344.html 49. http://donjeune.livejournal.com/148422.html 50. http://endoweverylast.livejournal.com/9027.html 51. http://f-f.livejournal.com/29096.html?thread=470696 52. http://f-f.livejournal.com/69828.html?thread=1072580 53. http://fiumicina.livejournal.com/29393 54. http://fluky.blog.ru/77628515.html 55. http://forumbelarus.livejournal.com/5141.html 56. http://franz-josef.livejournal.com/163993.html 57. http://frontier18.livejournal.com/125399.html?thread=1117399 58. http://fuck-medwed.livejournal.com/6690.html 59. http://galkovsky.livejournal.com/125584.html?thread=19763856 60. http://gorliwy-litwin.livejournal.com/301045.html?thread=1947125 61. http://gorliwy-litwin.livejournal.com/302029.html?thread=1957069 62. http://gorliwy-litwin.livejournal.com/54211.html 63. http://gorliwy-litwin.livejournal.com/8064.html 388 64. http://gorliwy-litwin.livejournal.com/82412.html 65. http://guralyuk.livejournal.com/641207.html 66. http://head-of-babulka.livejournal.com/78817.html 67. http://hysterical-girl.livejournal.com/37581.html 68. http://ingvar-z.livejournal.com/33013.html. 69. http://iuzhyk.livejournal.com/23388.html 70. http://juras14.livejournal.com/287185.html 71. http://juras14.livejournal.com/319312.html 72. http://justandrei.livejournal.com/1748.html 73. http://kapitan-smallet.livejournal.com/3473.html 74. http://kapitan-smallet.livejournal.com/819.html 75. http://k-atamanchik.livejournal.com/177717.html?thread=625717. 76. http://katen04ek.livejournal.com/6923.html 77. http://kostas14.livejournal.com/70532.html 78. http://kruchenij-shelk.livejournal.com/ 14029.html 79. http://kurt-bielarus.livejournal.com/554349.html?thread=4191341 80. http://kurt-bielarus.livejournal.com/561862.html?thread=4283590 81. http://lohava-admina.livejournal.com/7073.html?thread=46753 82. http://lora-nov.livejournal.com/56599.html 83. http://love-chinese.livejournal.com/6705.html 84. http://marcinkiewicz.livejournal.com/18511.html 85. http://metaclass.livejournal.com/172611.html 86. http://m-panin.livejournal.com/69681.html 87. http://new-ur-all.livejournal.com/206024.html 88. http://nicolaev.livejournal.com/567074.html. 89. http://nikotin.livejournal.com/143127.html 90. http://palaszuk.livejournal.com/64905.html 91. http://palitekanom.livejournal.com/114159.html 92. http://papa-bo.livejournal.com/273694.html 93. http://paranamar.livejournal.com/5827.html 94. http://plaschinsky.livejournal.com/26222.html 95. http://plaschinsky.livejournal.com/65689.html 96. http://poplavok-a.livejournal.com/12072.html 97. http://poplavok-a.livejournal.com/7332.html. 98. http://praz-vochy.livejournal.com/86008.html?thread=252920 389 99. http://printhecity.livejournal.com/687.html 100. http://puszczanski-pan.livejournal.com/2133.html 101. http://rasstriga.livejournal.com/20845.html?thread=428397.html. 102. http://redlockrex2.livejournal.com/27184.html 103. http://rukar.livejournal.com/31860.html 104. http://sb-1.livejournal.com/4542.html. 105. http://sestry-fromm.livejournal.com/84873.html 106. http://sestry-fromm.livejournal.com/86047.html 107. http://skepsys.livejournal.com/32945.html 108. http://slaw-alena.livejournal.com/43738.html 109. http://soldier888.livejournal.com/1196.html 110. http://stas-rz.livejournal.com/2582.html 111. http://tazinka.livejournal.com/41230.html 112. http://theusz.livejournal.com/7984.html 113. http://true-hans.livejournal.com/25314.html 114. http://ul-sciapan.livejournal.com/223584.html 115. http://urjaby.livejournal.com/58129.html 116. http://users.livejournal.com/maryjka_/263829.html 117. http://users.livejournal.com/maryjka_/386003.html 118. http://utro-vecher.livejournal.com/542883.html 119. http://valcool.livejournal.com/72301.html 120. http://valieva.livejournal.com/19924.html 121. http://vladimir-minsk.livejournal.com/18615.html 122. http://volodymir-k.livejournal.com/427950.html 123. http://vovidza.livejournal.com/6667.html 124. http://wal-de-maar.livejournal.com/49966.html. 125. http://warkus.livejournal.com/38219.html 126. http://wessnoff.livejournal.com/562.html 127. http://whiteruthenian.livejournal.com/19719.html 128. http://www.diary.ru/~navigatio/p45543375.htm 129. http://www.liveinternet.ru/users/wwp/post54439404/ 130. http://www.tusovka.lt/viewtopic.php?p=565109#565109 131. http://yan16.livejournal.com/2351.html 132. http://zmagarka.livejournal.com/77112.html?thread=440120 390 133. TUT.BY [Электронный ресурс]. – 2002-2009. – Режим доступа: http:// forums.tut.by/showflat.php?Board=istetno&Number=3220277&page=6&view=collapsed&sb= 5&o=&fpart=all&vc=1 2008-07-14 134. TUT.BY [Электронный ресурс]. – 2002-2009. – Режим доступа: http://forums.tut.by/showflat.php?Board=articles&Number=6059400&Forum=All_Forums&W ords=%E1%E5%EB%EE%F0%F3%F1%F1%EA%E8%E9%20%EC%E5%ED%F2%E0%EB %E8%F2%E5%F2&Match=And&Searchpage=0&Limit=25&Old=&Main=6057828&Search= true#Post6059400. – Дата доступа: 14.07.2008 135. TUT.BY [Электронный ресурс]. – 2002-2009. – Режим доступа: http://forums.tut.by/showflat.php?Board=socleader&Number=6048687&Forum=All_Forums& Words=%ED%E0%F6%E8%EE%ED%E0%EB%FC%ED%E0%FF%20%E8%E4%E5%FF& Match=And&Searchpage=0&Limit=25&Old=&Main=1965937&Search=true#Post6048687. – Дата доступа: 11.07.2008 136. TUT.BY [Электронный ресурс]. – 2002-2009. – Режим доступа: http://forums.tut.by/showflat.php?Board=istetno&Number=4617469&page=5&view=collapsed &sb=5&o=&fpart=2&vc=1&ccache=d2c69178dd9802ddd8f200aba497c66d. – Дата доступа: 14.07.2008 137. TUT.BY [Электронный ресурс]. – 2002-2009. – Режим доступа: http://forums.tut.by/showflat.php?Board=istetno&Number=6089072&page=0&view=collapsed &sb=5&o=&fpart=&ccache=cd3972438882d65225b0d51f3030365b 138. Wyslouch F. Na sciezkach Polesia. Londyn 1976. – 312 с. 139. Адорно Т.В. Психоанализ антисемитизма / Т.В. Адорно, М. Хоркхаймер // Психология национальной нетерпимости; ред. и сост. Ю.В. Чернявской. – Минск, 1998. – С. 114-174. 140. Анталогія беларускага народнага анекдота і жарта, Мінск: Ураджай, 2001. 141. Апокрифы Древней Руси [Текст]: тексты и исслед. – М. : Наука, 1997. – (Общественная мысль: исследования и публикации). – 443 с. 142. Аргументы и факты. – № 16. – 20 апреля 2005. 143. Багдановiч Максiм. Выбранае. – Мiнск: Мастацкая лiтаратура, 1977. – 189 с. 144. Беларускі фальклор: жанры, віды, паэтыка // К.П.Кабашнікаў, А.С.Фядосік, А.В.Цітавец.– Кн.4. – Мінск: Беларуская навука, 2002. – 517 с. 145. Беларусь – наша зямля [Электронный ресурс]. – 2006. – Режим доступа: http://nashaziamlia.org/2008/03/27/1280. – Дата доступа: 01.08.2008 146. Белова О. Евреи и славяне. Народная магия в регионах этнокультурных контактов: http://www.ruthenia.ru/folklore/belova1.htm. 391 147. Белова О. Чужие среди своих. Славянский образ "инородца" // Родина. –2001. – январь-февраль. – С. 166-170 148. Белорусы / Отв. ред. Бондарчик В.К., Григорьева Р.А., Пилипенко М.Ф. – М.: Наука, 1998. – (Народы и культуры). – 503 с. 149. Богданович А. Мои воспоминания // Неман. –1984. – № 5. 150. Быкаў В. Доўгая дарога дадому. Мн.: Кніга. – 2003. – 544 с. 151. Бядуля Змітрок. Жыды на Беларусі: http://www.portalus.ru/modules/belarus/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1164807483 &archive=&start_from=&ucat=8&category=8 152. Вежбицкая Анна. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 288 с.– (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия). 153. Гапова Елена. Между войнами: женский вопрос и национальные проекты в Советской Белоруссии и Западной Беларуси // Гендерные истории Восточной Европы. Сб. научных статей. – Мн.: ЕГУ, 2002. – С. 100-123. 154. Гарэцкi М. Гiсторыя беларускае лiтаратуры. –Мiнск: Мастацкая лiтаратура, 1992. – 479 с. 155. Грушевский М. С. Велика, Мала І Біла Русь. – Український світ. – 1992. – №1. – С.16-17. 156. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: АСТ, Астрель, 2005. – 512 с. 157. Довнар-Запольский М. В. История Белоруссии. – 2 изд. – Мн.: Беларусь: 2005. – 680 с. 158. Дубянецкi С.Ф., Дубянецкi Э.С. Цяжкi щлях да адраджэння. – Брест. Изд-во С. Лаврова, 1997. – 89 с. 159. Живописная Россия: Отечество наше в его зем., ист., плем., экон. и быт. значении/ Литовское и Белорусское Полесье / Репринт. воспроизведение издания 1882 года. – Минск: Беларуская энцыклапедыя, 1993. – 550 с. 160. Зайончковская Ж.А. Влияние демографических факторов на региональные особенности расселения // География населения в условиях научно-технической революции. М., "Наука", 1988. – с. 312. 161. Зайцев В.М. Социально-сословный состав участников восстания 1863 г. (Опыт статистического анализа). – М.: Наука, 1973. – с. 168. 162. Замовы / Уклад. Г.А.Барташэвіч. – Мн.: БНТ, 1992. 163. Зиммель Г. Человек как враг: http://www.musa.narod.ru/zimm1.htm. 164. История имперских отношений: беларусы и русские, 1772-1991 гг. /сост. и науч. ред. А. Е. Тараса. – Минск: А. Н. Вараксин, 2008. – 608 с. 392 165. Казкі ў сучасных запісах / Склад. К.П.Кабашнікаў і Г.А.Барташэвіч. – Мн.: Навука і тэхніка, 1989. –662 с. 166. Карскі, Я. Беларусы. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2001. – 640 с. 167. Киштымов А.Л. Издательское дело Белоруссии на выставках печати конца XIX - начала XX в. // Менталитет восточных славян: история, современность, перспективы: Материалы международ. науч. конф. (27-28 окт. 1999 г., г. Гомель) / Под ред. к.с.н., доц. В.В.Кириенко. – Гомель, ГГТУ им. П.О.Сухого, 1999. – С. 146-149. 168. Ковкель И.И., Ярмусик Э.С. История Беларуси: с древнейших времён до нашего времени. – Минск: АВЕРСЭВ, 2008. – 621 с. 169. Козлова, Н.Н. Социально-историческая антропология. – М.: Ключ-С, 1998. – 192 с. 170. Колас Якуб. Выбраныя вершы. – Мiнск: Мастацкая лiтаратура, 1980. – 240 с. 171. Купала Янка. Выбранае. – Мiнск: Мастацкая лiтаратура, 1980. – 224 с. 172. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. – М.: Издательская группа "Прогресс", 2001. – 440 с. 173. Легенды і паданні / склад. М.Я. Грынблат, А.І. Гурскі. – 2 выд., дап. і дапрац. – Мінск: Беларуская навука, 2005. – 552 с. – (Беларуская народная творчасць). 174. Липпман, Уолтер. Общественное мнение. – М.: Институт Фонда "Общественное мнение", 2004. – 384 с. 175. Лотман Ю.М. "Изгой" и "изгойничество" как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского времени ("Свое" и "Чужое" в истории русской культуры" / Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский // История и типология русской культуры. – СПб: Искусство-СПб, 2002. – с. 222-232. 176. Лурье С.В. Историческая этнология. – М.: Аспект-пресс, 1998. – 446 с. 177. Лыч Л., Навiцкi У. Гiсторыя культуры Беларусi. – Мiнск: НКФ "Экаперспектыва", 1996. – 453 с. 178. Монтанер К.А. Культура и поведение элит в Латинской Америке // Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. – М.: Московская школа политических исследований, 2002. – С. 94-106 179. Носевич В. Белорусы: становление этноса и "национальная идея": http://vn.belinter.net/vkl/17.html 180. Пачынальнiкi. З гiсторыка-лiтаратурных матэрыялаў XIX ст. / Укладальнiк Г.В.Кiсялеў. – Рэд. В.В.Барысенка, А.I. Мальдзiс. – Мiнск: Навука i тэхнiка, 1997. – 544 с. 393 181. Пивоварчик С. Этноконфессиональные стереотипы в поликультурном регионе (по материалам историко-этнологического изучения местечек Белорусского Понеманья) // Свой или чужой: евреи и славяне глазами друг друга: сб. статей. – М., 2003. С. 361–375. 182. Поппер К. Нищета историцизма. М.: Прогресс, 1993. – 185 с. 183. Потебня А. А. Этимологические заметки // Живая старина. – Вып. 3.– СПб, 1891. 184. Романов Е. Р. Белорусский сборник: в 3 т./ Е.Р. Романов. – Витебск: Типо-лит. Г.А. Малкина, 1887. – Вып. 3. Сказки. – 444 с. 185. Сагановiч Г. Невядомая вайна 1654-1667. – Мiнск, 1995. – С.12-43 186. Саракавiк I.А. Беларусазнаўства. – Мiнск: Веды, 1998. – 284 с. 187. Сарнов Б. Наш советский новояз. – М.: Эксмо, 2005. – 768 с. 188. Сацыяльна-бытавыя казкі / склад. і аўт. ўступ А.С. Фядосіка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1976. – 520 с. 189. Сержпутоўскi А. К. Казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета. – Мiнск: Унiверсiтэцкае, 2000. – 270 с. 190. Сержпутоўскi А. К. Прымхi i забабоны беларусаў-палешукоў. – Мiнск: Унiверсiтэцкае, 1998. – 301 с. 191. Сержпутоўскі А. К. Казкі і апавяданні беларусаў-палешукоў. – Мiнск: Унiверсiтэцкае, 1999. – 291 с. 192. Смалянчук Алесь. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864—люты 1917. – СПб.: Неўскі прасцяг, 2004. – 406 с. 193. Смит Э. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма. – М.: Праксис, 2004. – 464 с. – (Новая наука политики). 194. Соловьев В. Русская идея: http://www.vehi.net/soloviev/russianidea.html. 195. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. – 543с. – (Мыслители ХХ века). 196. Степанов, Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: опыт исследования. – М.: Школа "Языки русской культуры", 1997. – 824 с. 197. Улашчык, М. Была такая вёска // Выбранае. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2001. – с. 21–127 198. Улашчык, М. Хроніка // Выбранае. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2001. – с. 253 – 476. 199. Флоря Б. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху http://litopys.org.ua/vzaimo/vz02.htm средневековья – раннего нового времени: 394 200. Хантингтон, С. Кто мы? – М.: ООО "Издательство ACT": ООО "Транзиткнига", 2004. – 635 с. – (Philosophy). 201. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. – СПб.: Алетейя, 1998. – 305 с. 202. Хрох М. От национальных движений к полностью сформировавшейся нации: процесс строительства наций в Европе // Нации и национализм. – М.: Праксис, 2002. – С. 121-145. 203. Чернявская Ю.В. Белорус: штрихи к автопортрету (Этнический самообраз белоруса в сказках). – Минск: Четыре четверти, 2006. – 244 стр. 204. Шейн П.В. Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях, сказках, легендах и т. п. СПб., 1898. – Т. 1, вып. 1 205. Шейн П.В. Крепостное право в народных песнях // Русская старіна. СПб., 1886. № 3. 206. Шейн П.В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо- Западного края: в 3 т.; собр. и привед. в порядок П.В.Шейном. – СПб.: Тип. Имп. Акад. Наук, 1983. – 715 с.; Т. 2.