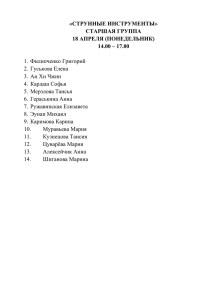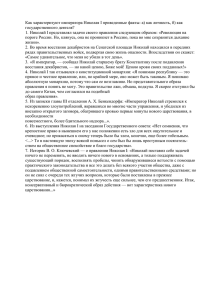елена поддубская
advertisement
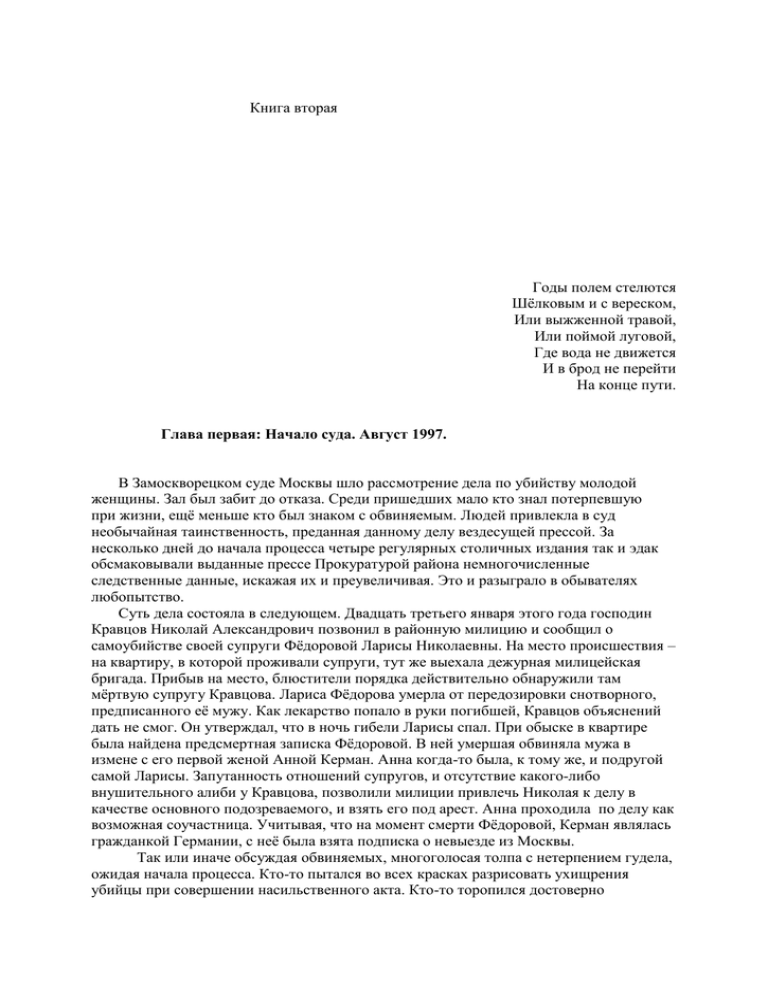
Книга вторая Годы полем стелются Шёлковым и с вереском, Или выжженной травой, Или поймой луговой, Где вода не движется И в брод не перейти На конце пути. Глава первая: Начало суда. Август 1997. В Замоскворецком суде Москвы шло рассмотрение дела по убийству молодой женщины. Зал был забит до отказа. Среди пришедших мало кто знал потерпевшую при жизни, ещё меньше кто был знаком с обвиняемым. Людей привлекла в суд необычайная таинственность, преданная данному делу вездесущей прессой. За несколько дней до начала процесса четыре регулярных столичных издания так и эдак обсмаковывали выданные прессе Прокуратурой района немногочисленные следственные данные, искажая их и преувеличивая. Это и разыграло в обывателях любопытство. Суть дела состояла в следующем. Двадцать третьего января этого года господин Кравцов Николай Александрович позвонил в районную милицию и сообщил о самоубийстве своей супруги Фёдоровой Ларисы Николаевны. На место происшествия – на квартиру, в которой проживали супруги, тут же выехала дежурная милицейская бригада. Прибыв на место, блюстители порядка действительно обнаружили там мёртвую супругу Кравцова. Лариса Фёдорова умерла от передозировки снотворного, предписанного её мужу. Как лекарство попало в руки погибшей, Кравцов объяснений дать не смог. Он утверждал, что в ночь гибели Ларисы спал. При обыске в квартире была найдена предсмертная записка Фёдоровой. В ней умершая обвиняла мужа в измене с его первой женой Анной Керман. Анна когда-то была, к тому же, и подругой самой Ларисы. Запутанность отношений супругов, и отсутствие какого-либо внушительного алиби у Кравцова, позволили милиции привлечь Николая к делу в качестве основного подозреваемого, и взять его под арест. Анна проходила по делу как возможная соучастница. Учитывая, что на момент смерти Фёдоровой, Керман являлась гражданкой Германии, с неё была взята подписка о невыезде из Москвы. Так или иначе обсуждая обвиняемых, многоголосая толпа с нетерпением гудела, ожидая начала процесса. Кто-то пытался во всех красках разрисовать ухищрения убийцы при совершении насильственного акта. Кто-то торопился достоверно 2 определить причины, побудившие Кравцова на преступление. Впрочем, цель убийства казалась для многих очевидной: сговор давних любовников и захват ими жилплощади убитой. Для Москвы подобная бытовуха была совсем не редкостью. Соревнуясь в мастерстве коробить чуткие сердца предположениями о вероломной хитрости обвиняемого, газетные статьи наперебой привлекали внимание. Образ подозреваемого убийцы был сформирован лихими, с точки зрения морали, фразами пишущей братии так, что для читателя Кравцов представлял собой детину огромного роста, с обольстительной внешностью. Характер его соответствовал, по всем критериям, человеку скупому во всех проявлениях: от слов и чувств, до материальных ценностей. «Сообщница» Кравцова, Анна Керман, тоже не была обойдена вниманием. Её образу придали краски матёрой чужестранки-развратницы, не способной ни на жалость, ни на сочувствие. Подобные характеристики, предосудительные в подтексте, определенно подогревали народ.Тем не менее, появление подозреваемых было встречено неровным ропотом. Первая реакция толпы явно не походила по эмоциональному проявлению на то молчаливое негодование, с каким зал должен был бы встретить настоящих убийц. Основным обвиняемым оказался молодой мужчина тридцати трёх лет. Он был действительно высокого роста и приятной наружности, лишенной, впрочем, как угрожающего вида, так и следов каких бы то ни было затаённых коварств. Оказавшись перед публикой, введённый растерянно заморгал глазами и, щурясь от близорукости, стал всматриваться в зал. Его смуглое лицо, выбритое на скулах до синевы и прозрачное из-за тонкости кожи, было идеально чистым. Разливаясь по всему лицу ровным матовым тоном, цвет лица резко контрастировал с тёмными, почти черными, усами, придававшими этому человеку определённый шарм. Такими же тёмными были и волосы Кравцова. Коротко постриженые, они лежали аккуратной причёской в силу их природной пышности и покладистости одновременно. Красивые тёмные глаза, ярко подчёркнутые контуром коротких, но пышных ресниц, смотрели на людей с неловкостью и выражали непонимание ситуации, в какой оказался их хозяин. Фигура обвиняемого, казалось, складывалась пополам не столько из-за его высокого роста, сколько из-за наложенного на него обвинения. Мускулистые руки с длинными пальцами и тонкими изящными суставами, такие, как у художника-творителя, при данных обстоятельствах тяжело свисали по бокам. Не находя себе покоя, руки норовили то залезть в карманы штанов, то опереться на деревянную планку судебного барьера, за которым мужчина стоял. Одет подсудимый был скромно: в серую тенниску с коротким рукавом и светло-голубые брюки. На ногах, несмотря на жару, были светлоголубые, в тон к брюкам, носки и туфли тонкой светлой кожи, удивительно чистые, особенно, если учитывать, что этот человек уже более шести месяцев находился под стражей. Подобная опрятность тоже вызвала положительную оторопь в зале. Вплоть до того, что какая-то солидная дама при детальном осмотре личности обвиняемого не замедлила поставить под сомнение лояльность правосудия. Выставляя подсудимого мальчиком для битья, она выразила также несколько нелестных слов и в адрес прессы. Но, встав на защиту обвиняемого столь поспешно, дама тут же прикусила язычок. Все заметили, как потеплел и утвердился взгляд Николая при появлении в зале суда его предполагаемой соучастницы. Последней оказалась молодая брюнетка того же возраста, что и обвиняемый, невысокого роста и прекрасно выраженных форм. Лицо Анны Керман было отмечено не красотой, а, скорее, ухоженностью и благородством. А изящество, с каким она несла на себе вовсе незамысловатое летнее платье, подкупало. Войдя в зал, Анна с порога нашла глазами подозреваемого и глубоко выдохнула, будто успокоилась. Целиком растворясь в направленных на неё темных глазах, она села на отведённое место и так и 3 оставалась там, безучастная к происходящему в зале. – Встать! Суд идет! – объявила привычным голосом секретарь суда, вслед за чем процесс пошел обычным путём. Присяжные, в числе двадцать человек, сидели за отдельной стойкой. Об их участии в открытом процессе ходатайствовала защитная сторона. Рассматриваемое дело не представляло для больших знатоков юриспруденции никакого профессионального интереса. Вкратце выслушав государственного обвинителя, большая их половина практически предугадывала как течение процесса, так и ту меру наказания, что получит обвиняемый. То, что преступление является делом рук мужа убитой, казалось очевидным. Адвокат потерпевшей стороны Георгий Михайлович Соев созерцал суд размеренным взглядом и был настолько спокоен, что в момент, когда судья стал зачитывать результаты обыска, проведённого на месте преступления, Соев принялся оглядывать своего оппонента – Евгения Петровича Рябова. Взгляд Соева был летучим, ненавязчивым. Вместе с тем, в нём явно проскальзывало снисхождение, что означало только одно – полную уверенность. В момент, когда по просьбе судьи со скамьи подсудимых поднялся подозреваемый Кравцов, адвокат обвинения ни напрягся, пытаясь по привычке вникнуть в суть его объяснений, ни даже просто обострил внимание. Он словно и не старался искать в оправдательной речи Кравцова какую-либо сомнительную деталь. Для Соева всё дело было представлено как на ладони, и ещё вчера разложено по полочкам. Знал адвокат потерпевшей и о том, какой интерес испытывают к данному процессу районные власти. Главный депутат Замоскворецкого района в последнее время участил свои требования осведомлять избирателей о выдвинутых наказаниях. Не далее как вчера, один из помощников прокурора района, встретивший Соева в здании суда, почти открытым текстом заверил адвоката в том, что этот процесс станет показательным, а для Михаила Михайловича юбилейным по количеству выигрышей. Заручившись столь веской информацией, Соев, по ходу слушания дела, заносил в рабочий блокнот некоторые заявления говорящего скорее по привычке, нежели от усердия. Он заранее предвкушал весь блеск своей обвинительной речи, изобилующей достаточным количеством вопросов, способных заставить смутиться и не таких, как этот Кравцов. У самого же обвиняемого, едва лишь судья произнес его фамилию и зачитал вслух выдвигаемое обвинение, к робости взгляда добавились чрезмерная сухость во рту. Это играло не в его пользу. Встав перед судьей и присяжными заседателями, Николай Кравцов почувствовал тошноту. Никакие советы адвоката Рябова быть спокойным не действовали. Поднявшись перед барьером, Николай понял, что его детская слабость тушеваться перед публикой, может стать для него на этот раз губительной. Он понял это и попытался взять себя в руки: опёрся на барьер перед собой и тяжело оглядел незнакомую ему в своем большинстве человеческую массу, ожидавшую объяснений. Кем были эти люди, и откуда взялось у них право на осуждение, Николай не понимал. Это мешало «сосредоточиться на чёткой и доступной констатации фактов», как учил Рябов. Настраиваясь на объяснение, Кравцов несколько раз шумно вдохнул-выдохнул прежде, чем начал рассказ. Повествование заставляло мужчину попутно зрительно переживать случившееся. Двадцать второго января этого года он, Николай Кравцов, уроженец деревни Серебрянка Калужской области, проживавший ныне в Москве по известному суду адресу с супругой Ларисой Фёдоровой, пришёл домой около десяти часов вечера. Вообще-то, рабочий день в их риэлтерской фирме заканчивался в шесть, но не для начальства. Начальство состояло из Ларисы Фёдоровой - основного учредителя и коммерческого директора в одном лице, технического директора Николая Кравцова, 4 архитектора Сальцова, инженера по строительству коммуникаций жилых помещений Дедяевой и бухгалтера фирмы Киряковой. В тот день всё руководство, за исключением Фёдоровой, осталось на работе сверх рабочего времени для обсуждения одного из проектов. Лариса Фёдорова, будучи накануне больной, в этот день на работу не явилась вообще. Кроме разговоров о предстоящем проекте, речь на собрании шла также о введении в штат фирмы очередного сотрудника – специалиста по дизайну и оформлению интерьера. Единственным кандидатом на открываемое вакантное место была гражданка Керман Анна Борисовна. По заявлению всех опрошенных вышеуказанных сотрудников, кандидатура Керман была выдвинута на рассмотрение сначала Николаем, а затем одобрена Фёдоровой. Остальные сотрудники решение хозяйки поддержали без сомнений. Анна Керман имела достаточное образование и все требуемые компетенции для работы на фирме. С первых же минут Керман завоевала общую симпатию. Она говорила про актуальность тенденций в разработке дизайна, была в курсе возрастающих требований клиентов. Чисто внешне женщина произвела на сотрудников фирмы также благоприятное впечатление. О том, что она являлась бывшей женой их шефа никто не злоязычил. Все знали, что отношения Анны с Николаем оставались нормальными и после развода. По словам Ларисы, они никак не влияли на семейную жизнь начальницы: Фёдорова не только не ревновала бывшую жену к своему настоящему мужу, но и даже не упускала возможности повсюду заявлять о том, что доверяет порядочности Анны. Двадцать второго января после собрания, закончившегося около девяти часов вечера, Николай завез бывшую жену в гостиницу «Россия». Анна проживала там за счёт фирмы. В ресторане гостиницы Кравцов наскоро выпил с Анной по фужеру шампанского, поздравив бывшую супругу с удачным трудоустройством. После этого он оставил Анну ужинать одну и поехал домой к супруге настоящей. Перед прощанием Кравцов пригласил Анну назавтра к ним на ужин. Лариса о приглашении не знала, но, будучи заранее уверенным, что она одобрит его, Николай сделал его совершенно спокойно. Также спокойно он рассказал о приглашении дома по возвращении. К его невероятному удивлению, Лариса восприняла новость о предстоящем приходе Анны более, чем бурно. Впрочем, вернувшись домой Николай сразу заметил, что жена пьяна в стельку. Не в силах выносить Ларису в подобном состоянии, Николай нашёл временное убежище в ванной. Он пообещал жене оставаться там до утра, если она не успокоит расшатавшиеся нервы. Минут через пятнадцать, приняв душ и убедившись, что в квартире тихо, Кравцов вышел из ванной. Сначала мужчине показалось, что жены дома нет; настолько поразительной была тишина. Пройдя на кухню, Николай открыл холодильник и принялся искать что-нибудь съестное. В последнее время Лариса почти не готовила. К тому же, особенно в последнее время, она нередко позволяла себе употребление спиртного. Это настораживало Николая; начав пить, Лариса не ограничивалась одним стаканом. Пила она всё подряд: и виски, и шампанское, и вино, и водку... Всё это заранее покупалось якобы для нежданных гостей, но в домашнем баре не застаивалось. Не найдя в холодильнике ничего приготовленного и на этот раз, Николай наскоро сделал бутерброд, вскипятил воду и заварил ею суп из пакетика. У него с детства были слабые желудок и печень. Ожидая, пока суп настоится, Кравцов вышел на балкон покурить. И вот здесь-то онемел: по всей длине одной из продольных стенок их крохотного застеклённого балкона в ряд стояли пустые бутылки. То, что выпитое было не вчерашней давности, Кравцов знал наверняка. Не далее как сегодня утром, перед уходом на работу, он собственноручно спустил в мусоропровод всю пустую тару, накопившуюся в доме за несколько последних дней. Ужаснувшись, Николай насчитал 5 восемь пол-литровых бутылок из-под пльзенского пива и две бутылки из-под вина: одну красного и вторую белого. «Ризлинг» они обычно покупали в супермаркете для тушки курицы. Отсутствие на плите приготовленного блюда доказывало, что на этот раз хозяйка нашла вину другое применение. Открытие вызвало сомнение. Сначала он подумал, что днем у Ларисы кто-то был. Как всякому честолюбивому мужчине ему в голову сразу же закрались подозрения: не является ли причиной перемен, происходящих с Ларисой, другой мужчина? Кравцов почувствовал горечь во рту и жжение в желудке. Погружённый в тяготные мысли настолько, что забыл про курево, Николай зашёл с балкона в квартиру. И вдруг из спальни до него донеслись жалкие рыдания супруги. Лариса лежала на кровати полураздетая и, уткнувшись в подушку, пьяно рыдала. На вопрос Николая о причине истерики, она усилила плач. Ничего не понимая и ещё больше подхлёстывая себя в собственных подозрениях, Николай предложил Ларисе успокоиться и пойти на кухню поговорить. Жена послушно проследовала за ним. Усевшись напротив через стол, она стала тупо смотреть, как Кравцов ужинает. На тот момент Лариса казалась спокойной, даже вялой. Она приготовилась к разговору по душам, испросив для себя последний стаканчик. Не желая обострять и без того сложную атмосферу, Николай молча отметил, как жена открыла красное вино. Он решил выпить, чтобы поддержать компанию, хотя, в принципе, вино не очень-то и любил. Супруги чокнулись бокалами. Николай отпил несколько глотков. Лариса осушила бокал одним залпом. Посидев несколько секунд молча, она принялась говорить. Вся её речь сводилась к уже высказанным до этого обвинениям в измене. Любая попытка мужа пресечь беспочвенные оскорбления сводилась к новой вспышке грубости. Николаю было невыносимо слышать подобное, почему, на очередной взвизгивающей ноте, он всё-таки прервал разговор и пошел в спальню. Там, приняв снотворное, он лег в кровать. Обиженная Фёдорова осталась на кухне и, по доносившимся звукам, скорее всего вновь налегла на спиртное. Впрочем, после принятия лекарства, Кравцов очень скоро провалился в глубокий сон. Проснулся Николай рано утром. Ларисы в кровати не было. Он встал, прошёл по квартире и увидел её спящей на кушетке в третьей комнате. Ничего подозрительного в позе Ларисы мужчина не заметил, отчего сразу же прошёл в ванную. Затем он сварил себе кофе, позавтракал и оделся, чтобы идти на работу. Перед уходом мужчина решил всё-таки разбудить жену и попросить появиться сегодня на фирме. Он понимал, что Лариса ревнует, и не хотел создавать проблем из-за бывшей супруги. Нужно было окончательно решить вопрос о трудоустройстве Анны. Сделать это, к сожалению, Кравцову не пришлось. Подойдя поближе к кушетке, он заметил неестественно жёлтый цвет лица спящей. Николай схватил жену за руку и сразу же понял, что приключилась беда.Тело было холодным. Николай бросился в зал. Там он увидел недопитую бутылку вина, бокал, наполненный наполовину, и пустую пачку от снотворного, валявшуюся около столика. Не медля, Кравцов позвонил сначала в скорую помощь, затем в милицию. Но помочь Ларисе уже никто не мог. 6 Глава вторая: Первый день суда. Версия Соева. Закончив свой рассказ, подсудимый Кравцов перевёл взгляд, отрешённо блуждающий до этого по залу, на судью и присяжных заседателей. Судя по выражениям их лиц, они верили с натяжкой. Николай достал из кармана брюк пачку с бумажными носовыми платками, утёр одним из них потное лицо и попросил у милиционера, стоявшего перед ним, воды. Пока он пил, судья предоставил слово для допроса адвокату обвиняющей стороны. Соев, уже давно и нетерпеливо ожидая этого, поднялся с места. Взяв со своего стола необходимые записи, он, энергично пружиня, пошёл в сторону барьера. Остановившись перед громадиной Кравцова и продолжительно глядя ему в глаза, миниатюрный Соев молчал до тех пор, пока не дождался, что подозреваемый опустит взгляд. Тогда, победоносно улыбнувшись режущей улыбкой, он отвернулся от него и обратился к залу: – Уважаемый суд, господа присяжные заседатели, дамы и господа! Позвольте зачитать вам следующее официальное заявление медицинской экспертизы. Судья положительно кивнул. – Заключение врача: «Употребление препарата «Барбамила», являющегося снотворным сильного действия, произошло вечером двадцать второго января сего года в промежутке времени между двадцатью двумя и двадцатью четырьмя часами. Количество препарата, присутствующее в крови умершей Фёдоровой Ларисы Николаевны, определено ноль, запятая, шестью граммами на литр. Количество лекарства, растворённое в вине в недопитой бутылке и в бокале, составляет примерно один грамм на литр. На бокале найдены отпечатки пальцев и губ потерпевшей. Помимо данного препарата, в крови погибшей обнаружен алкоголь в количестве трех граммов на литр, что соответствует состоянию повышенного опьянения.» Закончив чтение, Соев вновь повернулся к подсудимому и поправил на носу очки: – Подсудимый, что и в каком колличестве вы пили в тот вечер? Николай посмотрел на адвоката с легким непониманием. Но, заметив одобрительный кивок Рябова, понял, что отвечать необходимо. Хмыкнув горлом и набрав в лёгкие побольше воздуха, Кравцов пробасил: – Как я уже сказал, Лариса набралась ещё до моего прихода. Было заметно, что Кравцов смущен. В его речи, и до этого сбивчивой и незамысловатой, стали проскальзывать слова, употребляемые людьми деревенского происхождения. – Я спрашиваю вас не о том, что пила ваша жена, а о том, что пили лично вы, – уточнил Соев. – Лично я выпил малость больше полстакана красного вина. – Вместе с женой? – Да. – А в ресторане гостиницы, вместе с гражданкой Керман вы пили? – Ах, да, – покраснел Николай от забывчивости, – Там я тоже выпил где-то полстакана шампанского. Я ведь это уже тоже говорил. – Не больше? – Нет. Не больше. Я был за рулем. Да и пили мы символически. Анна вообще редко пьет, – Кравцов посмотрел на бывшую жену, но, из-за последующего вопроса, не смог понять её состояния. Единственное, что он уловил, была нежность, с какой Анна смотрела на него. А ещё жалость. – Значит, вы, выпив так мало, по возвращении домой не могли не заметить того, что 7 ваша жена Лариса сильно пьяна? – маленькие глазки Соева сверлили буравчиком. – Я же только что заявил, что Лариса набралась под завязку, – Кравцов не понимал к чему нужно по несколько раз переспрашивать одно и то же. Это начинало его злить. Соев, меж тем, спокойно продолжил опрос: – И вы, заметив это, как любящий муж, вместо того, чтобы позаботиться о жене и уложить её спать, предложили ей «добрать дозу»? Кравцов замотал головой: – Нет, пить я не хотел. Но Лариса устроила истерику, а потом попросила выпить с ней. – И вы выпили? – Соев хитро щурился. Николай беспомощно выдохнул: – Да. – Сколько? – Полстакана, не больше. – А Лариса? – не отставал следователь. – Столько же. Она была недовольна, что я ей мало налил. Я же уже всё это говорил, – голос Кравцова был на грани срыва. Соев улыбнулся, словно именно этого и ждал. – Да-да, – поспешно согласился он, – Тогда скажите нам сколько вина оставалось в бутылке в тот момент, когда вы ушли из кухни в спальню? Кравцов помедлил, соображая: – Я не уверен, что смогу вам точно сказать сколько. – Пожав плечами, он посмотрел на судью. – Скажите приблизительно, – попросил судья. Отчего-то ему было жаль мужчину, оказавшегося в столь странной ситуации. Но чувства могли быть причиной предвзятости. Поэтому судья говорил сухии и по-деловому. Николаю он, все же, придал уверенности: – Наверное.., больше половины бутылки, – произнёс обвиняемый медленно и закончил, – потому, что Лариса тоже выпила свои полстакана. – Вы хотите сказать полбокала? – грубо поправил Соев. Кравцов, сбившись с мыслей, кивнул: – Полбокала. – А вы? – И я полстакана, то есть полбокала, – стушевался Николай не столько от замечаний адвоката, сколько от собственного косноязычия. – Значит, в момент, когда вы ушли из кухни, на столе должно было оставаться где-то около пол-литра? – быстро подытожил Соев. Кравцов пожал плечами: – Да, где-то так. Дождавшись занесения ответа подозреваемого в протокол опроса, Соев обратился к присяжным заседателям: – Уважаемые господа, не сочтите меня за зануду или буквоеда. Данный вопрос может иметь в последующем очень важное значение. Тем более, что у следствия есть всего лишь одна версия, и другой услышать не от кого. Вполне может быть, что на деле всё было вовсе не так, как только что рассказал нам господин Кравцов. Может быть, после того, как Лариса Фёдорова призналась, что знает о любовной связи своего мужа с Анной Керман, господин Кравцов, понимая, что это грозит ему разводом, решил покончить с ней? – Чего? О какой любовной связи? – Николай нервно закусил зубами край усов с одной стороны. Адвокат Рябов резко встал с места с обращением: – Это провокация, ваша честь! Я приношу протест. 8 – Протест принят, – тут же согласился судья, – Господин обвинитель, потрудитесь оперировать конкретными фактами, а не собственными предположениями. С тем, чтобы не навязывать ваше мнение суду. Соев покорно сложил ладони: – Хорошо, ваша честь. Он знал, что его предположение способно определённо воздействовать на решение присяжных даже несмотря на то, что судья попросил оставить его без внимания. Так уж устроен человек, и Соев, как хороший психолог, знал, что память ярче удерживает то, что подверглось сомнению. К тому же, подобный трюк нередко использовался его коллегами именно для привлечения внимания присяжных к той или иной детали в обвинении. Вот почему теперь, влив в уши слушателей свою мысль, Соев принялся развивать её, тонко маскируя при допросе: – У меня несколько вопросов к обвиняемому. Скажите, господин Кравцов, лекарство «Барбамил», которое послужило орудием смерти гражданки Фёдоровой, было предписано вам врачом? – Да. Моим психотерапевтом, – за время перепалки между судьёй и Соевым Николай успокоился и отвечал конкретно, не вдаваясь в лишние детали. Так, как учил Рябов. – Когда и почему? – Я – технический директор. Это всё время напряжение. Приходится много работать с компьютером, создавать новые проекты. Осенью прошлого года, я понял, что не могу нормально спать. Снились кошмары. Я просыпался уставший, с головной болью. И потом целый день был вялый, – отвечая на новый вопрос, Николаю наконец-то удалось взять себя в руки и сосредоточиться, – У одного из моих коллег было такое же. Он посоветовал мне сходить к психотерапевту. Я пошёл. Врач сказал, что это – умственное переутомление. Нужно лечить. Иначе может быть истощение нервной системы. Было заметно, насколько тяжело дается обвиняемому припоминать умные слова, способные придать солидности и ему самому, и его речи. После каждого ответа Кравцов поспешно вытирал лоб платком, который теребил в руках. Заметив это, Соев ухмыльнулся и что-то мимолетом занёс в свою тетрадку-блокнот. – И что же: ваш врач назначил вам столь сильное лекарство вот так сразу? – Въедчивый голос Соева таил непонятную тревогу. – Нет, – припомнил Кравцов, – Он дал мне сначала «Люминал». Но у меня печень не очень, а « Люминал» при болезнях печени не советуют. И потом, он помогал мне не всегда. Поэтому, через несколько недель я снова пошел к врачу и попросил что-то другое. Тогда он выписал мне «Барбамил». Соев выразил откровенное удивление, опять артистично и тонко, для публики: – И вы, будучи сильным аллергиком на целый перечень наименований, от пыльцы злаковых до шоколада и клубники, согласились вот так запросто принимать препарат, вызывающий сильную зависимость и даже, при высоких дозах, наркотическое действие? Николая эта деталь не впечатлила: – А что мне оставалось делать? – мужчина посмотрел на присяжных, – От «Люминала» я был сонным и раздражительным. Я сказал это врачу. Он посоветовал поменять снотворное. Соев выслушал объяснение Кравцова с таким видом, словно заранее знал его, и стал методично опрашивать дальше: – Скажите, господин Кравцов, данное лекарство вы принимали ежедневно? – Первые два месяца ежедневно. Потом – по мере необходимости. – А в каких дозах? 9 – По одной или по две таблетки. Это зависело от формы выпуска. – Уточните про формы выпуска, пожалуйста, – глаза Соева заблестели, как у вора при виде золота. Кравцов пожал плечом: – Пожалуйста. Есть пачки по шесть таблеток по ноль одному грамму, есть по ноль два грамма. – Пачка, найденная в квартире Фёдоровой в день её смерти, была расфасовкой в ноль, запятая, два грамма? – Да. – А в предписании врача рекомендовано лекарство меньшей концентрации. – Я знаю. Но в аптеке такого не было. Мне предложили или купить по ноль два грамма, или прийти в другой раз. Я взял то, что было. – И при этом вам объяснили, что вместо одной таблетки теперь нужно пить только половину, а вместо двух таблеток – одну? Кравцов кивнул. – А вы знали, что большая доза этого лекарства способна вызвать летальный исход? – последние слова были произнесены адвокатом Соевым с акцентом на них. Николай пожал теперь уже двумя плечами: – Так... это... даже витамины могут быть ядом, если тонну съесть. Разве не так? – Кравцов вновь посмотрел на присяжных, ища поддержки. Соев встал перед подозреваемым, загораживая пространство, насколько это было возможно, и удерживая внимание Кравцова на себе: – Так-то это так. Но данное лекарство входит в список особо опасных. Врач вам про это говорил? – Да. – А он объяснил вам как принимать лекарство? – И он. И в аптеке, – Николай успокоился совсем. Казалось, вопросы задаются только для информирования присяжных, посвящённых в суть дела поверхностно. Соев кивнул согласно и попросил: – Тогда расскажите это нам. – Если хотите. Эти таблетки нужно растворять в воде. – Правда? И какой же у них вкус, запах? – Запаха – никакого. А вкус? – Кравцов замялся, – Немного горьковатый. Соев стоял совсем близко и улыбался, как хороший приятель: – Этот вкус характерный или, если таблетку растворить не в воде, а в соке или, скажем, в вине, то возможно и не почувствовать на вкус наличие препарата в напитке? Рябов вновь поднялся, заставив Кравцова снова заволноваться. – Ваша честь, – недовольно заметил адвокат, – я возражаю против того, чтобы мой подзащитный отвечал на этот вопрос. Я вижу, к чему клонит обвинение. Судья посмотрел на обоих адвокатов, видимо размышляя над их логическими заключениями, затем посмотрел на Рябова: – Протест отклонен. Подсудимый, отвечайте не вопрос! Кравцов посмотрел на судью растерянно: – Я не знаю, что ответить, Я, скорее всего, отличил бы этот вкус. – А ваша жена могла его отличить? – ухватился Соев за последнюю фразу. – Я не знаю. Думаю, что могла. – Думаете или уверены? – настаивал Соев на уточнении. – Думаю, – ответил Николай, поразмыслив. И тут Соев взвился на месте: – А я так думаю, что в том неадекватном состоянии в котором, судя по заключению медэкспертизы и вашему собственному признанию, находилась ваша жена, она вряд 10 ли смогла бы отличить вкус растворённого в вине лекарства. Тем более, что для того, чтобы убить её, нужно было растворить в бокале всего лишь то количество, что чутьчуть превышает лимит нормы разового употребления. А лимит этот, как написано в аннотации, определен всего-то одной таблеткой по ноль, запятая, два грамма лекарства. – Соев выражал свою точку зрения, возвысив голос мо максимума. По залу прошёл возмутительный ропот. Адвокат Рябов поднялся и разочарованно развел руками: – Господин судья! Если верить версии господина Соева, то, в таком случае, мой подзащитный должен был принять лекарство гораздо позже, чем его жертва. В то время как биохимическая экспертиза его крови, основанная на диссимиляции препарата, подтверждает, что Николай принял лекарство тридцатью-сорока минутами раньше своей жены. Это – алиби. Соев, выслушав оппонента, подошёл к его столу и ехидно улыбнулся ему, при этом направляя свой ответ в сторону присяжных заседателей: – Конечно, коллега, это всё так. Но ведь мы знаем, что в тот вечер Лариса Федорова была сильно пьяна и не могла следить за действиями своего мужа. Мы знаем, также, что на месте совершения убийства была обнаружена единственная пустая пачка из-под «Барбамила». – Рассуждая, как бы с самим собой, Соев принялся расхаживать по залу, глядя в пространство воздуха. – Обычно, как сказал нам до этого подозреваемый, в пачке содержится шесть таблеток. Сам Кравцов принял в тот вечер одну таблетку. А пачка, на момент обыска, была пуста. Экспертиза подтверждает, – Соев подошел к своему столу и приподнял листок, что зачитывал до этого, – что суммарная концентрация лекарства в оставшемся вине не превышает пяти таблеток «барбамила» по ноль, запятая, два грамма. По цифрам все сходится. Так, может быть, господин Кравцов сначала растворил в бутылке пять таблеток, затем выпил шестую, затем позвал жену в спальню и добился того, чтобы она оставалась там с ним до тех пор, пока он полностью не заснул? Молодому, здоровому мужчине не составило бы труда поддерживать разговор, находясь уже, фактически, в состоянии полудрёмы. Выиграв таким образом нужное ему для алиби время, Николай Кравцов вслед за этим спокойно погрузился в сон, зная, что оставляет Ларису наедине с вином и растворенным в нём лекарством. И так как Фёдорова вообще любила выпить, а в тот вечер, к тому же, была не в состоянии себя контролировать, то Кравцов был практически уверен, что после того, как он заснёт, жена продолжит выпивку. Что и случилось. Лариса действительно продолжила пить. А так как концентрация «Барбамила» в вине была убийственной, Фёдорова свалилась замертво, не успев допить. Выдвигая обвинительную версию, Соев говорил с таким спокойствием и при этом так улыбался, словно речь шла не о происшествии со смертельным исходом, а о каком-то банальном случае. Прибегая к избранной лёгкости суждения, Соев рассчитывал и на доступность своей версии для всех, слушавших её, и на очевидность предполагаемого. Рябову, более чем кому-либо, была понятна хитрость Соева. Не желая поддаваться его игре, адвокат защиты решил быть понастойчивее: – Ваша Честь! Я протестую! – повысил он голос, – Обвиняющая сторона вновь пытается навязать следствию свою версию. – Протест принят, – согласился судья, – Господа присяжные заседатели, прошу вас не принимать в счёт только что высказанное обвинителем. Обвинитель, повторно прошу вас воздержаться от предположительных высказываний подобного рода. Иначе, я отстраню вас от процесса. Продолжайте по существу. – Да, ваша честь, – согласился Соев с замечанием и резко повернулся к обвиняемому, – Скажите, господин Кравцов, пустая пачка от таблеток, найденная в вашей квартире 11 при обыске, часто оставлялась вами дома? Николай замотал головой: – Никогда. Снотворное всегда было при мне, где бы я не бывал. Даже дома, выпив лекарство на ночь, я всегда убирал упаковку обратно в свой дипломат. – Почему такая осторожность? – Я люблю порядок, – объяснил Николай, – А у Ларисы всё всегда терялось. У ей по дому то тут, то там постоянно валялись всякие лекарства: женские пилюли, от головы, от температуры. Соев согласно закивал на такое объяснение, но о милости речь не шла, поэтому он продолжил сухим голосом: – И ваша жена знала о том, где вы прячете снотворное? – Конечно знала, – для Кравцова было бы странным что-то прятать в доме. Но Соев снёс утверждение не на счёт аккуратности подозреваемого, а скорее на обычное согласие. Голос адвоката был все также бесстрастным, методичным: – И вы утверждаете, что в тот вечер, приняв снотворное, положили его обратно в ваш дипломат, а дипломат закрыли на ключ? Кравцов кивнул, не думая: – Да. Я закрыл дипломат, а ключ положил в карман пиджака. – А потом, по вашему утверждению, когда вы уже спали, ваша жена, очевидно, взяла ключ из пиджака, открыла им дипломат, достала оттуда лекарство, закрыла дипломат и положила ключ обратно в пиджак? – при каждом предположении адвокат обвинения загибал по пальцу. – Скорее всего, – Кравцов понимал что тон, каким Соев перечисляет порядок действий Ларисы, ставит под сомнение сказанное, но добавил, – А как могло быть иначе? – Как могло быть иначе, нам еще предстоит выяснить, – резко обрубил Соев, заставив Кравцова вздрогнуть. Но тут же он продолжил, уже почти мягко, – А вас я хотел бы спросить вот о чём: не кажется ли вам странным, что при экспертизе милиция не обнаружила отпечатков пальцев вашей жены на ключе вашего дипломата? Задавая вопросы, Соев имел привычку смотреть прямо в глаза опрашиваемого. Он то подходил к нему совсем близко, если вопрос мог помочь адвокату завести жертву в тупик, то отходил подальше, когда значимость ответа была промежуточной и не столь существенной. Сейчас, спрашивая про отпечатки, Соев отошел от стойки с подсудимым почти в другой конец зала суда, к барьеру, за которым находились члены присяжной комиссии, и оттуда вёл опрос, оперевшись одной рукой на барьер. Те, кто был знаком с манерой работы Соева, могли не сомневаться в том, что он предвидит ответ обвиняемого. Кравцов этой тактики Соева не знал. Тем не менее, он уже слышал от Рябова про наличие отпечатков пальцев Ларисы на его дипломате и их отсутствие на ключе. Поэтому вопрос не поставил его в затруднение. – Не кажется, – устало выдохнул Кравцов, – Я сразу же объяснил это милиционерам, которые пришли к нам. Когда я увидел около Ларисы пустую пачку от снотворного, я побежал к дипломату. Я хотел проверить осталась ли там моя, другая пачка. Я открыл дипломат ключом. Посмотрел. Пачки там не было. А отпечатки Ларисы я, наверное, замазал своими пальцами. Ключик-то маленький. – Конечно-конечно, – поспешил согласиться Соев, не желая потерять какую-то пронзившую его мысль, – Вы открыли дипломат, убедились, что лекарства там нет, и побежали звонить в милицию. Разве вы не понимали, что только что стёрли, возможно единственное доказательство собственной невиновности? – теперь Соев подошёл к Кравцову поближе, а в его голосе зазвучала издевка. Кравцов посмотрел на всех с прежней растерянностью во взгляде: 12 – В тот момент я не думал ни о каких доказательствах. Я не понимаю, чего вы от меня хотите? – взмолился он, глядя на Соева, – Ведь отпечатки пальцев Ларисы остались на ручке дипломата и на его крышке. – Да-да, конечно, – Соев вновь оставил без внимания последние слова Кравцова. Он наверняка знал об осведомлённости защиты о результатах следственных экспертиз. В его задачу, как адвоката обвинителя, не входило обнародовать эту осведомлённость, нет, его обвинение базировалось на способности уловить малейшую слабость в речи подозреваемого, позволяющую подмять его под себя. Соеву показалось, что он вдруг нащупал именно такую деталь, и он теперь собирался придать ей более значимый вид: – Скажите, господин Кравцов, а почему вы только что сказали, что поспешили открыть дипломат для того, чтобы убедиться, что ваша жена использовала именно вашу упаковку? Разве, найденная пустая пачка, была не единственной, имеющейся в квартире на момент несчастного случая? Предположение Соева было столь неожиданным, что подозреваемый растерялся. Он беспомощно посмотрел на своего адвоката, затем протяжно на бывшую жену, потянулся к стакану, отпил. Потом, отложив в сторону беспощадно истеребленный платок, вытащил из пачки новый, промокнул им лоб, после чего проговорил совершенно сухим голосом: – Найденная пустая упаковка была в доме единственной. Такие лекарства впрок не выдаются. Казалось, Кравцов был в замешательстве. Закончив фразу, он тяжело выдохнул, опустил глаза в барьер и замолчал. Это было именно то, что могло стать триумфом его, Соева, успеха, переломным моментом в следствии, идеей, которая раньше не приходила ему в голову в том виде, в каком пришла сейчас. Задохнувшись от внезапности догадки, Соев на мгновение углубился в вихрящиеся мысли, из-за чего именно на это время потерял руль управления допросом. Мига хватило для того, чтобы Рябов, считавшийся также далеко не последним профессионалом, включился в игру. Спасительный глас адвоката защиты прорвался в зал именно в тот момент, когда в нём повисло всеобщее молчание: – Господин судья, позвольте дополнить ответ моего подзащитного существенным замечанием. У меня по этому вопросу имеется справка из аптеки, в которой мой клиент покупал лекарство. В ней говориться что, я цитирую: « ... порядок отпуска препарата был осуществлен без нарушения норм предписания.» Справка датирована двадцатым января. Эта же дата стоит на очередном, обновлённом предписании психотерапевта. В нём четко указано, что отпуск лекарства должен производиться с периодичностью, не превышающей одной пачки лекарства в неделю. Иными словами, двадцатого января сего года мой подзащитный купил в аптеке только одну, одну единственную пачку «Барбамила». Рябов поднес к столу судьи имеющееся доказательство. Столь несвоевременное вступление коллеги явно не входило в планы Соева. Оценив его дедуктивные способности, адвокат потерпевшей стороны ухмыльнулся и внутренне отругал себя за преждевременную успокоенность. «Похоже, что этот процесс не поднесут мне на серебряном блюде», – подумал Соев и нахмурил лоб. Нет. Ему ещё предстоит борьба. И не исключено, что примет она острый характер. У Соева было интуитивное предчувствие на это. Что, впрочем, только лишь подстегнуло его. Теперь, уже практически зная, что за ответом обвиняемого кроется какая-то тайна, он решил дожать его морально и, подойдя совсем близко к барьеру с Кравцовым, резким голосом задал очередной вопрос: – Господин Кравцов, скажите в таком случае, когда вами была куплена предыдущая упаковка? 13 Подозреваемый растерялся: – Я не совсем уверен, но мне кажется в конце декабря. Да, точно, в конце декабря, – подтвердил он тут же, – В последнее время сон мой наладился, и я не особо нуждался в снотворном, – для убеждения Николай посмотрел на своего защитника. Тот был спокоен. Это передалось Кравцову, – Во всяком случае, если вам так необходимо, вы можете узнать это в моей аптеке, – добавил он уже совершенно безразличным тоном. Соев почувствовал это, ибо в его следующем заявлении промелькнула тень недовольства ходом допроса. Но в то же время догадка, осенившая его до этого, теперь переросла в уверенность и подсказала Соеву ту основную линию, по которой он должен был продолжать спрашивать. Именно эта линия теперь выстраивалась в его мозгу, требуя времени на формирование. У Соева этого времени было крайне мало. Он мог, конечно, отказаться сейчас от дальнейшего допроса, попросить продолжить его позже. Но это было ему не на руку. Как опытный адвокат, он знал, что всё хорошо в своё время. Позже мысль не сформируется столь удачно и нападение не будет столь неожиданным. Вот почему, на свой страх и риск, поторопился атаковать. – Я проверил: двадцать шестого декабря, – кивнул Соев на предложение подозреваемого. Достав, в свою очередь, документ, подтверждающий его слова, он тоже передал его судье. Этой лёгкой заминки хватило, чтобы его подозрение к нужной детали превратилось в веское представление картины вины, которую он и принялся вырисовывать сейчас. – В первый раз вы купили лекарство как раз тогда, когда оно было вам предписано. А именно: в начале ноября. Исходя из того, что каждая пачка содержит по шесть таблеток, а также вашего признания в том, что в течение ноября вы нуждались в приеме лекарства ежедневно, врач выписал вам предписание сроком на месяц. За это время вы, действительно, регулярно приобретали «Барбамил» в аптеке каждую неделю. А именно: до двадцать шестого декабря вы купили в аптеке четыре упаковки лекарства, дозированного по ноль одному грамму. Затем, с пятого по двадцать шестое декабря, вы лекарство не принимали. А двадцать шестого декабря снова побывали у врача и попросили предписание на одну пачку. Третьего января вы улетели в Германию и вернулись оттуда десятого января. За эту неделю, как я понимаю, вы лекарство не употребляли тоже. Если верить вашим чистосердечным признаниям, данным только что, то сон ваш улучшился? Кравцов в ответ кивнул. Соев улыбнулся: – Еще бы! Учитывая, что вы провели целую неделю с бывшей женой, да ещё в Германии... Не обращая внимания на пошлые намёки, Кравцов только сильнее сжал в руке платок, чтобы не сорваться и не нагрубить. Соев, не спровоцировав реакции, продолжил: – Итак, с третьего по двадцатое января всё у вас было хорошо. А двадцатого вдруг опять возникла необходимость в снотворном. Странно! За день до прилета в Москву вашей бывшей жены и за два дня до смерти нынешней. Что так? Угрызения совести? Излишняя нервозность? Кравцов от волнения широко раздул ноздри. Он старался не глядеть на противного адвоката: – Второе. – Допустим. Да и не это интересует меня в данном случае. Соев посмотрел на подозреваемого жестким взглядом. Зал нетерпеливо зашевелился, ожидая пояснения. – Мне кажется подозрительным, что покупка более сильного лекарства пришлась именно на период, во время которого ваша жена Лариса Фёдорова была отравлена? И сейчас мне очень хотелось бы знать: случайность ли это, как сказали 14 вы, или же преднамеренная хитрость будущего убийцы, как думаю я? Глаза Соева сузились до максимума, оставив на лице лишь две маленьких щелочки. Услышав последний вопрос, Кравцов заморгал глазами. Его адвокат буквально сорвался с места. Но, едва заметив реакцию коллеги, Соев, не давая ему даже открыть рот, тут же осадил голос и повернулся к судье: – Ваша честь, я прошу не принимать, сказанное мною, за обвинение, а всего лишь за умозаключение. Голос его звучал почти невинно. Все-таки он был очень силён, этот Соев! Услышав его просьбу, Рябов сел и беспомощно покачал головой. Не зря все адвокаты, которым уже приходилось сталкиваться с Соевым как с оппонентом, предупреждали об этом. Силен! И ничего тут не попишешь. Хоть и использует неразрешённые приемы воздействия на мнение окружающих, но как использует! И в какой момент! Рябов не мог не признать, что схематическое описание хода действия, только что предложенное Соевым на рассмотрение, а еще вернее на обсуждение, явилось для защиты ударом ниже пояса. – Ваша Честь, это очередная провокация! – отчаянно усмехнулся Рябов. – Ваша Честь, повторяю, это всего лишь умозаключение, не лишённое, как мне кажется, логического смысла, – настоял на определении Соев. – Подозреваемый, отвечайте! – кивнул судья. Николай тяжело поднялся: – Никакого злого умысла я не имел, господин судья. Как я уже сказал, я купил другие таблетки потому, что в аптеке не было «Барбамила» по ноль одному грамму. Ни о чём плохом я не думал. Объяснение Кравцова получилось спокойным, почти равнодушным. По виду молодого мужчины было заметно, что он устал. Ему надоело постоянно сосредотачиваться на въедливой речи крючковатого Соева, то и дело норовящего загнать его в угол. Гораздо больше Николаю хотелось сейчас спуститься со своего лобного места, пройти в зал и сесть на скамью рядом с Анной. Он представил, как сможет, как когда-то, склонить голову к её плечу и поведать ей обо всех своих горестях. От подобных мыслей Кравцову вдруг показалось, что он издалека чувствует травяной запах, исходящий от её волос. Подобная отчужденность обвиняемого от процесса и его возникшее безразличие скрежетом прошлись по самолюбию Соева. Адвокат понял, что внезапность наступления хороша лишь при планомерной подготовленности. Сегодня ему не удастся вот так, сразу, добиться от Кравцова капитуляции. Но, всё-таки, Соев был уверен, что только что одержал пусть маленькую, но ту самую нужную победу, которая впоследствии поможет ему выиграть процесс. Он это почти знал. Единственное, что смущало адвоката, так это столь «спокойное» возмущение Рябова. «Либо у него есть какое-то веское опровержение, либо он не желает заострять внимания на сути дела, – подумал Соев. При полной тишине и внимании зала он прошёлся по судебной площадке, погружённый в свои тайные мысли, и вновь остановился у барьера с подозреваемым. Для того, чтобы понять поведение противника, ему было необходимо копать в нескольких направлениях, – Хорошо, отложим вариант с дозировкой лекарства на потом», – решил он. Адвокат обвинения вернулся к своему столу и крупным размашистым почерком что-то написал в своём блокноте. «Вот и ладно, – принял это отступление Рябов, – Будет теперь и у нас время, чтобы собраться с мыслями.» Только что, до этого, когда Соев задал вопрос о преднамеренной хитрости, Рябов заметил в глазах Николая испуг. Ему показалось, что есть у его подзащитного какая-то 15 тайна, в которую он, его адвокат, не посвящен. Лихорадочно соображая, что делать дальше, Рябов машинально записал в своем блокноте фразу Соева о невозможности доказательства употребления Кравцовым всех предыдущих таблеток снотворного. «Надо будет потом об этом спокойно подумать», – решил Рябов, откладывая отработанные документы на угол стола. Понимая, что сегодняшний день не способен уже ничего изменить, Соев елейно улыбнулся Кравцову издалека: – Господин Кравцов, давайте на время отставим разговор о лекарствах и перейдем к более приятной теме. Расскажите как вы познакомились с вашей бывшей женой Анной Керман? Несмотря на то, что Рябов неоднократно предупреждал Николая о возможности подобного вопроса, теперь, услышав его, Кравцов болезненно сморщился и вымученно посмотрел на Анну, словно заранее испрашивая для себя извинения за вынужденное предстоящее откровение. Зал, и до этого сидевший тихо, и вовсе замолк и насторожился. Кравцов грустно посмотрел в неизменно уставленные на него карие глаза и тяжело вздохнул. Ох, как непросто было ему оправдываться перед всей этой чужеродной людской массой. Анна Керман, словно поняв его мысли, в ответ тоже вздохнула. Глава третья: Второй день суда /август 1997/. Самый разгар августовского послеобеденного жарева никак не повлияли на активность прибывших во второй день суда. Бегло осмотрев зал, адвокат Рябов подметил, что людей сегодня на процессе присутствует больше, чем их было вчера. «Пресса добилась чего хотела», – недовольно хмыкнул он про себя. Процесс действительно явно не оставался без внимания: утренние городские газеты вовсю описывали вчерашний день, ударив по имиджу Кравцова. Не вдаваясь в подробности личной жизни подозреваемого, в кучу были смешаны многие факты его биографии. В результате, на страницы вышло неблагоприятное попурри в котором Николай, бросив жену Керман, сразу женился на её подруге Фёдоровой, которая затем погибла при странных обстоятельствах. Моральные устои Кравцова определялись двумя словами: дикий эгоист. Зная, что сегодня первое слово предоставлено ему, Рябов подготовил свою речь так, чтобы прежде всего опровергнуть мнение, навязанное газетой. После открытия слушания секретарём, адвокат, не садясь, спокойно вышел на середину зала и направил взгляд к присяжным заседателям. – Уважаемые господа! После того, как вы услышали вчера откровенный и достаточно подробный рассказ моего подзащитного, позвольте мне сейчас предоставить на ваше рассмотрение ещё несколько фактов из биографии Николая Кравцова. А также несколько доказательств, свидетельствующих, по моему усмотрению, о его невиновности. Рябов начал глубоким грудным голосом, полностью соответствующим его внешности. Маленький крепыш, облачённый в натянутую на животе черную суконную рубашку, напоминающую мантию судьи, он, когда молчал, был выражением лица настолько незатейлив, что походил скорее на простого работягу у плотницкого станка, нежели на благородного представителя правосудия. Не было в нём ни смелости и решительности, присущих героям этой профессии, созданных образами кинематографии, ни хитрости и сноровки, сквозивших в каждой мимике и каждом жесте, например, его оппонента Соева. Руки Рябова, во время всего вчерашнего заседания умиротворённо сложенные на столе горкой одна на другой, и вовсе казались руками усталого сельского 16 труженика; настолько они были лопасты и грубы. Всё это, вместе с его причёской, коротко остриженной и тщательно уложенной, но то там, то здесь выбивавшейся из строгого уклада несколькими кучерявыми прядями, придавало адвокату вид недотёпы. Теперь же, когда Рябов заговорил, спокойно и внятно проговаривая каждое слово, за его речью почувствовалась уверенность, даже успокоенность. И чем больше адвокат объяснял, тем сильнее росла в слушателях именно эта убеждённость в профессиональной компетенции. Даже Соев, до сегодняшнего дня наблюдавший за Рябовым с лёгкостью и небрежностью, молчаливо закусил губу. Подперев кулаками подбородок и сосредоточившись, Соев слушал, не отвлекаясь на сей раз на собственные мысли. – Повествование Николая Кравцова о его жизни и состоянии души на момент событий, развернувшихся в деревне Серебрянке девять лет тому назад, можно расценивать двояко, – проговорил Рябов литературным текстом, – Одни, симпатизирующие ему, думаю, поверили Николаю и почувствовали в нём те самые простоту и откровенность, которые, лично для меня, являются решающими при определении характера человека. Другие, настороженные и жаждущие найти в случившейся истории всё-таки виновного, наверняка засомневались в том, не прячется ли за простотой деревенского жителя, коим по сути и является мой подзащитный, коварство и расчётливость, способные завести правосудие в тупик. Но не будем сейчас гадать о том, каких мнений: положительных или отрицательных, в этом зале больше. Уж, коль скоро, моя роль – защищать этого человека, – Рябов указал на Кравцова, смотревшего на него с полной преданностью, – я должен сообщить вам ещё кое-что, что поможет мне. А именно: вот здесь, перед вами находится подробная запись показаний, данных мне отцом Ларисы Фёдоровой, господином Николаем Александровичем Фёдоровым. По причине тяжёлой болезни, он не может в данный момент присутствовать в зале. Поэтому, я вынужден прибегнуть к его письменному заявлению. Рябов вернулся к столу и взял из рабочей папки кипу листов, отпечатанных на машинке мелким шрифтом. Показания, о которых он говорил, были предоставлены в двух экземплярах. Один из них Рябов спокойно положил на стол перед судьёй. Второй, явно проработанный, судя по многочисленным красным пометкам, видимым даже на расстоянии, взял себе. Быстро пробежав глазами по написанному и найдя то, что ему было нужно, Рябов поднял палец: – Прежде всего, я считаю необходимым ввести вас в курс нашего разговора. Затем зачту вам дословно то, что считаю важным. И, наконец, после этого сделаю несколько комментариев к зачитанному. Итак, мой разговор с господином Фёдоровым состоялся сразу после смерти его дочери. Речь шла об отношениях между Ларисой и Николаем Кравцовым в период, приходящийся на август тысяча девятьсот восемьдесят девятого года. Подчёркиваю, что господин Фёдоров, не состоящий в браке с матерью Ларисы Ольгой Антоновной Фёдоровой с тысяча девятьсот восемьдесят шестого года, искренне любил свою единственную дочь и, несмотря на развод, был достаточно близок со своей бывшей семьёй. В тысяча девятьсот восемьдесят девятом году, когда свадьба Ларисы и Николая Кравцова не состоялась, Николай Фёдоров сказал, здесь я зачитываю: «... что был не особо этому удивлён. Я даже считал, что для Ларисы это будет гораздо лучше.» На вопрос «почему», ответ был, зачитываю вновь: « ... они были разными. Очень разными. Ларисе всегда нравились ребята весёлые, шумные, такие, какой она была сама. Он же, Николай, был по натуре молчуном и домоседом; веселья и развлечения не любил и всячески препятствовал дочери ходить по компаниям и тратить деньги на удовольствия. Я сразу сказал, что он – жмот и скупердяй, и подозревал, что он Ларису не любит.» На мой вопрос: «Как вы считаете, любила ли в свою очередь Николая Лариса?», господин 17 Фёдоров ответил следующее: «Не знаю. У молодых теперь всё по-другому. В понятии дочери любовь, как чувство, уже давно изжило себя. Мы спорили, я убеждал её, что любовь существует не только в книгах. Но дочь отказывалась этому верить. Она говорила, что для нормальной жизни женщине, в её возрасте, нужны муж и семья. Она видела в Николае хорошего семьянина, считала, что он будет любить своих детей, и думала, что этого достаточно, чтобы быть в браке счастливой. А когда я просил её подождать с поспешными выводами, Лариса смеялась мне в лицо, предупреждала, что она уже приняла решение о свадьбе. Мне дико было это слышать. Я говорил ей, что сама по себе семейная жизнь не проста. А если, к тому же, её строить исключительно из прагматических соображений, то и вовсе ничего хорошего из этого не получится. Но Лариса припоминала мне мою собственную семейную жизнь, построенную на любви и всё-таки неудавшуюся. Она говорила, что Николай очень важен для неё, что она не мыслит жизни без него, но тут же учила, что замуж нужно выходить с трезвой головой.» – Это ли не расчётливость, уважаемые господа? – Рябов снова поднял палец по ходу чтения и продолжил, – «Лариса была абсолютно убеждена в том, что ей хватит и того, что Николай будет относиться к ней с уважением, должным её положения жены. Кстати, её мать, моя бывшая жена, в этом её только поддерживала. Я бы даже сказал, что это именно она внушала Ларисе весь тот цинизм, с каким наша дочь представляла себе своё семейное будущее. Я всегда чувствовал, что это закончится плохо.» На очередной вопрос «почему» господин Фёдоров ответил чётко и логично, и я прошу судей зафиксировать именно эту часть показания. Итак, Николай Фёдоров ответил: «Николай должен был догадываться о том, что он – всего лишь хорошая партия для моей дочери. Ни один человек в мире не может не понять, что он не любим. Даже если бы это произошло после свадьбы, развод был бы неизбежен.» – Рябов шумно набрал воздух в лёгкие и изрёк, завершая, – Отсюда, уважаемые господа, для меня, как человека с исключительно несовременным, даже утопическим складом, и потому верящего в любовь, понятно, что уже в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году, будучи ещё только знакомой с Николаем и собираясь выходить за него замуж тогда, Лариса Фёдорова не испытывала к своему избраннику никаких сильных чувств. И, как совершенно правильно предполагал это господин Фёдоров, однажды Николай Кравцов понял это. Понял, повстречавшись с другой. Понял и не захотел быть в роли «удачного кандидата в мужья». Адвокат Рябов замолчал, пробегая взглядом по рядам слушателей. Они переваривали услышанное каждый по-своему и каждый по-своему находили этим объяснениям нужное место в своих сердцах и умах. Соев, затаившись во время зачитывания показаний, неожиданно встал и попросил у судьи слово. Поддерживая ногтем большого пальца листок со своими пометками, он, не глядя в него, но зная наизусть то, что нужно было знать, заговорил: – Уважаемый суд и уважаемые господа присяжные заседатели! Я хотел бы задать вопрос, возникший у меня спонтанно по ходу показаний моего оппонента. Судья, с согласия Рябова, кивнул. – Я не буду обвинять моего коллегу в искусной редакторской выборке фраз, которая вылилась в своеобразный коллаж и составляет, скорее, отрицательное мнение о чувствах Ларисы. Я, имея данные показания, если бы и взялся за составление морального образа потерпевшей, то всё-таки не преминул бы заметить, что девушка не раз признавалась своему отцу, что она искренне привязана к Николаю, и что ни за что на свете не хотела бы потерять его. Эти слова, как вы слышали, тоже фигурируют в показаниях Николая Фёдорова. Но я ни в чём не обвиняю моего коллегу. В конце-концов, наша адвокатская роль и состоит в том, чтобы защищать интересы своих клиентов, выискивая слабые стороны противника. – Соев слащаво улыбнулся деланной улыбкой. Молчание Рябова на его примечание призывало продолжить 18 вторжение: – Так вот, не оправдывая Ларису, я всё-таки хотел бы спросить у суда, у вас всех: если посторонний мужчина, коим являлся в отношениях молодых отец Ларисы, смог понять, что его дочь не любит своего избранника, то почему же сам господин Кравцов, будучи со своей невестой, судя по его собственным заявлениям, не только в платонических отношениях, не дошёл до этого понимания? Как правильно заметил Николай Фёдоров, очень трудно не почувствовать, что ты – не любим. К тому же, в своём вчерашнем признании Николай Кравцов рассказывал нам о своих сомнениях по поводу чувств Ларисы. Он догадывался об этом ещё до того, как привёз Ларису в Серебрянку для знакомства со своими родными. Он, похоже, даже знал это до того, как познакомился с Анной Керман. Знал, догадывался, но, тем не менее, не отказывался от Ларисы. Почему? Почему? Да не потому ли, уважаемые господа, что и сам он хотел тогда жениться на Ларисе исключительно преследуя определённую цель, думая об определённой выгоде. И уж если до конца рисовать моральный облик двух героев нашего печального романа, то кто из них был более корыстен и скрытен: Лариса, прямо и откровенно признававшаяся отцу в своих взглядах на брак, взглядах, прямо скажем, своеобразных, но при этом искренних; или же Николай Кравцов, ничего никому не объясняющий, но тихо и верно идущий по намеченной дорожке прямо к браку, сулящему ему определённые выгоды? Так не в этой ли тихой выгоде, зарождённой в этом человеке, – Соев безжалостно ткнул пальцем в сторону Кравцова, не удостаивая его взглядом, – кроется основная разгадка событий, развернувшихся не тогда в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году, а позже, через девять лет? Событий, приведших Николая Кравцова к повторному, всё так же выгодному ему браку, а Ларису Фёдорову к смерти! Соев закончил свой вопрос патетическим крещендо. Зал, молчавший до этого, моментально загудел и зашикал. Большинство присяжных заседателей принялось чтото записывать в свои блокноты. Довольный собою, Соев отошёл к столу и сел, поглядывая с хитрецой на Рябова. Соев знал, что своим вопросом свёл на «нет» все предыдущие усилия коллеги по созданию образа его подзащитного. «Классический пример», – мысленно улыбнулся он, думая о том, как Рябов сможет выпутаться из сложившейся ситуации. Рябов кинул на коллегу уважительный взгляд: «Не зря мне говорили, что Соев – мастер внезапных мизансцен, – защитнику сиюминутно пришли на память несколько примеров из учебников по адвокатуре, связанных с рикошетной перестройкой имиджа подзащитного, – Вот так из безвинной овцы делают козла отпущения», – ухмыльнулся он. Поднимаясь и поправляя длинную рубашку, явно жавшую ему, Рябов дождался спокойствия в зале. Подойдя к столу Соева всё с тем же листом, он хмыкнул: – Конечно, дорогой оппонент, ставя вопрос таким образом, вы попадаете в десятку: Лариса Фёдорова бесчувственная, но искренняя, Николай Кравцов хитрый и безжалостный. К сожалению, практика показывает: так обыграв вопрос, редко когда можно вот так же сразу найти на него ответ. Для того, чтобы разрешить столь сложные взаимодействия, как личные отношения двух людей, необходимы факты. Позвольте же мне продолжить мою защиту, оперируя ими. Я зачитаю вам сейчас ещё один фрагмент показаний господина Фёдорова, который, на мой счёт, если не поставит точки над «и», то хотя бы наметит их. «– В каком настроении вернулась ваша дочь из Серебрянки после первого знакомства с роднёй Николая Кравцова в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году?». – Так звучал мой вопрос к Фёдорову. – Она приехала крайне возбуждённая, совершенно недовольная поездкой, ответил 19 Фёдоров, – Долго ругала деревню и уверяла меня, что никогда больше не поедет туда. Она даже плакала, упрашивая помочь устроить Кравцова работать на фирму моего знакомого. Я успокаивал её, обещал сделать всё, что в моих силах. Я даже предлагал Ларисе заняться этим тут же, срочно вызвать Кравцова из деревни. Но дочь попросила меня подождать с официальным трудоустройством до тех пор, пока Кравцов не станет её мужем.» Рябов отнял взгляд от листов и сделал мощную театральную паузу. Публика в зале затрепетала от нетерпения. Радостно поняв, что ему удаётся держаться на ораторской волне, адвокат защиты выдохнул: – Какой шантаж! Какая расчётливость: или он женится на мне, или я не буду помогать ему устраивать свою жизнь. Весьма странное проявление искренности чувств, не правда ли? Необычное доказательство доброжелательности по отношению к избраннику. Что же касается того, что Кравцов вёл долгую тактическую борьбу, ожидая помощи от Ларисы, то напомню вам вчерашний рассказ моего подзащитного. Он признался нам, что своё решение не жениться на Ларисе принял ещё до того, как Лариса уехала из деревни. Напомню также, что о работе в Москве Лариса впервые заговорила будучи уже в Серебрянке и именно тогда, когда поняла, что Николай хочет там остаться. Опять же, Лариса Фёдорова не захотела даже и слышать о том, чтобы разделить судьбу своего избранника или как-то поддержать его в своём выборе. Нет. Нет. Нет, уважаемые господа! Это совсем не то, что зовётся любовью. И никакие убеждения в том, что за подобной обеспокоенностью Ларисы за судьбу избранника скрывалось искреннее чувство, не заставят меня переменить моё мнение о ней. Я уверен, что с самого начала знакомства Фёдоровой и Кравцова, их отношения даже частично не были похожими на те, которые поглотили Николая Кравцова при встрече с Анной Керман. Это была не любовь... Рябов неожиданно оборвал свою речь и замолчал там, где никто этого не предполагал. Голос его, только что звучавший под сводами зала низко и убедительно, замер на самом полном вздохе так, словно сорвался голос у актёра, забывшего слова монолога. И от этого аудиотрёхточия, предусматриваемого вслед за собой дальнейшие самостоятельные рассуждения, сидящие в зале насторожились. Последние слова, сказанные Рябовым и так чётко запечатлённые в головах слушателей, словно до сих пор ещё звучащие, и стали тем основным мотивом, что следовало подхватить и запомнить. «Это была не любовь». И этим было сказано всё. Подписано оправдание всему тому, что последовало в жизни Кравцова потом. То, что раньше вменялось ему в вину как предательство, теперь, благодаря сказанному, предстало очевидным желанием Николая найти правду жизни, испытать настоящее чувство. И хотя ещё никто из слушателей дела, пришедших в зал, не знал о том, как именно развернулись события в жизни людей, связанных заколдованным треугольником чувств, подсознательно их симпатии перекинулись на сторону подозреваемого, превращённого теперь словами адвоката в потерпевшего. Никогда ещё Рябов не ощущал с такой силой оваций, исходящих от продолжительного молчания зала. Тихо и незаметно, так, чтобы не помешать слушателям мысленно разбираться в возникших эмоциях, адвокат защиты подошёл к своему столу и, стоя, устало сложил руки горкой на животе. Если бы не необходимость далее вести процесс и не выразительный, испепеляющий взор Соева, то в этот момент Рябов больше всего хотел бы сесть, опустить лоб на руки и вот так, оперевшись, подремать. Но сейчас он не мог расслабиться. Взяв вожжи в свои руки и натянув их в нужном направлении, адвокат Рябов позволил себе лишь несколько глубоких вздохов, внося тем самым в тело нужное ему равновесие. Только на мгновение опустив глаза и отключившись от атмосферы зала, он сосредоточился, взял со стола многочисленные 20 листы и вновь нашёл нужную ему испещрённую страницу. Взглядом получив от судьи разрешение на продолжение, Рябов заговорил снова: – Уважаемые господа, как я уже сказал вам ранее, моя защита Николая Кравцова базируется исключительно на фактах, представленных в деле. Вчера, во время предъявления обвинения, мой коллега, адвокат Соев, поставил под сомнение непричастность господина Кравцова к смерти госпожи Фёдоровой, предполагая, что это именно он растворил снотворное в вине. Как вы помните, сразу по прибытии на место происшествия, следственная бригада обнаружила в зале на столе полупустой стакан с вином. Там же стояла недопитая бутылка и лежала пустая пачка от снотворного. Вспомним, как настаивал мой коллега на уточнении количества выпитого обоими участниками событий. Именно он, именно вчера и именно как нельзя более в нужный момент проявил бдительность, выяснив, что из новой открытой бутылки Николай выпил чуть больше половины бокала. Посчитаем, что это составляет около ста пятидесяти грамм. Лариса при нём выпила один бокал, это – двести грамм. Найденная при обыске бутылка была вместимостью в семьсот пятьдесят грамм. Значит, в ней должно было оставаться примерно пятьсот грамм. А при обыске в ней было обнаружено всего около ста пятидесяти. Куда же подевались ещё триста пятьдесят? Мой подзащитный о них ничего не знает. А вместе с тем, он должен был бы про это знать. Ведь если убийца – он, то по обвинению, предъявленному коллегой Соевым, именно в это вино Николай Кравцов должен был бы бросить пять таблеток «Барбамила», а потом налить вино из бутылки в бокал. Думаю, каждый сидящий в этом зале, согласится с моими рассуждениями. Что же тогда из них вытекает? А вот что. Сегодня утром я получил официальное подтверждение работников нашей следственной лаборатории. Не желая допустить неточность при зачтении показаний, я попросил одного из сотрудников этой лаборатории, профессора Зеленцова, объяснить нам почему участие моего подзащитного Николая Кравцова должно быть исключено из подозрений. Рябов замолчал. Вытащив платок из карманов штанов, он утёрся. Возрастающая августовская жара и отсутствие кондиционера в зале мешали. «Скорее бы уже закончить», – с некоторой завистью посмотрел он на Соева. Для того, с его сухостью телосложения, духота была менее пагубна. – Попросите войти господина Зеленцова, – приказал главный судья милиционеру, охраняющему служебный вход. В зал вошёл пожилой мужчина в сером, стандартном для служащих костюме, не меняемом годами и не снимаемом даже в самую невыносимую жару. На всём внешнем виде мужчины лежал чёткий отпечаток лет, проведённых в рядах советской милиции: от выправки до причёски. Коротко представившись суду, пожилой профессор уверенно выпрямился и приготовился к опросу. Рябов, заметив эту готовность, посмотрел на него с улыбкой, способной расслабить кого угодно, но только не такого опытного работника, как профессор: – Уважаемый Пётр Семёнович, представьте нам, пожалуйста, детальное разъяснение проведённого вами анализа. Зеленцов гыкнул, проверяя работоспособность своих голосовых связок, затем заговорил: – После проведения сравнительного анализа по диссимиляции «Барбамила», работники нашей следственной лаборатории сделали следующие заключения. Я зачту, – профессор Зеленцов достал из кармана пиджака очки, надел их и зычным голосом принялся читать. «Биохимическая экспертиза недопитого вина в бутылке количеством в сто восемьдесят граммов подтверждает, что суммарное количество растворённого в нём барбитурата составляло концентрацию почти пяти таблеток по ноль, запятая, два грамма на литр. Такая же концентрация обнаружена в недопитом вине в бокале. А вот суммарная концентрация препарата, обнаруженного в крови погибшей, соответствует концентрации растворённых трёх таблеток.» – Зеленцов оторвался от листа. Глядя на 21 зал поверх толстых стёкол дальнозорким взглядом, он добавил, – И это первое несоответствие: процентное содержание «Барбамила» в крови должно было быть выше или равно процентному содержанию препарата в вине, оставшемся в бутылке. Оно же оказалось наоборот ниже. Рябов надел довольную маску: – И какой из сказанного напрашивается вывод? Профессор посмотрел на судью: – С полной уверенностью можно сказать, что распределение барбитурата в вине выпитом и вине оставленном, было неодинаковым, что доказывает то, что сонный препарат был растворён отдельными порциями. Судья кивнул, занёс пометку в рабочий лист. Секретарь заседания застенографировала сказанное. Зеленцов продолжил: – Теперь, относительно обвиняемого Кравцова. Я имею на руках анализ его крови, который не оставляет сомнений в том, что в тот вечер Николай Кравцов принял одну таблетку снотворного «Барбамил» с концентрацией в ноль, запятая, два грамма, и принял его не менее чем на полчаса раньше, чем его отравленная супруга. Длительность действия «Барбамила» до наступления состояния сна определяется максимум пятнадцатью-двадцатью минутами. Значит, в момент, когда Лариса принимала свою дозу снотворного, Николай Кравцов скорее всего уже спал или находился в пограничном состоянии, какое бывает перед погруженим в сон. Последние слова профессора прозвучали под аккомпанемент жестикуляции адвоката Рябова. Волнообразные размахивания его рук напоминали движения дирижёра и уверяли зал лишь в одном: именно об этом заявлял вчера во весь голос его подзащитный. Именно этот вывод, сделанный профессором Зеленцовым, и умело подчёркнутый сейчас восклицательными взмахами, являлся одним из основных алиби для Николая. – Пётр Семёнович, значит ли из ваших показаний, что Николай Кравцов физически никак не мог быть убийцей Ларисы Фёдоровой? – спросил Рябов у профессора, торопливо отделяя каждое последующее слово от предыдущего. Вопрос, подведённый таким образом и поставленный вовремя, казалось, должен был тут же дополнить прежние усилия адвоката и определить, наконец, невинность подозреваемого. Вынося на публику своё окончательное решение, от которого в данный момент зависела и жизнь и честь другого человека, Зеленцов сморщил лоб. Громогласным голосом служивого он чётко отрапортовал: – Господа, основываясь на данных, только что зачитанных вам, могу предположить, что Николай Кравцов, скорее всего, не мог быть тем человеком, который двадцать второго января тысяча девятьсот девяносто седьмого года отравил Ларису Фёдорову. Подполковник замолчал, давая понять, что его роль выполнена. Зал, в который уже раз за день, обожающе посмотрел на Кравцова. Сам подсудимый облегчённо вздохнул. Рябов сел на место, пояснив, что у него больше нет к свидетелю никаких вопросов. Но в тот миг, когда, казалось, всё выяснено, и больше нет сомнений в том, что Николай Кравцов – честный человек, адвокат Соев вдруг поднялся и попросил со своего места право задать профессору Зеленцову всего один вопрос. – Скажите, уважаемый коллега, – медленно и с затаённой мыслью в глазах обратился Соев к подполковнику, всё ещё стоящему у стойки показаний, – Почему сейчас, когда вы зачитывали результаты анализа крови убитой Ларисы Фёдоровой, вы сказали: «Суммарная концентрация препарата, обнаруженного в крови, равна примерно ноль, запятая, шести граммам?» Почему «примерно»? Странное слово для точного анализа, не так ли? – О, это легко объяснимо! – обрадовался Зеленцов внимательности адвоката, – Во- 22 первых, показания могут быть заниженными из-за большого количества спиртного, присутствовавшего в крови отравленной. Алкоголь, в котором был растворён барбитурат, частично меняет его химическую структуру, и особенно при попадании в организм. А так как, до приёма лекарства, гражданка Фёдорова уже была сильно пьяна, это ещё больше усложнило нам задачу: определённое количество препарата просто разрушается алкоголем и химреактивом при анализе не обнаруживается. Кроме того, вполне допустимо, что по прошествии десяти часов с момента приёма препарата, какаято незначительная часть его уже покинула кровь, осевши, например, в печени. – Какой цифрой могут определяться расхождения? – Внешне Соев не проявлял никаких признаков разочарования. Наоборот, глядя на него, можно было предположить, что он полностью удовлетворён и самим процессом, и выводами, сделанными по его ходу. Сняв очки окончательно, Зеленцов посмотрел на настырного адвоката без малейшего интереса: – Расхождения в цифрах допустимы в пределах максимум ноль один, ноль два грамма вещества. В любом случае, в данном деле суммарные показания никак не могут быть меньшими, чем они определены. Подполковник настойчиво подчеркнул сказанное, допуская, что адвокат может ошибаться в рассуждениях. Соев на это примечание лишь поблагодарил его. Убедительный вид адвоката доказывал его уверенность в правильности предположений, известных пока только одному ему. «Что он ещё там задумал?» – тревожно подумал Рябов. Ему была совершенно не по душе тайная стратегия оппонента. Отвлекая внимание зала от Соева, Рябов пошёл к столу главного судьи, чтобы отдать ему окончательное заключение медицинской экспертизы, только что прокомментированное Зеленцовым. Едва лишь он положил бумаги, как в воздух буквально взвился голос Соева. До выступления Рябова, Соев если не знал, то наверняка догадывался о том, что у защитника обвиняемого может быть справка медэксперта. Довольный самим собой за правильно вычисленные действия Рябова, Соев приготовился к очередному удушающему прыжку и поэтому, прежде чем начать говорить, ещё раз мысленно повторил свою речь. У него у самого было для суда кое-что такое, что он припас на последний момент. Пока Рябов оправдывал своего подзащитного, Соев всё время перебирал в уме с какого именно факта начать ему обвинение. Несколько последних минут он уже практически не слушал ни оппонента, ни Зеленцова, нетерпеливо дожидаясь, пока они завершат. – Господин судья! – обратился он к суду, использовав паузу в речи Рябова, – Я вынужден по-прежнему не согласиться с доводами моего коллеги. Как бы то ни было, но всё-таки факт остаётся фактом: Лариса Фёдорова погибла от лекарства, растворённого в большой дозе в остатках вина, недопитого ею. Не будем забывать, что она погибла всего от ста пятидесяти граммов вина, с растворённым в нём ядом. Не будем также забывать, что у нас нет никакого стопроцентного доказательства того, что этот яд не был заранее приготовлен всё тем же Николаем Кравцовым, а уж выпить его Лариса могла действительно тогда, когда её обожаемый муж заснул, обеспечив себе алиби. И до тех пор, пока у суда нет никаких других опровержений вины господина Кравцова, невозможно, посредством только химического анализа крови, восстановить истинный ход событий того вечера. А потому, для меня Николай Кравцов по-прежнему может оставаться подозреваемым в смерти Ларисы Фёдоровой. Соев призывал судей к вынесению приговора, основанного, в большей своей части, всё-таки на личностном восприятии представленных событий. Это было 23 опасным ходом, в результате которого присяжным заседателям было так легко допустить ошибку в суждениях. Из всех возможных вариантов принятия решения по делу обвинения Николая, адвокат Рябов больше всего опасался именно такого поворота в процессе. Он знал, что в случае, когда у потерпевшей стороны нет конкретных улик для обвинения, а у защиты чёткого алиби для оправдания, решение суда может строиться на тех самых симпатиях-антипатиях к подсудимому, о которых он говорил ранее. Понимая всё это, Рябов схватился за робкую теорию, сложившуюся накануне в его суждениях как тоненький ручеёк. Не окажись ход процесса в тупике, Рябов ни за что не стал бы выдвигать её на обсуждение. Но сейчас, при данном повороте событий, ему было просто необходимо отбеливать образ своего подзащитного, прибегая к любым способам, пусть даже и не совсем этичным по отношению к погибшей. Рябов встал напротив Соева, между ним и судьёй, и медленно заговорил, на ходу подбирая для защиты наиболее веские слова: – Господин судья! Позвольте мне подробно опровергнуть данную версию адвоката Соева, – тяжело выдохнул он, почувствовав, как никогда ранее, как сильно жмёт ему рубашка, – Да, действительно, предположение моего коллеги не лишено разумного смысла. Но всё-таки, господин судья, заявление обвинителя на может быть принято во внимание. Ибо, рассматривая поведение Ларисы Фёдоровой в период, приходящийся на момент между тем, как она начала допивать оставшееся вино, и тем, когда она заснула, мы натыкаемся на два несоответствия. Признаюсь, что я, также как и господин Соев, проработал версию, при которой Лариса Фёдорова взялась допивать оставшееся вино с уже, допустим, растворённым в нём лекарством. Я даже обратился за консультацией к психотерапевту, работающему с алкоголиками. По его мнению, человек, находящийся в сильнейшем алкогольном опьянении, обычно преследуем манией допить, или, как говорят сами алкоголики, «добить» выпивку. Тогда вполне логичным явилось бы то, что Лариса Фёдорова, ничего не зная о снотворном, растворённом в вине, пила бы спиртное так, как пила до этого. Скорее всего, она так и сделала. Тогда объяснима недостача при подсчётах в триста пятьдесят грамм, недостающих в бутылке. Итак, Лариса Фёдорова вполне могла выпить в одиночестве целый стакан вина, а затем начать другой, который не допила. Почему? Возможно напилась. Такое бывает: ну не лезет больше. Что тут поделаешь? Нам это неизвестно. Зато вполне известно, и это первое несоответствие, что эти её действия не совпадают с действиями мнимого отравителя, который, по логике вещей, должен был просто-напросто налить вино в бокал, бросить туда сразу пять таблеток и уйти спать, будучи уверенным, что Лариса сядет допивать. А он, получается, сидел рядом или следил за женой откуда-то, подсыпая таблетки разными порциями? В бутылку больше, в бокал – меньше... Даже если учитывать, что Николай Кравцов в это время пока ещё не спал, вряд ли он смог бы провести целую серию столь последовательных действий, которые, и при нормальном-то состоянии, требуют значительной концентрации и ловкости, не говоря уже о том, что мой подзащитный находился на грани впадения в сон. Лично мне подобные рассуждения кажутся совсем нелогичными и несочетающимися с заявлениями экспертов. Так что, вероятнее всего, потерпевшая продолжала свой праздник в одиночестве. Почему же тогда она всё-таки не осилила начатый бокал? Что-то насторожило её? Вряд ли. Как сказал нам до этого господин Соев, она не могла почувствовать на вкус растворённое в вине лекарство, а значит, насторожить её было нечему. Тогда возможно, что Лариса Фёдорова не допила вино из-за того, что это вовсе не входило в её планы!? – Рябов настолько заметно повысил голос, что сидящие в зале выпрямили спины и ещё больше впились в него взглядами. Пройдя несколько шагов взад-вперёд по площадка перед трибуной судьи, Рябов, словно выйдя из собственных мыслей, опять заговорил спокойным глубоким голосом. – И вот тут, господа, на мой взгляд возникает второе несоответствие, которое находится в самой формулировке событий, 24 обрисованных господином Соевым. Вспомните: Фёдорова отпила из налитого ей бокала с лекарством какую-то часть, после чего отставила бокал и заснула смертельным сном. Но! Вопервых, по заключениям всё тех же врачей, препарат «Барбамил» – это не цианистый калий, действующий мгновенно. А во-вторых, даже если сделать скидку на то, что Лариса Фёдорова отпила половину бокала уже находясь в состоянии сильного опьянения, то она могла бы свалиться, сморённая сном. Тогда она заснула бы здесь же, на кресле в зале, где пила. Её же нашли лежащей в другой комнате на кушетке в удивительно упорядоченном, привычном положении. Кроме того, рядом с кушеткой, на тумбочке, при обыске была найдена предсмертная записка, которую Лариса Фёдорова написала на удивление грамотно и связно для человека, пребывающего в сильном опьянении. Мне показалось подозрительной та точность в выражениях, с какой Лариса Фёдорова обвиняла своего мужа и его, как она пишет, любовницу, опять же, акцентирую, находясь в сильном опьянении. И тогда, господа, я догадался вот о чём. На самом деле Лариса Фёдорова скорее всего хотела только попугать своего мужа. Она догадывалась, что Николай не любит её. Догадывалась по тому желанию Кравцова помочь Анне Керман, какое он проявлял. Тогда Лариса, боясь потерять мужа, решила вызвать жалость к себе. Мы с вами уже слышали о том, как цеплялась она за Николая в первый раз, в тысяча девятьсот восемьдесят девятом году, пытаясь при помощи отца устроить его на работу. Теперь, для того, чтобы удержать Кравцова, она решила разжалобить его. Лучшим способом для этого ей показалась инсценировка отравления лекарством. Зная, что в дипломате у Николая находится снотворное, она решила выпить его. Подложив на видное место свою, якобы предсмертную записку, Лариса вытащила из дипломата упаковку с лекарством. Припоминая, что её муж обыкновенно выпивал на ночь по одной, максимум две таблетке, она в то же время не знала какого количества лекарства требуется для того, чтобы спать долго, но при этом не умертвить себя. На расфасовку таблеток потерпевшая внимания не обратила. Действуя осторожно, но наверняка, она развела в бутылке три таблетки, налила вина выпила его, думая, что это и есть то безвинное количество, какое нужно ей. После этого, отставив бокал на столик, Лариса бросила оставшиеся две таблетки снотворного опять же в бутылку, налила немного вина в бокал, а затем спокойно прошла в третью комнату, легла на кушетку и заснула. Заснула мёртвым сном. Даже не подозревая, что игра в самоубийство закончится для неё действительно летальным исходом. Рябов замолчал и, чувствуя сухость во рту, вызванную речью, поспешил к бутылке с минеральной водой. Поспешно сделав Николаю подбадривающий знак, адвокат налил в стакан воды и стал пить её. При полной тишине зала его глотки раздались, как бой курантов. Глядя на его нетерпимую жажду, судья почувствовал как и у него язык прилип к нёбу. – Объявляется перерыв на полчаса, – предложил он суду и, дождавшись пока секретарь заседания стукнул молотком по столу, поспешно вышел из зала. Глава четвёртая: Неожиданный поворот в процессе Заседание, продолженное через тридцать минут, без сомнений должно было нести характер всё той же упорядоченной борьбы между двумя адвокатами, при которой каждый старался бы дожать свою версию до конца и быть наиболее убедительным. На тот момент, когда главный судья объявил перерыв, положение Рябова являлось более надёжным, а его доводы более обоснованными. Во время перерыва Рябов объяснил своему подзащитному, что без видимых доказательств его вины суд, скорее всего, согласится на прекращении дела за отсутствием состава преступления, и на этом мучения Николая закончатся. – Потерпите, Николай, – попросил Рябов и ободряюще сжал руку Кравцова выше локтя, 25 – Осталось недолго. Я думаю, что сегодня же всё и закончится, и вас освободят. – Вы действительно так думаете? – Кравцов не верил словам адвоката. Прошло уже более полгода с тех пор, как его взяли под стражу и держали в камере предварительного заключения. Жизнь в тюрьме была не только серой и безрадостной, но и опасной. До того как попасть туда, Николай несколько раз слышал, как обращаются с заключёнными и персонал заведения, и преступные обитатели. Все эти разговоры подтвердились на практике в первые же дни, облачив перед Кравцовым грубость и человеконенавистничество как одних, так и других. И если злость и безжалостность урок и бандитов могла быть хоть как-то объяснена, то пренебрежение и неуважение работников тюрьмы: от начальников до поваров, были совершенно необъясняемыми и неприемлемыми. И всё-таки, как позже понял Николай, приспособиться к существованию за решёткой, как-то свыкнуться и примириться с окружающими жестокими, безучастными лицами можно было и при таких отношениях. Гораздо невыносимее казалось выдерживать бытовые условия заключения. Открытые публичные туалеты и души, где любой мог осматривать тебя и потешаться над твоими естественными нуждами, засаленные, испачканные испражнениями матрасы, повсеместно кишащие вшами, громоздкая, безликая столовая посуда, а вместе с ней и подаваемая безвкусная еда – всё это вместе взятое заставляло Кравцова страдать гораздо существеннее. К этому привыкнуть было нельзя. Вот почему, когда однажды Рябов спросил о том, чего ему больше всего хочется, Кравцов прямо ответил: – Спокойно посидеть на толчке при закрытой двери. – На унитазе, – мягко поправил адвокат, глядя на Николая с пониманием. Затем, заметив смущение мужчины, добавил, – Прошу вас, Николай, говорите: «посидеть на унитазе». Не надо причислять себя к тем, с кем вам приходится временно проводить свои дни. Вы – не преступник. А поэтому не уподобляйтесь прочим. – Извините. Кравцов опустил глаза и силился сдержать дёргающиеся губы. В тот день он впервые почувствовал, что ему нельзя отчаиваться. Рябов был прав: он должен был верить в удачный для себя исход дела. Он знал, что есть ещё на свете дела и люди, которые ждут его. Он понимал, что ни за что не имеет права забывать о них. И вот теперь, услышав слова Рябова о возможном скором освобождении, с трудом силился это представить. – Вы действительно так думаете? – переспросил Кравцов адвоката. – Да, – коротко ответил Рябов, – У них нет никаких прав обвинять тебя. Поэтому не сегодня - завтра тебя освободят. Если, конечно, в ближайшие часы не всплывёт что-то такое, что было упущено из виду. Рябов сморщил лоб, впадая в обширную мысленную яму обособленности. Он знал, о чём говорил. За время адвокатской практики он научился выжидать до конца и привык к тому, что при любом, даже самом стопроцентном алиби, всегда по ходу процесса могли найтись какие-то непредвиденные показания, свидетели, улики, ставящие весь ход дела совсем в другое русло и меняющие роли обвиняемых и обвинённых. Пройдя в зал после перерыва и с первого же мига услышав торопливую просьбу Соева взять слово, Рябов напрягся, предчувствуя то самое недоброе. Внимательно всматриваясь в довольное, одухотворённое лицо оппонента, Рябов мучительно напрягся, пытаясь понять что же за доказательства тот успел раздобыть за те тридцать минут, что длился перерыв. Получив от судьи разрешение, Соев вновь сорвался с места, сопровождая свою двигательную активность высоким фальцетом обращения. – Уважаемые господа! – раздвинул он руки, словно желая охватить ими всё пространство зала вместе с сидящими в нём слушателями и судьями, – Я хотел бы представить вам свои соображения, которые, как вы понимаете, тоже базируются 26 исключительно на фактах. Так вот, не далее как полчаса тому назад, мой оппонент и коллега господин Рябов доказал нам при помощи психоанализа, что Лариса Фёдорова никак не могла лечь спать, не допив оставшееся вино. Господин Рябов, добросовестно выполняя свою роль защитника, постарался отвести все подозрения от личности своего подопечного. Я, хотя и не был согласен с ним, преклоняюсь перед его трудом. Его мысль широка. Настолько, что питает не только самого господина Рябова, но и окружающих. Помните, в момент начала его рассуждений о том, почему Лариса Фёдорова не допила отавшееся спиртное, первое, что он сказал вслух, было: «что-то помешало ей...». Это замечание явилось очень ценным для меня. Что ж, бывает так во время суда, что две противоположные стороны – обвинение и защита, своими действиями помогают не только себе, но и подсказывают противнику. –Соев кинул мимолётную слащавую улыбку в сторону стола защиты. Никто не мог теперь упрекнуть его что он, когда этого требовалось, избежал панегирика и не захотел источать из себя хвалебной речи. Теперь они были с Рябовым квиты. Промашка каждого из двоих не проскочила незамеченной для оппонента. С опозданием Рябов дал отчёт последствиям своих слов. Он знал теперь, что Соев ни за что не упустит возможность помусолить тему о наличии помех. И даже если до этого времени у него не было какой-то определённой линии, то теперь подобный стимул вполне может вывести его на какой-то новый след. Возможно именно на тот, что вызвал странный блеск глаз Николая при опросе в первый день. Чем больше Соев развивал теперь свою мысль, тем сильнее росло в Рябове прежнее убеждение в собственной неосведомлённости по ряду вопросов. Адвокат оказался прав: уже в следующий момент Соев предложил версию о том, что не что-то, а кто-то помешал Ларисе допить вино. – Господин судья, я требую более конкретного подхода к делу, – выкрикнул Рябов с места, – Не кажется ли вам, что господин Соев опять пытается навязать суду свои пространственные догадки, используя всецело лишь оговорки коллег? – Которые вполне могут превратиться в весьма щекотливые предположения, не правда ли? – воспротивился вмешательству Соев, тоже глядя на судью. Тот поспешно усадил Рябова жестом: – Протест отклонён. Продолжайте! На лице судьи впервые, с момента начала процесса, появилась профессиональная заинтересованность, вызванная на сей раз созревающей сенсацией, подготовленной Соевым. Будучи неоспоримым специалистом, судья, получив в своё распоряжение дело, с самого первого дня процесса откровенно скучал. Редкие моменты, заставляющие его напрягать внимание и сосредотачиваться, не доставляли ему истинного удовольствия и казались всё-таки неинтересными. Пропитавшись духом правосудия и жаждуя дел, требующих полного профессионального чутья и компетентности, в данном деле судья не видел для себя каких-либо сложностей. Судить подобные дела мог бы какой угодно дебютант. Пока, до сего момента, весы правосудия находились в равновесии, при котором чаша невиновности подсудимого незначительно перетягивала чашу его вины. После того, как Рябов привлёк объяснения Зеленцова, судья действительно уже готов был к прекращению ведения дела за отсутствием состава преступления. Теперь же он почувствовал, что сюжет, закручиваемый Соевым, может вылиться в громкий неожиданный скандал.Тогда разворот этого скандала ляжет на его судейские плечи, а правильно принятое решение добавит почестей и, возможно, повышения. «Вряд ли Соев, с его опытом в делах, стал бы так просто интересоваться у специалиста о лимитах разброса данных анализа крови», – предположил судья. В предвкушении возможности поразмять застоявшееся чувство дидактического мышления, утерянное в 27 вязкой трясине множественных банальных дел, он нетерпеливо устремил взор на адвоката потерпевшей стороны. Рябов, почувствовав раздражение судьи, тяжело сел в кресло и затих. Его руки, сложенные горкой, принялись теперь тревожно шевелиться, сжимая пальцы и переминая кисти. В противоположность ему, Соев, окрылённый вниманием, продолжил опрос, возбуждаясь при этом всё больше и больше. То отскакивая от стойки, за которой сидели присяжные заседатели, то вновь приближаясь к ней энергичными шагами, похожими на скачки, он ввинчивался голосом в каждую новую фразу. На его лице повисла улыбка, контрастирующая с острым взглядом хищника. Голос Соева перешёл на высшую ноту: – Господин судья! Принимая во внимание просьбу моего коллеги придать делу конкретную форму, я хотел бы испросить у вас дозволения публично допросить присутствующую здесь гражданку Керман. Судья удивлённо поднял бровь и перевёл взгляд на Анну, сидящую в первом ряду. – В этом есть необходимость? Соев активно закивал: – Если учитывать, что три таблетки «Барбамила» в стакан Ларисы подсыпал не Кравцов, то это мог сделать кто-то другой. Почему? Судите сами. – Соев вернулся к столу и, взяв там протокол записи процесса, стал зачитывать, – «Обнаружив жену без признаков жизни, я тут же позвонил в скорую помощь, а затем в милицию. Ожидая их прибытие, я прошёл в спальню, чтобы убедиться, что Лариса взяла ту самую пачку «Барбамила», что лежала у меня в дипломате. Я открыл дипломат и увидел, что снотворного там нет.», – теперь Соев не улыбался. Напротив, выражение его лица спрессовалось в повышенную концентрацию: нос заострился, губы подтянулись, брови сошлись к переносице, – На вопрос, заданный мною, господин Кравцов утвердительно заявил, что ключ от дипломата он нашёл на привычном месте в пиджаке. Откуда такая педантичность? Ведь мы уже знаем, что Лариса в жизни была крайне неряшлива, а в тот вечер очень сильно пьяна. Много ли аккуратных пьяниц знаете вы? Я – нет. И тут я припомнил о том, как господин Кравцов подчёркивал нам контрастирующую аккуратность первой жены. Анна Керман, по уверениям подозреваемого, всегда была опрятной хозяйкой. Вот тогда-то я и задал себе впервые вопрос: а не присутствовала ли она на месте преступления? Соев замолчал. Объяснив причину, вынудившую его прибегнуть к допросу Анны, он спокойно дождался того, как главный судья вызовет её и как она пройдёт к стойке допроса. Адвокат видел, как молодая женщина побледнела, представая перед всеми не в роли незаметной слушательницы, а в роли подозреваемой свидетельницы. Очутившись лицом к залу, Анна крепко вцепилась в деревяшку барьера. Николай издалека заметил, как побелели от этого её тонкие пальцы. Кравцову захотелось выйти из-под стражи, подойти к бывшей жене, разжать её кисти и подышать в них. «Даже в такую жару пальцы у Анны наверняка холодные, – ласково подумал он. Тонкие линии вен, напрягшиеся на руках женщины, вызвали у Николая острую боль в сердце,- Её-то зачем пытают? Она тут совсем не при чём. Моя вина во всём. Только моя.» Пока Кравцов раскаивался и бичевал себя, Анна Керман внимательно осматривала Соева. Адвокату обвинителю было за пятьдесят. Если не учитывать его сухощавость, то во всём остальном он был внешне приятным. Соев являлся представителем смешанных кавказских кровей. Его смуглая кожа не походила по цвету на загар. Черты лица, выделенные габаритным носом и твёрдым подбородком, смотрелись волевыми. Две толстые, почти чёрные полосы, горизонтально прочерченные на месте сбритых усов, 28 вместе со складками щёк и подбородком, зрительно очерчивали квадрат нижней части лица. Это утяжеляло его и без того широкий овал. Упругие щёки адвоката при малейшей улыбке смешно сжимались вдоль пазух носа в два резиновых комочка. Они нависали над складками щёк, делая похожим Соева на ёжика. Крупная голова венчалась обильной сединой, зачёсанной прямо наверх и разметанной по сторонам двумя обширными залысинами. В противоположность лицу, фигура Соева была настолько аскетичной, что выглядела ссохшейся. Широкая рубашка, вправленная в светлые летние брюки, не прятала худощавость, а, прокручиваясь вокруг тела, наоборот подчёркивала её, почти бросалась в глаза. Впрочем, такие люди как Соев, никогда не оставались незамеченными. Высокий рост и глаза необыкновенной живости притягивали к нему взгляд. Энергичная походка и чёткие манеры Соева абсолютно вписывались в его яркий образ. И вместе с тем, он был неприятен Анне. Неприятен не только его положением обвиняющего. Мужчины такого плана: уверенные в себе и не признающие в людях никаких слабостей, пугали женщину. Бесспорно, Соев являл собою сильную личность. Анна, не всегда способная ответить таким, как он, предпочитала их избегать, отчего легко попадала под их осуждение. Оказавшись перед Соевым на процессе, Анна поняла, что он сможет выпотрошить её наизнанку. Женщина напряглась. Деваться было некуда. Во все глаза на неё смотрели Надежда и Верка Латыпова, бросившие в деревне все дела. Хмурил брови Иван: он не пропускал ни одного заседания. Далеко в зале сидели Егор – старший сын Белородько и Татьяна – дочь Верки. «Красивая пара», – не ко времени подумала Анна, вспоминая молодых пацанами: Таньку – тонконогой девчонкой с косичками, Егора – серьёзным пареньком на голову ниже подружки. Теперь перед ней сидели современная молодая девушка со стильной причёской утопающего каре и столичный парень-интеллигент в полупрозрачной оправе на носу. Анна вздохнула. Из всех присутствующих в зале, она могла надеяться только на Николая. Но он, при нынешнем положении, вряд ли смог бы помочь ей. Чтобы выпутаться самой и вытолкнуть на свободу бывшего мужа, Анне приходилось рассчитывать только на себя. Размышления женщины прервал голос Соева: – Госпожа Керман, скажите нам, когда перед смертью вы видели Ларису Фёдорову в последний раз? Анна помедлила, пытаясь понять суть вопроса. – До свадьбы, – наконец произнесла она тихо, призывая себя оставаться спокойной. – Я прошу уточнить до какой именно свадьбы? Соев говорил сухо, почти жёстко. В его лице не проскальзывало никакого участия к робости опрашиваемой. – До нашей свадьбы с Николаем, – произнесла Анна ещё тише. Избегая смотреть на неприятного адвоката, она коротко глянула на судей. Соев, не претендуя до этого быть в поле зрения допрашиваемой, сейчас подошёл к её стойке: – А у меня есть показания свидетеля, который видел вас в день убийства Ларисы Фёдоровой в подъезде её дома, – по-прежнему жёстко произнёс Соев, дожидаясь пока Анна посмотрит на него. По залу прошёл ропот возмущения. Кто-то громко охнул. Ктото вслух обозвал молодую женщину неприличным словом. Судья был вынужден призвать зал к спокойствию. «Нет, только не это!» – безнадёжно взмолился Кравцов. Он впился глазами в смертельную белизну лица Анны. Ничего в нём не выражало возмущения или поражения. Женщина беспрекословно соглашалась со сказанным, не протестуя против этого. Она словно спала с открытыми глазами и ничего не слышала. Николаю так захотелось, чтобы Анна проснулась. Медленно переведя на обвинителя обречённый взгляд, опрашиваемая промолчала. Соев испепелил её презрительным взглядом. Ему больше не нужно было настаивать на её 29 ответе: – Ваша честь, я прошу вас разрешить мне допросить соседа Ларисы Фёдоровой, пенсионера Владлена Сергеевича Каменева. Скользнув взглядом по Керман, судья повернулся в сторону милиционера на входе: – Госпожа Керман, вернитесь на своё место. Введите свидетеля Каменева! Спускаясь, Анна неловко оступилась. – Погодите раньше времени падать в обморок. Вы пока ещё только свидетель, а не подозреваемая, – недобро пошутил над этим Соев. – Спасибо, – поблагодарила Анна, совершенно не к месту. По правде сказать, она не обратила внимания на реплику адвоката. Ей поскорее хотелось спрятаться от людских глаз, в этот момент алчных, возбуждённых разгорающимся действием. Торопливое желание повернуться к залу спиной вылилось в невнимательность при спуске. Чертыхнувшись про себя, Анна захромала на своё место. Все чувства были поглощены досадой на себя. Глупо было не предвидеть возможность осведомлённости Соева о её визите к Ларисе. «Наверное, он вынюхал обо мне многое. Осталось только узнать что именно», – подумала молодая женщина, проходя мимо адвоката. В вызванном свидетеле Анна без труда узнала старичка, ехавшего с ней полгода назад в лифте дома Ларисы. Было бы странным, если бы он не приметил её: до сих пор Анна помнила на себе его вислый взгляд. Такой, Анна замечала это, нередко появлялся у старых мужчин. Взгляд, выражающий восхищение женщиной, и в то же время разочарование от неспособности стать предметом её внимания. Без всякого интереса прослушав обстоятельное заявление Каменева о том где, когда и при каких обстоятельствах видел он Анну Керман, Соев подвёл показания свидетеля к нужному рубежу: – Скажите, Владлен Сергеевич, в своём предварительном рассказе вы нам заявили о том, что ехали в одном лифте с этой женщиной двадцать второго января в районе шестнадцати часов. Так ли это было на самом деле? – Я сказал? – удивился Каменев, но тут же спохватился, – Ах, да! Я сказал именно так. Это было после обеда. На улице уже начало смеркаться. – Начало смеркаться или уже было темно? – Соев подкрался к Каменеву почти на цыпочках. Голос его сейчас был тихим, ласковым. Он смотрел на старика с улыбкой, всем своим видом выказывая предрасположенность. Потребность в уточнении показания привела Каменева в нерешительность. Он принялся вспоминать, бормоча себе под нос: – Темно? Нет, вроде бы только начало темнеть. Хотя, зимой на улице темнеет рано. Так что, может быть, уже и было темно. Соев, терпеливо выждав пока старик проговорится, попросил его припомнить час встречи с Анной в лифте поточнее. – Час? Господи-боже, какой же это был час-то? Погоди, кажется это было всё-таки около четырёх, – совсем неуверенно повторил свидетель. – А может позже? – в голосе Соева проскользнула настойчивость. Услышав её, Каменев поторопился согласиться: – Может и позже. Я, честно признать, не помню. Старику совсем не хотелось расстраивать Соева. Вызванный адвокатом для столь серьёзного дела, Каменев больше всего был озабочен тем, чтобы не подвести столь уважаемого человека, каким был представитель правосудия. Соев, меж тем, повторил вопрос, поставив его иначе: – Владлен Сергеевич, если вы говорите, что не совсем отчётливо помните время, когда 30 вы ехали в лифте вот с этой молодой женщиной, – он указал на Анну, – значит ли это, что вы могли ехать с ней, скажем, не в четыре часа, как вы это думали ранее, а чуть позже: часиков так в семь, в восемь? – снова мягко спросил Соев. – В семь-восемь? – переспросил Каменев и глянул на Анну. Ему очень хотелось помочь девушке. Старик не знал чьи интересы представляет на процессе адвокат Соев. Почемуто ему показалось, что желание Соева услышать нужный ответ будет полезным для девушки. Именно из этих соображений Каменев не стал упорствовать с отрицанием. Теперь, подумав, он с ужасом понял, что кроме того, что он сомневался во времени, он совершенно не был уверен в том, что на улице было темно. Страх, что ему придётся отвечать за свои выдумки, парализовал старика. Появление Каменева на процессе было добровольным. Прочитав на днях в газете статью о предстоящем суде по делу соседки, старик сам позвонил в милицию. Он очень хотел быть полезным, поэтому без всяких колебаний заявил о том, что в день смерти Ларисы видел у неё гостью. В милиции, куда его пригласили, старик настолько красочно описал девушку, с которой ехал в лифте, и которая и была той самой гостьей, что ему тут же показали фотографию Анны Керман. Несмотря на то, что Владлен Сергеевич видел девушку всего один раз, и, что с момента этой встречи прошло почти полгода, он опознал её без труда. Он даже припомнил во что Анна была одета. Милиционеры записали все его показания и поблагодарили за подробности. Это было позавчера. А вчера, во второй половине дня Каменеву позвонил адвокат, представившийся Соевым, и попросил его ещё раз срочно явиться в милицию. С первых же минут Соев вызвал у Каменева симпатию. Он с улыбкой расспрашивал старика о жизни, интересовался его карьерой бывшего строителя и, как бы про между прочим, задавал вопросы, касающиеся соседки Ларисы. Сам того не заметив, через час беседы с адвокатом старик выложил Соеву массу информации о жизни погибшей. «Хорошо, что ребята подкинули его мне, а не Рябову, – утёрся Соев после ухода старика. Моральный облик соседки Ларисы до замужества с Николаем, описанный Каменевым со многими интимными подробностями, мог бы сослужить оппозиции неплохую службу, окажись он в протоколе допроса следователя. Соев же эти детали быта погибшей, интересующие его постольку, поскольку он представлял в данном деле интересы потерпевшей стороны, оставил в устном виде. На бумаге он чётко пометил только главное: Анна была в доме Фёдоровой в день смерти последней. Сопоставив все имеющиеся у него до этого данные, Соев стал подозревать Анну в соучастии в преступлении ещё до начала сегодняшнего слушания. Предположение Рябова о том, что что-то помешало Ларисе допить вино, было лишь конечным убеждением Соева в собственной правоте. Идя по новому свежему следу и оперируя показаниями Каменева, сегодня, ещё до начала процесса, Соев добился у прокурора повторного обыска на квартире погибшей. С момента смерти хозяйки квартира стояла опечатанной. Отправляя бригаду на обыск, адвокат обвинения клятвенно молил старшего лейтенанта, возглавлявшего группу, найти ему во что бы то ни стало какиенибудь улики против Керман. Теперь, когда у Соева были не просто подозрения против Анны, но и показания соседа, адвокат обвинения мог, в каком-то роде, диктовать поисковой группе свои условия. При первоначальном обыске на экспертизу были взяты лишь видимые улики: отпечатки пальцев на посуде, оставшейся на столе в зале и на кухне, пачка от таблеток, несколько предметов из обихода жильцов, какие-то фотографии, записные книжки погибшей и её мужа, документы. При повторном обыске Соев попросил перевернуть всю квартиру кверху дном. Чутьё подсказывало адвокату, что повторный обыск может дать кое-что интересное. Интуиция не обманула его: всего за несколько минут до начала второй части сегодняшнего заседания, Соеву передали сообщение, полученное по факсу. Это были результаты повторного обыска. 31 Проглотив написанное одним махом, адвокат обвинитель возбуждённо вскрикнул. Теперь можно было не торопиться с выходом на сцену. Что бы там не говорил теперь Рябов и как бы жалостливо он не разыгрывал сцены любовного треугольника, Соев знал, что всё равно, в конечном итоге, победа будет на его стороне. Улика, найденная во время второго обыска, была не просто обвиняющей, она была уничтожающей. Недостающая деталь из картинки пазлей, не позволявшая Соеву до этого чётко видеть весь рисунок, теперь встала на своё место. Для полного разгрома противника не хватало только правильных показаний Каменева. Добиться их Соеву было несложно: старик легко шёл на контакт и поддавался любым сомнениям. Значит, его можно было уговорить в нужном для обвинения направлении. – Итак, Владлен Сергеевич, остановимся с вами на том, что вы не помните в какое точно время вы ехали в лифте с Анной Керман. А также на том, что вы не отрицаете того, что возможно это было не днём, а вечером, – подвёл Соев итог опросу Каменева. Подслеповато моргнув глазами, старик согласился с адвокатом и вышел из зала. Напоследок он приветливо улыбнулся Анне. «Ты-то тут никакой роли не играешь, дорогой товарищ сосед», – ответила Анна старику грустной улыбкой. Манипуляции Соева были очевидными. Осталось только дожидаться чем они выльются для самой Анны и, через неё, для Николая. Впрочем, гадать всем пришлось недолго. Едва дождавшись, пока выведут Каменева, Соев стал медленно и внушительно излагать новую версию смерти Ларисы Фёдоровой. На этот раз материала для обвинения у него было больше. Теперь Соев упорно настаивал на том, что в квартире, кроме супругов, на момент преступления была ещё и Анна. Зная, что собрание на работе закончилось в начале восьмого, было легко предположить, что в гостиницу «Россия» Кравцов и его бывшая жена могли прибыть уже к половине восьмого, в крайнем случае без пятнадцати восемь. Поднявшись наверх в комнату, где жила Анна, они поговорили с дежурной по этажу, затем спустились в ресторан и заказали ужин для женщины и шампанское. Опять же, привлекая к себе внимание официанта, обслуживавшего их, парочка, таким образом, обеспечила себе алиби. К сожалению для обоих подозреваемых, в своих показаниях ни дежурная, ни тем более официант, никак не могли припомнить точного времени появления сообщников в гостинице. Зато оба однозначно заявили, что видели Николая и Анну недолго. На этаже они лишь поинтересовались есть ли у дежурной свежая пресса. В ресторане тоже не задержались: заказанная бутылка с шампанским осталась не выпитой более, чем наполовину. Это официант помнил отчётливо: подобные расточительства в их ресторане бывали большой редкостью. На основании этого, можно было предположить, что Николай и Анна торопились. Здесь очень важно было подчеркнуть то, что дежурная по этажу больше в этот вечер не видела ни девушку, ни её спутника. Правда, она оговорилась, что какое-то время отсутствовала на посту, отчего, возможно, упустила момент возвращения проживающей в свой номер. Но зато потом, в течение всего оставшегося времени, дежурная была на посту. В номере, где жила Керман, было тихо. В районе половины двенадцатого дежурная ушла в отведённый ей для ночлега служебный номер. Всё это могло предполагать что, посидев в ресторане, Николай поспешил покинуть отель для того, чтобы вернуться домой. Приехав, он, зная слабость жены к спиртному, под любым предлогом мог предложить ей выпить. Вино должно было помочь Николаю расположить жену к предстоящему визиту Анны. Последняя, доужинав в ресторане в одиночестве, вслед за этим села в такси и поехала на квартиру Фёдоровой. В лифте с соседом Ларисы Каменевым, она могла, таким образом, оказаться не в четыре часа, а после восьми. В своих показаниях Каменев не отрицал того, что мог перепутать время. Итак, Анна приехала к Кравцовым. Лариса, уже «размятая» к этому времени вином, 32 встретила её дружелюбно. Под предлогом чествования трудоустройства Анны на фирму Ларисы, бывшие супруги, а ныне сообщники, напоили хозяйку квартиры. В районе одиннадцати Кравцов принял снотворное и заснул. Анна Керман осталась с бывшей подругой. Обстановка была располагающей к откровенной беседе. Скорее всего, женщины продолжили пить, чем вполне можно объяснить недостающие при экспертизе триста пятьдесят граммов спиртного. И вот здесь-то Анна, судя по записке, могла признаться Ларисе в том, что Николай до сих пор является её любовником. Каковой была реакция Фёдоровой, догадаться нетрудно: всё-таки она любила своего мужа; пусть по-своему, но любила. Оказавшись в состоянии сильного возбуждения, Лариса, возможно, снова набросилась на вино. Это было как раз то, что нужно сообщникам; улучив момент, гостья незаметно бросила в бутылку три первых таблетки «Барбамила». Убедившись, что последняя опустошила бокал больше, чем наполовину, гостья растворила с бутылке оставшиеся две таблетки и поспешила уехать в гостиницу. Ей было очень важно, чтобы Лариса, до того как уснуть, успела закрыть за ней дверь. Николай в это время уже спал крепким сном. Уходя, гражданка Керман была уверена, что Лариса тут же свалится и заснёт. Она никак не могла предполагать, что у отравленной ею подруги найдутся силы для того, чтобы написать предсмертную записку, в которой она разоблачит своих истинных убийц. Завершив свой трепетный рассказ, адвокат Соев многозначительно посмотрел на зал. Из сказанного им следовало, что Николай Кравцов являлся если не прямым, то косвенным убийцей своей жены Ларисы. Соев строил логичную линию, не прибегая пока к той самой последней сражающей улике, что явилась бы, при доскональной проверке фактов, уликой номер один. Для проверки нужно было во-первых, время, во-вторых, навлечение ещё больших подозрений на Анну Керман. В идеале, Соева сейчас очень усторил бы её арест. Столь жестокая мысль была дла адвоката защиты всего лишь одним из ходов его игры. О жизни и судьбе возможно невинного человека он даже не думал. Вот почему закончил речь с обращением к суду: – Господин судья, при сложившихся обстоятельствах, и учитывая, что гражданка Керман обманула суд, я настаиваю на немедленном её помещении под стражу. – Что-о-? – сорвалось сразу с нескольких уст. Противясь подобной формулировке, Рябов сорвался с места с криком: – Господин судья! Это невозможно. У вас нет повода принимать подобное решение. – Господин защитник, – судья важно выпрямился, – я напоминаю вам, что решение любого рода принадлежит в этом зале исключительно мне. И я сам буду решать, что для суда возможно, а что нет. Судья был ущемлён замечанием, но адвокат не сдавался: – Ваша Честь! Мне кажется, что прежде чем выносить столь серьёзное предположение, мой коллега Соев мог бы сначала более тщательно допросить подозреваемую им Анну Керман. Возможно, ему тогда не пришлось бы напрягать своё воображение попусту, так как она сама рассказала бы нам, что делала в доме Ларисы в день смерти последней. Неточность показаний официанта или дежурной по гостинице, не могут всё-таки являться доказательствами вины. А свидетель Каменев, на мой счёт, вообще не сказал ничего определённого относительно времени встречи с Анной Керман в лифте. В таком случае, стоит, как мне кажется, спросить об этом саму подозреваемую. Она-то должна знать точнее в каком часу она была в гостях. В голосе Рябова кроме недовольства звучала явная тревога теперь ещё и за Анну. Как и оппонент, он догадывался какую формулировку событиям могут вынести присяжные, если им оставить на рассмотрение новую версию Соева. Рябов, яснее чем когда-либо, понял, что явно не владеет какой-то информацией. Ему совершенно необходимо было 33 выиграть время, чтобы допросить Анну наедине. После его слов судья задумался. Сказанное Рябовым было очевидным. Никаких прямых улик против Анны Керман пока у суда не было. Но и отказываться рассмотреть версию Соева суд не имел права. Проще всего при сложившихся обстоятельствах было закрыть заседание и перенести его до выяснения новых подробностей. Требование Соева казалось судье преждевременным. А с другой стороны, если обвинитель был прав? Судья молчал. Рябов ожидал его решения. Соев, по мнению Рябова, позволял себе больше, чем это было предусмотрено положением. Уступить ему - означало заранее согласиться на проигрыш. Рябову это казалось совершенно недопустимым. Еще час назад позиции защиты были намного выше. Простые подозрения или рассуждения, основанные на неточных показаниях, не могли так просто заставить Рябова смириться с самовольством Соева. И пусть даже Рябов видел, как налились негодованием глаза противника, он совершенно не собирался отступать. Выслушав критику Рябова со злым прищуром во взгляде, Соев ответил ему прежде, чем судья успел что-то сказать: – Вам «кажется», дорогой коллега, «по вашему мнению»... Не слишком ли много в вашей речи отступлений на условности? Мне вот, например, кажется, что опрос этой гражданки, – он в который бесцеремонно ткнул в сторону обвиняемой, – ничего путного не даст. И, как мне совершенно не кажется, единожды она уже обманула этот суд. И не далее чем полчаса назад, когда сказала, что видела Ларису в последний раз девять лет назад. Именно поэтому я позволил себе просить суд об её аресте. Простите, господин судья, но своим предположениям я верю больше, чем словам этой гражданки. – Ваше требование услышано, господин Соев, – судья посмотрел на адвоката обвинения сурово. «Что они мнят из себя эти следопыты? Как ведут себя на процессе? Зримо – два петуха», – подумал он иронично, но брови на всякий случай свёл, – Но и вам, как и вашему коллеге, я напоминаю, что решения подобного рода принадлежат в этом зале по праву только мне. Сядьте оба! А вот вас, гражданка Керман, я прошу подняться и подойти сюда. Анна прошла к трибуне. Как и многие в этом зале, она была ошарашена просьбой Соева. Но перепалка между адвокатами позволила ей реально оценить свои позиции и принять то решение, которое теперь казалось самым правильным. Как и Рябов, Анна поняла, что объяснения между ними ей не избежать. Как и Рябов, она хотела только одного: объясниться с адвокатом Николая наедине, чтобы он мог посоветовать как вести себя дальше. Анна знала, что начиная с этого момента должна говорить только правду. Она без всякого смущения посмотрела на судью, готовая отвечать на его вопросы: – Скажите, Анна, были ли вы всё-таки на квартире Ларисы Фёдоровой в тот роковой день двадцать второго января? – Да. – Значит, ваши предыдущие показания на этот счёт ложны? – Да. Судья заметил, как прокурор обвинитель раздул ноздри. Необходимо было реагировать по ситуации: – Гражданка Керман, осознаете ли вы, что давая заведомо ложные показания, вы, таким образом, настраиваете против себя не только обвинение, но и присяжных заседателей? Голос судьи был дружелюбный. Анна почувствовала в нём определённую симпатию. Она подумала, что всегда проще иметь дело с мужчиной, который расположен к тебе доброжелательно. На последний вопрос судьи она молча кивнула. 34 Судья, только что говоривший с ней спокойно, вдруг рассердился. Ему показалось, что Анна вот-вот расплачется перед ним. Разыгрываемая сцена любовного треугольника начинала надоедать. Да и обвинение не терпело. – Гражданка Керман, объясните нам почему вы ввели суд в заблуждение? – спросил судья чуть суше. – У меня были для этого личные основания. Ларису я не убивала, – коротко объяснила Анна. Это и была её правда. Она думала, что подобного объяснения будет достаточно. Но судья воспринял её ответ иначе: – Госпожа Керман, вы ведь взрослый человек и, как уже поняли, подозреваетесь в убийстве. Это серьёзное дело. Я настаиваю на том, чтобы вы рассказали суду о том, что произошло в тот день в квартире Ларисы Фёдоровой. Почему вы не хотите об этом говорить? – У меня на это есть личные причины, – повторила Анна, помолчала и добавила ещё твёрже и отчётливее, – Ларису я не убивала. Больше мне сказать вам нечего. Судья посмотрел на женщину с непониманием. В свою очередь с непониманием посмотрели на судью прокурор, присяжные заседатели и адвокат потерпевшей стороны. Соев, которого такое поведение подозреваемой устраивало полностью, даже показал жестом, что вот, мол, смотрите, кто был прав. Рябов не нашёлся что сказать. Из-за барьера на весь зал прозвучал голос Кравцова. Это был клич, колокольный набат, мольба о разуме: – Аня, не надо! Расскажи им всё, что ты знаешь! Не молчи! На его голос Анна вздрогнула, посмотрела на Николая сначала с тревогой, но тут же спокойно, почти ласково. – Нет, Коля. Я не могу. Пусть всё будет, как будет. Прости ты меня, – попросила она вполголоса. Для них двоих зал сейчас был далеко-далеко. Каждый пытался понять другого и стать ему понятным. Но обоим это не удалось. Их диалог был прерван судьёй: – В таком случае, я вынужден согласиться с мнением адвоката Соева и, увы, удовлетворить его просьбу. «Придётся нам прибегнуть к другому способу, чтобы заставить её говорить», – подумал судья. Ему стало казаться, что Керман и Кравцов потешаются над всеми, разыгрывая дешёвую трагикомедию. Он резко встал, – Постановляю: поместить подозреваемую в убийстве Анну Керман под арест для выяснения дальнейших обстоятельств данного дела. Решение привести в исполнение немедленно. Объявляю заседание закрытым! Судья встал. Секретарь стукнула молоточком по столу. В зале, при полной тишине, милиционер подошёл к Анне, надел на неё наручники и вывел через служебную дверь. Никаких объяснений ни у кого не было, кроме одного: Ларису Фёдорову убили. Кто и как узнать пока было невозможно. Публика расходилась под тихий ропот. Близкие Николая и Анны сбились в кучку в конце зала. Женщины плакали. Лица мужчин были зажаты горем. Вслед за Анной через судебную дверь вывели онемевшего Кравцова. Глаза его смотрели в пустоту. В этот миг он не видел и не слышал ничего. Всё стало неважным перед осознанием того, что Анна будет сидеть в тюрьме тоже. Зная её, Кравцов мог предположить, что закончится это плохо. Рябов, проводив взглядом отрешённого Николая, долго ещё не мог покинуть зал заседания. Долгие месяцы работы были перечёркнуты глупым нежеланием Анны говорить. Теперь предстояло всё начинать заново. 35 Глава пятая: Признания Анны (август 1997) С момента последнего заседания прошло почти три недели. Свою ошибку Анна поняла только несколько дней спустя. В зале суда, когда ей надели наручники и повезли в камеру предварительного заключения, ей было всё равно, что с ней происходит. Главным женщина считала то, что не стала выносить на публику подробности своего визита к Ларисе. Вспоминать о той встрече с бывшей подругой было стыдно и сейчас. Но вспоминать всё же предстояло. Именно теперь, после того, как она оказалась под арестом, Анне стало ясно, что чем быстрее адвокат Рябов разберётся во всей их личной путанице, тем быстрее он сможет подготовить оправдательную версию. На третий день ареста Анну вызвали на свидание с адвокатом Кравцова. Она, путаясь в формулировках, навзрыд объяснила Евгению Петровичу коекак, что не хотела говорить в суде, чтобы не порочить репутацию Николая. Понимая, что в таком состоянии он сможет мало чего добиться, Рябов предложил заключённой успокоиться: – Я вернусь поговорить с вами, как только у меня будет для этого время. Постарайтесь вспомнить и на этот раз не укрывать от меня малейших деталей всего того дня. Поймите, Анна, если вы хотите, чтобы моя работа была продуктивной, мне нужны ваше доверие и помощь. Кроме вас никто не сможет мне рассказать, что же произошло двадцать второго января до того, как домой пришёл Николай. Для него ваши признания тоже очень важны. Он не просто переживает за вас, он не находит себе места. Так что, я не должен вас уговаривать. Я – не следователь, я – адвокат Николая. Вы же хотите, чтобы он тоже поскорее освободился? Анна кивнула и перестала плакать. – Вот так уже лучше. Я оставляю вас пока. О нашей следующей встрече вам сообщат. Кстати, а вы подумали о вашей защите? – Нет, – Анна округлила глаза, – А зачем мне защита? Меня же ведь скоро выпустят? Ну, как только узнают всю правду? «Святая наивность», – посмотрел Рябов с жалостью. – Анна, дело ваше – не единственное, объяснил он спокойно, – Суд вы вашим упрямством разозлили точно. Соеву эта отсрочка на руку. Лето ещё не закончилось. А судьи, адвокаты, следователи – тоже люди. Сроки следующего заседания должны быть согласованы между всеми сторонами. Поэтому не берусь предсказывать когда мы снова увидимся на процессе. Так что, адвокат вам нужен. Не забывайте, что вы здесь находитесь по подозрению в убийстве. Анна грустно улыбнулась: – Но у меня нет никакого знакомого адвоката. – Может быть, ваши родные смогут вам помочь найти кого-то? – У меня никого нет. – Ладно, я подумаю как быть. Пока идите. Встретимся через несколько дней. Анна встала, пошла, но у двери оглянулась: – Передайте пожалуйста Коле, что со мной всё в порядке. «Да уж, по твоим синякам под глазами это заметно», – оценил адвокат мужским взглядом. Вместо ответа он кивнул. Прошло долгих двадцать дней, прежде чем Рябов снова появился перед Анной. 36 Им предстоял откровенный разговор. Женщина понимала, что теперь каждое её слово будет стоить дорого, поэтому настроилась на подробный рассказ. Дождавшись, пока Рябов включит диктофон, она начала монотонным голосом. Двадцать второго января Анна проснулась в гостинице от телефонного звонка. Звонила Лариса Фёдорова. Она извинилась, что из-за мигрени не смогла вчера быть в аэропорту. Так как головная боль не отпускала, Лариса и сегодня не собиралась никуда идти. Анна замешкалась: сегодня ей предстояло знакомиться с новым коллективом. Поняв настроение Анны, Лариса протянула: – Хочешь – приезжай ко мне до собрания. Расскажу тебе кто почём. – Во сколько? – Да, бл., без разницы; я всё равно весь день дома, – подруга незнакомо тянула слова и ругалась матом. Анне её поведение показалось странным. «Пьяная она, что ли?», – Керман глянула на ручные часы, лежащие на тумбочке. Они показывали половину десятого. Подумав, Анна пообещала заехать в районе четырёх часов. Лариса повторно матернулась и бросила трубку. Замерев возле телефона, Анна задумалась. После всего того, что произошло между ними когда-то, Керман никогда бы не позволила себе даже подозревать Ларису в алкоголизме. Не то, чтобы обвинять её. А в то же время в голове всплывали детали недавнего разговора с Николаем. … Когда две недели назад Кравцов приехал в Германию, чтобы убедить Анну работать в их фирме, первый заданный ею вопрос был о нынешней семейной жизни Кравцова. Ни за что на свете Анна не хотела бы мешать бывшему супругу в новой жизни. В ответ Николай осел, глаза его потухли. Но говорить о себе он не стал: предпочёл перейти на планы фирмы. Зная Кравцова лучше, чем кто-либо, Анна поняла, что момента откровения придётся подождать. Вместо того, чтобы настаивать, она окружила бывшего супруга вниманием и постаралась вести себя так, чтобы он не чувствовал себя рядом с ней неуютно. Николай ничем не был обязан своей первой жене. Их развод был оформлен по её настоятельной просьбе всего полгода назад. Прожив с Кравцовым почти девять лет, однажды Анна призналась, что предпочитает развестись. Отсутствие детей и совместно нажитой собственности избавили бывших супругов от необходимости делёжки. Развод получился скорым. Кравцов даже не ожидал, что так быстро станет вновь свободным. Но, с другой стороны, жалеть было не о чем: Николай и сам хорошо понимал, что семейная жизнь пошла не по тому руслу. Поэтому развод, хотя и расстроил, но тяжким испытанием для молодого мужчины не стал. После оформления бумаг Кравцов решил попытаться трудоустроиться в России. Он поехал в родную деревню, посмотрел на изменения, происшедшие в стране, поговорил с друзьями и родными и понял, что если он хочет работать по профессии, то ему нужно искать работу в Москве. Надежда, пережившая развод Николая гораздо хуже, чем сам он, предложила брату пожить в столице в их квартире. Пару лет назад Иван вложил там деньги в двушку, в которой теперь жил Егор. Приезд дядьки искренне обрадовал племянника и совершенно не потеснил; парень учился на подготовительных курсах и целыми днями отсутствовал. Однажды, после двух недель поисков, Николай Кравцов наткнулся в своём почтовом ящике на рекламное объявление. В нём одна из строительных компаний сообщала о вакансии инженера по внутренним коммуникациям. Это точь-в-точь соответствовало квалификации Кравцова, поэтому он откликнулся на объявление тут же. Назначив через секретаршу собеседование с директором фирмы Ларисой Николаевной, Кравцов никогда не мог бы представить кого он встретит. И только войдя в кабинет директора фирмы и увидев в кресле начальника Ларису Фёдорову, Кравцов чертыхнулся. Мир для него оказался тесен. 37 Лариса появлению Николая была и удивлена и нет. Удивлена потому, как была уверена, что он живёт по-прежнему в Германии. С другой стороны, увидев в колонке своего рабочего расписания собеседование с неким «Кравцовым Н.А.», молодая директриса почувствовала, как у неё колыхнулось сердце. Очень уж ей хотелось, чтобы случилось невозможное, и её собеседником оказался именно Николай. Так оно и вышло. Теперь перед Ларисой в кресле сидел Николай Александрович Кравцов, собственной персоной тот самый бывший возлюбленный. Лариса признавалась Николаю в чувствах, возникших при встрече, а он, удивлённый не менее, думал о том, что забыл уже насколько Лариса непосредственна. Внешне бывшая озорная девчонка превратилась в степенную даму, в почтенную и уважаемую начальницу. В то же время, Николай усмехался, узнавая в весёлых искорках глаз Ларисы бывшую любительницу шалить и смеяться. Голос девушки, строгий и громкий в окружении сотрудников, наедине с ним стихал и приобретал робкий оттенок. Просидев в кабинете Ларисы всего полчаса, Николай поразился тому, что симпатии брошенной им когда-то подруги, не только не исчезли, но, наоборот, за прошедшие годы усилились настолько, что Лариса не могла скрывать их. Она смущалась, отвечая на вопросы о личной жизни. За эти годы Ларисе так и не удалось выйти замуж. – Все мои чувства остались растраченными на тебя, Николай, – Лариса посмотрела с полу-укором. Кравцов опустил глаза. Край уса сам по себе полез в рот. Лариса усмехнулась: – Я смотрю, привычки ты не меняешь: всё также жуёшь усы, когда смущён. Я сказала что-то не то? Разве ты не нашёл, что искал? – Лариса пытливо попыталась заглянуть мужчине в глаза. Николай поднял взгляд и ответил без хитрости: – Увы, Лариса, мой брак оказался неудачной попыткой. С Анной мы разошлись месяц назад. Лариса понятливо покачала головой: – Извини, не знала. Переход на тему, близкую и волнующую обоих, получился непростым. Оба, казалось, были не подготовлены к нему. – Пошли где-нибудь посидим, попьём кофеёчку, – предложила Лариса, чтобы развеяться. Николай согласился. Тот день они провели в сплошных разговорах о прошедших годах. Лариса поделилась с Николаем секретом своего пребывания директором компании. Фирму Фёдоровой передал в ведение отец. Он, старый и больной, уйдя на пенсию по инвалидности, обеспечил единственную дочь престижной работой. При первом появлении на фирме Лариса, естественно, мало что знала о доверенной должности. Но, будучи всегда смышлёной и энергичной, она очень скоро научилась руководить и подбирать кадры. Среди сотрудников ею был сбит свой костяк, на который она всегда могла положиться. Со временем фирма не просто утвердилась на новом российском рынке, но и приобрела значительный вес. Специализировалась фирма Ларисы сначала исключительно на строительстве домов, офисов, предприятий. Получив, благодаря связям отца, несколько крупных заказов, по их завершению Лариса стала обладательницей неплохого капитала. Деньги были разумно вложены в модернизацию оборудования и стройматериалов. Это повлекло за собою интерес к фирме со стороны персональных заказчиков. К тысяча девятьсот девяносто пятому году индивидуальное строительство в Москве достигло невиданных размахов. Скопище всего российского капитала, столица расстраивалась и перестраивалась невероятными темпами и по новым законам – 38 расчётным. Выплачивая строителям большие деньги, клиенты требовали в обмен именно то, что заказывали. Никакие шаблонные планировки с гонорарами не рифмовались. Никакие отклонения от сроков в расчёт не принимались. Многие компании, с прежними привычками и не сумевшие вовремя перестроиться, очень скоро были разорены: заказчики отказывались платить за халтуру и отговорки. В новой стране, ломонувшейся во весь свободный размах за передовыми монополиями мира и желающей любой ценой нагнать их, выжить можно было только благодаря огромной ответственности и безупречному профессионализму. Поняв это, Лариса сумела выстоять и перед постоянными несовершенствами внутреннего экономического рынка, и перед гротеском требований новых русских предпринимателей.Чтобы наконец-то попробовать, что значить жить по средствам, последние, для облагораживания жилищ, не скупились ни на какие деньги. Иногда, чтобы выполнить вычурные идеи заказчиков, обычных знаний не хватало. Тогда Лариса посылала своих специалистов на стажировки за рубеж, не скупясь на подобные траты. На момент встречи с Николаем, фирма Фёдоровой, можно сказать, процветала. В тот день, при расставании Лариса протянула руку: – До свидания, Коля. Жду тебя завтра к восьми тридцати на работу. – Как это понимать? – Я беру тебя к себе на фирму, вот и всё, – рассмеялась Лариса удивлённому виду мужчины. – Даже не узнав, что я могу и чего стою? – Глупости говоришь. Я же прекрасно тебя знаю: ты, даже если чего и не умеешь, то быстро этому научишься. Правда? К тому же, и уживаться с тобой мне будет несложно; знаю с чего начинать и чего избегать. Лариса смотрела хитро. Николай помотал головой: – Во дела! С тех пор Кравцов начал работать на фирме Ларисы. Соскучившись по своей работе, он с первых же дней впрягся в дела с головой. Это помогало не замечать многих вещей, которые то и дело приходилось сравнивать с заграничными. Но самым главным преимуществом работы была возможность не думать постоянно об Анне. Оставшись без неё, через время Николай затосковал так, что готов был всё бросить и вернуться назад. Однажды он набрался смелости позвонить в Германию. Выловить Анну удалось только на сотовом телефоне; она отдыхала в Баден-Бадене. По тону, каким она говорила, Кравцов понял, что звонит зря: Анна развлекалась на курорте не одна. На вопросы она отвечала весёлым смехом и о случившемся, похоже, не жалела. Бросив трубку, Кравцов в этот же день со злости переключился на Ларису: пригласил поужинать, намекнув, что готов на продолжение вечера со всеми исходящими из этого последствиями. Так начался у Николая новый роман. Обвитый вниманием Ларисы и задаренный подарками и почестями, Кравцов безразлично скатился к краю обрыва, скинувшего его во второй брак. Лариса, опасаясь потерять возлюбленного опять, на этот раз с венчанием поторопилась. Срок свадьбы, как назло, снова выпал на октябрь. Стоя в ЗАГСе, Кравцов истекал болью: ему то и дело вспоминались счастливые глаза Анны в восемьдесят девятом году. Сразу же после свадьбы Николай переехал жить к Ларисе. Как-то вечером, сидя за ужином, новая «госпожа Кравцова» вдруг участливо вспомнила про бывшую подругу: – Знаешь, Коля, наверное, ты должен позвонить и всё ей рассказать. – Ничего я никому не должен. Ей Надежда напишет, если уже не написала. Заметив его категоричность, Лариса принялась убеждать мягко, по-лисьи: – Это не дело, Коля. Всё-таки Анка была тебе близким человеком на протяжении 39 стольких лет. Она не заслуживает подобного пренебрежения. Кравцов засомневался. За все годы жизни, Анна так и не стала ему понятной до конца. Возможно Лариса, будучи женщиной, в данном случае чувствовала вещи лучше. Во всяком случае, она реагировала положительно. – Наверное, ты права, – Кравцов безразлично уставился на жену, принявшуюся набирать номер во Фрайбурге. Анна на этот раз была дома. Она действительно обрадовалась звонку и поспешно принялась делиться с Николаем последними новостями. По ходу рассказа Анны, Николай вдруг почувствовал, что вряд ли его сообщение будет радостным. Он хотел промолчать, но Лариса смотрела в упор. Кравцова опоздало осенило: «Она хотела убедиться насколько я смогу отречься от прошлого, только и всего». Мужчина уже хотел повесить трубку, как вдруг Лариса громко передала Анне привет. Телефонная связь была очень хорошей. От голоса Ларисы Анна затихла. Она тут же узнала подругу и переспросила Николая. Кравцову ничего не оставалось, как рассказать о переменах в личной жизни. Расстались они сухо и скомкано. Анна нервно пожелала бывшему супругу семейного счастья и передала ответный привет его новой партии. С тех пор Николай в Германию не звонил. Прошло два месяца. Приближался Новый год. В Европе вовсю праздновали Рождество. Вернувшись домой двадцать пятого декабря тысяча девятьсот девяносто шестого года, Кравцов не увидел в квартире ни накрытого стола, ни вообще каких-либо приготовлений к празднику. Лариса встретила его в халате, подвыпившая и совершенно безразличная. По телевизору передавали какую-то развлекательную программу; это интересовало хозяйку больше, нежели состояние мужа. Достав из холодильника пачку сосисок, Кравцов отварил их. Одиноко усевшись на кухне перед дымящейся тарелкой, он с грустью вспомнил рождественские яства, приготовляемые когда-то Анной. Она тратила на них массу времени и значительную часть их скудного бюджета, но зато, оказавшись за столом, Кравцов всегда был рад каждой новой мелочи, заранее продуманной любимой женой. Он знал, что за традиционным российским свиным холодцом с хреном, Анна подаст дымящуюся индейку. А к водке обязательно будет самодельная квашеная капуста. Начав справлять праздник вдвоём, позже они засядут за телефон и станут приглашать к себе знакомых. Закончится эта рождественская посиделка поздней ночью, когда немцы после мессы, проведённой накануне, уже будут спокойно спать. Они же, переселенцы со всего бывшего Союза, всё так и непривычные к религиозным традициям, несмотря на годы жизни за рубежом, упьются, натанцуются и затем весело разбредутся по домам, не рискуя иметь конфликт с соседями из-за нарушения порядка. Ведь Рождество – это, пожалуй, единственный праздник в году, когда бдящие немцы закрывают глаза на всё. А, если и разглядывают ваших гостей в бинокли, когда те расходятся, то уж, по крайней мере, не звонят в полицию, чтобы доложить сколько машин и с какими номерами отъехало от вашего дома с водителями «навеселе». Анна, после ухода гостей, в каком бы состоянии она не находилась, перемоет посуду, тщательно уберёт кухню, зажжёт свечу и предложит Николаю перед сном выпить с ней зелёного чаю. Прожив на Востоке много лет, она на всю жизнь сохранила в себе привычку пить на ночь горчащий желтоватый напиток. Пока чай будет настаиваться, они выкурят при мерцающем огне свечи по последней на сегодня сигарете. А потом, Николай вспомнил это отчётливо, как всегда в конце вечера Анна подведёт его к ёлке, неизменно устанавливавшейся на праздник, и там он найдёт приготовленный ему свёрток. Открыв его, мужчина поохает и сожалеючи извинится, что не подумал об ответном подарке. Она тут же простит и поверит, что у него действительно не было 40 времени побаловать её; ведь она весь день проверяла все заветные места в надежде обнаружить покупку. И лишь уже в кровати, как ребёнок вскинется от радости, обнаружив под подушкой пакет с подарком. Она примется целовать Николая, переходя незаметно на более откровенные ласки. Вспомнив о последнем, Кравцов понуро сгорбился: Лариса, несмотря на жизненный опыт, в этом деле так и не научилась быть желанной. Грустно окунувшись в воспоминания, Николай вдруг почувствовал нетерпимое желание хотя бы услышать родной голос. Он уверенно взял в зале переносную трубку и, закрывшись в спальне, набрал немецкий номер. Анна дома была одна. Она умышленно отказалась от всех приглашений. Сидя вот уже два дня в отражениях ёлочных огней, Анна тупо смотрела на телефон. Она ждала звонка от Николая. Это было совершенно глупо, учитывая, что у него теперь была новая жизнь: насыщенная и безоглядная. Именно об этом он мечтал. Именно ради этого Анна сделала всё, чтобы Кравцов был свободен. А теперь вот мечтала о безвозвратно ушедшем и надеялась, что Коля вспомнит о ней. Двадцать четвёртое декабря прошло беспощадной серой полосой, не прерванной никем. Оставшись без мужа, Анна очень быстро поняла, что сама по себе бывших друзей не интересует. Кроме того, что с отъездом Николая у неё стало в два раза меньше дохода и ровно во столько же больше проблем, дом без хозяина опустел. Из него, казалось, ушла радость, сменившись той не прекращаемой тоской, какая обернулась вокруг Анны сейчас. Подобное состояние парализовало, лишало всякого желания, истребляло любые побуждения. Вот уже почти полгода, как Анне Керман всё было безразлично. Дожив до праздников, она хотела теперь только одного: чтобы Коля вспомнил о ней и позвонил. Наверняка, это ничего бы не изменило, но женщине это было важно. О том, что будет после, она думать не желала. Где-то далеко в подсознании уже поселилась страшная спасительная мысль. Всё чаще хотелось навсегда расстаться с этим миром. Последняя надежда, удерживающая от безумия, была возложена на звонок Николая. Но он не звонил. В тяжёлом ожидании прошёл и весь день двадцать пятого декабря. Подобно Николаю, Анна вспоминала счастливые минуты этих праздников, пережитые ранее вместе. Зачем она наказала саму себя, лишив счастья семейной жизни? И хотя Анна знала ответ на вопрос, теперь ей от этого было только тяжелее. Звонок из Москвы раздался в тот момент, когда Анна раскрыла припасённую для праздника бутылку шампанского. Стрельнула пробка, и почти тут же зазвенел телефон. Оставив напиток вытекать тоненьким пенным ручейком, Анна кинулась к телефону. – Коля! Коля! – Счастье и беспомощность её состояния были столь ощущаемыми. Весёлость, с которой Николай начал разговор, тут же исчезла. Он принялся методично и обстоятельно опрашивать Анну о том, как она живёт и чем занимается. Заливаясь слезами, она поведала ему, что никаких изменений в её жизни нет: она по-прежнему не могла устроиться на работу и значит жила мизерной меркой. – Почему ты одна? – Николаю было странно, что в такой день рядом с Анной нет никого, кто мог бы поддержать её, хоть как-то отвлечь от проблем, поднять настроение. – Мне никто больше не нужен, Коля, – заплакала Анна сильнее. Это было верхом всякого ожидания. Кравцов мог представить что угодно, но только не подобную обречённость. Он понял, что у Анны вновь началась депрессия. Он уже видел, после смерти матери Анны, к чему это могло привести, поэтому холодок пробежал по спине. Не медля с решением, Николай почти прокричал: – Аня, подожди меня. Я приеду во Фрайбург в начале января. Ты слышишь? Анна закивала и заплакала ещё сильнее. Но это было уже не так страшно: это были 41 слёзы надежды. Основное, что требовалось, Николай только что сделал. Он знал, что дожидаясь его, Анна ни за что не сотворит с собой ничего дурного. На прощание Кравцов повторил данное обещание ещё раз. Положив трубку, он методично объяснился с Ларисой, давая ей понять, что обязан помочь Анне. Не угрожая разрывом, не прибегая к шантажу, Николай пообещал жене не менять их отношений. Он знал, что если Анна будет в Москве, ему будет очень трудно заставить себя не видеть её. В то же время, он был уверен в том, что силы воли хватит, чтобы не подвергать жену тяжёлым сомнениям относительно верности. Разговор с Ларисой продолжался несколько дней. Сначала она была настороженной и нервной. Затем злилась и обещала Николаю уволить с работы и выселить из квартиры. Пока, наконец, не стала покладистой и понимающей. И уже перед самым отлётом Николая в Германию, Лариса вдруг, ни с того ни с сего, предложила сотрудникам фирмы открыть новое рабочее место для художникадизайнера. Как только Николай услышал это, он благодарно посмотрел на жену. Если она переступила через гордость и недоверие, чтобы помочь Анне, значит душевности и сострадания было в ней больше, чем он предполагал. Улыбаясь Ларисе, Кравцов подумал, что никогда теперь не сможет предать её вновь. Своей сердечностью Лариса купила его преданность. Вылетая в Германию, Кравцов теперь не просто хотел помочь бывшей жене, но и имел для этого возможность. С Ларисой они решили, что будет гораздо проще для всех, если Анна начнёт работать у них на фирме. – Во-первых, я не стану с самого начала требовать с неё невозможного, как это делают другие директора. Во-вторых, если, со временем, она вдруг захочет перейти на другую фирму, я не стану ей препятствовать, – Лариса остановилась, но по её интонации было понятно, что мысль свою она не закончила. Николай подошёл к ней и обнял: – А в-третьих? – Он явно просил её договорить. – А в-третьих, так будет легче всем нам: видя её каждый день, ты не будешь терзать себя и носиться к ней по первому плачу. – Окончание фразы получилось у Ларисы грубым. Николай догадался, что она всё-таки ревнует, поэтому заверил: – Не надо бояться, Лара. Я постараюсь сделать всё, чтобы ты не страдала. Спасибо тебе за понимание. Ты же знаешь, что у неё никого кроме меня нет. Поэтому я должен помочь ей. Только и всего. Не надо бояться. Через неделю я вернусь. Сказав это, Кравцов улетел. В Москве его провожал Егор. В Базеле, куда прилетел самолёт, встречал Павлик – один из надёжных друзей. На следующий по приезду день, Николай встретился с Анной в кафе. Она пришла в замшевом полушубке, подшитом овчиной изнутри, том, что когда-то Николай покупал для неё. За полгода, что они не виделись, Анна сильно изменилась. Свои длинные волосы она остригла в каре, едва касавшееся плеч. Пышно развеваясь вокруг лица, волосы делали его узким и прозрачным. Тёмно-карие глаза Анны, которые Николай так любил сравнивать с глазами оленихи, обрели грусть. Николай видел её в каждом взгляде, касающемся любого другого предмета. Когда же Анна смотрела на него, в её глазах светилась печальная радость. Наконец, её голос, из звучного и глубокого, превратился в тихий, еле слышный. Неумело поцеловавшись в щёки, они рассмеялись собственной неловкости. Николай предложил сесть за один из столиков. Анна облегчённо выдохнула. Их отношения бывших супругов при личной беседе легко перешли в дружескую связь. Это было даже удивительно насколько, оказывается, они понимали друг друга. Отсутствуя в Германии всего-то полгода, Кравцов признался, что в какой-то степени соскучился по загранице. Да, у него теперь была Москва. И работа. И новая жизнь. Такая, о какой он 42 давно мечтал: интересная, захватывающая. Жить личной жизнью было некогда, настолько поглощали дела и столичная кутерьма. Домой Николай приходил поздно: всегда находились какие-то неотложные дела, совпадающие с интересами фирмы. Лариса, довольная тем, что долгожданный брак складывается столь успешно, никогда не возражала против дополнительного рабочего времени мужа. Это было для Анны ново. Насколько она раньше знала Ларису, та была напрочь лишена рвения к труду. Откуда же теперь в ней появилось столько усердия? На этот вопрос Николай криво улыбнулся: – Лариса-то, допустим, сама не перенапрягается. Это мы пашем: я и ещё несколько ребят. А она может позволить себе отдыхать по нескольку дней. – И что же она делает эти несколько дней одна, если ты на работе? – опять удивилась Анна. – Не знаю. – Что-то заставило Николая покраснеть. Даже сквозь тёмный тон его смуглой кожи, Анна видела, как разлились по впавшим скулам нервные пятна. Анна забеспокоилась: «Поехать бы туда, да посмотреть на всё самой». В ней тоже говорило ответное чувство небезразличия за судьбу бывшего супруга. Никакие расстояния или беды не смогли погасить в молодой женщине любовь к единственному оставшемуся в жизни близкому мужчине. Опираясь именно на эти доводы, Анна с радостью согласилась с предложением Николая приехать в Москву на собеседование. Работа на фирме Ларисы если и представлялась ей, то тоже как временный вариант. Не торопясь давать Николаю скорого соглашения на работу, Анна очень рассчитывала, что прежде, чем принимать решение, ей удастся переговорить с Ларисой наедине. Им было что сказать друг другу. Глава шестая: Обстоятельства, меняющие всё (22/01/1997) Как только открылась дверь в квартиру, где жили молодожёны Кравцовы, Анна застыла. Напротив входа, на дальней стене прихожей, в виде настенных обоев был наклеен свадебный портрет, растянутый в натуральный рост. Сделанный несколько месяцев назад, он всеми красками запечатлевал откровенно счастливое лицо невесты, тянущейся к жениху за поцелуем. Сплетённые руки молодых с трудом удерживали огромный букет белых роз. На устах обоих застыли улыбки: скромная – у Николая, нескончаемая – у Ларисы. Фотография была настолько качественной, что создавала у вошедшего иллюзию присутствия на церемонии бракосочетания. Не ожидая увидеть подобное, Анна оробела. Как любая из женщин, она завистливо задохнулась, рассматривая платье невесты. Обвивая тонкую талию Ларисы метрами невесомой материи, оно спадало с открытых плеч мягкими белыми волнами и сливалось далеко позади с длинным шлейфом фаты. Безусловно, пара была превосходной. Глядя на фотографию, Анна попыталась вспомнить насколько эффектными казались они с Николаем во время их свадьбы. Её платье явно уступало платью Ларисы. Да и костюм Николая не сидел на нём так, как тот, что он надел во второй раз. Тем не менее, перед этой церемонией у Анны были свои преимущества: она всё-таки была первой избранницей. И, потом, во время их свадьбы они были гораздо моложе и любили друг друга. Никакая роскошь, брызжущая с портрета, не могла укрыть от глаз Анны опущенные веки бывшего мужа, его взгляд мимо объектива. О том, что кроется за ними, Анна могла лишь догадываться. Подумав об этом так, как её это устраивало, Керман наконец-то посмотрела на Ларису: 43 – Здравствуй! Довольная эффектом от снимка, Лариса махнула рукой, забыв ответить на приветствие: – Проходи! Дует, – и тут же беспардонно ткнула в пальто пришедшей, – Что это на тебе, подруга, за дерюжка? Изо рта Ларисы пахнуло хмелем. Утреннее предположение Анны не было ошибочным. Развязность бывшей подруги усугублялась состоянием излишней весёлости: Лариса продолжала глумиться: – Неужели население Германии не может позволить себе одеться поярче? Создаётся впечатление, что это не ты, а мы все из-за границы приехали: Париж, Лондон, Берлин… Где же твой лоск на фоне нашей дикой восточной столицы? Остроты Ларисы, граничащие с оскорблением, заставили Анну задержаться на пороге. Может, лучшим было сразу развернуться и уйти, не думать ни о какой работе, не строить никаких планов на этот счёт? Никогда бы прежде Анна не могла подумать, что, приехав в Россию, ей так скоро захочется вернуться обратно в Германию: далёкую, чужую страну, непонятную, не до конца приемлемую и не до конца приемлющую их, но, вместе с тем, образцово-культурную и сохраняющую право каждого из её жителей на независимость. После четырёх лет жизни в условиях неприкосновенности личности, а уж тем более осуждения обычного стиля одежды, слова, высказанные Фёдоровой в грубой форме, ранили Анну. «Неужели она и с Колей такая же прямолинейная до неприличия?», – забеспокоилась Керман. Затравленный взгляд во Фрайбурге при вопросе о семейной жизни, стал теперь для Анны понятнее. Оставалось только надеяться, что во всём остальном у молодожёнов дела обстоят благополучнее. Заметив нерешительность пришедшей, Лариса сменила нападническое настроение и повторно пригласила войти. Анна никогда не была прежде у Фёдоровой, но знала, что раньше в этой трёхкомнатной квартире жила мать Ларисы. После того, как отец Ларисы организовал в Москве фирму, у него появилась возможность купить жене новую двушку, а эту оставить дочери. Лариса, начав работать под руководством отца, привела своё жилище в полный порядок, сделав капитальный ремонт по европейскому типу. Средства и наличие рабочей силы позволили ей отшлифовать каждый уголок квартиры, перестроив до неузнаваемости. Рассматривая шикарные аппартаменты молодожёнов, вошедшая Анна поразилась богатству вкуса и выбора. Сразу от входной двери шёл широкий и длинный коридор, прерванный дверью в туалет. Следующий проём коридорной стены выводил в огромный холл, где кухня, построенная при возведении здания по незамысловатому стандартному проекту, была во время ремонта соединена с залом. Это давало вид на прекрасную гостинную, залитую светом двух огромных окон и широкой дверной лоджии. Зрительно гостинная была разделена на две части совсем небольшим возвышением пола, приподнятого по месту нахождения бывшей стены и выложенного со стороны кухни плиткой, а далее – красивым паркетом. Увидев дубовый настил, Анна ревниво задохнулась: паркетные полы были с давних пор одним из её самых вожделенных мечтаний. Когда-то, в Душанбе, в родительской квартире тоже повсюду были паркетные полы. Они были немного скромнее, нежели эти, но всё же, натёртые до блеска, представляли собою предмет неоспоримой гордости и достоинства квартиры профессора Керман. Не поднимая взора, мгновенно набухшего слезами, Анна уставилась в пёстрый орнамент природных тонов: от солнечно-рыжего до шоколадно-коричневого. Кухня, увеличенная за счёт ремонта, казалась ещё больше из-за просторного выхода на застеклённую лоджию. Встроенная по размерам, она была исполнена в рустическом стиле с применением массивного дуба, богатство которого 44 усиливалось резными поверхностями прямоугольных фасадов. Натуральные тона дерева гармонично вливались в обстановку гостинной, придавая комнате жилой уют. Эффект старины усугублялся накладными металлическими ручками и петлями на дверях шкафов. Декоративные оправы витражей навесных полок отливали дымной зеленью искусственно состаренной бронзы, так много привлекаемой дизайнерами при работе с рустикой. В том же средневековом деревенском стиле была выложена и кухонная рабочая стена с кладкой грубой, шершавой, на вид неотёсанной каменной плитки. Все прочие детали декора: искусственные цветы, декоративные горшочки и навесные полочки сочетались с привычным беспорядком, присущим хозяйке. Газеты и журналы повсюду соседствовали с мимолётно оставленными вазочками с полусгнившими фруктами, разорёнными конфетными розетками и пачками недоетого печенья. Коробка вскрытых диетических галет, рассыпанных на столе, подтверждала абсолютное безразличие хозяйки к порядку. Анна брезгливо отвернулась от раковины, уставленной давно немытыми кофейными чашками из серии «Бэкингем». Из-за тонкости фаянса мыть в машине их не рекомендовалось. А до ручной мойки у Ларисы, похоже, не доходили руки в самом прямом смысле слова. Впрочем, гостья не стала строго судить подругу за домоводческие способности, а вернее отсутствие таковых. Сама она страдала манией чистоплотности. Не раз выслушивая из-за этого недовольства бывшего мужа, Анна убеждала себя в необходимости смотреть на некоторые вещи проще. Хотя, по правде говоря, дальше убеждений это не шло. Глядя сейчас на безразличие подруги, позволяющей ей беспроблемно сосуществовать в беспорядке, Анна горько усмехнулась: «Наконец-то никто не будет пилить Колю за крошки, оставленные на столе, или за скомканное полотенце для рук, небрежно брошенное в ванной мокрым клубком». Попросив у Ларисы разрешения, Анна с интересом углубилась в дальнейший осмотр. В глаза приятно бросилось, что со стен исчезли громоздкие гармошчатые чугунные батареи и безобразные трубы центрального отопления. Они уступили место аккуратным электрическим обогревателям, удачно скрытым в нише широких мраморных подоконников, и сочетающимися с общим интерьером. Прекрасного качества обои покрывали безупречно выровненные стены. Санузел и ванная отличались броским сиянием сантехники. Анна обратила внимание на душ, подведённый к унитазу. Такого она не видела ещё нигде, и тут же оценила его удобство. Не оставили её равнодушными шкафы и антресоли, выполненные из дорогостоящих синтетических материалов и блестящие зеркалами. Высокое качество работ Анна подметила с чисто профессиональным интересом. – Да, я вижу мне не просто будет влиться во вкус российского потребителя, – предположила она проблематично. С момента её отъезда за границу, эта квартира была первой увиденной в России, оттого поражала. Анна вспомнила вслух, как полгода назад с таким же изумлением осматривалась в доме Белородько в Калинках. Выслушав её рассказ о переменах в деревне, Лариса пошутила с очередной неприязнью: – А вы там, на Западе, наверное думаете, что мы здесь до сих пор в лаптях ходим? – Так мы не думаем, но и, честно признаться, подобное благополучие представить себе можем тоже с трудом. Особенно зная, что большая часть населения страны бедствует. – Ой, я умоляю тебя! О чём ты? Кто бедствует? Кому ты веришь? Погоди ещё, походишь, посмотришь какие квартиры бывают. Моя, по сравнению с некоторыми дворцами, лачугой кажется. – Лариса махнула рукой. Анна в ответ сдержанно улыбнулась и спорить про неравенство не стала. – Есть-пить будешь? – предложила хозяйка тем временем. 45 – Чайку попью с удовольствием, – согласилась Анна. – Чаёк – это сложно; воду греть надо. А вот джинчику могу налить. Хочешь? – Фёдорова пошла на кухню, увлекая гостью за собой. – Нет, – поспешно отказалась Анна, – Мне же ещё на собрание ехать. – Ну так и что? – Подойдя к одному из навесных кухонных шкафов, Лариса достала широкий хрустальный стакан. Из бара, встроенного в стену, она вытащила бутылку толстого стекла, заполнила стакан джином более чем наполовину. – Вопрос о твоём назначении уже решён. Так что пей! Анна отстранила протянутую руку: – Всё равно не хочу. Я джин без тоника не пью. – О, а это уже, как настоящие аристократы… – протянула Лариса. Видя, что Анна попрежнему не проявляет к напитку никакого интереса, она опустили в стакан трубочку и стала быстро всасывать алкоголь, попутно продолжая разговор. О только что запрошенном чае хозяйка мгновенно забыла. – А нам тут кочевряжиться не пристало. Мы только снаружи пока ещё лоск навели, а внутри, как были крестьянами, так ими и остались. Голос Ларисы был делано непритязательным. Попивая напиток, она попутно наткнула на деревянную зубочистку сразу несколько заветренных маслин, залежалых на блюдце тут же, на панели рабочего стола, и стала жевать, широко открывая рот: – Мы всё пьём. И чем крепче, тем лучше. Зря, между прочим, не хочешь: джин не какой-то там дрянной: можжевеловый, «Гордон». – Да хоть пихтовый, – пожала плечами Анна, не рискуя попросить ещё что-либо. В животе у неё урчало, но при этом совершенно не хотелось более выслушивать шутки Ларисы, наподобие той, что она только что отпустила по поводу чая, – Не люблю я это дело. Меня от спиртного всегда мутит. – Ах, да, я же забыла: ты всю жизнь у нас под слабенькую косишь. Колька тебя за твою утончённость, наверное, и любит? – Предложение, поставленное в настоящем времени и вопросительной форме, удивило Анну. Лариса смотрела на подругу в упор. – Зачем ты об этом, Лариса? Он уже твой муж; так что успокойся. –Насмешка подруги больно задела Анну, заставив вспомнить об истинном положении дел. – Да уж, если бы не ты, со своим предложением, вряд ли он, конечно же, связался бы со мной. А, кстати, я смотрю ты в полном порядке? Не болеешь больше? – Выздоровела. – Так ты же говорила мне летом, что от этого не вылечивают? – Лариса добивалась конкретного ответа. – Диагноз оказался ошибочным, – коротко ответила Анна. – Понятно. – В интонации послышалось явное разочарование. Анна вдруг некстати вспомнила о том, как через пару месяцев после развода Николай позвонил ей из Москвы и радостно сообщил о своей «случайной» встрече с Ларисой и трудоустройством на её фирму. Его голос был таким родным и долгожданным, что Анна чуть не закричала в трубку как она соскучилась.Тщательно закрывая рот ладонью, женщина долгое мгновение боролась с желанием прошептать несколько ласковых слов. Слушая весёлую речь Николая, она до боли сжимала челюсти, понимая, что если не выдержит, то весь труд, проделанный для того, чтобы оторвать его от себя, окажется бессмысленным. Анна знала, что стоит ей сейчас позволить себе только на секунду изменить тональность голоса, как Кравцов догадается насколько ей одиноко. Он всегда прекрасно чувствовал её; недаром они были столько лет не просто мужем и женой, а самыми близкими людьми. Анне ни за что нельзя было срываться. Она не хотела, чтобы Николай видел её слабой и беспомощной. Собравшись с силами, она уверила его в полном благополучии и довольстве одинокой жизнью. Услышав, как 46 голос в трубке тут же сел и стал сухим, Анна почувствовала, что находится на грани срыва. Тогда она быстро извинилась перед бывшим мужем, объясняя, что звонок отвлекает её от более интересных занятий, и распрощалась. Горячие слёзы брызнули тут же. Женщина переоценила свои возможности, предполагая, что, оставшись одна, сможет привыкнуть жить без Николая. Привыкнуть к этому было нельзя. Как нельзя было теперь объяснить любимому мужчине, что все жертвы были принесены исключительно из любви к нему. Только глубокое и искреннее чувство заставило Анну оттолкнуть мужа от себя, отдав его Ларисе. Сильный и решительный на первый взгляд, в душе он всю жизнь оставался слабым и ведомым. Поняв по разговору с бывшей женой, что она больше не нуждается в нём, Кравцов раскис и безвольно предался чужой воле. На этом фоне Ларисе легко удалось вновь наладить утраченные отношения. Отторжение первой жены подтолкнуло Николая к браку со второй, оставив Анну с горьким осознанием необратимости содеянного. Единственным утешением для неё оставалась мысль о счастье двух молодожёнов. Рассматривая Фёдорову теперь, Керман отказывалась верить в то, что это именно та женщина, которая мечтала о браке с Николаем долгие годы. За прошедшие месяцы Лариса сменила причёску: она коротко подстригла волосы и вновь вернула им утраченный блонд. Лицо её не то чтобы похудело, скорее осунулось. При дневном свете, без макияжа на нём подчёркнуто выделялись под глазами плотные синяки. Кожа была бледной, с болезненной желтизной. Губы – сухие. Глаза – неприятно вонзающиеся. Было заметно, что при разговоре Лариса делает заметное усилие фиксировать собеседника взглядом. Выпив первый стакан джина, хозяйка тут же налила себе второй. Её речь, и до этого не особо приятная, теперь закачалась на междометиях и сокращениях, выражающих собой грубые недоговорённые слова. Ругаться перед Анной вслух Лариса всё-таки сдерживалась. – А почему ты говоришь, что мой вопрос о трудоустройстве на вашу фирму уже решён? – вспомнила вдруг Анна. – Потому, что мне так проще. – ответила Лариса коротко, но догадавшись, по виду гостьи, что не понята, Фёдорова принялась объяснять. После звонка Анне на прошедшее Рождество, Кравцов потерял покой. Он метался, не зная, как помочь бывшей жене. В семье он стал замкнутым. Но хуже оказалось то, что Кравцов совершенно перестал работать. Он думал только о помощи. Видя всё это, Лариса поняла, что если она не примет нужное решение, ей грозят неприятные изменения. Просто возвращение Анны в Москву казалось невозможным: не работая, она не смогла бы снимать себе жильё. Устроить её куда-то на работу, без стажа и после стольких лет перерыва, было ещё сложнее. – Вот почему я и предложила Коле пристроить тебя временно к нам. Поработаешь немного, наберёшься хоть каких-то навыков, а потом – ищи себе другое место. Как видишь, я не скрываю от тебя, подруга, что моё решение терпеть тебя связано с желанием сохранить семью и угодить мужу. Ну кто же мог подумать, что вы с ним, как фонд взаимопомощи, работаете на одной волне: помогу тебе я, потом поможешь мне ты. Лариса остановилась на язвительной нотке. Анна молчала. Приятного в услышанном было мало. Она вновь подумала, что зря так скоро согласилась на предложение уехать из Германии. Там у неё не было никакой перспективы на хорошее трудоустройство, это факт. Но там, по крайней мере, никто не выставлялся в роли благодетеля, коему она, при складывающихся обстоятельствах, оказывалась должной. Лариса, очнувшись от тяготящего молчания, добавила: – А вообще-то, мне тебя тоже жалко. Да и нужно же отплатить тебе то, что ты отдала мне Колю обратно. Надеюсь, теперь не заберёшь? – Лариса дёргано закачалась, – Он – 47 классный мужик. Я ещё десять лет назад это учуяла. На него можно положиться. Уже сейчас он целиком тащит на себе всю фирму. Работает, как вол. А я, как видишь, могу теперь себе позволить расслабиться, – она указала на стакан. Анна, неловко толкавшаяся посреди кухни всё это время, тяжело села за неприбранный стол. – Ты так говоришь о Коле, словно он не твой муж, а всего лишь работник, – заметила она. – Я не вижу разницы в этих понятиях: хороший муж должен быть прежде всего хорошим работником на производстве и хорошим хозяином дома. Чтобы ему не страшно было всё доверить. – не стесняясь, Лариса подтянула сползшие лосины и присела с другого края стола. Грузно облокотившись, она даже не отреагировала на многочисленные крошки на скатерти: так и влипла в них локтями. От второго стакана джина её стало развозить. Женщина говорила теперь первое, что приходило на ум, не контролируя себя. Глядя на Анну помутневшими глазами, Лариса раздражённо добавила: – Вот подожду ещё немного, и вовсе на Кольку всю фирму перепишу; пусть он будет директором. Надоело мне по всем этим стройкам мотаться, среди работяг целыми днями торчать. А ему это как раз то, что нужно, чтобы голову дурными мыслями не забивать. – Какими, например? – Анна смотрела на подругу, силясь скрыть отвращение. Не только потому, что та напилась и была безобразна в своём пьянстве. Лариса крайне неуважительно отзывалась о Николае, человеке, с которым ныне делила не только работу, но и своё ложе. Вместо ответа на вопрос, Лариса огрызнулась: – Сама знаешь какими. Анна в недоумении пожала плечами: – Нет. Не знаю. Я прожила с Колей почти восемь лет и ни разу не заметила, чтобы он занимался какими-то глупостями. Так что – объясни. Не выдержав настойчивого взгляда, Лариса вскочила: – Теперь ты его защищаешь? Ах да, конечно, я же забыла что у вас с ним любовь до гроба! – Пьяная женщина поспешно схватила с холодильника сигареты и в одной маечке с коротким рукавом и лосинах выскочила на застеклённую лоджию. Поспешив уйти от осуждающего взгляда гостьи, там она впопыхах наскочила на кучу пустых бутылок. – Чёрт! – выругалась Лариса, заметив, что одна из бутылок из-под пива перевернулась и на кафельный пол вылился недопитый напиток. Пиво было выпито совсем недавно, ибо, в противном случае, при том морозе, что был на улице, остатки его на дне бутылки наверняка уже превратились бы в лёд. Подобрав бутылку, хозяйка стала переставлять всю вереницу подальше от прохода, к одной из стенок. Дверь на лоджию оставалась открытой. Глядя на её усилия, Анна попыталась укротить проявленное буйство. – Зря ты, Лара, бесишься на мой счёт, – проговорила Керман миролюбиво, – И Колю зря обвиняешь. Если бы ты была ему безразлична, он никогда бы не женился на тебе. – Анне всё ещё хотелось спасти брак молодожёнов, постараться сгладить острые углы, возникшие, возможно, в результате её появления. «Пусть мне будет потом в десять раз хуже, лишь бы только из-за меня она не пилила Колю. Он так рад своей новой жизни, работе», – думала гостья. О том, что она будет работать на фирме у Фёдоровой, теперь не могло быть и речи. С первых же минут сегодняшней встречи Анне стало ясно, что бывшая подруга настроена против неё воинственно. Ни на какую милость, а уж тем более жалость, рассчитывать не придётся. Скорее всего, Фёдоровой вообще было наплевать на судьбу бывшей подруги. Если бы Анны не стало, Лариса чувствовала бы себя намного лучше. Судя по 48 её словам, она вообще надеялась больше никогда не увидеть Анну, и ничего о ней не слышать. В какой-то степени это было понятно. Ещё минута, и Керман откровенно призналась бы подруге в том, что её решение приехать в Москву было ошибкой. Теперь она поняла это. Ещё чуть-чуть, и Анна уже была готова пообещать Ларисе исчезнуть из их жизни навсегда. Сделать это будет нелегко, но, всё-таки, придётся. И самой ей теперь представлялось большой глупостью бежать за тенью того, кого она совсем недавно оттолкнула. Чем больше времени проводила Анна рядом с Николаем, тем тяжелее становилось удерживать себя в той роли подруги, что она себе определила. На расстоянии она могла только мечтать о нём. Вблизи к мечтам присоединялись предательские побуждения к близости. Глядя на Ларису, приплясывающую от холода, Анна сжалилась теперь и над ней. Она никак не хотела вновь стать причиной её несчастий. Даже в своих роскошных апартаментах и при всём благополучии, хозяйка казалась жалкой. Анне захотелось сказать бывшей подруге ещё что-нибудь утешающее, что укрепило бы в ней уверенность в искренности Николая. – Да не переживай ты так, Лариса. Я для Коли – пройденный этап. Я это сразу почувствовала, как только он приехал в Германию. У него даже взгляд стал совсем другим, – призналась она, не углубляясь в объяснения. При всём том, что в семье у молодых не всё было гладко, одно для Анны являлось очевидным: сегодняшняя жизнь в Москве с Ларисой устраивала Николая гораздо больше, чем бесцельное проживание в Германии с ней самой. Только ради этого стоило не мешать Коле, а, значит, и его новой избраннице. Но Лариса на подобное откровение повела себя грубо: – О чём ты говоришь? Ты для него пройденный этап? И это мне ты пытаешься засрать мозги подобной мурой? Да он спит и видит себя с тобой. С того самого проклятого вечера, как он позвонил тебе на Рождество, Кольку как подменили. Он перестал принадлежать не только мне, но и себе самому. Он перестал спать по ночам. До самого отъезда он только и мусолил эту поездку к тебе. Всё ходил и ныл, как бы тебе помочь, чем бы тебе помочь, пока на выныл моё согласие на твоё присутствие здесь. А когда я сказала, что согласна, так он от радости подскочил на месте. И приехал он из вашей вонючей Германии не с благодарностью и не с покаянием. Нет. Он приехал с огромным ожиданием твоего появления. Думаешь, я не понимаю почему он приволок в дом этот драндулет? – она подошла и пнула домашний велосипед, стоявший в дальнем углу кухни. – До того, как уехать к тебе в Германию, он еле-еле просыпался в семь, чтобы к девяти быть на работе. А тут, прям как на крыльях, стал в шесть вскакивать. И сразу же: прыг и давай крутить, как оголтелый, по часу. А потом в душе намывается, песенки поёт. А как выйдет да как посмотрит на меня... В глазах такое презрение! Наглый стал, полный уверенности, что скоро ты появишься здесь работать, шуры-муры с ним крутить, а я, влюблённая дурочка, буду подстраиваться под ваши похоти. Что, скажешь не так? Не было у вас таких планов? Лариса носилась с кухни на лоджию и обратно, не выпуская сигареты. Анна побелела. Голос, осипший от негодования, предал её: – Прекрати орать! Но Лариса требования не послушалась и продолжала выкрикивать нелепые обвинения: – Только хер вам! Ничего у вас не получится! Ничего я Кольке не дам. Это я только пообещала. Ни за что! Он будет жить здесь на птичьих правах всю свою оставшуюся жизнь; в купчую на квартиру я его не впишу. Не идиотка! И фирму на него не переделаю. Пусть пашет на меня, но чтобы хозяином – вот вам, выкуси! – пьяная женщина нервно сунула Анне в лицо скрученную фигу. Всю её в этот миг перекосило от злобы. Лариса была на грани истерики. Сев обратно на стул, она подпёрла голову руками и стала причитать. – А то ишь, размечтались! Сначала ты явилась, разжалобила 49 меня, раздобрила, чтобы я Кольку к себе под крылышко сунула, работу ему дала. Потом он в кровать мою залез. А теперь и тебя к нам тащит. Может ещё предложите жить втроём? Нервозность подруги пугала. Анне хотелось поскорее убежать отсюда, спрятаться. – О чём ты говоришь? – похолодела Анна. «Неужели, Коля всё ей рассказала про..?» – подумала она с ужасом и побоялась смотреть в глаза подруге. – Я знаю, о чём говорю, – тупо повторила Лариса, не отворачивая стеклянного взгляда от квадратиков скатерти на столе, – Ты думаешь, я не догадываюсь, что всё это время вы продолжаете спать друг с другом? Брось, не надо меня «лечить», – не поворачиваясь, махнула она на готовность Анны опровергнуть сказанное, – Да на Кольке ведь всё написано было, когда он ждал тут тебя эти две недели. Ладно бы только велосипед он этот крутил, – Лариса с ненавистью глянула на аппарат, словно и его обвиняла в собственных бедах. Устав от крика, она осталась без эмоции и теперь заговорила спокойно, почти безразлично, так, словно смирилась с тем, что происходит вокруг, – Раньше Колька на работе с утра до ночи засиживался, пыхтел, упирался. А тут вдруг за последние две недели всякий интерес к фирме потерял. То в сауну с ребятами запросился, то в бассейн пошёл: поплавать, формы поднабраться, то подстригся, то рубашек себе понакупал, носков, трусов. Конечно, как же перед тобой в старых носках красоваться? Разве такое возможно? – Остановись, Лариса, – жалобно попросила Анна. Столь интимные подробности хотя и услаждали её женское самолюбие, всё-таки были несносны, – Ты же не шпион для него, а жена. – Жена? Ха-ха-ха. – Лариса смеялась нервно. Сигарета, забытая во время разговора, дотлела в руке до конца. Попробовав затянуться и увидев, что ничего из этого не получается, женщина бросила окурок в раковину прямо на красивые чашки английского сервиза, – Жена! Какая я ему жена? Это ты была любимая женщина, желанная любовница, что там ещё, я не знаю. А я – только способ выжить. Он ведь держится за меня исключительно ради работы. Да ещё, чтоб было где жить. Ну и так, иногда, когда совсем уж приспичит, перепихнуться на законных правах. Не с улицы же проституток брать. Слова Ларисы резали ухо грубостью. Анна не понимала, как можно до такой степени не уважать человека, с которым живёшь. Обижать его недоверием. Обвинять бездоказательно. Керман прошла к выходу из кухни, но на пороге остановилась: – Скажи мне: ты на самом деле думаешь что говоришь, или это только чтобы обидеть? Кого ты хаешь? За что? Если ты считала, что Коля не любит тебя, зачем вышла за него замуж? – Анна растерянно глянула в сторону свадебного портрета, – Зачем теперь живёшь с ним? Неужели ты не понимаешь, что унижаешь его, как мужика? Не могу поверить, что Коля знает как ты к нему относишься и терпит это... – В груди Анны стало расти возмущение. Обиды, нанесённые ранее, превратились в противостояние. Она уже поняла, что это их последний разговор. Сев на скамеечку в прихожей, гостья принялась натягивать сапоги. Лариса вышла к ней. – Колька ничего не знает. Я, как могу, стараюсь беречь его, – Лариса, тоже посмотрела в сторону портрета, – А ты, если скажешь, будешь последней тварью, – слова звучали не столько угрозой, сколько оскорблением. Анна подняла глаза. Фёдорова прищурилась, – Я, между прочим, про твою болезнь ему ничего не сказала. А замуж за него вышла, чтобы всем доказать, что это не я ошиблась в выборе, а он. Меня тогда никто из вас не пожалел. Чего же я должна теперь жалеть его? Может ещё и тебя пожалеть? Нет уж, не ждите от меня ни жалости, ни пощады. – Теперь глаза Ларисы были сужены до предела, а голос, стихший, почти вымученный, перешёл на желчные выдохи. Анне показалось, что женщина испытывает к ней ненависть и способна на 50 жестокость. Но вместо того, чтобы броситься на неё, Лариса пренебрежительно улыбнулась, – Колька ко мне на коленях уже приполз, как щенок. Теперь вот ты ползёшь. Ползите, ползите. Лариска добрая, всех подзаборных подбирает. В Германию они подались! – развела она руками, как на сцене, – Думали им там мёдом намазано. Да кому вы там нужны, инострашки несчастные, евреи! – кольнула она и вовсе глубоко. – Тон её стал черстветь. Анна снова опустила глаза, не желая себя провоцировать к скандалу и только и выслушивая новый сгусток желчи хозяйки квартиры. – Пожили среди немчуры, пупки понадрывали и обратно домой вернулись? Так вам и надо! Но только за то время, что вас тут не было, и здесь законы поменялись. Тут теперь мы хозяева! И тоже надо плясать под нашу, хозяйскую дудку. Колька уже пляшет. Ты тоже запляшешь. А я на вас со стороны смотреть буду. И, если что не по-моему, – обоих выгоню к такой-то матери! От ярости, обуявшей её, Лариса сжала кулаки. Ситуация напоминала сцену из фильмов про помещиков, в которых пресыщенность властью затмевала любые человеческие чувства. «Ну и Васса! Странно, как век спустя всё повторяется. Царский режим: кто у руля, тот и силён. Трудно даже поверить, что всего каких-то шесть лет назад все мы были равными», – подумала Анна с горечью и встала за пальто: – Твоё поведение. Лариса, похоже на месть. Если бы я знала полгода назад, что в тебе, кроме злобы, ничего не осталось, ни за что не стала бы просить помочь Коле. – Гостья оделась и пошла к двери, чтобы уйти. Но оказалось, что разговор ещё не окончен. Лариса преградила путь и несвязно кидала Керман в лицо: – Если бы не ты, я могла бы быть счастливой ещё давным-давно. Но ты всё отравила. Теперь я мужиков не просто не уважаю, я их ненавижу. Они все – козлы. И Колька, и другие. Даже папочка мой, и тот козёл. Мать правильно говорила, что их доить надо; они только этого заслуживают. Колька, пока не отработает всё, что мне должен, ничего не получит. И он знает это. Поэтому не рыпается. Я ему деньги плачу. Где он ещё найдёт такую дуру? В других фирмах и половины такой зарплаты не дают, что он у меня имеет. Пусть благодарный будет! – А я думала, что твоё желание выйти за Колю замуж было основано на обычных женских слабостях, а не на расчётливости. – Анна смотрела на пьяную подругу с разочарованием. Только теперь стало ясно, в какие именно руки попал её бывший муж. От чудовищности ошибки, совершённой ею самою, Керман стало невыносимо. Перед ней была бездушная, эгоистически настроенная женщина, избалованная в жизни удачей и деньгами. Никогда она не любила Николая, раз могла себе позволить так говорить о нём. Да и вообще никого, кроме как себя, она, похоже, никогда не любила. «Нет, я не имею права оставлять Колю рядом с этой ...», – вдруг ощетинилась Анна. Она ещё не знала какими будут её дальнейшие действия, но поняла, что теперь, вот так запросто, не уедет. Чудовищное признание Ларисы было сделано как нельзя вовремя. И причиной подобного разоблачения сущности стало для Фёдоровой не спиртное, выпитое в тот день в большом количестве. Недовольство жизнью росло в этой женщине долго, может даже все эти годы, для того, чтобы вот так, однажды пробиться, проклюнуться на глаза из-под слоя молчания и бремени ожидания удобного случая. Всё это было понятно и легко объяснимо с точки зрения психологии отвергнутой женщины. Вот только примириться с убеждённостью, что Николай виновен перед ней, а значит связан долгим платежом, было нельзя. Уйдя от Ларисы, Анна догадалась об истинной причине Колиных недосыпов. Он не мог не понимать происходящего. Оставалось только дознаться почему всё это время Кравцов столь терпеливо сносил все выходки Ларисы. Сказать это Анне мог только он. 51 Глава седьмая: Одиночество Анны (1997 год) Анна Керман устала от воспоминаний. Лоб и переносица покрылись жутким потом, какой выделяется в экстремальные периоды: волнения, например, или страха. Такую же противную липкую влажность Анна ощущала под тканью платья, отчего беспрестанно шевелила телом, пытаясь движениями проветрить одежду. Адвокату со стороны могло показаться, что женщина ведёт себя дёргано и возбуждена от рассказа больше, чем следовало бы. Рябов посмотрел на заключённую с жалостью и протянул стакан с водой: – Анна, у меня к вам есть несколько вопросов. Но, может быть, вы хотите продолжить в следующий раз? – Что вы, что вы! – Анна поспешно прекратила пить. – Спрашивайте всё, что хотите. – Вы уверены, что не устали? Анна патетично усмехнулась и покачала головой. – Тогда ещё раз расскажите мне всё, что было с вами после того, как вечером двадцать второго января после собрания вы остались в гостинице одна. Николай ушёл в тот вечер быстро? Керман кивнула, словно не понимала, как адвокат может не верить тому, что уже было сказано: – Да. Мы только выпили в ресторане по бокалу шампанского за моё «удачное» трудоустройство, и он ушёл. – И вы ему так ничего и не сказали о разговоре с Ларисой? – понять настроение женщины казалось важным. На самом ли деле Анна пощадила самолюбие любимого мужчины, или... Сколько раз уже приходилось Рябову встречаться во время процессов подобного рода со всякими деталями, ранее упущенными, за которые платил потом дорогой ценой: суровым решением суда. Анна снова отрицательно покачала. Как же все эти люди не могли понять очевидного: она не могла рассказать Коле об этом разговоре. В противном случае пришлось бы рассказывать сразу обо всём. К такому удару Кравцов на тот момент готов не был. Женщина снова принялась вспоминать вслух. Анна с печалью посмотрела на дверь ресторана, за которой только что скрылся Николай. К её огромному сожалению, о ближайшем будущем им сегодня откровенно поговорить не удалось. Выскочив накануне от Ларисы в пять часов, Анна уже опаздывала на встречу с Кравцовым, назначенную в холле «Россия», где её разместили. Набрав рабочий номер Николая по его же сотовому, оставленному ей в пользование ещё вчера, она попросила забрать её у метро «Охотный ряд». При встрече, Анна только извинилась за опоздание.Посвящать бывшего мужа в проблемные отношения с его настоящей супругой она не стала. Николая было нетерпимо жаль, и совершенно не хотелось ранить его, и без того ранимое, самолюбие. Увидев Анну, Кравцов принялся весело шутить над её свежим румянцем: – Это тебе, Нюха, московский климат на пользу идёт. – Николай выруливал из узких переулков центра на набережную Москва-реки. Фирма Ларисы находилась на Гоголевском бульваре, в здании одного из старинных особняков. Ехать туда в это время через центр означало заранее обречь себя на долгий простой в пробках. Путь вдоль реки был более свободным. Глядя из окна машины на декоративные подсветки стен и башен Кремля, Анна улыбнулась. Ей стало необыкновенно хорошо от того, что Коля 52 назвал её «Нюхой». Это имя он нашёл для неё давно и называл так раньше в самые искренние моменты. – Вот посмотришь, поживёшь тут пару месяцев, поработаешь, так от твоей мнимой бледности и следа не останется. А уж хандра-то так точно пройдёт, – воодушевлённо предрекал Кравцов, – У нас с ребятами столько планов по обновлению отделочных работ; ты бы только знала! Здесь в моду сейчас входят навесные потолки, противошумовая изоляционная стена, ламинат. Клиенты всё чаще просят строить мезонины; и не только в загородных домах, но и в квартирах. И представляешь, на всю Москву всего пара фирм, кто это делает. Так что, мы на освоение этого уже определённый бюджетик заложили. А тканей сколько для драпировок! Со всего света понавезли. Такие окрасы, а никто особо их не использует. Кругом токо дуют друг с друга. Смотреть – глаза режет. Куда не приди, интерьер один в один. Как в «Иронии судьбы»: где бы не жил – оказываешься всегда, как дома. Даже декорации одни и те же: огромные пальмы и искусственные экибаны. Картины на стенах – чаще дешёвые полотна в дорогих позолоченных рамах. Или же какой-нибудь умозаламывающий авангардизм вперемешку с сюрреализмом. Не веришь? Анна улыбалась и кивала. Кравцов продолжал. Речь его текла красивым баритоном, упакованным сложными словами, перевязанным модными выражениями и только изредка пробиваемым дырочками привычного говорка, как для вентиляции: – Не далее чем вчера я видел у одного чудика дипломата писание сального чудовища о семи ногах и пяти головах с глазами наивного ребёнка, который одной головой плачет, другой пугается, третьей судорожно смеётся, и ещё чё-то там. Анна захохотала: – Главное, что ты уловил идею.Ты, давай, Коленька, лучше смотри на дорогу! Как бы нам при таком гололёде не въехать в кого-нибудь. Ужас, сколько машин! – в очередной раз поразилась она. Сплошной поток в два ряда полностью запрудил собою набережную по всей её длине от гостиницы «Россия» и до самого храма Христа спасителя. Кравцов до боли сжал зубы, так, что заходили на скулах желваки: слух колыхнуло ласковое обращение. Только Анна могла так нежно называть его по имени, возбуждая массу желаний. Чтобы не соблазнять себя и дальше неуместными мыслями, Николай принялся вновь говорить о работе. Он никак не должен был сейчас провоцировать их отношения. Ни, тем паче, подвергать бывшую жену сомнениям относительно собственных чувств. Николай подумал, что если Анна станет хотя бы догадываться о том, что он снова бредит ею, она испугается и уедет. Поэтому, он железно сжал подбородок и устремил взгляд на дорогу, занесённую снегом. После собрания, на котором Керман, как и предполагалось, была единодушно утверждена на фирме Ларисы в качестве художника-декоратора, Николай отвёз Анну в гостиницу. Не чувствуя ни голода, ни усталости, женшина всю дорогу до «России» обсуждала с бывшим мужем идеи, имеющиеся у неё до появления в Москве. Обстановка, царящая на предприятии, с первой же минуты расположила Анну и побуждала к работе. Невыясненным оставалось только одно обстоятельство: как теперь себя вести. Сначала Анне хотелось сделать вид, что их разговора с Ларисой не было. Не состоялся, и всё тут. Разве можно принимать всерьёз бредни пьяной соперницы? Но с другой стороны, Анне, лучше, чем кому-либо, было понятно, что она вступила на путь борьбы. Возможная конфронтация угнетала. Характер Керман хотя и был закалён жизненными перипетиями, всё же не позволял каждый день выходить в лобовую с видимым противником. По натуре она была дипломатом, старающимся в любой ситуации найти дорогу если не к миру, то хотя бы к взаимопереносимости. Теперь важно было понять, что позволит Ларисе терпеть её рядом. Смелость начальницы, подкреплённая уверенностью, выстроенной на успехах, являлась для последней 53 прекрасным оружием. Позволить подвергать себя унижениям, Анна не могла; тряпкой она никогда не была. Значит, требовалось стать вне конкуренции на фирме. Чтобы Лариса уважала её, как специалиста. Благо в профессии было чем заняться. В столице остро требовалось проявление индивидуализма, позволяющего выдавать свою работу за модное словечко «ноу-хау». Только своеобразность течений, моды, технологий, методов, выполненных в стиле «а ля рюсс», в сочетании с огромными инвестициями, могли помочь России вновь обрести своё лицо. Авторитет страны и жителей, утерянный за пару последних десятилетий уходящего века, был всё ещё раним, жёстко окольцован ярлыками и штампами зарубежных политологов и историков. Трудности жизни рядовых россиян после советского периода, успеха делу возрождения России прибавить не могли. Тем не менее, Анна, как и Николай, как и десятки тысяч бывших россиян, покинувших страну раньше или позже, и вернувшихся в неё пусть даже в качестве туристов, не могли не заметить стремление каждого Русского к лучшей жизни. Не могли не почувствовать неутраченный оптимизм и веру граждан в то, что страна вновь встанет в нужную колею. Это воодушевляло и подталкивало к действию. Это побуждало к возвращению. «И ляжет тебе на плечи вся тяжесть поиска нужных решений. И облачится она муками сомнений. И воплотится в произведение, благодаря неуемным фантазии и фанатизму, проявлять которые ты можешь начинать уже с завтрашнего дня», – мысленно подбодрила себя Анна. Оставшись за столом одна, она безразлично посмотрела на распечатанное шампанское в ведре со льдом. Официант, издалека завидев её пассивное настроение, бесшумной тенью возник за спиной и по-кошачьи промурлыкал: – Желает ли барышня, чтобы я наполнил её бокал заново? Лакейское выражение из времён старой Империи, какую знали только по фильмам икнигам, затронуло в женщине ранимую струну. Анна подумала, что если бы когда-то давно, в тысяча девятьсот семнадцатом году, предки её матери не были раскулачены и навсегда высланы из России в Таджикистан, она, наверняка, гораздо привычнее сносила бы сегодня угодливость. Увы, семидесятилетняя коммунистическая закалка, основанная на принципах классового равенства, искоренила в Анне, как в носительнице родовой информации, всю терпимость к халдейству. Не желая лицезреть официанта, женщина отрицательно покачала головой. – Может, вы желаете, чтобы я отнёс вам начатую бутылочку в номер? – не угадывая мысли, молодой человек теперь вырос перед клиенткой. – Нет, мы не желаем. – Анна намеренно подчеркнула чуждое местоимение. Стать знатью уже не светило. К чему же тогда было притворяться? Разве несостоятельность подобного факта интересовала этого парня? Вряд ли. Единственное, чего он хотел, так это подзаработать лишнюю копейку, оказав очередную услугу. Будь у молодой женщины деньги, она, возможно, и не отказалась бы от предложения. Хотя бы для того, чтобы понять, что значит давать чаевые. При советском режиме за них не приветствовали. В Германии подачка мелочи приравнивалась к унижению. Жить в новой России, успешно овладевшей и этим новшеством, Анне пришлось до сего дня недолго, причём большей частью в деревне. А там не то что о чаевых, даже о ресторанах понятие имели лишь приближённое. Глядя на угодливое лицо официанта, Анна досадливо подумала, что единственное, чем она может порадовать сейчас этого мужчину, будет отказ от едва начатой бутылки. «Наверняка он отнесёт недопитое шампанское в какой-то из баров, где её спокойно пустят в расход, и на этом заработает больше, чем на моей мелочи», – решила Анна. «Ладно, не жили, как господа, и привыкать нечего», – мудро решила женщина, уже поднимаясь в номер. Счастье, неограниченно отразившееся в глазах официанта при 54 отказе от его услуг, подсказало молодой женщине, что она в очередной раз не ошиблась в своих догадках. Успокоить досаду Анна могла только мыслью о том, что всё-равно она не стала бы пить напиток одна. Шампанское в номере, которое не с кем было бы распить, могло стать предметом ещё большего уныния. И без того, возвращение в комнату, пахнущую кратковременным присутствием Николая, нагоняло тоску. Улегшись с обувью на пустующую соседскую кровать, Анна принялась рассуждать о том, что мог делать сейчас бывший муж. Наверняка он уже добрался до дома. Как встретит его Лариса? Возможно, за остаток дня она сумела привести себя в приличный вид. Интересно, расскажет ли она ему об их встрече? Скорее всего нет. Прежде всего поинтересуется, как прошло собрание, и что думают об Анне другие сотрудники, например, бухгалтер Кирякова. Эта женщина работала ещё с отцом Ларисы и была проверенным кадром. Несмотря на то, что она улыбалась вежливо и учтиво, от внимания Керман не ускользнула её настороженность. После каждого предложения Анны Кирякова реагировала сдержанно и подчёркивала необходимость «держать» бюджет. Была ли подобная осторожность связана только с профессиональной ответственность Светланы Геннадьевны? Анне очень хотелось бы верить в это, а не в то, что эмоциональная сухость пожилой женщины пропитана сплетнями. Так или иначе, глядя на Кирякову, Анна поняла, что вряд ли придётся рассчитывать на её союзничество. Остальные члены управления: архитектор Андрей Сальцов и моложавая инженер по коммуникациям Ольга Дедяева, располагали к себе больше. Сальцов – добродушный мужичок сорока с небольшим лет, улыбался на протяжении всего вечера. Мелко щуря близорукие глаза, надёжно спрятанные позолотой оправы и космами бровей, он, при каждом предложении Анны, реагировал выкриком: – Отлично! Ребята, это отлично! Стоит об этом подумать. Когда же Анна, подбодрённая его реакцией, принималась детально разъяснять особенности новшества, Сальцов и вовсе оживлялся и в конце снова выкрикивал уже знакомые три фразы. Добродушие Сальцова активно поддерживали Николай и Дедяева. Броская моложавая брюнетка обволакивала мысль, высказанную Анной, многочисленными вариантами, превращающими её в широкий проект. Завидное красноречие Ольги Константиновны придавало даже самым скоромным решениям новенькой объёмность и увесистость. Идея, облачённая в чехол технических терминов, заводила всех, вселяла оптимизм, побуждала к реализации. Анна поняла, что Ольга, как она с самого начала попросила звать её, является творческим символом фирмы. Николай, при этом, был её мотором. Сальцов – нежной душой. Кирякова – непоколебимым сознанием. Свою роль Анне определить пока не удалось. Про место и назначение Ларисы она не хотела даже думать. После сегодняшнего разговора, Лариса перестала для неё быть важной частью жизни. Мысли о ней не жгли совесть, как прежде, и не отравляли существование, как ещё совсем недавно. Они даже перестали тревожить исходом сложившейся непростой ситуации. Они только приобретали значение навязанной необходимости сдерживаться при обоих супругах. Это нужно было Анне не ради себя. И уж тем более, не ради Ларисы. Наполнившись за несколько часов общения с Колей эликсиром абсолютного счастья, Анна обмякла.Тревога покинула её, уступив место надежде на благополучие. Зная себя, Анна вполне могла надеяться, что на какое-то время ей вполне хватит только душевного тепла, исходящего от Николая, не посягая на материальность. Рассуждения о Коле приятно грели изнутри. Женщине захотелось поделиться о них с кем-то вслух. Единственный человек, кому Анна могла довериться безо всяких опасений, была 55 Надежда. Анна потянулась к сотовому телефону Николая. Звонить в Калинки с гостиничного номера было дорого, а у Кравцова на телефоне действовал какой-то особый абонентский тариф, благодаря которому, связь с родными по карману не била. Трубку в Калинках снял Иван. – О, Аннушка, привет! – совсем по-домашнему растянул он, – Ты как там, красавица наша? Надюха мне уже доложила, что ты в Москве. С Надеждой Анна связалась ещё вчера, сразу, как только разместилась. На заботу Ивана женщина улыбнулась: – Спасибо, Ваня, у меня всё хорошо. – Во! Всегда бы так, – заметил Иван с некоторым упрёком, – А что это у тебя там за шум какой? Телевизор что ли смотришь? – Нет, Иван, это у меня в соседнем номере проживающие что-то празднуют; музыка от них гремит, – усмехнулась Анна, мысленно позавидовав тому, что людям за стеной есть чему радоваться. Белородько защурился: – Ну, если вот только что в соседнем номере, тогда ладно. А то, могла бы и у себя праздник устроить. Чего кислая какая? Голос усталый. Анне стало себя жалко сразу от всего: что одна, что родные далеко, не поедешь к ним вот так запросто, что жизнь снова складывается непонятно: – Устала я, Иван; так и есть, – согласилась Анна, – Была сегодня на фирме; Коля меня своим представлял. – Во как! – присвиснул Иван, – Ну, а к нам когда приедешь? – Не знаю, Ваня, – честно призналась Анна, – С завтрашнего дня я уже приступаю к работе. – Лариса тебя всё-таки взяла?! – теперь в голосе Ивана сквозило неподдельное удивление, – Ладно, тут Надюха трубку рвёт. Ей всё расскажешь, она мне потом доложит. Целую тебя, Аннушка. Надеюсь скоро увидеть. – Обязательно, Ваня, – пообещала Анна. Родное обращение близких людей, по-прежнему признававших её, несмотря на то, что формально их родственницей она уже не являлась, растрогало. «Аннушкой» она стала для них давно. Тогда, когда после свадьбы с Николаем, осталась жить в деревне в доме родителей Кравцовых. Глава восьмая: Воспоминания Надежды (январь 1997) Темнота в деревне давно была делом забытым. Стоя на морозном крыльце, Надежда осматривала далёкую дорогу, проложенную через весь посёлок. Она начиналась от больницы, бывшей не так давно окраиной, но теперь обросшей новыми домами, как дерево лишаём – плотно и основательно, и шла до самого бывшего поселкового клуба, в котором Белородько и Рогожин разместили свой офис. Дорога была асфальтированная, с пешеходными тротуарами с двух сторон и красивыми железными фонарями на манер столичных: с коваными вензелями и закрытыми стеклянными плафонами. Новые фонари вкопали недавно, всего как три года, заменив ими старые, ломотные оглобли с лупатыми фарами: безвкусные, громоздкие да проржавевшие от давности. Новые двухламповые светильники Белородько выписал по договору в Нижнем Новгороде; очень уж хотелось иметь в посёлке такие же фонари, какие стояли в Москве на Арбате. Жителям, приходившим первое время смотреть на фонари, как на диковинку, Белородько объяснял, что уважающие себя люди должны жить в нормальных условиях. Что такое нормальные условия, большинство поселенцев 56 понятие имели только по американским телесериалам про Санта-Барбару. Поэтому, рады были радёшеньки украсу их жизни хоть такой малостью. – К нам теперь в Калинки, поди, и важные персоны заглядывают; всякие там Губернаторы да президенты компаний. Значит, надо их встречать, как подобает, – убеждал Иван Рогожина, заставляя Лукича тратить часть доходов от совместного предприятия на облагораживание деревни. Рогожин расставался с доходами ещё тяжелее, чем раньше, когда распоряжался не своими деньгами, а общественными. Но перечить Ивану не смел: за неполные восемь лет коммерческой деятельности, Белородько превратил их обоих в крупных преуспевающих бизнесменов. Любуясь голубыми отсветами фонарей, Надежда думала о только что закончившемся телефонном разговоре. Холод начал потихоньку пробирать, проникая под толстую лисью шубу. «Может Анну обратно сюда позвать? Что-то мне её голос сосем не понравился.» – задумалась Надежда. Потеряв жену, на крыльцо выглянул Иван: – О, мать, ты тут? А я думал всё ещё трепешься. Как там Анна? Грустная что-то? – Грустная, – согласилась Надежда, заходя в дом, – Не нравится мне эта их с Колей идея работы на фирме Ларисы. Зря они поверили, что Лорка простит былое... Злопамятная она. Надежда сунула свои руки в мужние. Иван жарко задышал в них: – Откуда тебе знать? – Да-да, кому как мне, и не знать? Поеду завтра с самого утра в Москву. Анне обещала увидеться, – сообщила она мужу, целуя в темечко и вытаскивая руки. Но Иван не уступил, удержал ладони жены, спросил, как бы про между прочим: – Ты с ней в городе встретишься, или как? Этот взгляд и голос мужа Надежда знала хорошо: что-то Белородько варил уже в своей голове, чем-то мысли озаботил. Хитро улыбаясь, Надежда ответила, забирая-таки руки: – Не. Я сразу на квартиру рвану. Продукты Егорке завезти надо. Он там, чую, голодом себя морит. А Анна туда после работы приедет, заночует с нами. Чего ей по гостиницам мыкаться? – А чё у нас завтра? Какое в смысле число? – спросил Иван, словно только сейчас размышляя о чём-то. – Двадцать третье января уже. – О! Так я могу с тобой поехать. Мне двадцать четвёртого всё одно в Москве надо быть, с канадцами по зерну потолковать. Да и тебе с сумарями таскаться одной не сахар. Надежда посмотрела на мужа с усмешкой; наконец-то, прорвало: – Так и скажи, что по Аннушке соскучился. А то канадцы... Своего зерна бывшие колхозники давно уже не сеяли и не собирали. По всей стране поля стояли какой год голые, поросшие бурьяном на многие сотни километров. Профессия сельского работника вырождалась. Иван под взглядом жены задёргал усами. – Да ладно тебе, женюга, ревновать к незамужней молодухе... Я и Коляню давно не видал. Да и сына нужно проведать: как он там грызёт гранит науки. Скажи нет? – Скажу да, – широко улыбнулась Надежда и чмокнула мужа теперь уже в небритую щёку, – Поедем, поедем. Побрейся вот токо перед дорогой. И поедем! На следующее утро Белородько поднялись в дорогу с рассветом. Засовывая вещи в багажник, Иван подал в салон меховую шапку: – Макушку, мать, не забудь! Подивишь Аннушку своими куницами. Надежда бережно приняла убор, поправила его, принялась поглаживать свисающий с 57 одной стороны хвостик зверька: – Сказал тоже! Чё она такого в Германии не видала, чё ли? Там-то всего всякого полно, сам говорил. – При всей своей модерновости, поменять речь так, чтобы избавиться от деревенского говора, Надежда не могла. Впрочем, теперь комплексов ей это совершенно не создавало; теперь она, наоборот, любила, когда в ней распознавали глубинную популяцию. На слова жены Иван сморщился. Напоминание о Германии вызвало неприятное ощущение: – Нашла чё вспомнить. Самой надо было ехать тода со мной. Поглядела бы своими глазами, как там люди одеваются: чё попало пялят. Никогда не поверишь, что живут они в одной из самых развитых стран. В России, издревле привыкшей выставлять себя напоказ во всей красе, умение одеваться было не просто традицией, а давним обычаем. При новых временах эта привычка стала также одним из основных требований жизни: повсюду прежде всего судили по одёжке. Оттого и недоумевали даже такие прогрессивные умы, как Иван, что в жизни могут существовать какие-то другие критерии, кроме внешности. Вернувшись из Германии, он рассказывал своим о неброскости немок. Вспомнил он про это и сейчас, выруливая на Московскую трассу: – Знаешь, мать, бабы там все безликие какие-то и сосем некрасивые. Я как вернулся оттуда да как по Москве пошёл – от наших ссыкушек глаз отвести не мог: подтянутые, штанишки укороченные, маечки без лифов... Стимулирует! А там за две недели бровь ни на одну не поднялась. Клянусь! Бог видит – не вру! – Иван быстро перекрестился. – Чё ты крест кладёшь на поганые свои слова, – махнула ему по макушке Надежда, – Стимулирует его! Во выискал чё сказануть! У тебя всё по одному: скоко волка не корми, он одно в лес смотрит. – Так чужое, оно же всегда лучше, – засмеялся Иван, замечая, что злит жену. – Рули, .бака, – ткнула Надежда на дорогу. Она обиженно откинулась к стенке БМВухи, привезённой мужем из пресловутой поездки. В деревне, где самый маленький пацан знал мат, Надежда употребляла его только в самых крайних случаях, да и то в таких вот безобидных выражениях. – Ладно, чего огрызлась, Надюха? Я же пошутил. Ты у меня – самая, что ни на есть самая! Лучше не надо. Во! Одна твоя шляпа чего стоит для поддержания боеспособности бровей, – захихикал он. – Зашёлся, зашёлся. Смотри, говорю, вперёд, куда рулишь. Дорога вся расхлябанная какая. Кода уже от нас до Москвы нормальную трассу проложат, чёб ехать и не икать? На её слова Иван хотел сострить насчёт жениных боков, которые при любой тряске могли играть роль надувной подушки, но решил не связываться, просмеялся на эту тему про себя. А насчёт шапок Иван, как выяснилось, был абсолютно прав: в Германии шапки почти не носили. Встретить там меховую шапку можно было только в специализированных магазинах или на бывших гражданах СССР, густо заполонивших страну. Анна, отвыкшая от колоритов России, посмотрела при встрече на головной убор Надежды не без зависти. Женщины приникли друг к другу и расцеловались. Егор улыбался со стороны. – Хорошо выглядишь, Надюша! – похвалила Анна. Надежда засмущалась, затараторила в ответ: – Ой спасибо, Аннушка, ой спасибо. А ты вот, чё-то, сосем дошла. Пора тебя к нам на деревенские хлеба возвращать. И шапку я тебе там не хуже пошью. Егорка, тапки дай. Приедешь? Из зала в коридор вышел Иван: 58 – Приедешь? Анна бросилась в его сильные руки: –Ваня! Поужинали на кухне вчетвером. Затем мужчины ушли смотреть телевизор, женщины остались за столом поговорить. Рядом зазвонил мобильник. Надежда посмотрела на экран, взяла телефон, кликнула: – Егор, на, ответь! Я таких номеров не знаю. – Коля, наверное, звонит, – предположила Анна, когда дверь в зал снова закрылась. Со вчерашнего вечера у неё не было от Николая никаких известий, и Анна не знала, как прошёл разговор с Ларисой. – А как он мог пройти? – не волновалась Надежда, – Всё нормально, раз она сама вызвалась устроить тебя. Это перед тобой она вчера по пьянке распустилась. А ему, как крутила башку всё это время, так и крутит. Не боись, себя не выдаст; не для того к рукам братца моего прибирала, чтобы снова отдать. Ох, Аннушка-Аннушка, зачем ты всю эту кашу с разводом затеяла? Анна стала кусать черенок от яблока, разрезанного на блюдце: – Поздно о чём-то сожалеть, Надюша. Сама себя в капкан загнала. Ты лучше про Егорку расскажи. Куда он у вас поступает? – В Российскую Государственную Академию финансов. – Надежда произнесла название ВУЗ-а гордо. Вступительные экзамены были запланированы на июль. Егор, закончивший прошлым летом Калужский Лицей, записался в Москве на годовой подготовительный курс при самой Академии, чтобы поступить наверняка.Через месяц парню должно было исполниться восемнадцать лет. Непоступление означало автоматический призыв в армию. Службы Егор не боялся, но очень уж не хотелось прерывать учёбу. Потому и окончил школу экстерном на год раньше положенного и перебрался прошлым летом в Москву в родительское жильё: Иван, привыкший исполнять всевозможные желания домочадцев, приобрёл за год до этого в столице двухкомнатную квартиру. Надежда, недавно в третий раз капитально перестроившая дом в деревне, вложила в купленную жилплощадь половину её стоимости, чтобы привести в нужный вид и обставить. Мать предвидела, что в недалёком будущем к старшему сыну подтянутся на учёбу в столицу и младшие дети. Максим в свои четырнадцать уже сейчас изнывал в Калинках. Катюшка была пока мала, ей пошёл только двенадцатый год, но, подрастая, она тоже всё чаще стала проситься к брату на побывку во время каникул. – Это жильё у нас – для молодёжи, – Надежда взяла дольку яблока, стала срезать с него ножом шкурку, – У Егора тут всё время постоянно кто-то толчётся: то ребята с курсов, то ещё какая молодёжь. Молчу уже о том, что Танька Латыпова здесь в Москве работает секретаршей при Газпроме. Не хухры-мухры тебе! Эта знает какой кусок закусить. Ох, и шустрая! Такая проныра! Родители диву даются: везде обо всём сладит, – Надежда заговорщически зашептала, – А с Егоркой у них сызмальства роман. Анна улыбнулась: – Значит всё-таки правда, что ты мне летом говорила? – О! Ещё как! Токо раньше Танька всем могзи крутила, а теперь Егорка ей их вставляет на место. А она слушает, представляешь? Никто не поймёт почему. Анна не моргая смотрела на срезанную шкурку яблока, лежавшую на блюдце, вспомнила как Николай всегда ей тоже очищал фрукты от жёстких шкурок: – Чего уж непонятного? Любят, наверное, друг друга. – Да и на здоровье, кода так! – Надежда откусила от дольки маленький кусок, стала жевать, – Она-то, Танька, деваха видная, в Верку пошла: ладная, вострогрудая; так 59 сисюшки прямо и стоят, нам бабам на зависть. Мужики шеи крутят, а Егорка, вроде как, спокоен. Но токо, я так полагаю, это у его тактика приворотная. Да и ладно! Лишь бы им хорошо, как думаешь? Анна кивнула, отпивая чай – завтрак перешёл в чаепитие; она вспомнила симпатичную головёшку с громадными серыми, как у Верки, глазищами. – Егорка у вас молоток! – похвалила Анна, – Один живёт, а вон какой в доме порядок! Приятно посмотреть. В квартире и впрямь всё блестело. Надежда похвале засмущалась: – Он у нас умненький вышел. Школу ведь на год раньше закончил. А в компьютере шарит – о-го-го! Токо так и щёлкает етими кнопками, токо и щёлкает. Я сосем ничё не понимаю, а они... – Дети. Что ты хочешь? Им и положено умнее нас быть. Да и то сказать, детьми они были, когда мы с Колей женились. А с тех пор ведь уже восемь лет пробежало. По нам не особо заметно. А они совсем большие стали. Жизнь на месте не стоит, – Анна посмотрела на дверь. Егор уже переговорил по телефону, но что-то не шёл. «Наверное, кто другой звонил», – вздохнула про себя Анна, а у Надежды спросила: – А Танька-то где живёт в Москве? – Анна ещё вчера хотела спросить нельзя ли ей первое время поквартировать тут с Егоркой. Надежда пожала плечами: – Матери говорит, что где-то квартиру снимат. Но, я так полагаю, что красоту и порядок здесь, окромя ей, некому наводить. Да и вещи её в шкафу у Егорки лежат. А ты чё спросила? Анна замялась. – А ты сама-то где жить собираешься? – тут же поняла её мысли Надежда. Анна пожала плечами. Надежда подлила чаю: – Ясно. Ты, всё гляжу, такая же робкая. Значитса так: живи тут скоко надо. И весь сказ. – Так ведь я молодым помеха буду, Надя. – Анна покраснела, но уже сейчас поняла, что вопрос с жильём решён, ибо Надежда заявила твёрто: – Никакие они покудысть не молодые. Так, женихуются токо. И вообще, им тоже пригляд со стороны нужён. Перевози вещи и без разговоров. Комната лишняя есть. Если Танька ночевать приедет кода, то с Егоркой поспит. Всё одно у них, молодых, на это дело быстро ноги растут. Так что, Аннушка, вези пожитки. А, ежели надо, то Ивана подряжу, чёб помог тебе со скарбом. – Да нет у меня никакого скарба, Надюша, – Анна погладила руку свояченицы, – Спасибо тебе, родная. У меня, кроме вас и Коли... От подступивших слёз было не удержаться обеим. Надежда потянулась к бумажной салфетке в вазочке: – Ты не переживай, Аня, и себя сторонней нам не считай. А Таньке и Егорке мы, кода надо будет, квартиру купим. С Веркой пополам. Они, сама видала, тоже ноне не бедные. Сватья моя молодчина тода вышла. Всё как надо раскрутила.Так что – слава богу! Надежда давно в шутку звала подругу сватьей, что злило Фёдора. Он никак не мог смириться с тем, что их Танька выросла и заневестилась. Анна почти по родственному любила Латыповых. Но сейчас её тревожило другое: – Что же Коля не звонит? Боюсь я за него теперь, Надя. Откровенно боюсь. После вчерашнего она могла ему что хочешь про меня наговорить. Видела бы ты, как она пьёт! – Анна уже успела поведать родным про вчерашний визит. На душе было хмуро. Она то и дело вскидывала руку и смотрела на часы. Николай пообещал позвонить сегодня с самого утра. Время приближалось к двенадцати, а звонка так и не было. Это 60 тревожило, – Надь, может он на меня обиделся? – Тю! За чё бы это? Да не боись ты: всё будет, как надо. Попей-ка вот ещё чайку, пряничка съешь. Какая ты там в вашей Германии усохшая стала. Смотреть не на что. Я так рада, что вы вернулись! Прямо на душе – праздник. – Я тоже вам всем очень рада, – Анна встала и из кухонного окна посмотрела на балкон, где на морозе курил Иван. Ей всё больше подозрительной казалась протяжность, с какой бывший свояк обнимал её при встрече, с какой жал плечи, с какой смотрел в глаза, – Ты ему, Надежда, правду про развод, ненароком, не сказала? – кивнула Анна в сторону балкона. Надежда уверила без обиняков: – Что ты, Аннушка! Как я могла? Ты же просила никому ничего. Ты одна себе судья, потому теперь тебе одной и думать, как быть дальше. Колю-то оттуда теперь, как пить дать, вытаскивать нужно, пока он по уши не вляп. Да ладно. Сообща чё-нибудь, да придумаем. А Ваня тебя, знашь, как обратно ждал! Скучал. Правда-правда. Смеётся! У нас всех душа об тебе болит. Вот смотрю на тебя – переворачивается всё внутри. Срочно надо поправить тебя. А то вон овала лица никакого. Нос завострился. Глаза впали. Нехорошо, – Надежда больше жалела, чем оценивала. Анна грустно усмехнулась: – А говоришь не поменялась. Я же знаю, что пострашнела. – Я сказала похудела, а не пострашнела. Поправься, и всё встанет на места, – Надежда потянулась за второй долькой яблока, взяла его, подошла к Анне, протянула. Керман пообещала севшим от переживания голосом: – Поправлюсь. Начну зарабатывать и поправлюсь, – все-таки Анна была рада работе: будут деньги, сможет откладывать, копить на жильё в столице. Через несколько месяцев зарплата, прописанная в контракте по трудоустройству на фирму Фёдоровой, позволит жить самостоятельно. – Нашла, что обещать, – проворчала Надежда, заметив задумчивость родственницы, – Здесь в городе жиром не загуляшь. Цены такие! Ой-ёй-ёй. Нет, определённо, надо тебя к нам обратно забирать. В Калинки. Или в Серебрянку. Дом-то отцовый пустой даром стоит. Надежда хотела ещё что-то сказать про деревню, но в этот момент дверь на кухню открылась. На пороге стоял Егор, за ним – Иван. В руке парень держал телефон. Вид у обоих мужиков был такой потерянный, что у Анны в груди ёкнуло. Кусочек яблока выпал из рук. Надежда, мывшая чашки из-под чая, медленно закрыла кран. – Что, Егорушка? – простонала она, – Что-то с Колей? Егор кивнул. Он не знал, как сообщить страшную новость. Стоял и молчал. Из-за его спины вышел Иван и, взяв Анну за руку, посмотрел ей в глаза: – Аня, Лариса умерла... Обе женщины широко раскрыли глаза. – И дядю Колю арестовали, – тихо добавил Егор. Анна и Надежда в унисон ахнули. – Как? – За что? – Ничего не знаю, – Иван отпустил руку Анны и посмотрел с болью, – Ничего не знаем, родная. Но вы токо, бабы, не плачьте. Мы что-нибудь придумаем. Иван забрал у сына телефон и вышел их кухни. Егор молча сел за стол. Надежда всё-таки заревела: – А кто звонил-то, сынок? – Не знаю, мамк. Кто-то из милиции. Я не понял... Батя прав, надо скорее что-то делать. – Егор быстро подошёл к куску яблока, поднял его, бросил в мусорное ведро, тоже вышел. Надежда посмотрела на Анну. Она сидела окаменевшая и замершим 61 взглядом отсчитывала снежинки за окном. Но сделать что-либо родным Николая не удалось. Кравцов был подозреваем в убийстве и, с самого момента задержания, находился под арестом. Основной уликой против него было снотворное лекарство, от которого погибла Лариса. Иван, обзвонив всех знакомых, нашёл для Николая адвоката Рябова Евгения Петровича, который считался опытным в подобных делах. Вот и всё, чем они с Надеждой могли помочь. Анна, так та была вообще ни на что не способная: замкнулась и только плакала. Глава девятая: Третий день суда ( сентябрь 1997) С того январского дня, когда всех родных Николая потрясла страшная новость, прошло больше шести месяцев. Сегодня, в начале сентября тысяча девятьсот девяносто седьмого года, шёл третий день заседания суда, предназначенного окончательно разобраться в причинах смерти Ларисы Фёдоровой. Двое обвиняемых сидели под конвоем по разным углам в стороне от стола судьи. Они молча переглядывались. На Анне была простенькая маечка и джинсы, утончающие дополнительно. Волосы её, всегда развевающиеся пышной шевелюрой, надёжно прятались под платком, завязанным назад, как комсомольская косынка. Несмотря на жару в зале, Анна постоянно ёжилась и щурилась. Кравцов вспомнил, что ей уже давно советовали купить очки. Что ещё поразило Николая – так это руки Анны: всегда красивые ноготочки были срезаны на «нет», отчего казались ампутированными култышками. Мысленно Николай пожелал бывшей жене терпения. По словам Рябова обвинение Соева не могло быть признано присяжными как обоснованное и, не подкреплённое ничем другим, вело к формулировке «невиновна за недостаточностью улик». Николай мечтал только об одном: чтобы Анну освободили. Анне же было всё равно где быть, дожидаясь освобождения Кравцова. Она улыбалась, пытаясь показать ему, что у неё всё хорошо. Итак, суд начался. Анне всё-таки пришлось рассказать о её встрече с Ларисой накануне смерти. Каждая фраза давалась женщине с трудом. Николай видел, как неловко было Анне признаваться в грубости и бестактности Ларисы. По ходу рассказа Кравцов узнавал каждое грубое выражение погибшей жены; он успел к ним привыкнуть за несколько месяцев совместной жизни. Николай прекрасно понимал, что Анна ничего не придумывает. Вот только как было убедить в этом Соева и остальных? После выдвинутого обвинения, Соеву совершенно необходимо было теперь доказать причастность Анны к убийству. Подобная линия была выведена с тех пор, как адвокат потерпевшей, во время показаний судебного эксперта Зеленцова, застопорился на количестве снотворного, обнаруженного в крови погибшей. По мнению Соева, что-то здесь не клеилось. Три растворённых таблетки в недопитом стакане и пять в бутылке доказывали, что лекарство действительно подсыпали разными порциями. Пила ли Лариса ту часть вина, в которой было растворено пять таблеток? Экспертиза не могла этого подтвердить с точностью, поэтому расхождения в показаниях нервировали Соева, казались подозрительными. Что-то вертелось в голове неуловимой мыслью, которую адвокат уже вроде бы зацепил, но пока никак ещё не мог конкретно выразить. Профессиональным чутьём он чувствовал, что должен найти какую-то дополнительную деталь, позволяющую ему свести все 62 полученные цифры к одной, а мысли перестроить в цепочку событий. Появление неожиданного свидетеля – соседа Ларисы Каменева, хотя и уличило Анну в неверных показаниях, но, увы, ни к чему конкретному не приводило. И даже сегодняшнее признание Анны Керман с подробным рассказом о том, зачем она пришла и почему не захотела в прошлый раз говорить о своём визите, не удовлетворяли интуицию Соева на сто процентов. Единственное, что могло быть однозначным подтверждением вины Анны была улика, найденная во время повторного обыска на квартире убитой, и о которой Соеву сообщили во время предыдущего процесса. Но улика, без заявления экспертов, играла не на него. Вот почему адвокат обвинения с таким нетерпением ждал экспертизы. Вот почему рад был в прошлый раз отложению дела. Ему необходимо было всё сформулировать так, чтобы у суда не оставалось более никакого сомнения, а у присяжных никакого сочувствия к обвиняемым бывшим супругам. Сегодня Соев пришёл на суд во всеоружии. В дополнение к речи, тщательно подготовленной накануне, он решил оказать на обвиняемых ещё и психологический прессинг. В самый разгар объяснения Анны в зал вошёл милиционер и, с разрешения судьи, положил на стол Соева конверт с основной уликой и факс экспертизы. Вторжение срочного курьера стушевало Анну. Она кое-как досказала о встрече с Ларисой и устало замолчала, не зная чего теперь ожидать. Зал тоже молчал. Даже вентиляторы, поставленные с двух сторон от судьи, гудели приглушённо, лениво. Воспользовавшись общей паузой, Соев бегло пробежал по листу факса и просиял. Судья вопросительно смотрел на него. Это означало только одно: не желает ли господин Соев о чём-то срочно заявить? Адвокат посмотрел на Анну, всё ещё стоявшую после объяснения. – Вам больше нечего сказать суду? – спросил её Соев почти по-доброму, с улыбкой. Анна отрицательно покачала головой, но, прежде чем сесть на скамью, посмотрела на Николая. Она не должна была обращаться к нему, она это знала. Много раз Рябов объяснял ей, что любые переговоры во время суда между двумя подозреваемыми могут быть поняты неоднозначно и негативно оценены присяжными. Но сдержаться женщина не могла. – Прости меня, Коля. Я во всём перед тобой виновата, – попросила Анна. Голос её был едва различимым, но Николай услышал всё, что она сказала. Он встал и потянулся, чтобы ответить. Но ему не дали. Одновременно с ним сорвался с места Соев. Серебряный бобрик на голове адвоката обвинения взметнулся ввысь, как хохолок: – Наконец-то, госпожа Керман, вы поняли, что играть в прятки не стоит. Вам давно пора было признаться нам в своих деяниях, – строго произнёс он, одаривая Анну многотонным взглядом. – Я сказала это не вам, – ответила молодая женщина спокойно и с достоинством, – И мои слова не относятся к происшедшему с Ларисой. Анна пыталась поправить ложный ход суждений Соева, но адвокат обвинения не дал ей говорить. Он и так достаточно терпел, выслушивая почти полчаса ропотные бредни допрашиваемой. Теперь, когда ему принесли доказательство из категории главного козыря и заключение экспертов по улике, он ждать не хотел: – А это как поглядеть. Я докажу через несколько минут, что смерть Ларисы была не случайной. У меня пока нет к вам вопросов. Соев отвернулся от Анны, разом забыв о её присутствии. Она тяжело выдохнула. Трудно было предугадать насколько долгой будет передышка. Адвокат Рябов, представляющий на процессе сразу обоих обвиняемых, кивнул ей от своего стола. Георгий Михайлович вышел на середину зала: – Господин судья, мне хотелось бы задать несколько вопросов Николаю Кравцову. Вы позволите? – Заручившись разрешением, Соев подошёл к Кравцову. Николай, 63 следивший всё это время за Анной, оторопело отпрянул, увидев Соева опять перед своим барьером, – Скажите, господин Кравцов, если верить вашим показаниям, а не верить им у меня нет никакого основания, последнюю пачку снотворного вы купили накануне трагедии: двадцатого января. Так? – Всё это уже не просто сказано, но и запротоколировано, – ответил Николай, указав адвокату на его же записи, – Или вы пытаетесь меня запутать в датах? В ответ на подобную ершистость подозреваемого, Соев повёл себя на удивление спокойно: – Не волнуйтесь, Николай. Никто ни в чём вас путать не собирается. Действительно, даты, как таковые, интересуют меня для ориентира во времени. Но есть что-то, что я хотел бы понять наверняка. А именно: насколько вы реально нуждались в «Барбамил» до третьего января? Лицо Николая вытянулось. Судья тоже нахмурил лоб: – Обвинитель, поясните вашу мысль, – потребовал он. Адвокат с улыбкой выдохнул и развёл руками: – Ваша Честь, больным часто свойственно покупать лекарство впрок. Особенно запрещённые препараты. Тогда, его можно хранить не только дома, а, скажем, на работе или в машине, на тот случай, если оно понадобится где-то вне домашней аптеки. – Говоря это, Соев произносил слова мягко, так, как произносит их врач в разговоре с тяжелобольным, боясь травмировать его повышенной интонацией. Сидящим в зале в этот миг показалось, что он уговаривает Николая признать предложенную версию. Возмущённые замечания Рябова относительно фальсификации фактов, Соев снова оставил без внимания. Он знал, что на этот раз ему дадут высказаться до конца. Из сказанного адвокатом следовало, что на момент запроса нового предписания невозможно было точно определить количество лекарства употреблённого Николаем, как и невозможно было с точностью сказать, сколько его он не употребил. Врач, когда Кравцов пришёл к нему в январе, действовал в соответствии с просьбой больного, но никак не основываясь на его реальном состоянии. Субъективная оценка могла расходиться с объективной необходимостью. Только и всего. Никто нигде не превысил своих должностных полномочий: ни врач, ни аптекарь. Только сам больной мог бы, если бы захотел, точно сказать, как долго и как регулярно он принимал данное лекарство.Глядя на подсудимого мягким, почти баюкающим взглядом, Соев вербально осуждал его. Евгений Петрович Рябов, встав с места, развёл руками: – Господин судья, следуя подобной логике, никак нельзя обвинять кого бы то ни было в чём бы то ни было, не обосновывая этого. Соев, похлопав оппоненту издалека, качнул головой. Он быстро подошёл к своему столу, открыл конверт и понёс его открытым к стойке Кравцова. Он остановился перед Николаем и протянул приоткрытый конверт. Николай вытянул шею. Адвокат обвинения недобро усмехнулся: – Вы правы, коллега. Избежим пустословия и прибегнем к фактам. А они таковы: на момент совершения преступления упаковка с «Барбамилом» была в квартире не одна. Их было две. – Соев сунул Кравцову конверт так близко, что тот смог наконец-то увидеть, что же в нём лежит. Заметив испуг во взгляде подозреваемого, адвокат выкрикнул в сторону зала, – Пусть, возможно, неполных, господа, но две! – и он громко хлопнул рукой по барьеру. Николай от неожиданности вздрогнул и отпрял. Зал тоже пошатнулся. Рябов молча вскочил со своего места опять и подался телом в сторону Соева. Но тот не зевал и заговорил быстро, не давая никому встрять: – Уважаемые дамы и господа, посмотрите, пожалуйста вот сюда, – Соев вытащил из 64 конверта прозрачный полиэтиленовый пакетик, в котором лежало что-то такое маленькое, что сразу разглядеть было невозможно. Адвокат потерпевшей пошёл к столу судьи. Он шёл как на шарнирах, пружиня и покачиваясь на ходу. Его глаза горели нездоровым блеском приближающегося триумфа, который он чувствовал теперь издалека. Судья взял пакетик: – Господин Соев, потрудитесь объяснить суду что это? Соев готовно кивнул: – Конечно, ваша Честь. Это таблетка «Барбамила», найденная в квартире погибшей Ларисы Фёдоровой при повторном обыске, произведённом три недели назад. А это... – Соев протянул судье заключение экспертизы, полученное по факсу и принесённое только что милиционером, – Это подтверждение того, что я сказал. В заключении сказано, что расфасовка лекарства соответствует дозировке ноль, запятая, один грамма. То есть: эта таблетка находилась в одной из пачек, купленных Николаем Кравцовым до января этого года. В зале послышался ропот: – И что дальше? – К чему это он? – Подумаешь – улика! – неслось с разных сторон непонимание. И только четыре человека: сам адвокат Соев, его коллега Рябов, государственный обвинитель и судья сразу определили всю вескость подобной находки. Каждый из них отреагировал на это по-своему. Соев, уже знавший дальнейшее течение процесса, облегчённо. Судья – восторженно из-за того, что его надежды оправдались: из дела получится теперь настоящая сенсация. Госбвинитель – тоже с радостью: он всё-таки окажется настоящим обвинителем. Рябов, обмякший за своим столом, разочарованно: вот, возможно, и всплыло то, что его подзащитный ему не договаривал. А ведь ещё сегодня утром адвокат защиты надеялся на благополучный исход дела. Глядя на Рябова, сцепившего пальцы, Кравцов почуял беду. Он метал взгляд от Анны на адвоката и видел безнадёжность в глазах обоих. Анна не поняла беду, она её почувствовала. Теперь, дождавшись пока судья прочтёт заявление экспертов и подтвердит его, Соев развернулся к залу и принялся объяснять свои предположения, как это делает профессор перед аудиторией студентов: расхаживая по середине зала и не глядя ни на кого. Николай, как в тумане, прослушал как Соев объяснил ценность находки второй таблетки и обвинил бывших супругов в обоюдном вранье и покрывательстве. Николай сразу подумал при этом о том, что теперь Анну навряд ли выпустят на свободу. По этой причине слова Соева врывались в сознание краем. – Предупреждая возмущение или непонимание моего коллеги, скажу яснее. По данному делу у меня имеется несколько версий. Версия первая, – Соев поднял растопыренную ладонь и загнул большой палец, – Николай Кравцов сделал всё, чтобы намертво усыпить свою жену Ларису. Но для этой версии у обвиняемого есть коеникакое, но алиби: нам доказали, что на момент принятия Ларисой отравленного вина, сам Кравцов уже спал. Откуда вытекает версия вторая, – мужчина загнул указательный палец, – у Николая Кравцова был сообщник. И им вполне могла быть Анна Керман. И по этой версии у нас есть и показания соседа Ларисы Фёдоровой, утверждавшего, что он видел Анну Керман в тот день в лифте, и заявление самой гражданки Керман, наконец-то снизошедшей до того, чтобы признаться суду о цели её прихода. По словам подозреваемой, она была у Фёдоровой двадцать второго января 65 днём. Свидетель Каменев во времени встречи с обвиняемой не уверен, но больше склонен утверждать, что также видел обвиняемую в лифте днём. Но! При этом алиби на то, что вечером того дня Анна Керман действительно была в гостинице, у нас тоже нет. Значит.., – Соев развёл руками, словно поясняя очевидное, и жёстко сузил глаза, глядя на Анну, – Значит, ничто не опровергает тот факт, что вы, гражданка Керман, были в гостях у Ларисы Фёдоровой в тот день не только днём, но и поздно вечером. – Я не была там вечером, – Анна спокойно посмотрела на адвоката почти с брезгливостью. Соев хищно ухмыльнулся и обратился к судье: – Обвиняемая уже скрыла один раз свой приход к убитой Фёдоровой. Что же тогда мешает ей ещё раз скрыть правду? Я не исключаю даже тот факт, что она появилась в квартире молодых супругов уже после того, как Кравцов заснул. И это – третий сценарий возможного действия. – Всё это нуждается в тщательной проверке, господин судья, – привстал с места Рябов. – Безусловно, – заверил его судья, но тут же позволил Соеву продолжать. Чем тот и воспользовался: – Для меня ясно одно: бывшие супруги, так или иначе, причастны к смерти Ларисы Фёдоровой. Они использовали умершую только для меркантильных интересов: трудоустройство, прописка, жильё. Получив это, заговорщики более не нуждались в ней. Отравила ли Ларису Анна одна или же с помощью Николая, кто из них двоих что сделал и в какой момент – это роль следствия. Ради выгоды или ради любви, о которой мы так много слышали ранее, значения не имеет. И не потому ли, господин Кравцов, вы так яростно сейчас сжимаете в руках платок, что я прав? – Соев говорил зычно и красочно, внушая сидящим в зале страх и отвращение одновременно, – Кстати, эту вашу привычку, подозреваемый, я заметил ещё с первого дня: в самые «щекотливые» моменты вы всегда сжимаете платок так, словно вымещаете на нём ваше зло. Я даже сделал об этом пометку в моём блокноте, – жёстко произнёс Соев, потрясая перед залом своими записями. От сосредоточения при заслушивании Соева, Кравцов действительно сжал кулаки, а с ними и платок, который неизменно был при нём. После риторического вопроса Соева, когда весь зал впился взглядом в его руки, Николай почувствовал, что не может их разжать. Он скривился, как от боли. Соев, метнув зловещий взгляд в его сторону, продолжил: – Итак, господа, какой вывод напрашивается у меня после всего того, что я только что сказал? А вот какой. Убийца Ларисы, имея вторую пачку, действовал наверняка. Мы не знаем сколько у него было таблеток. Но и одной дополнительной хватило бы, чтобы рекомендуемая доза стала смертельно опасной. Убийца вполне мог подкинуть всего одну таблетку слабой расфасовки в тот первый бокал вина, который Лариса допила до конца. Потом подсыпать остаток таблеток в бутылку. Никакой случайности или спонтанности в его действиях не было. Им руководила холодная расчётливость и желание довести дело до конца. Подразумевая под убийцей гражданку Керман, могу предположить, что сама она не могла бы найти снотворное в чужом доме. Значит, Кравцов всё-таки снабдил её им. Из этого следует, господа, что речь здесь идёт уже не о случайном самоотравлении, как это выгодно представить защите. И даже не об «убийстве по неосторожности», как можно было бы подумать при определённом раскладе. Нет! Мы имеем здесь дело с прекрасно организованным преступлением. Организованным заранее. А значит, господин государственный обвинитель, заслуживающим самого строгого осуждения и самых тяжёлых мер наказания как для Кравцова, – Соев ткнул пальцем в Николая, лишь моментом глянув на него, – так и 66 для Керман! – Адвокат поставил в речи жирную точку, не удосужив обвиняемую женщину пусть бы мало-мальским взглядом. Соев даже не содрогнулся, поставив под удар её репутацию. Подведя предполагаемую версию под самую высшую меру наказания, его голос не дрогнул. А ведь ничто так не каралось законом, как преднамеренное убийство. Соев, Рябов, гособвинитель и судья знали это лучше остальных. Замолчав, Соев устало посмотрел на судью, выказывая всем своим видом, что дело завершил. – Анна Керман, насколько я понимаю, вам нечем доказать ваше присутствие в гостинице «Россия» вечером на момент отравления Ларисы Фёдоровой? – чисто процессуально спросил судья. Его голос был, хотя и более нейтральным, чем ненавидящий сип Соева, но всё же достаточно сухим, чтобы исключить из него бывшую симпатию к подозреваемой. – Меня видел в гостинице один из проживающих соседнего номера, – испуганно прошептала Анна. – Кто этот человек? – уточнил судья. – Он сказал, что приехал из Сибири, – Анна закрыла глаза медленным опусканием век, словно заснула, и стала вспоминать вслух, – Я легла уж спать, а они очень сильно шумели на балконе. Я вышла попросить их быть потише. Один из шумной компании предложил мне выпить с ними. Я отказалась. – Вы помните его? Что это был за человек? – тон судьи был всё так же протокольным. Анна подняла взгляд, но посмотрела на Рябова: – Евгений Петрович, я совершенно не запомнила этого мужчину. Было темно, холодно и, к тому же, балконы перегорожены достаточно высоко. Рябов молча кивнул; что он мог сделать в этой ситуации? Только потребовать дополнительного времени на доследование дела. Но его простбу опередил судья. Сухо и веско, он произнёс: – Увы, госпожа Керман, эти подробности имеют очень слабую почву и не могут, на данный момент, являться алиби. Поэтому, до выяснения всех обстоятельств, я вынужден прервать процесс и продлить пребывание обоих подозреваемых под стражей, – заключил судья. И прежде, чем адвокат Рябов смог хоть что-то произнести, судья захлопнул папку с рассматриваемым делом и встал. – Сеанс прекращён, – громогласно объявила секретарь залу и трижды стукнула молоточком по столу. Глава десятая : Приговор суда (октябрь 1997) Адвокат Евгений Петрович Рябов с неприязнью смотрел на рабочие часы на стене. Свежая обивка помещения не скрашивала его казённости, впрочем, как и допотопная, типичная для таких мест, мебель. Привыкший к стандартным интерьерам судов и прокуратур, адвокат должен был, казалось бы, давно уже не обращать на них внимание. Нет же, как назло, именно сегодня его нервировала мысль о поставленных у входа в суд искусственных горшках, о жёстких полосках пластиковых жалюзи на окнах, уже успевших запылиться с того момента, как их повесили, и оттого выглядевших неряшливо, о стёртых лицах работников учреждения, немноголиких, одинаковых своим безразличием ко всему и всем, и даже о запахе помещения, этакой смеси синтетической клеёнки, бумажной пыли, человеческого пота и ваксы 67 деревянных полов, словно навязывающей ту самую непроницаемость лиц. Ещё раз гадливо взглянув на стену, Рябов пошёл к аппарату с кофе. Выбрав себе крепкий экспрессо, он постарался сосредоточиться на предстоящем заседании. Встав на своё место под воздействием ловко сфабрикованного монтажа, предложенного Соевым, единственная таблетка снотворного, найденная между диванными подушками, предстала серьёзным обвинением для обоих подозреваемых. И если была хоть какая-то перспектива вытащить из тюрьмы Николая, то с Анной дела складывались очень плохо. В первую очередь рухнули надежды, связанные с единственным свидетелем, способным обеспечить Анне алиби. Прописанный в гостиничном реестре Стябелов Сергей Мартынович – геолог из Красноярска, ответил на запрос Рябова абсолютным отказом. Он написал, что никакую девушку на балконе в соседнем номере не видел, с ней не разговаривал и даже слышать о ней не слыхивал. Не помогла в опознании и посланная в Красноярск фотография Анны; геолог повторно заверил, что никогда в своей жизни Анны Керман не видел. То же самое написали и все четверо его товарищей, проживавших в то время в «России». Потом получился прокол с телефонным звонком Анны двадцать второго января после девяти часов вечера в Калинки. Оба супруга Белородько были тщательно допрошены по этому поводу, а их показания зафиксированы. Но и здесь возникла проблема: Анна звонила бывшим родным не с гостиничного номера, а с мобильного телефона Кравцова. Разыскав на городской телефонной станции координаты частной компании, обслуживавшей телефон его подзащитного, Рябов сделал официальный запрос на получение расшифровки всех выходящих звонков, зарегистрированных аппаратом. Частный оператор, поменявший за те полгода, что Кравцов находился в тюрьме, не только офис, но и волновую кодировку, никаким образом не мог предоставить в распоряжение официального лица правосудия запрашиваемую им бумагу. Да и вообще, при детальном рассмотрении, это заявление подозреваемой Керман никакого основания не имело: даже если она и звонила в Калинки, то могла сделать это из любого места, и совсем не обязательно из гостиничного номера. А показания супругов Белородько, при желании, наверняка могли бы быть расценены судом, как определённое содействие подозреваемой. Перебрасывая с одной стороны папки на другую бумаги, собранные для нового процесса, Евгений Петрович реально оценивал результаты своей почти трехмесячной работы, как неутешительные. Кроме уже приведённых им ранее доводов, адвокат мог добавить к защите только один факт: если бы Анна Керман чувствовала себя виновной, она, официально являясь гражданкой Германии, могла бы уже давно уехать из России, чтобы не связываться с русскими юридическими органами при вдруг павшем на неё подозрении. Она же, зная о своей полной невиновности, не только не покинула Россию, но, наоборот, узнав об аресте бывшего мужа, присутствовала на всех предварительных заседаниях, давала показания, ходатайствовала о выпуске Кравцова под залог; короче – активно содействовала ходу расследования. Всё это могло бы, конечно, сыграть определённую положительную роль в сегодняшнем процессе. Но только определённую, а никак не решающую. И это Рябов прекрасно понимал. Отчего вот уже несколько дней был подавлен и взвинчен одновременно. Мало того, что ему не удалось собрать нужной информации, так ещё и добивало негативное упорство Соева. Адвокат потерпевшей стороны требовал скорейшего окончания процесса и закрытия дела. – Чего же вы ждёте? Почему сами не едете в Красноярск? – бросался Кравцов к Рябову с обвинениями. – Что это изменит, Николай? Мы уже получили отрицательный ответ от Стябелова. – Он врёт! – кричал Кравцов, – Сидит в своём медвежьем углу и врёт. Кто захочет 68 связываться с судебными разборками? – Николай хватался руками за голову и в бессилии стонал. Мысли об Анне не покидали его. Особенно невыносимо стало думать о ней после того, как в сентябре ему позволили встретиться с Иваном. Задобрив какого-то крупного деятеля, Белородько сумел добиться разрешения на встречу с заключённым. Двадцать минут, проведённые вместе, раскрыли Кравцову глаза на многое. Иван давно уже догадывался, что развод Николая с Анной имел под собой какую-то странную почву. Не мог Белородько поверить, что Анна сама станет настаивать на нём, не имея для этого веских поводов. Вот только о природе этих поводов думал иначе, чем оно было на самом деле: примитивно, с мужской логикой. Надежда, бывшая в курсе дел больше, чем Иван, определённо что-то про это знала, но ничего мужу не говорила. Когда он спрашивал, отвечала, что в любой семье случается всякое, что если бы у Анны и Николая были дети, до развода не дошло бы, что не надо было молодым уезжать в Германию. Белородько слушал жену и хотел верить. В конце-концов, кто разберёт какие у женщины могут быть тайны, которые нельзя доверить мужчине? Глядя на то, как прошлым летом во время приезда в Калинки Анна шепчется с Надеждой и нередко плачет, Белородько думал, что настоящей причиной развода является она сама. Мало ли бывает? От безделья взбаламутилось баба, встретила кого-то, кто голову заморочил, влюбилась по уши, а муж по боку пошёл. А потом, когда всё обнаружилось, оказалось поздно локти кусать, дело пахнет разводом. Именно так думал Иван, потому и не лез Анне в душу, не вызывал на откровения, чисто по-мужски укоряя и даже отвергая. А потом, вроде, всё утряслось: Николай вернулся в Россию, стал жить и работать в Москве, случайно встретился с бывшей невестой, раскрученной на деле, и прибился к ней заново. Лариса всегда была девушкой незаурядной, в общении несложной, к Николаю расположенной. Чего же было голову ломать? Женился, да женился. Ивану Кравцов сказал, что Анна в Германии времени зря не теряет, по курортам ездит, с богатыми людьми компании водит. Так и хрен с ней, вертихвосткой. Пущай себе далее стелется под других. Коля теперь в хороших руках, в крепких. Заслужил мужик своё счастье! Пусть порадуется сам, других порадует. А то, что Надежда пузыри пускает, Лариску признавать свояченицей не хочет, так что? У баб, ясен месяц, не всегда поймёшь какая шлея под хвост попала. Побычится, побычится да оттает. Вот как народит Лариска ребятишек, так куда деваться? И Надежда сменит гнев на милость. Не сразу Москва строилась. Одного вот только Иван по занятости да неосведомлённости понять не мог: с какой бы это такой великой радости Лариса вдруг взялась хлопотать за трудоустройство Анны на своей фирме? Здесь все измышлительные таланты Белородько заходили в тупик. Подобные тонкости оказывались для души простого работяги и упрощённого ума собственника сложной логометрической функцией. Надежда на вопросы тоже таращилась, вздыхая полной грудью тяжко и печально: – Сосем не нравится мне ето, Ваня, – повторяла она, – Ох, будет лихо с того, ой чует моё сердце. «Вот и докаркалась», – подумал Иван наперво, узнав о случившемся с Ларисой. Да тут же грешным делом стал валить вину не на Николая, а на Анну. Жене ничего не говорил. Но когда Анну арестовали, взорвался: – Вот она – наша тихоня родственница! Всех своим покладом охомутала, всех заблаговерила. А на деле, как тихая мышка, ямку подрыла, да и свалила туда сначала Лариску. А теперь Коляню тащит. Сто процентов она таблеточек-то подсыпала. Не зря я слышал в трубке музычку, кода она нам звонила тода из Москвы. Там возле мужики какие-то горлопанили. Наверное, где-то в загуле была после того, как бывшую подружку траванула. Вот ведь бл.!! 69 Иван выплёскивал из себя накопившееся за год раздражение и крыл Анну, не выбирая слов помягче. Надежда, сидевшая в машине, только корчилась от беспомощности и горя, свалившихся на голову. – Замолчь, Иван, прошу тебя, замолчь! – ответила она наконец, подняв окаменевшее лицо, – Ничего-то ты об них не знашь. Ничего. А кабы знал, то... – Надежда не договорила, закусив зубами край носового платка и завыв. Иван вытаращил на жену глаза, постепенно осознавая, что такой концерт ему в диковинку. Знать, и впрямь дело было лихо. – Так ты это.., Надюха.., скажи мне, чёб знал, – осторожно попросил он, не решаясь заводить машину. Десять минут назад они вышли из суда, на котором Соев предоставил улику повторного обыска. – Страшное это дело, Ваня, поганое, – проговорила Надежда, – Но деваться мне некуда. Хоть и дала Анне слово умереть с этой тайной, а не могу теперича молчать. Токо мы можем им помочь. Заводи машину, и поедем домой. Всё тебе обскажу, как было. Вместе потом мозговать будем. Белородько, узнав про историю с таджикскими приятелями, отплёвавшись и отматерясь, на долгих несколько дней замолчал. Потом, перепоручив все дела помощникам, Иван сорвался из дома и засел в Москве до тех пор, пока не пробил свидания с Николаем. Осторожно прощупав моральное состояние родственника, Иван принялся за главное: – Коляня, знашь зачем я сюда пришёл? – спросил Иван, не отпуская свояка взглядом, – Вряд ли догадаешься. Ты вот сидишь тут и жалеешь себя, думаешь, что ты есть самый потерпевший в этом деле. Так? Нет? Адвокат твой поработал здорово: для всех ты спал и Ларису, вроде как, не травил. Теперь по делу всё на Анну падает. По нынешнему раскладу, скорей всего ей вину и нести. Рябов сказал, что тебя могут максимум к паре лет приговорить, а если похлопотать, то даже и условно. За что? За то, что ты её в дом пустил вечером, а суду про это не сказал. И доказать, что таблетки ей не давал – тоже можно. Сама пришла, сама нашла. Так? Кравцов, отрицательно покачал головой и устало произнёс: – Не было Ани у нас в тот вечер, Иван. Скоко же я могу вам всем это повторять? Белородько, пристально посмотрев на свояка, хмыкнул: – А вот Евгений Петрович именно по этому поводу сомневается. Думает, что ты ему именно это не договариваешь. Что тут у тебя что-то сугубо личное перевешивает, что никому знать не должно. Но ты погодь, – остановил он жестом новое намерение Кравцова возразить, – Времени у нас не так много, а досказать нужно ещё очень важное. Так вот, при хорошем раскладе карт, твой адвокат может сделать всё так, что ты пришёл поздно, поругались вы с Ларисой, ты вдруг почувствовал себя неважнецки, принял снотворное, заснул, и с тебя взятки гладки. Вроде как за то, что могло произойти там между бабами, ты не в ответе. Пока, конечно, ты про Анну молчишь. Молоток! Ну, а как всё же докажет тот другой адвокат, что Анна у вас была, чё делать станешь? Кравцов застонал, подпирая виски кулаками: – Да не была она у нас, Ваня, не бы-ла. Белородько указал пальцем вверх: – А правду, Коляня, окромя вас двоих, токо там и знают. Мне хотелось бы, чтоб так оно и было. Но токо ничего от моего желания на суде не поменяется. Так вот я спрашиваю тебя: если всё-таки выроет Соев, а он шустрый, как сперматозоид племенного быка, что Анна была у вас, что делать станешь? Возьмёшь вину на себя? Или на ней отыграешься за прошлое? Не зыркай, свояк, не сквози глазами. Я не 70 просто так это говорю. Сам мужик. Знаю. Ты с одной стороны её жалеешь. А с другой, Коляня, всё одно сидит в тебе мужичья злоба. За чё? Да за то, что Анка развелась тогда с тобой, задела твоё мужское самолюбие. Но токо подумай: как же ей было жить-то с тобой после всех ваших выкрутас с таджиками? Николай, подпиравший голову, медленно поднял её и воткнул взгляд в родственника. Это был кинжал, остро отточенное лезвие ужаса. Иван не выдержал, отвёл глаза: – Не таращись, всё знаю от Надюхи. Погань редкая с вами произошла, соглашусь. Я и не знаю, как такое пережил бы. Потому, для Анны и было самым лучшим развестись с тобой. Так что, сам понимаешь, – спасать её надо... – Иван замолк, глядя теперь вопросительно. Кравцов, то краснея за прошлое, то бледнея от теперешнего понимания настоящих причин развода, при последних словах раздул ноздри: – Ты что, Иван, никак меня на вшивость решил пощупать? –Зарумянившийся от гнева, Кравцов даже привстал, намереваясь вцепиться в родственника. Иван махнул ему сесть на место: – Не кипятись! Предупредить просто пришёл: спасать надо Анну-то. Понимаешь? Чёб даже мысли ты себе не допускал всё пустить, как получится. Ведь была у тебя мысль не отвечать ни за что? Так, нет? Можешь не отвечать, знаю, что была. А оно вона как всё оборачивается: она ведь тебя пожалела тогда, Анна-то. Именно ту самую нашу мужскую гордость, с какой мы носимся как... Эх, да ладно! Пора закругляться, – подвёл он итог, увидев, как приближается охранник, –– Ты токо об одном думай теперь, братка: её ведь никому не защитить, кроме тебя. Понял? – Понял, я Ваня, всё понял. Не боись и Надюху успокой, – взгляд Николая был сухим, но полным решительности. – Ну, вот и добре, Коляня, – Иван даже улыбнулся. – Спасибо тебе, – пробасил Николай, не отводя взгляда, – За неё наперёд спасибо. Да и за меня тоже. Мне бы, дураку, до всего раньше дотумкать, – опоздало пожалел Кравцов, постучав себе по голове кулаком, – глядишь, всё вышло бы иначе... А теперь... – Заканчивайте, мужики, – гнусаво прогудел охранник. Иван приподнял руку в знак согласия и поднялся: – А теперь, братка, надо держаться. Будешь сникшим ты, Анна и вовсе завянет. Понял? – Понял. – Мгновенно сознание Кравцова выровнялось, стало наполняться текущими извне энергией и уверенностью, что всё окончится хорошо. Но стоило только Ивану уйти, как узник опустил лицо на руки да так и остался сидеть за барьерным стеклом. Обида за собственную глупость всё-таки взяла вверх. Подошедший стражник несколько раз ткнул его в плечо, пока не понял, что заключённый плачет. – Ладно, выпростайся, горемычный, – пожалел тюремщик, – Оно и вправду, может, полегчает. – Не полегчает теперича, дядя, – ответил ему Николай, утирая лицо, – Пошли, а то натреплют тебе уши за слабоволие. – Не натреплют. Начальства поблизости нет, – выдохнул стражник облегчённо, видя как молодой мужчина всё-таки поднимается. В камере Кравцов упал на нары и пролежал без движения с добрый час. Сидящие с ним мужики ни про что не спрашивали; зная о статье, по какой Кравцов проходит, кто жалел его, кто побаивался, всё-таки ведь убийство, не просто так. Да и неразговорчив был Николай, никак не шёл на контакты. Зазнаваться не зазнавался, но и откровенничать не пытался тоже. К тому же КПЗ – это ещё не зона, где всё строго по законам; тут народ менялся чаще, не было столь строгих делений по старшинству, оттого никто никому ни в чём не подчинялся: хочешь – говори, не хочешь – опять же 71 твоя воля. «Хотя бы за это спасибо», – не раз благодарил Кравцов установку «предвариловки». Засовывая руку в карман оставленных ему цивильных штанов, он сжимал в кулаке резинового дельфинчика, когда-то купленного им Анне на рождественской ярмарке во Фрайбурге, и принимался мысленно разговаривать с ним, как если бы это была любимая. «А когда-то я, кретин, смеялся –над Аней за такие же самые разговоры с игрушкой», – осуждал себя Николая. Осуждать теперь было за что. День за днём, час за часом Кравцов прокручивал в голове все те годы, что прожил с бывшей женой, и не понимал, как мог дойти до того, чтобы поверить, что она его разлюбила. «Милая ты моя, родная, – звал он Анну издалека, – Как же мне хочется обнять тебя, поцеловать, всю, до последнего пальчика. Ноготки твои овальные, крашеные к лицу прислонить. Волосы твои кудряшками меж ладоней потереть. Анечка, любимая ты моя, до чего же я тебя довёл!» Кравцов сжимал губы до синевы. После беседы с Иваном, он знал теперь что делать. Главное было – дождаться дня очередного судилища. Адвокат подозреваемого, конечно же, не был в курсе душевных переживаний своего подзащитного, но при каждой встрече с Николаем ощущал, как всё больше тот зажимается в себе, перестаёт участвовать в обсуждении хода будущего процесса, отвлекается на какие-то параллельные мысли. «Как бы он мне какую цацу не подложил», – думал Рябов, перелистывая досье перед процессом вот уже третий раз. Наступило семнадцатое октября, день очередного процесса. Сегодня, согласно всем ожиданиям, суд должен будет принять окончательное решение. Зная слабые стороны защищаемого им дела, Евгений Петрович Рябов заранее догадывался о частичном проигрыше. Он понимал, что за отсутствием прямых улик, Кравцова оправдать будет проще. Анне, учитывая выставленное против неё обвинение, обоснованное исключительно показаниями свидетеля Каменева, грозило несколько лет лишения свободы. Срок мог быть разным; это зависело от того, признается ли Анна в содеянном или же, как прежде, станет отрицать своё участие в отравлении Ларисы. А также от того, насколько убедительной будет речь его самого, адвоката Рябова. Те несколько промашек, что допустила Анна прежде, несомненно будут вспомнены и, зная Соева, наверняка сыграют не в её пользу. Тем не менее, оставалась у Рябова отдалённая надежда на то, что всё-таки речи – речами, симпатии – симпатиями, а дело – делом. Раз достоверности фактов смерти Ларисы Фёдоровой в суде нет, обвинение всё-таки будет косвенным. Следовательно, срок должен быть небольшим. Рябов надеялся максимум на три-четыре года, учитывая безупречное юридическое прошлое свое подзащитной. А уж о том, каким окажется истинный сценарий предстоящего процесса, даже предполагать не мог. Как только заседание открылось и в зал ввели обоих подозреваемых, Николай Кравцов попросил у судьи слова. Ни на кого не глядя и стараясь говорить спокойно, Николай поведал суду, что подстроил смерть своей второй жены намеренно. Он признался, что никогда не испытывал к Ларисе никаких иных чувств, кроме материального интереса. Женился он на ней исключительно из меркантильности, и, получив правление делами в свои руки, монотонно, планомерно стал выстраивать линию избавления от жены. Он ненавидел её тем более, что знал, что она об этом догадывается. Он делал всё, чтобы вернуть Анну в Россию, устроить её на работу рядом с собой и продолжать жить с ней, как прежде. Анна, естественно, ничего про мысли бывшего супруга не знала, она верила его порядочности и ценила заботу о ней. 72 Вспоминая Анну, Николай смотрел на первую жену с мольбой. От неё прежней остались только глаза. Эти глаза, когда-то добрые глаза оленихи, больше не таили в себе тепло коры вишни, не струили на него свою ясность, не взывали к любви. Они потухли, исплаканные за долгие месяцы следствия, стёрлись, как линяют краски на старом холсте, подвелись тёмными, непроходящими кругами. «Не стоит больше над тобой издеваться, дорогая ты моя», – прошептал Николай едва слышно, прежде, чем попросить у судьи слово. А теперь, признаваясь в вымышленном злодействе, поглядел на Анну с просьбой понять его и не перечить. «Иначе я никогда не смогу искупить свою вину перед тобою, – прокричал Николай взглядом, – Да и теперь не знаю, сможешь ли ты ещё простить меня, любимая моя.» «Зачем ты делаешь это, Коля? – осудила его в ответ взглядом Анна, – Знаешь ведь, что не снести мне жизни без тебя, не оправдаться перед своей совестью за весь тот несовершённый грех, что взвалил ты на себя». Временя с ответом для судьи, подозреваемая сжигала себя изнутри. «Не смей меня больше жалеть! Оставь мне хоть одно право – быть верным тебе до конца. Мужское моё самолюбие пощади, человеческую порядочность. Если и этого лишишь, ни к чему больше жить», – посмотрел на неё Кравцов твёрдо. «Хорошо, любимый, пусть будет по-твоему. Всё равно я буду ждать тебя всю жизнь», – проглотила Анна навернувшиеся слёзы. – Так оно и было, – тихо кивнула она в зал. Адвокат Рябов при этих словах до белизны сжал рукой край стола. Глава одиннадцатая: Сибирские таёжники ( ноябрь 1997) – Ну, и чего ты добился? Объясни мне, – устало выдохнул Рябов перед Николаем.В результате своей бравуры Кравцов не просто подставил себя, но и навлёк у суда ещё большее подозрение на соучастие Анны в убийстве. Убедившись, что Кравцов не желает опровергать свои новые показания, а подозреваемая Керман соглашается с ним, суд удалился на совещание. О его решении теперь нетрудно было догадаться. – Евгений Петрович, вы думаете, они её не оправдают? – спросил Николай с надеждой. Блеск его глаз был нездоровым. «Может, пока не поздно, подать на апелляцию, мотивируя нестабильным психическим состоянием заключённого?», – пронеслось в голове Рябова. – О том, что я думаю, нужно было меня, Коля, спрашивать до того, как ты устроил эту кашу-малашу... Теперь я тебе ничего не могу гарантировать. Зря ты так полез: не зная броду... – Дальше адвокат продолжать не стал. До вынесения приговора у Кравцова оставалось всего каких-то несколько минут надежды; Рябов не хотел их красть. К тому же, он и вправду ничего теперь предсказывать не брался. Оставив Кравцова в комнате под наблюдением охранников, он вышел на улицу со стороны служебного входа. Курил он редко и сейчас закурил не столько по охотке, а скорее, чтобы скоротать время. Выпуская табачную струю вверх, Евгений Петрович поднял голову. Его взгляд упёрся в окно второго этажа здания суда. Там, во всю ширину стекла, на него сверху вниз смотрел его оппонент. Убедившись, что Рябов видит его, Соев приветливо мотнул головой, как старый добрый знакомый. – Здорово-здорово, – пробубнил Евгений Петрович тихо, – Можно подумать – давно 73 не виделись. И стал бы ты передо мной, Георгий Михалыч, так расшаркиваться, если бы не знал, что твоя взяла, волчара позорный! – Гнев и разочарование выливались в тяжёлых ситуациях неформальной речью. «Значит, получат на полную катушку, – предсказал Рябов решение судей, так как знал закономерность: уж если заговорил он на зэковском жаргоне – хорошего не жди. Выбросив сигарету не в урну, а на асфальт в лужу, Рябов пошёл внутрь. Предчувствия его оправдались с «лихвой»: приговор судей был суровым. Николай Кравцов за убийство Ларисы был приговорён к девяти годам в колонии строгого режима. Его лишали права временной прописки, полученной в Москве после женитьбы на Фёдоровой, без дальнейшей возможности когда-либо ходатайствовать о проживании в столице. Анна Керман, несмотря на убеждения Кравцова в её невинности, была признана соучастницей преступления и осуждена на четыре года исправительных работ также в колонии строгого режима, но по месту основного жительства. Вынесенное ей наказание могло быть пересмотрено в соответствии с законодательством Германии. Но, зная насколько суровы законы немцев, Рябов понимал, что подавать на кассацию даже не стоит. К тому же, Анна с самого начала не желала отдавать себя в руки иностранного государства, считая, что ей ничего не грозит. Узнав, что после приговора она может быть переслана в Германию, Керман изъявила желание отказаться от немецкого гражданства и вновь принять русское. Суд с немым одобрением выслушал её просьбу и, до принятия по этому вопросу какоголибо решения, отправил Анну всё в ту же тюрьму предварительного следствия. Николая же прямо из зала суда погрузили в милицейский УАЗ-ик и отвезли за город на переправочный пункт. – Евгений Петрович, поезжайте в Красноярск, прошу вас, – только и успел сказать Кравцов адвокату перед отъездом. Решение суда свалилось на осуждённого непосильной ношей. Уже в машине Николай почувствовал лёгкий озноб, а через пару часов его вынуждены были поместить в тюремный лазарет; по всем симптомам у Кравцова был грипп. Мечась в жару по койке, Николай стонал и просил вслух прощение у всех по очереди. Первой в списке стояла Анна. Называя её имя, Кравцов кусал губы и корчился. Он махал в беспамятстве руками, словно пытаясь поймать ими что-то или кого-то, и то и дело повторяя имя любимой жанщины. Остальное разобрать было невозможно, оно состояло из непереводимой смеси русского и немецкого, так неожиданно выплывшего в бессознательном состоянии. Несколько раз Николай отчётливо произнёс имя-отчество своего адвоката и стал излагать своё покаяние перед ним чётким сухим голосом. Упоминая Рябова, Кравцов несколько раз приказным тоном посылал его на Север: – Адрес кержаков возьмите у Надежды и Ивана. Они вам обязательно помогут. Кирилл – охотник, из староверов. Он на Подкаменной Тунгуске живёт, в посёлке Кузьмовка. К нему поезжайте, только к нему, – уже просил он. Потом, перекинувшись на Ивана, Николай стал беседовать в голос с ним, – Я, братка, как лучше хотел, сам знаешь. Как ты всё сказал, так я и сделал, братка! Не серчайте на меня с Надюхой; не хотел я Ане зла, Иван. – Кравцов стонал и плакал с закрытыми глазами, и метался в жару. Термометр, сунутый ему под мышку, зашкалил за сорок. – Упарился, видать, преступничек-то, – с садистким выражением пожалела медсестра лазарета, – Может и впрямь врача позвать, как смотрила сказал? Э, друг! Ты чё тут: кино гонишь или впрямь загибаешься? – спросила она, трогая ему лоб. От её руки Кравцов затих. – Да не, вроде и впрямь жар тебя донимает, – шмыгнула медсестра носом, подержав руку на лбу подольше, ожидая, пока мужчина совсем успокоится, – Ладно, помайся до утра, а там, если не полегчает, врачу позвоню, – окончательно решила женщина, 74 скидывая сменные тапки и впихиваясь в растоптанные унты, – Неохота мне тут на ночь с тобой корячиться. О, опять про кержаков понёс. Баптист, что ли? – Медсестра была возраста неопределённого, глядя на её одежду и причёску, ей легко можно было дать за пятьдесят, но при этом кожа её лица и шеи была натянута, как у молодухи, и без морщин. Поправив безобразно-розовые роговые очки, закрывавшие большую часть лица, женщина сщурила близорукие глаза, внесла в журнал дежурств показание о температуре, намеренно занизив его почти на два градуса, и оставила Кравцова в комнате одного. Других больных в эту ночь ей не привезли. Заперев лазарет и отдав ключ охраннику, медсестра пошла на другой конец тюремного помещения; там её ожидала к чаю надзирательница женской части. Скоро должен был начаться очередной телесериал про заключённых-преступников, отечественного производства. Влюблённые в женщину следователя, обе тюремные сотрудницы ни за что не согласились бы отказаться от вечернего просмотра. Никакие Кравцовы или прочие уголовники, почивавшие в помещении по соседству, в счёт приняты быть не могли. Больному Кравцову оставалось уповать только на своё крепкое здоровье, ибо до самого утра ни одна живая душа даже и не подумала бы показаться в медизоляторе. Маленький самолёт Ан-2, с единственной боковой дверью и куцым хвостом, приземлился в Байките. Евгений Петрович Рябов, не зная, как ему дальше добираться до нужной сибирской деревни, обратился прямо к начальнику аэропорта: – Уважаемый, подскажите как добраться до Кузьмовки? Начальник, он же и дежурный диспетчер – грузный мужик с поразительно красным лицом и глазами навыкат, осмотрел вошедшего, прежде чем с отдышкой посоветовал: –Летите вертолётом, иначе и в неделю не доберётесь.Туда сейчас никакой другой транспорт не пойдёт. Рябов, довольный ответом, быстро кивнул: – А вертолёты часто летают? – Когда как. А когда и неделю ждать приходится, – пропыхтел начальник. Гость разочарованно присвистнул. Местный пожалел: – Если бы летом, то можно с проводником сплавиться по Тунгуске прямо до Кузьмовки. Вас бы любой эвенок докатил. Ну а теперь: какие к лешему лодки!? Встали реки. До самого апреля встали. – А если по реке на машине, не быстрее получится? – предположил москвич по незнанию. Сибиряк от таких слов аж крякнул, как от смешной детской недоуми. Он встал из-за стола и прошёл к окну кабинета: – Ты, мил человек, видать, фильмов американских насмотрелся. Это у них быстрее на машине. А у нас – как сказать! Реки снегом занесены в человеческий рост. Он как повалил в этом году в конце августа, так и сыпет до сих пор. Мести некому, – начальник указал на плохо расчищенную взлётную полосу, – Местные, если куда надо, то лучше по тайге пойдут: надёжнее, и снега меньше – деревьями зарощено. А реки ведь открытые; их заносит по самые уши. Тут только опытный проводник нужен. Да где их сейчас возьмёшь? Все эвенки до весны в поселениях расселись, кто где. Радость небольшая по морозу и снегу за сотни километров шастать. Рябов тоже подошёл к окну. Снег за окном радовал теперь белизной и пушистостью меньше, чем при прилёте. – А если не эвенки? – приезжий цеплялся за любую надежду. Диспетчер посмотрел на него так, что тот понял, что лучше отставить свои идеи в сторону. Разочарование залётного москвича было столь очевидным, что начальник аэропорта сжалился. По опыту он знал, что лучшая помощь при огорчении – это участие. Поэтому, стал по-дружески рассуждать: 75 – Оно, конечно, по реке в два раза короче, чем по тайге бродить – факт. А с другого бока поглядеть – река-то ведь теперь стоит, не везёт. Это летом, когда вода колобродит до пены, и на плотах можно по-быстрому спуститься. Пороги, правда, встречаются, так и есть. Но всё едино летом на плотах или лодочках – милое дело. Здесь ведь глубина в местах до семидесяти метров доходит. – Теперь сибиряк стоял перед растянутой во всю стену картой Красноярского края. Лощёная бумага была разлинована по вертикали голубыми нитями рек. Ткнув в одну из них, начальник продолжил, – Тут даже речушки, знаете, какие полноводные и стремительные – у-у! Вмиг домчит вода куда надобно. А уж рыбы!... И хариус, и таймень, и линок водятся. Да-да, линок, – подтвердил он, уловив на лице Рябова удивление, – Вы там, в центрах, поспорю, о таких рыбах не знаете? – Слышали, – пожал плечами Рябов неопределённо. Начальник на такой ответ даже обиделся. – Слы-ышали! – качнул он голосом приезжему в спину; тот повернулся, чтобы уйти, – А они ведь из благородных; к красной рыбе относятся. У нас, когда лето стоит, в этих местах светло по двадцать часов бывает. Хариус в реках, знаешь, как плещет? Так и плещет. Так и ходит толстопузый. А таймень потише, потише, конечно. – Начальник без конфузов перешёл на "ты" и теперь компанейски сопровождал прибывшего к буфету, где расстроенный пассажир заказал кофе и бутерброд. Адвокат слушал в полуха пристрастные россказни бывалого рыбака и пытался выражать лицом то восхищение, то удивление. Взяв себе стакан брусничного чаю, начальник продолжал: – Хариуса ведь много. А тайменя – нет. Он, знаешь, какой здоровый? До шестидесяти килограмм весом доходит. Точно-точно, не брешу. И в длину до полутора метров. Смотришь на реку издалека – толи бревно, толи рыба, сразу не разберёшь, – отхлёбывая чай, диспетчер закурил, – Но я поболе всего линка люблю. Вот ведь чудорыба: блестит, как огонь! Чешуя у него, как серебро, ни с чем не сравнить. И шустрый, гад! В реке его полным-полно, а не поймаешь так просто. Умная рыба, не какая-то там селёдка, что сама в сеть всем косяком идёт. Этот тебе и сеть, если надо, перепрыгнет, и под ней проплывёт. И то сказать – на грани исчезновения. А кому хочется исчезнуть, как виду? О! Никому. Вот он и изворачивается. Спасается, значит. Сибиряк рассмеялся. Торопиться ему было некуда. Свой разговор он вёл размеренно, с довольным покряхтыванием и заметным затягиванием гласных. Так говорило здесь большинство: ровно и внятно, уважая уши слушателей. Евгений Петрович тоже усмехнулся, запивая бутерброд кофе. – Слушай, добрый ты человек, – прервал он очередную попытку начальника аэропорта заговорить на интересную ему тему, – А может всё-таки по реке поехать? – В глазах Рябова горела надежда на положительный ответ. Немного зная сибиряков, он помнил, что у них всегда есть про запас хотя бы одно решение любой проблемы. Начальник посмотрел на гостя сначала с непониманием и даже забыл вдохнуть дым; рассказывая про рыбу, от основной темы он ушёл так далеко, что и забыл о ней. Но потом вспомнил и снова по-доброму рассмеялся: – Ну и упёртый ты, батя. Да можно и по реке, когда бы свой ты тут был. Наши-то таёжники при нужде на погоду не смотрят. Попривычные они, – он с нескрываемым снисхождением осмотрел залётного гостя сверху донизу, фиксируя прищуром начищенные ботинки, – Да только замёрзнешь ты, товарищ москвич, в своих-то обувках. Я б тебе посоветовал тёплые сапоги притоварить или валенки. У нас купишь в городе, запросто. – Ладно. Спасибо. Куплю. А если машину взять с обогревом? – Рябов пытался выровнять представление о себе. Лупоглазый диспетчер замотал лицом, на котором надёжно засела безобидная насмешка: 76 – Как же иначе, если без обогрева? Без обогрева тут по любому никуда. Но только всё одно: с обогревом или без, а экипировка у тебя неподходящая: ботинки без меха, дублёнка короткая, шапка – уши наружу: застудишь ноги, лицо отморозишь. Не, тебе только вертолёт надо заказывать. – А заказывать – это долго? - Рябов боялся не уложиться в предусмотренные отпуском десять дней. Начальник успокоил его тут же: – Не. Не долго. Если сможешь уломать лётную братию, так и вовсе быстро может получиться. Это уж, как подфартит, – он жестом потёр один палец о другой, – Они, вертолётчики, лихие ребята! На мормышку их не поймать. Жалобами не разжалобить. Им конкретные убеждения нужны, – мужчина ещё раз повторил свой жест и рассмеялся, – Тут у нас, как везде. – Да лишь бы подействовало, – Рябов начал сомневаться в разумности принятого решения о поездке в Сибирь накануне приближающейся зимы. – А за то – не сумневайся, – снова успокоил его начальник. Услышав по общему селектору, что его кто-то ожидает, он заторопился, – Вертолётчики к староверам дорогу прямую знают. Без речных кренделей. Дорулят. Ехай с богом! Скатертью дорожка. Так Рябов и сделал. Договорился с местными вертолётчиками на расплату натурой: благо надоумили его в Министерстве геологии запастись хорошим табаком и спиртом. Эта разменная монета всё оплачивала с успехом. Счастливо взвесив в руках полукилограммовый мешочек туркменского табака: белого, длинного, обволакивающего ароматом, байкитовский командир вертолётчиков наспех навертел самокруток лётному составу дежурной смены и, также не забыв заправить дорожку упоминаниями о божьей помощи, взлетел с Рябовым в дальнейший путь. Селение староверов Кузьмовка находилось почти в трёхстах километрах к западу от Байкита по Подкаменной Тунгуске. Здесь, в самом начале зоны Северного Полярного круга, населённые пункты встречались редко. Пролетев на вертолёте, Рябов видел только один маленький посёлок с причудливым названием Полигус. Зимой здесь жили исключительно местные жители: староверы и оседлые эвенки. Летом посёлок изредка разбавляли проходчики-геологи, лесорубы, топографисты, сейсмологи и прочий учёный люд, норовящий проникнуть в глубины Западной Сибири. Затерянное в тайге и окружённое на многие километры вечными непроходимыми болотами, селение Кузьмовка тоже состояло из староверов. Оно насчитывало всего восемь рубленных домов, в одном из которых находилась местная метеостанция. Соединялись жилища между собой деревянными настилами. Стояло селение на возвышенности, что позволяло избегать затопления во время весеннего паводка. – Смотри, столичник, вон местный аэропорт. Сейчас садиться будем, – пошутил пилот, указывая вниз. Среди скалистых гор, вставших столбами, как исполинское войско, редко поросших мхом на отвесе и густо занесённых снегом на вершинах, Евгений Петрович увидел в расщелине маленький посёлок. – Куда садиться? Сплошные камни, – Рябов изумлённо всмотрелся в причудливые очертания окрестных скал, напоминавшие башни красного замка. – Так на камни и сядем, – захохотал в ответ пилот, – О, видишь? Уже и народ вышел для встречи. Всё будет путём, дорогой московский гость. Не волновайся. Сядем, как по первому разряду, – пропыхтел он, регулируя штурвал на снижение. Слабо убеждённый его оптимизмом, Рябов зажмурился. Но, вопреки опасениям, вертолёт точно вписался в расщелину на крошечную платформу, предназначенную 77 для посадки. И сразу же, не дожидаясь остановки винта, к аппарату поспешили местные. Заслышав шум двигателя, все жители повыходили наружу и стояли теперь в ожидании прилетевших, укрываясь от снега, поднявшегося от лопастей винта. – Здорово, таёжники! – крикнул им пилот, остановив машину окончательно и открыв задвижку, – Принимайте гостя из самой Москвы. К вашинским он: к Кириллу и Антонине Морозовым прилетел. – Да знаем, однако, – простодушно улыбнулся адвокату пожилой мужичок, подошедший одним из первых, – Нам по рации из Байкита киданули, что летишь с пассажиром. А чаво кроме туриста привёз, лётчик? – А чаво надобно? То и есть, – также бесхитростно оскалился пилот. Местные отношения не предусматривали между людьми никакого лукавства. – Тогда сначала с бабами разберись. А мужики – на потом, – решил за всех всё тот же мужичок и кивнул Рябову, – Выгружайсь, товарищ дорогой, пошли с Антониной познакомлю. Кирилла-то дня через три, не ране, ждать надо – ушёл в тайгу, ловушки на соболей проверять. Рябов вышел из вертолёта. К нему тут же подошла женщина средних лет с широким скуластым лицом. – Здравствуй, гость, – поприветствовала она степенно кивком и без лишних мимик, – Антонина – это я. Иди пока в избу, вон третья отсюда будет, с петухом резным на крыше. Там меня подожди. Отовариться мне надобно. Собак не бойся: они без команды не тронут, даже не облают. На зверя только натасканы, – предупредила она. – Иди-иди, – махнул Рябову лётчик, видя его нерешительность, – Тебе теперь тут дожидаться надо. Слыхал ведь: хозяина нет. Да не бойсь, народ тут верный, не обидит. Бывай! Как обратно надо будет – пусть по рации меня наберут. Залечу за тобой безо всякого. Побаловал ты меня. Спасибо тебе отдельное за махорку ещё раз. Далее разговаривать пилоту было некогда. Подошедшие женщины повытаскивали из кожаных бурс разные шкурки и ждали мена. Поставка товаров в эти места проходила всего раз в год: весной по большой воде шли к посёлкам караваны судов и барж, везли всё: от иглы до мебели. А ещё оружие, рыболовные снасти да, непременно, продукты на год. Из-за короткого лета, начинавшегося сразу, без весны, и приходящегося на июнь, июль и половину августа, в этих местах успевали выращивать только картошку и огурцы. Да и то сказать – выращивать. Так, чтобы побаловать себя. Особых просторов для посадок не было. Почва вокруг лежала если не каменистая, то болотистая. А если не болотистая, то всё равно захваченная тайгой и скалами, и промёрзшая на долгие километры вглубь. В такой почве ни червь, ни жук не водился. Из растений росли только те, что имели короткий корень и не требовали никакого компоста – почва была, к тому же, ещё и скудной. Для засадок хозяйствовали на небольших участках близ домов. Кое кто ставил не лето теплицы. Что собирали, хранили бережно, а в основном жили на привезённых муке, постном масле, крупах, консервах, сухарях, сухом молоке и прочих элементарных продуктах питания. Обеспеченные мясом круглый год благодаря охоте и рыбалке и запасаясь основным ассортиментом товара во время завоза, таёжные жители спокойно переживали год в ожидании следующего разлива. При этом, при каждом выпавшем случае, они обязательно торопились что-то прикупить. Любой внеплановый вертолёт всегда вёз в посёлки прежде всего спички, муку, сахар, соль, свечи, простейшие медикаменты: йод, антибиотики, вату, марлю, бинты. Но самой большой радостью для местных были сахар и мука. А ещё – махорка и спирт. Курить или пить местные не привыкли, сохраняли обряды, табак иногда нюхали, на спирту делали кое-какие настойки, но, в основном, этот товар припасали для приезжих или для мена. Летом по реке спускалось немало туристов и геологов, они-то и разживались у кержаков табачком, заплатив за 78 него тройную цену. В отсутствие промышленности, люди делали деньги на чём могли. Для тех же целей был и спирт. Прослышав, как пилот заговорил про махорку, бабы зашумели. – Эй, Серёга Иванов, – крикнул пилот своему помощнику, – А ну-ка, отоварь каждую «Беломором». Второй пилот, молодой, не более сорока лет, юркий мужчина полез в заветный ящик, вытащил оттуда папиросы и стал «торговать». Сигаретами тут никто не интересовался, возили только папиросы. Их бабы выпотрашивали, просушивали табак, какую-то часть складывали подальше в чистом виде в банки, какую-то разбавляли для большего количества сушёными травами, среди которых попадалась и конопля. Менная монета и здесь была своя: беличья шкурка отдавалась за две пачки папирос, лиса тянула на десять. Что же касалось соболя или куницы, то они предназначались для более крупных сделок, когда речь шла о спирте, порохе или горючем. Внимательно просматривая протягиваемые ему шкурки, Иванов бережно проводил мен. Его начальник, первый пилот, меж тем спустился на землю и хвастал драгоценной махоркой перед всё тем же щуплым мужичком, что слыл местным старшаком. – А что, мил человек, неуж не отсыплешь мне пару стаканов твоего морфия, – скорее попросил, чем спросил мужик у пилота. Вертолётчик на это только головой замотал. Затянувшись белым дымом ещё раз и внюхиваясь в него, как в высшую сладость, пилот прищурился: – На кой тебе? Ты же не куришь? – Надо, – коротко ответил мужичок, –А я бы тебе, может, чего интересного дал? – закинул он удочку опять. Пилот снова замотал головой: – Не-а. А чего? Мужик потянулся ему на ухо, заверяя: –Мишка. Совсем свежак. Месяца нет, как завалили. – Тю, откель в это время косолапый? – засомневался пилот. Действительно, к концу октября охота на медведей уже заканчивалась. Звери уходили в тайгу, готовились к спячке. Медведицы вынашивали в себе потомство, зачатое летом. –Да тут – дело особое, – объяснил мужик, – Помнишь-нет, пекарня у нас была? Баба в ней работала. Кстати, Антонины Морозовой тётка – Фрося Левченко. – Чё ж не помнить? Помню, – согласился пилот, оглядываясь на сторону. Там, неподалёку от деревни, в другой расщелине стояла построенная пекарня, – Я ведь сколь раз от неё хлебов возил под заказ в тот же Полигус. Так и что? – А ничего: задрал её мишка, – просто объяснил старовер, так, словно речь шла об обычном деле. Пилот от удивления открыл рот и даже перестал курить. Мужик прокряхтел: – Так вот. Пришёл зверь на запах дрожжей. Зашёл в пекарню, а там – она. Он, однако, и задрал. Царство ей небесное, – перекрестился он, окладывая себя по привычке двумя вытянутыми пальцами. – Небесное, – перекрестился по-быстрому и пилот, но по-своему, тройчатой жменей, – Так и что потом? – Ничего. Догнал я его и убил. Вот и вся недолга. Скоро сорок дней, как померла Фрося. Помянем. Эвенков позовём. Они тут недалёко в тайге поселением стоят, – завершил он рассказ уверением, – Так как, возьмёшь шкуру или нет? 79 – Возьму, раз такая добыча, – проскрипел пилот. Очень уж не хотелось ему расставаться со вкусным табаком, да не мог он обидеть человека. Знал заранее, что выторгованный табак мужичок пустит по кругу среди гостей во время поминок. По завету сибирского гостеприимства, пришедшему всегда подавали всё самое лучшее. А то, что зверя мужик наказал – поделом. В тайге всё подчинялось своим законам. Любой мог пойти на постой, что к селянам в посёлках, что в сторожку в лесу. Никому никогда не заказано было о помощи просить: ни человеку, ни зверю. Зверей люди подкармливали, особенно в конце зимы, когда с кормом было ещё туго, или строили для них тёплые загоны на случай особых морозов. Человек же сам мог пользоваться всем, что находил на месте. Жить мог, сколько того требуется, баней там пользоваться как приспичит – пожалуйста, съестного брать по нужде: сухарей или соли в дорогу подзаправиться – разрешалось. Но только тогда, когда и вправду была в том истинная нужда, не про запас. И только при условии, что брали не последнее. Всегда, во все времена в жилище должны были оставаться спички, свечи, сухари, соль, крупы. Для последующих странников. А если кто закон гостеприимства нарушал: опустошал дом или сторожку подчистую, а, ещё хуже, портил чего – баню, например, спалил по умыслу ли, без, таких всегда потом в дороге пуля находила. Зверя, получается, тоже достала за пакости его. – Пошли тогда в дом, – радостно пригласил мужик, – Там отсыплешь. – Только по-скорому, батя, – предупредил пилот, – Я сюда безо всякого наряда наладился.Чего как хватятся? Он засеменил по снегу к дому мужика и уже через десять минут выскочил оттуда с мешком через плечо. – Эй, Иванов, ты чего там ярмарку устроил: просматриваешь каждую шкурку на свет, как рентген, – беззлобно тыкнул командир подчинённому, – Никто тут дурить тебя не станет. У кержаков товар проверенный. Закругляйся, паря, вылетать пора, – торопливо шумнул он и полез в кабину. Но тут же улыбнулся бабам, – Сразу видно – молодой ещё, без опыта. – Научусь, Семёныч, – пообещал подчинённый с подкупающей своей простотой улыбкой. Через пять минут торги были завершены, вертолёт поднялся в небо, оставляя Рябова одного среди незнакомых ему таёжников. Три дня, проведённые Рябовым в деревне, позволили отоспаться вволю и поэтапно продумать весь ход дальнейших действий. Сразу после суда адвокат защиты подал апелляцию по обжалованию решения районного суда в кассации. Теперь для ведения дела нужны были дополнительные факты в пользу осуждённых. Рябов не сомневался, что Анна не обманывает, что её видели соседи по номеру. Тогда почему же вот уже дважды получал он отрицательный ответ из Красноярска? Было что-то действительно странное в том, что геологи единогласно отнекивались и даже намёком не захотели подтвердить присутствие соседки по номеру на балконе. Странное тем более, что в последнем разговоре с дежурной по этажу Рябов узнал, что сибиряки в тот вечер неплохо повеселились, и веселье это закончилось дракой. Кто кого бил и каким образом приезжие замазали свою вину перед администрацией дежурная не знала. Она не хотела рассказывать даже и того, что сказала. Но уж больно разжалобил её адвокат, объясняя, что Анна сидит в тюрьме по ложному обвинению. После разговора с дежурной решение Рябова сложилось почти молниеносно. Явно на лицо был какой-то провал информации. Получить недостающие факты адвокат рассчитывал от очной встречи с сибиряками. Вот только предсказать её не мог никак. Отлёживаясь на широкой кровати, поставленной в определённой ему Антониной комнате, Евгений Петрович так и эдак строил планы на будущую защиту и понимал, 80 что без положительных показаний свидетелей апелляции ему не выиграть. Хозяйка его разговорами не донимала. Спросив в первый день по какой нужде он приехал и не услышав конкретного ответа, Антонина приняла с благодарностью из рук гостя литровую бутылку спиртового чистогана и такой же, как для лётчика, полукилограммовый мешочек с махоркой, и отстала, не обидевшись. Она с детства привыкла к тому, что мужские вопросы решались здесь без женщин. Присутствие незнакомого мужчины в доме её не теснило, хотя и приходилось в эту пору им коротать день от свету до свету. Но длинные ночи, отсутствие телевизора, как объекта совместных интересов, а также природная замкнутость обоих, заставляли и гостя, и хозяйку держать дистанцию. А вместе с тем, женщина могла спокойно прохаживаться по дому в одной ночной сорочке и не стеснялась его, мелькавшего в одних трусах: по малой нужде, да особенно в сумерки, выскакивали на крыльцо, не утруждая себя бежать до туалета. Для этого достаточно было накинуть на плечи одну из меховых шуб, лежащих в сенях горой, да сунуть ноги в валенки. Шубам в Сибири счёта не знали. Частной коллекции Антонины мог позавидовать любой меховой дом «Фенди». Была у неё и белка, и росомаха – зверёк что-то среднее между волком и лисой, и куница, и соболь, и даже горностай. – А кто вам их шьёт? – спросил как-то Рябов, возвращая тяжёлый волчий тулуп Кирилла. – А кто б нам тут их шил? Сами, – коротко ответила хозяйка, – Это нетрудно. На четвёртые сутки пребывания Рябова в селении, вернулся домой Кирилл. Пришёл среди ночи и, застав в избе незнакомого гостя, не удивился. Рябов, смущённый своим присутствием больше, чем жильцы, поднялся для знакомства. – Здравствуй, хозяин, – протянул адвокат руку широкоплечему бородачу, – Я – Евгений Петрович. К тебе пожаловал от Николая Кравцова. Не знаю, помнишь ли такого? Бывал он тут в ваших местах в девяносто первом году. Рыбу ловил. Сам он изпод Калуги. Кирилл, выслушав Рябова без выражения каких-либо эмоций, качнул головой: – Помню Колю. Как не помнить? Как он жив-здоров? – На этот счёт разговор есть отдельный, – замялся гость, глянув коротко на Антонину, неожиданно расплывшуюся за спиной мужа в улыбке. Кержак тяжело сел на лавку и стал стягивать тяжёлый шерстяной свитер. – Добре! Поговорим завтра. А теперь иди спать, человек хороший. Ночь на дворе. Да и я устал – мочи нет. Покорми меня, Антонина наскоро. А к обеду чтоб баня была и уха, – не то попросил, не то приказал он. Кивнув в ответ, хозяйка кинулась к печи. Она вытащила горшок с мясной кашей, ещё тёплой, так как ждала мужа с вечера и потому угли берегла, а из сеней принесла кувшин кваса. Наскоро поев, Кирилл ушёл спать в другой конец избы в отдельную комнату, а Антонина ещё долго хлопотала при свече, что-то правя к наступающему дню. На другой день проснулся хозяин только к обеду. Выйдя на крыльцо в одних портках и тулупе, одетом на голое тело, Кирилл сладко потянулся и, вдохнув морозный воздух, умылся снегом. Рябов, не знавший чем занять себя, расчистил небольшую площадку за избой для зарядки. В момент, когда Кирилл вышел из избы, Евгений Петрович был занят отжиманием от бревна. Медленно всунув ноги в валенки, стоявшие тут же на крыльце под козырьком, Морозов спустился по ступеням и побрёл к адвокату напрямик, по снегу. Не говоря ни слова, а только кивнув на приветствие, бородач присел на одно из брёвен, сваленных неподалёку вдоль забора, и стал смотреть на упражняющегося. В окне показалось и зависло лицо Антонины. – Может вместе со мной, Кирилл, не знаю уж как по батюшке? – предложил Рябов, 81 стеснённый публикой. Кирилл, поняв, густо засмеялся в бороду и шикнул на жену издалека. Лицо в окне тут же исчезло. – По батюшке я Иваныч. А от предложения – ты меня, однако, уволь. Мне, гость дорогой, такие телодвижения непригодны: от них ни в руках, ни в ногах силы не будет. Вот как бы предложил ты ёлки повалить, брусья на распил покидать, доски для крова потягать, корову из болота вытащить, лося заваленного по тайге понести, так это – моё. А прыг-скок – для вас, столичных, хорошо. – Это да, мне с вами тягаться – не по силам, – заранее сдался адвокат. Кирилл кивнул: – Для непривычных такое – тяжко. Хотя, Колю я в своё время натаскал. Он, не знаю, рассказывал-ль нет, после выворота стопы ведь почти с месяц не мог на ногу приступить. И ещё бы три провалялся, если бы не моя Антонина со своими чудодейственными притирками да я с ежедневными просьбами пособить там, подмогнуть здесь. Он-то, Николай, парень совестливый: как застрял у нас, всё переживал, что объест. Вот и подскакивал на любую просьбу: мог, не мог. А я, думаешь, зажадничал? Брось! Нас с нашей тайгой разве объешь? Тут провизии – не перебить. Зверя в лесу, рыбы в воле – полным-полнёхонько. А доставал я его, чтобы заставлять двигаться, работать. Потому как лучше труда – ничто не лечит. Евгений Петрович усмехнулся: –Так сказать – трудотерапия. – Она самая. Он у меня как полазал по скалам, как поплавал в запруде, как походил со мной в тайгу за рябчиками – сразу на две ноги встал, без всяких врачей. Да он, наверняка, рассказывал? – обратил силач на приезжего полу-взгляд. Рябов, прекративший гимнастику с самого начала разговора, понял, что хозяин осторожно прощупывает его, чтобы знать на какую тему повернётся разговор. На вопрос Кирилла адвокат покачал головой: – Нет, Кирилл, про такое мне Николай ничего не рассказывал. Мы с ним не настолько знакомы и не там встретились, чтобы по душам беседовать или всё друг о друге знать? А что тут с ним приключилось? Не поняв ответа, Морозов долго посмотрел на адвоката. Потом скупо прогудел: – Оступился на промысле и заболел. – Как это? – Просто. Стал сходить с плота. Думал, что дно рядом, вода-то прозрачная, а до него ещё три метра оказалось. Вот он и ушёл с борта в глубину с головой. А река-то холоднющая была, всего градусов десять, не больше. Даром, что лето. Николай и закоченел сразу. Так бы и остался на дне, если бы за ним один из наших не нырнул. – А всплыть? – А оттуда не всплыть, мил человек. Оно, знаешь, как бывает: когда к холоду с непривычки, то нырнёшь и кажется, что тысяча ножей в тело впиваются и дыхание перехватывает. У меня такое было, когда пацаном рос. В прорубь свалился. Тоже сначала как шок, к сердцу кровь приливает, кажется, что оно лопнет, а потом – тормоз, голова больше управы не даёт и тело перестаёт двигаться. Тогда – конец. Если никто не подхватил, не вытащил, считай погиб. Адвокат поёжился. Небольшой ветерок проникал под тёплый свитер и был вспотевшему телу неприятен. Рябову представилось, как за шиворот попадает ледяная вода: – А ведь, наверное, и когда вытащат, то застудиться всё равно можно? Кержак слепил снежок и киданул его в сидящую на пеньке неподалёку ворону. – Можно. Как нельзя? Мы для того при себе всегда особое зелье имеем. Настой, у кого 82 брусничный, у кого на малиновом листе, или особо хорош из почек красной смородины. Ягод у нас в сезон – до краю не обойти. Из них варенье варим. А из листьев и почек – настойки на спирту делаем по особым рецептам. Хлебнёшь такого навару и всё ни по чём. Изнутри сразу согревает, разгоняет застывшую кровь. Так вот и Колю вашего спасли. Напоили, как выудили, да к нам на постой отправили. Рядом он был, повезло. А тут уж Антонина к нему прилипла. Приняла, как родного. Полюбился он ей с первого взгляду. Как человек, понимать надо, не как мужик. Рябов кивнул: – Да, человек Николай хороший, целостный. Кирилл опять посмотрел затяжным взглядом, прощупывая, обдумывая. Потом ответил: – Я таких слов «целостный», ты уж прости, гость, не знаю. А то, что парень он добрый – однозначно. И без червя в душе. Детей-то у нас нет, бог не дал, вот баба моя и приняла Николая, как если бы он был её сын. По возрасту однако он мог бы нам в сыновья сойти вполне. Мне ведь уже шестой десяток скоро махнёт. Рябов, оглядывая здоровяка всего сразу, подивился: – Хорошо выглядите. Крепкое тело Кирилла было упруго, лицо избавлено от морщин, светлые глаза горели ярко, волосы росли густо. – Да ты мне не выкай, пожалуй, хороший человек.У нас тут всё по-простому, без церемоний. А за оценку – спасибо, конечно. Только в Сибири долголетие – вещь обычная, если выживешь. Все выглядят хорошо, потому как морозом продублённые; ничего нам и не сделается. Пошли, что ли, в избу, пока не примёрз, – предложил сибиряк, видя как гость, одетый в свитер и спортивные штаны, синеет при двадцатишестиградусном морозе на глазах. Адвокат замялся: – Может, сначала поговорим про Николая? – Поговорим в доме. Антонины не бойся; чего её бояться. Кому тут что говорить? Разве только со зверями в лесу перемолвишься, а так – нет у нас обычая про чужих судачить. Люди у нас, как кремень! Пошли! Угощу тебя кое чем, – поднялся он окончательно и, пока шли до избы, похвастался, – Торгуем здесь понемногу с приезжими башкирами. Покупаем у них дикий медок. Они у себя бортничают, пчёлок эксплуатируют. С них медок на всю зиму набирают. И то сказать – плохое ли дело, если у пчёл его и так вдосталь. Они улии не разоряют, ни-ни! Зачем? У каждого своих дупел примеченных по пять-шесть на дом. С них и собирают всё лето понемногу. А потом нам с последними баржами везут. На мен. Тоже не много. А много нам к чему? На лечение, с блинами полакомиться, ну и, главное, на забаву – глотки погреть, в баньке хворь поразгонять. Мужики остановились подальше от крыльца по малой нужде. Беседа велась, как среди давних друзей. – Пьёте значит? – засмеялся словам кержака адвокат, – А как же запрет? Или вы уже законы не соблюдаете? Пьёте, курите? – Окстись! – зыркнул Кирилл заправляясь, – Кто курит табак, тот хуже собак. А медовуха – это не питьё, это лечение. Спиртяку не глушим – это запрет. А медовуху – положено! Сам сейчас поймёшь, о чём толкую. Сперва медовухи, а потом – в баньку! В парилке посидел, на снег выскочил, опять зашёл и сил набираешься. А мёд по тебе гуляет, гуляет. Час-другой, и, как на свет народился. А в голове аж шум стоит, до того хорошо. Пошли, расскажешь про Николая. Хороший Коля парень, да, Антонина? – спросил он на входе у жены. Антонина кивнула и перекрестилась на образа Святой Матери в углу большой комнаты: 83 – Нам бог только хороших посылает. Мужики прошли и сели за уже накрытый стол.Тут же Антонина подала кувшин с настойкой. Кирилл налил по большой глиняной кружке. Глядя на ёмкость, Евгений Петрович засомневался. – Уж и не знаю, хозяин, осилю ли? – извиняясь спросил он, заглядывая вовнутрь. – А ты не силь. Как не пойдёт, так и не пей. Но токо пока ещё никто не вышел из-за стола, второй не попросив. А после второй – хоть проси, хоть нет, не дам, – улыбнулся хозяин добродушно, – Такой обычай: только две. Да ты пей, не стесняйся, – подбодрил Кирилл и сам припал к напитку. Варево было студёным и бодрящим. Выпилось оно как квас. Но только, едва поставил Рябов кружку на стол, понял, что такое медовуха: в голове приятно закружило и по телу пошёл жар. – Ох, хороша бодяга! – одобрил Кирилл, – Ты как, Петрович? Осилил? – Доброе питьё, ничего не скажу, – улыбнулся Рябов, – Такое и впрямь ещё в рот просится. Кирилл засмеялся басом: –То ли ты ещё после парилки скажешь? Пошли мы что ль? – кивнул он жене, – Часок попаримся, а потом ушицы! – Так уже всё готово, Кирилл, идите с богом! Лёгкого вам пару! – Ты нам туда попозжа полотенца принеси. Хозяин, взял из приготовленной стопки две простыни и пошёл из избы. В просторной рубленной бане мужики охали и ахали от крутого пара, напущенного при первом заходе. Пообтряхнув себя слегка колючим кедровым веничком, Евгений Петрович выскочил в предбанник и упал на лавку. Через несколько минут вышел из парной и Кирилл и подался прямиком наружу на снег. – Хороша банька – слов нет! Спасибо тебе, хозяин! – поблагодарил кержака гость, когда тот вернулся. – На здоровье.Ты как? Уже всё? – Да зайду ещё раз. Не очень-то я к такому пару привычен. Мы в столице всё больше сухой любим. А этот – здоровее, понятно, но мне тяжело. – Не усердствуй. Никто тут с тобой наперегонки не подладился, – согласился Кирилл, утираясь простынёй. По всей бане шёл плотный хвойный дух, от которого щекотало в ноздрях. Адвокат дважды чихнул и посмотрел на свои стопы. – Слышь, Кирилл, а так я и не понял, что тогда у Николая с ногой-то приключилось? Кирилл засмеялся: – То отдельный случай. Его к нам как привезли на отогрев, я его, как тебя вот, медовухой-то напоил да хотел также в баньку засунуть. А он во хмеле с крыльца моего сиганул куда не надо. Высокое оно у нас, крылечко-то, вот Коля и не рассчитал. Шагнул и ухнул. Говорит, как во сне вроде привиделось, что у себя он на дворе. Нога распухла сразу – как голова. Куда с такой на промысел? Потому и осел тут на месяц. А мне, однако, вроде как неудобно: моя вина, напоил парня. Вот такая история. А Колю, как выздоровел, потом вслед за своими на вертолёте переслали. – Перепутал он, значит? – усмехнулся Рябов. В дверь постучала и, дождавшись отклика, вошла Антонина с полотенцами. – Это хорошо ещё, что только крыльцо перепутал, – подмигнул адвокат, кивая на вошедшую женщину. Она, отсутствовавшая при разговоре, не поняла о чём речь и нахмурилась. – Это точно, – засмеялся Кирилл, сделав жене знак уйти. Дождавшись, пока дверь плотно прикрылась, он заметил. – Хотя, Коля не из пакостливых. Да и по своей жене он шибко скучал. Всё время только про неё и рассказывал Антонине. Не помню уж 84 как-то её зовут? – Анна, – вздохнул адвокат. – Точно! Анна! Она потом Антонине и письмо написала, благодарила, что мужика её выходили. Ей малость, а нам – приятно. И то сказать, у бабы моейной оно за всю жизнь единственное письмо и есть. Кому нам писать-то? – Видно было, что Кириллу приятно хвалиться от имени жены. Рябов снова вздохнул. Сибиряк это заметил: – А что ты так тяжко, Петрович? Беда что ли приключилась? Давай уж говори. А то мы всё вокруг да около... Из бани мужики вышли ранее объявленного часа. Услыхав от адвоката о случившемся, Кирилл засобирался. В доме сели за стол, но есть не торопились. Кержак попросил у жены подать письмо Анны. Женщина молча принесла и села рядом, ожидая, пока, с её согласия, адвокат прочтёт. Рябов, перечитав, аккуратно сложил лист и убрал в конверт: – Да уж, письмо. Но только, неужели же вам и вправду писать некому? А как же родные, близкие? Разве нет никого, кто живёт вдалеке? Морозов, степенно обтирая заледенелый кувшин с новой порцией медовухи, помотал головой: – Все наши – тут. Родителей похоронили кого когда. Мой отец в тайге сгинул, даже косточек не нашли. Мать от болотной лихорадки скончалась. У Антонины тоже мало кто остался. Недавно вот мишка тётку задрал. – Да, я уже про это слышал, – кивнул Рябов; ему про это Антонина поведала в редких разговорах за столом, в те дни, пока хозяина ждали. – Вот уж судьбинушка Ефросиньюшке вышла! Сама комара никогда не обидела, а от лап четвероногого лишака смерть приняла. Наливай, что ли, – протянула женщина мужу свою кружку. Мужики выпили по втрой и последней. Все принялись за еду. На столе стояли приготовленные заранее солёные белые грибы и тарелка с горкой напечённых шанежек. В печи на углях настаивалась уха, сваренная из мороженного хариуса и разливая запах на всё избу. – За всех! – поставил Кирилл кружку на стол и утёрся. – Храни нас Христос-спаситель! – опять перекрестилась Антонина, – Спасибо ему, что каждую тварь кормит да про нас не забывает. – За всё хорошее, в общем, – добавил своего и Рябов, не зная что ещё сказать. Очередная кружка медовухи сделала лица староверов близкими и как бы давно знакомыми. – Ох и добра твоя отрава, хозяин, – прокряхтел гость в очередной раз, протирая глаза от проступивших слёз. – Ещё бы! Не какое тебе там «Шато Марго», – Кирилл ткнул пальцами в висевшую на стене красочную рекламу французского вина, вырванную Антониной из какого-то журнала и повешенную у стола, как картина, – Моя – на вересковом медке. Оттого хороша по-особому! – заулыбался Кирилл. Подцепив вилкой толстый гриб, он отправил его в рот целиком. – Так уж и вересковый? – Тю! Не верит! Багульника в Сибири – заросли. А багульник – он ведь, как и есть, вереск, – подтвердил Кирилл. Еда не мешала ему вести беседу. Мощно пережёвывая, он то и дело утирал бороду приготовленным Антониной заранее полотенцем. Она ела тоже с аппетитом, не встревая в разговор мужчин, только слушая его. Глядя на них, Рябов положил себе крепкий солёный гриб на тарелку и принялся пилить его вилкой, не подвергая рот насилию. Гриб, скользкий от засола, ёрзал по тарелке, норовя соскочить. Евгений Петрович придерживал его, как мог, горячей шанежкой. 85 – Да дай ты уж человеку нож, – шиканул Кирилл на жену. Антонина тут же подхватилась. – Спасибо, – улыбнулся Евгений Петрович хозяевам, прижимая ножом хитрый гриб. – Тебе на здоровье, – кивнул сибиряк, – Ты, пока не захмелел, Антонине-то про Николая всё обскажи заново. Моя голова –хорошо. А она тоже может что присоветует. Дело ведь ты мне задал нелёгкое, Петрович. Глава двенадцатая : Поиски правды (ноябрь 1997) Через день Евгений Петрович и Кирилл вылетели в Красноярск на розыски нужных им геологов. Ещё будучи в Москве, Рябов взял в Министерстве геологии РСФСР письменное ходатайство о содействии в деле розыска, завизированное Главным секретарём министра. Хорошо, оказались для этого былые связи. Вооружённые бумагой с завораживающей печатью, два путника сумели выудить в Красноярском Управлении по делам геологоразведки и нефтяного промысла интересующие их данные. Из пятерых разыскиваемых в данный момент в пределах Сибири находились только четверо. Двое – в районе Енисейска, один, основной свидетель Сергей Стябелов – в Иркутске, и, последний – в районе Мирного. Решив начать с тех, что поближе, Кирилл и Евгений Петрович вылетели сначала в Енисейск. К их огромному разочарованию оба геолога накануне их приезда были отосланы по партиям в разные места. Начальник геологических экспедиций – сухонький пожилой распорядитель, услышав о просьбе Рябова помочь в розыске взмолился: – С ума вы спятили, товарищ москвич? Я сам всю жизнь в партиях, а и то в такое время не рискнул бы куда соваться. Пурга уже повсюду вьюжит. У нас для людей транспорта не хватает, а здесь ещё туристы пожаловали. Лета вам мало? – Да не для прогляду мы, мил человек. Пойми ты это, – принялся уговаривать Кирилл, – Мне-то уж поверь; я – здешний. Дело у нас очень важное. Жизни человеческой стоит. Позарез нам нужно четверых этих ребят отыскать, – кержак прочертил ребром ладони по горлу и остановился на полуслове. Геолог, видимо имевший достаточно опыта в общении с местным населением, осмотрел пришедших теперь с большим пониманием, но отправлять их в места экспедиций всё равно отказался. – Хоть как просите, не могу. Ей богу, не могу! Нет у меня транспорта. Тому три дня, учёных едва-едва выпросил пораскидать по местам, и то шуметь пришлось. До лета погодите, – почти попросил он. Но Кирилл категорично покачал головой: – Нельзя. Никак нельзя. Говорю же – человек зазря пропадает. Рябов, взявшийся было с самого начала убеждать, теперь стоял молча. В огромных валенках, купленных, как советовали, ещё в Байките, и в подаренных Кириллом огромной волчьей шубе и шапке, он казался рядом с кержаком маленьким, утонувшим в вещах. Посмотрев на его взволнованное лицо, начальник распределения выдохнул: – Тьфу ты, напасть! Придётся, значит, начать вам с Мирного. Попасть туда, с одной стороны, проще: самолёты летают за добычей каждые два дня. А с другой... Как я вам бумаги пробью? Алмазные ведь всё-таки копи! Кирилл ухнул и почесал затылок. Для него одно только упоминание драгоценного камня было неприятно. Знал сколько из-за этого добра творится по всему Северу злодеяний. А потому догадывался, что начальник не шутит. Да, попали мы в историю, Петрович, – громыхнул голосом старовер и двуперстно перекрестился, – Господи, ты, Христи! 86 – Ладно, столица, не кисни, – подмигнул начальник Рябову, на лице которого читалась безысходность, – Есть у меня идейка. Мыслится мне, что того человека, что вам требуется, отправили, скорее всего, на новые разработки на Вилюе.Там контроль не такой, как на основных месторождениях. Пока ничего не нашли, только ищут. Значит, есть шанс попасть. Попробуем, столица! – хлопнул он адвоката по плечу, – Пошли, звонить будем, – ринулся он куда-то. Двое прибывших поспешили за ним неотступно. Телефонная связь, одна на всё здание в виде раздолбанного аппарата, была с Мирным настолько плохой, что приходилось кричать изо всех сил. Но, несмотря на это, начальник распределения сумел объяснить отвечающему суть проблемы, а, главное, узнать где именно находится нужный геолог. – Завтра в пять утра за вами заедут и отвезут в аэропорт, – объяснил он путешественникам, – В Мирном сами разбирайтесь, как хотите. Это уже не моя территория. Начальник тамошний, Захаров, всё вам объяснит, как прилетите. А сейчас могу только предложить гостиницу для геологов. Настоящего комфорта не ждите, не в столицах живём, не до того. Но тепло и питание обещаю. И пусть денег с вас Никитишна не берёт. Скажите я сам с ней разберусь. Лады? Тогда бывайте! И удачи вам! – пожал он руки обоим мужчинам. – Возьмите вот на гостинец, – протянул ему Рябов блок хороших сигарет. – Спасибо огромное – не курю, – отказался начальник, – И вам не советую. – Да я и сам не курю, – засмеялся адвокат, – Тогда извиняйте, больше угостить нечем. – Ко мне приезжай, в Кузьмовку, добрый человек. Я тебя там по своему отблагодарю, – опять встрял Кирилл. Лицо начальника отразило видимый интерес: – Это в какую такую Кузьмовку? – А что на Подкаменной Тунгуске, – Кирилл широко улыбался. – Это ты там такого соболя бьёшь? – начальник ткнул на шапку старовера. Кирилл, довольный похвале, крякнул: – Так и есть. – Хороша-а! – пропел геолог, любуясь мехом головного убора, – А что, скорняк, слабо как будет мне пару лис справить жене на шапку? – Однако, что проще, – заверил Кирилл, – Приезжай, когда хочешь, готовы будут. Если меня не застанешь – жинке всё обскажу, она тебе отдаст. Начальник партии аж завертелся на месте. Не ожидал он, что ему выпадет такая удача: он сразу отметил качество выделки меха кержаковой шапки. – Сам ведь я туда могу до конца жизни не попасть... Работа! А что как через пилотов передать? Кирилл пожал плечами: – Какая мне разница? Присылай! Как от тебя будут – отдам. Не сомневайся. – Что ты? Что ты? Какое сомнение к кержакам. Как вы там говорите? «Ты на правде стоишь, трудно тебе, да стой не вертись». Так? – Так, – довольный гыкнул в бороду старовер, не ожидая, что знаком местный начальник с их приговорками. – Добро, договорились! Тебя, как я понял, Кириллом величают? – Так и есть. – Ты там в деревне, надо думать, один такой богатырь? – улыбнулся начальник безо всякой слащавости. Сибиряк, пряча смущение в бороде, рокотом захохотал: – Другим был только Илья Муромец. – Ну спасибо тебе, богатырь! Ох и рада будет моейная женщина! А то прямо запилила; 87 в Сибири какой год живём, я в тайге сорок лет безвылазно пропадаю, а шапку хорошую жене справить некогда. Прямо – сапожник, без сапог. Она ведь – баба, не понимает, что нам в партиях не до шкурок, – мужчина улыбался смущённо. Такое откровение в Сибири было редкостью. Пришедшие, одарённые им, почувствовали себя неловко. Начальник понял и заторопился окончить разговор, – Вы, мужики, на меня не серчайте за болтливость. Это я на радости. Женюга у меня уж больно хорошая. Рад я, что смогу угодить. – Что ж, хорошему человеку будет хороший зверь, – заключил Рябов, и мужчины окончательно распрощались. Рябов позвал в темноту: – Вы –Толик Шкердин? – Я. Кому такой нужен? – с лежанки поднялся косматый бородач. Он был невысокого роста, широкий поперёк, с плотным скуластым лицом. Борода и усы старили его, но не настолько, чтобы не заметить, что ему едва ли перевалило за сорок. Гостей полярник встретил острым взглядом. Рябов коротко объяснил зачем они пожаловали и тут же протянул фотографию Анны Керман. Шкердин кинул на фото быстрый взгляд и тут же подозрительно уставился на пришедших, не отвечая. Мгновенное беспокойство в глазах спрятать геологу не удалось даже не смотря на то, что он почти сразу же попытался безмятежно улыбнуться: – Это чего нам таких краль привозят на опознание, да ещё и с доставкой на дом? – Может вы когда-то видели эту женщину, – по протокольному спросил адвокат. – Может и видел, – согласился Шкердин, –Жизнь-то, она – длинная, – он помедлил, – Да только не помню ни когда, ни где. Нет. Не знаю. Геолог отвернулся с намерением опять залечь. Кирилл, молчаливо глядевший до этого на мужчину тяжелым взглядом из-под насупленных бровей, закряхтел: – Слышь, паря. У нас тут, однако, вот какое дело образовалось. Помочь надо хорошему человеку, сотоварищу моему. Это – егойная жена. Правильная баба, а попала в передряг, в убийстве её обвиняют. Кирилл широко осенил себя двуперстным крестом. Шкердин, заметивший это, посмотрел на здоровяка с большим интересом. Кирилл, открестившись, продолжил: – Она, понятно, никого не убивала. Да вот только все факты против неё. Но есть один шанс помочь – это ваша компания. Кто-то из ваших мужиков, кто был с тобой тогда с Москве, видел её в номере в тот самый день и час, когда убийство совершалось на другом конце города. Понимаешь или нет какая штука? Она судьям кричит, что не убивала, свидетели есть, а найти их не можем. – Как так? – геолог удивлённо поднял бровь. Спать ему расхотелось. Он нащупал рукой на табурете около лежака штаны и стал натягивать поверх трико. Рябов, стоявший молча, принялся скоро объяснять: – Дежурная по этажу ничего толком не говорит. А ваш товарищ, что был прописан в соседнем с этой гражданкой номере, её опознавать не хочет. Я узнал, что у вас там драка была. Может поэтому он отказывается? – Выручай, паря, одна на тебя надежда. Вишь, из каких далёков мы сюда прилетели? Может вспомнишь что? Или из твоих кто что знает? Кержак говорил медленным, тягучим, как его мёд, голосом. Поглаживая длинную ладную бороду, он смотрел на геолога безотрывно, как может смотреть только человек без хитрецы, чья совесть не требует сомнений. Крутяга геолог, выслушав прибывших, жестом пригласил их к столу: – Щас, мужики, погодите. Понял я всё, сладим мы это дело. Другим бы не сказал, не 88 поверил. А ты, гляжу, из староверов, батя, – улыбнулся он Кириллу, – Моих, значится, кровей. Я и сам вырос среди них. Так что, понятно, верить тебе можно. Погодите, я лампу зажгу, чтобы посветлее было. Геолог подтянул повыше стёганные штаны, вытащил из сумки на полу спички, зажёг керосиновую лампу, стоящую на столе. Затем он прошёл к печке-буржуйке и, без лишних расспросов, поставил на неё чайник, предварительно зачерпнув им снаружи снегу. В такое время воду для чая заранее не запасали: выходили на улицу, черпали посудинами снег, что почище, его и топили. Разворошив кочергой угли, Анатолий подкинул в печку для верности несколько деревянных распилов, лежавших тут же и, убедившись, что они занялись пламенем, закрыл заслон. Всё это время пришельцы молча стояли в ожидании. Раздав каждому по стакану со стальным подстаканником, взятые в деревянном навесном ящике, Шкердин полез в другой ящик и вытащил оттуда пачку кускового сахара в картонной упаковке, банку ежевичного варенья и ломтики белого домашнего хлеба, аккуратно разрезанные и хорошо просушенные на жару печи. На Севере, где любой путник мог появиться в доме неожиданно, церемония гостеприимства была особая. Гостя прежде отогревали, поили, кормили, а только потом принимались за разговор. Здесь отсутствовал, как таковой, социальный статус человека. Замёрзшим и голодным мог оказаться в необъятных снежных просторах любой. Поэтому предпочтение отдавалось сначала самому живому существу, будь то охотник, каторжник, учёный или даже чья-то собака. Когда чай завалился, Анатолий, хлопотавший до этого без слов, повторно указал гостям, топтавшимся стоя, на лавку за столом, сам сел на табурет напротив и впервые улыбнулся: – Повезло вам, мужики, неслыханно. Потому как я и есть тот самый свидетель, какой красавицу вашу видел. Дай ка поглядеть на фотку ещё раз, – попросил он. И, взяв фотографию у Евгения Петровича, самого не своего от внезапной удачи, ещё раз улыбнулся, – Красивая! – Шкердин мечтательно подпёр лицо рукой, – Конечно я её помню. Правильно, друг, говоришь: в Москве в гостинице тогда тихо было. Дежурная тебе ничего и не скажет. Она, лахудра, тогда ушла с этажа. То ли по делам, то ли чаи гонять с подружками. Мы её тоже долго не могли найти. И товарищ мой ничего не скажет. Потому как прописан в номере был он – факт. А вот гостевал и пировал там – я. А может, мужики, под строганину водочки махнём? – геолог посмотрел только на адвоката. В его голосе просквозила просьба. Рябов кивнул. Несказанно обрадовавшись, Шкердин тут же добавил на стол две стопки, а с веранды занёс заиндевевшую бутылку и шмоток копчёного жирного мяса. – Вас, кержаков, этим удивишь вряд ли, – широко улыбнулся Анатолий Кириллу, – А вот столичным медвежатина должна быть в диковину. Угощаю добродушно, – протянул он Рябову под нос пахнущее красно-бордовое мясо, густо перерезанное сальными прожилками, – Ешьте, люди добрые. – Эх, вкуснота-то какая! – засмаковал Евгений Петрович, откусив наскоро справленный бутерброд из строганины и сухарика. Кирилл посмотрел на Рябова с усмешкой. Ему-то уж наверняка было известен вкус подобного лакомства. – Давайте за гостей и хозяев выпьем: чтобы вы к нам почаще приезжали, ну, а мы чтоб вас всегда так принимали, – предложил Шкердин, – А то что она есть жизнь, когда в ней нет места хорошим людям? Если бы не они да ещё не любимая работа – совсем тоска жить. Так, нет, батя? – подмигнул он кержаку, ловко опрокидывая стопку с водкой в круглый бездонный рот. 89 Кирилл на его вопрос хмыкнул, привычно загладил ладонью бороду, вытащил из-за пояса перьевой ножик и тоже наколол им тонкий ломоть нарезанного угощения. Хлеб брать не стал, принялся жевать резиновую копчёность мощными челюстями. На печке закипел чайник. Шкердин подкинулся заварить душистый напиток в большой эмалированной кружке и прикрыл её сверху тарелкой. – Тебе бы медовухи поднёс, кабы была, – извинился геолог. – Если пью, то только дома, и только когда жена подаст, – прогудел в ответ кержак, – Ты человека не томи, рассказывай, – кивнул Кирилл на фотографию, до сих пор оставленную на столе. Согласно сведя брови, геолог начал издалека: – Загудели мы тогда, мужики, прилично. Ехали на юга отдохнуть, а с погодой нам никак не подвезло. Да и с отдыхающими попали не в сезон: зима ведь, кто вам в Сочи в январе поедет? Короче, скучно проволындали время на море, а на обратном пути в Москве решили догулять. Ну, и догуляли: до трусов промотались, – Анатолий рассказывал, подливая себе водки. Рябов после первой от неё отказался, предпочитая чай, запаренный на листьях дикой малины. – Пили тогда неделю. Я, даром, что из кержаков. Как в разведку пошёл, все обряды позабыл. Ты уж прости, батя, – извинился геолог перед Кириллом. Тот только брови ссупил, ничего не сказал. Шкердин, вздохнув, продолжил. – Так вот, пили мы с неделю. Девчат хороших нашли, таких, что без проблем всяких: ублажить ублажат, компанию поддержать – всегда согласны, ну и подзаработать не прочь. Мы их не обидели. Так вот из-за гудежа этого я тогда в номере Серёги и остался. Его к кому-то спровадил, а сам тусовался у него с дамой. По пьянке кто-то из гостей много чего тогда в номере погрохал. Нам потом сюда вслед квитанцию для оплаты прислали, платить пришлось вскладчину. Но это не беда. Что нам на четверых какую-то тысячу раскидать за порченный инвентарь? Скандалить не стали, хотя сразу допёрли, что многое в квитанции раздуто: не такие уж мы свиньи, чтобы и шторы рвать, и покрывало жечь. Да ладно! Айда с ними, московскими казначеями! Пущай живут. Им тоже малёх надо подкопить сребряных, – Анатолий подмигнул Рябову и запил слова чаем. Евгений Петрович согласно кивнул. Геолог улыбнулся с прищуром, – Да и мы, надо полагать, не в последний раз в Москву на постой. Кто знает, может опять там поселимся; так чтобы никаких отказов не было. Заплатили мы им, а жалобу в нашем же кругу и замяли. Отписались, как положено, бумажки запротоколировали с отмеченным там решением типа: «поставить виновным на вид» и прочей какой такой мурой. Здесь у нас совсем другие трудовые законы: никто своих не заложит и отчитывать не станет. Какие проработки, если живём годами при свете одного только северного сияния и все вместе, как одна семья. Серёга Стябелов, кстати, наш начальник геологоразведки и есть. Чего же это он против себя телегу катать станет? Скажете тоже? Короче, деньги в Москву отослали, жизнь продолжилась рядовая, обыкновенная. Восемь месяцев после отпуска прошло, а тут вдруг Серёгу в Красноярск в Управление наше геологическое вызывают, а оттуда – к следователю Прокуратуры. Он поехал без ведома к чему властям понадобился, а когда вернулся – белее стенки. Говорит, просили его какую-то бабу опознать. Кто-то кого-то тогда в Москве в гостинице убил, толи эту бабу, толи она кого. Он толком ничего со страху не понял. Усёк только одно: дело пахнет жареным. Нас-то тогда, как я уже сказал, четверо в гостинице останавливалось; пили-гуляли вместе, девок водили кто какую зацепит. Пару раз так убухивались, что ни лиц не помним, ни имён... Где уж тут сказать что за бабца на фотографии? Грех, Кирилл, знаю. По твоей вере так и вовсе хозяйства нам отрезать впору, а токо такие вот мы шалопутные на воле. Тут-то – ни-ни. Не забалуешь. Да не сверли, батя, глазищами, – попросил он бородача, начавшего широко креститься. 90 – Так вот, – продолжил Анатолий, влив в рот очередную стопку. От своих же слов стало ему противно и он заново хлебнул спиртное, несмотря на то, что пили уже чай, – Когда Серёге Стябелову эту вашу красавицу показали, он, бедняга, с перепугу на знал что делать. Сообразил одно – ни в чём не признаваться. Оно и понятно, во-первых, он её действительно не видел, я с ней на балконе бары растабары вываживал. Во-вторых, забздел. Что если всплывёт, что кто-то из нашей компании её на своём пути встречал? Проблем – не оберёшься. Тут уж и полный отчёт о заседании трудового коллектива потребуют с указанием имён наказанных, и про гражданскую совесть вспомнят, и вообще один только Господь бог знает, каких собак навешать могут. Потому он сказал, что никого тогда не видел и нам приказал молчать. Ясно, братки, какое дело вышло? Прокуратура нас заставила всех приехать, портрет посмотреть. Какой там ехать?! Лето в закате – самый запар.У всех работы по самое не хочу. Начальство наше отписалось, мол не до опознаний сейчас. Тогда следователь Прокуратуры, которому, как вы понимаете, это дело тоже не шибко спину грело, попросил нас без видения всяких портретов письменные заявления написать, что девушку мы эту не знаем. Мы, ясный месяц, с лёгкостью быстренько написали, лишь бы сбагрить. Он, в свою очередь, документики в папочку сложил, в Москву своё отрапортовал и все дела, «восьмая Гвардейская», как говорил мой дед-панфиловец. Он в Великую Отечественную под Москвой чудом голову не сложил. – Анатолий перекрестил рот, прежде чем опять выпить. – А мой как раз там и погиб, – сказал Кирилл. – Тогда ты мне дважды родня: и по крови, и по духу, – заверил Шкердин, наливая по новой. Слова его были хоть и пьяными, но чистосердечными. Через день после встречи с геологом Рябов прощался с Кириллом в аэропорту Красноярска. – Спасибо тебе, Кирилл, за помощь, – кинулся он в руки широкого бородача, – Если бы не ты... Морозов, обычно спокойно сносивший любые эмоциональные сцены, на этот раз расчувствовался. Крепко прижав к себе адвоката, он забасил: – Петрович, ты брось меня благодарить. Как я мог Коле не помочь? А тебе? Ты ведь, мил человек, совсем на московскую братию не похож. Повидал я их, столичных-то. Какие среди них скряги есть и рвачи. А ты – нет. Ты доброе дело делаешь, таких, как Коля, защищая. Так как же мог я не помочь? Скажешь однако. – Он говорил и сжимал Рябова всё сильнее и сильнее до тех пор, пока адвокат не пискнул в его объятиях.Тогда богатырь разжал руки и удивлённо уставился на сморщенное лицо москвича. – Подмял слегка я тебя. За то – извиняй. Не по умыслу пожамкал малёх, – затоптался Кирилл на месте. – За мишку, верно, принял? – пошутил Евгений Петрович, оправляясь и выравнивая ситуацию. Он сам не заметил, как за прошедшие несколько дней перешёл на местный говор: размеренный и склеенный добрыми фразами. Мужчины простояли, глядя друг на друга, как два давних товарища, взаимно обещая обязательно встретиться вновь. Кирилл, ни разу не выезжавший дальше Красноярска, мечтал съездить посмотреть Златоглавую. Рябову, полюбившему суровую тайгу с её нетронутой цивилизацией чистотой, порядочностью людей и их человечностью, очень хотелось вернуться к староверам летом. Посмотреть какая она Сибирь в это время года. Порыбачить, когда рыба идёт косяками. Сходить в тайгу на охоту. Посидеть вечером у костра. Попариться в местной баньке. Послушать мирные речи сибиряков. Вспоминая в полёте свою поездку, Рябов ещё не раз благодарил северян за гостеприимство. Без их помощи вряд ли смог бы он добыть нужное ему опознание, написанное теперь Анатолием Шкердиным и являвшееся для Анны 91 единственным алиби при наложенном на неё обвинении. – Всё, Коля, милый, конец вашим мукам, – кинулся адвокат к Кравцову при встрече, как к родному. – Нашли, значится Кирилла, – осел в его руках Николай и затрясся в слезах. Глава тринадцатая: Обжалование решения суда (декабрь 1998) Николай вышел на тюремный двор и сщурился: декабрьское солнце показалось ему особенно ярким. Сегодня, в первый календарный день зимы, должно было состояться новое заседание по их с Анной делу. С момента заключения Николая под стражу прошло уже почти два года. Анна провела в тюрьме больше года. По возвращении из Сибири Рябов подал документы на пересмотр решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Суровые судебные власти рассмотрев предоставленные доказательства, наличие алиби признали к судопроизводству приемлемым, но при этом напомнили, что дело подопечных Рябова подчиняется общему порядку. Суд, назначенный ранее на март текущего года, был впоследствии трижды перенесён по срокам из-за перегруженности. Никакие старания Рябова ускорить дату ни к чему не привели. А раз так, то ничего не поделаешь. Сцепив зубы, собравшись до предела, онемев и забыв обо всех житейских радостях, Кравцов и Керман, ознакомленные Евгением Петровичем о принятом решении по пересмотру, терпеливо ждали назначенного часа. Вселённая надежда помогала им переживать лишения тюремного заключения. И вот, срок суда наступил. Ещё вчера Рябов самолично появился у Николая в тюрьме, чтобы подтвердить долго ожидаемое событие. – Евгений Петрович, неужели это и вправду конец? Не верил Кравцов. – Всё, Коля, милый, всё.Теперь Соеву никакие ухищрения не помогут. У меня для него такая пилюля есть, что он её до конца своих дней не переварит, – широко улыбался Рябов, не посвящая Кравцова в детали. Несмотря на то, что его прошлогодняя поездка в Сибирь внесла в их деловые отношения струю особой душевности, почти родственности, в делах адвокат был непреклонен. Он никогда не выкладывал заранее те факты, что приготовил для процесса, суеверно считая это за плохое предзнаменование. Дополнительное доказательство невиновности Анны и Николая ожидало Рябова в его кабинете по прилёту из Красноярска год назад и замечено было не сразу. Бегло оглядев стопку корреспонденции, собравшейся в почтовом ящике за время отсутствия, Евгений Петрович решил в первый день работы не останавливаться на частных письмах. Ни одно из них не показалось ему настолько важным, чтобы раскрыть его и почитать. Среди конвертов лежали квитанции к оплате ремонта машины, ежемесячный сводник по кодексам РСФСР, несколько писем с рекламной корреспонденцией, легко опознаваемых благодаря ярким краскам и бойким надписям на конвертах, и три письма, одно из которых было иногородним, но с таким размытым штампом, что понять откуда оно пришло, казалось невозможным. Полностью одержимый идеей о подаче прошения к пересмотру решения суда, Рябов положил письма на видное место, прижал их тяжёлой мраморной подставкой для ручек и занялся задуманным. Пару дней ушли у адвоката на формирование текста запроса на основании новых фактов, а также на ходатайство о приёме у нового судьи, получившего дело. Потом, добившись приёма, Рябов сосредоточился на разговоре. Такого рода встречи всегда носили решающий характер, так как от тона разговора, от созданного адвокатом впечатления о надёжности подтверждающих фактов, от 92 убедительности, с какой он верил в собственный успех, зависело в дальнейшем ходе многое. А уж тем более в деле, в котором подозревались сразу оба подзащитных одного и того же адвоката. На этот раз Рябов хотя и волновался меньше, чем обычно – показания Шкердина сводили все прежние обвинения против Анны на «нет», всё-таки шёл на встречу с тяжёлым комом в животе. И не зря. Узнав, что решение суда не может изменить график заседаний, Рябов понял, что порадовать своих подзащитных ему пока нечем: воспользоваться надёжным алиби для Анны сможет он нескоро. От этого адвокат ощущал в себе чувство постоянного внутреннего дискомфорта. А волноваться пришлось прежде всего из-за состояния самой подзащитной. Не встречаясь с Анной почти три недели, Рябов по возвращении из Сибири не мог не заметить, как Керман изменилась. Анна угасала на глазах. Тёмные круги под глазами были ничем, по сравнению с тоской, что просматривалась в них. Известие о том, что адвокат выхлопотал для неё алиби, узница восприняла поразительно безразлично. А узнав, что теперь она будет оправдана на сто процентов, Керман впала в транс. – Значит, всё-таки придётся за всё отвечать Коле, – прошептала она, впершись взглядом в решётку окну, – Зачем? Зачем мне тогда жить, если его на будет рядом? Рябов опешил. – Погодите, Анна, – попытался он остановить поток обречённости, – У нас ведь есть показания экспертизы о том, что Николай на момент убийства спал. Но Анна посмотрела на Рябова с такой откровенной насмешкой, что ему стало неловко: – А у суда есть прежде всего добровольное признание Коли в том, что это именно он отравил Ларису. Разве вы не понимаете, что это значит? – Николай возьмёт свои показания обратно, а я докажу, что он дал их суду исключительно из желания спасти вас. К тому же, суд по пересмотру – это как буд-то всё заново: новый судья, новые присяжные. Их, прежде всего, будут убеждать только те доказательства, что мы предоставим теперь. Времени до марта для подготовки новой защиты у нас более чем достаточно. Главное – не падать духом. Рябов старался быть убедительным. Каждый раз, когда ему приходилось защищать женщин, процесс работы шёл по стандартному типу. Сначала женщина отчаянно верила ему, боролась за свою репутацию, активно содействовала. Затем, через какое-то время и под воздействием обвинений, начинала сомневаться в надёжности своего защитника, теряла доверие к нему, а, через это, и к исходу дела. Малейшего подозрения, высказанного обвинением, хватало для того, чтобы она переставала быть убедительной и начинала терять самообладание. Нередко в зале суда лились слёзы, закатывались истерики, проявлялась агрессия, характеризующие разные типы характеров. К подобным реакциям были готовы и адвокаты, и защитники. Они не пробирали ни судей, ни присяжных. Рябов при этом фокусировал внимание на погашении источника проявления эмоций, воздействуя на свою подзащитную либо угрозой, либо уговором, либо убеждениями. Жалость к подзащитной проявлялась в нём редко. Он считал, что это та самая эмоция, которая является главным неприятелем прежде всего для него. Подстёгиваемый каким-либо чувством, будь то жалость, раздражительность, злость или особая симпатия, человек не мог относиться к происходящему объективно и начинал действовать не в соответствии с фактами, а согласно убеждениям. Подобный путь чаще всего уводил от правильности построения процесса защиты. Поэтому, Евгений Петрович, принимаясь за любое дело, отметал свои переживания подальше. Подобная профессиональная непроницаемость и сосредоточенность на сути выполняемой работы позволяла хирургу точно отсекать, следователю находить нужные улики, адвокату отыскивать в подзащитном те сильные стороны, что могли повлиять на решение судей. Но всё-таки, ни один из них: врачей или служителей правосудия, не могли полностью абстрагироваться от зависимого от 93 них человека, не могли не сопереживать ему, попавшему в беду. Оттого и делали они экстремальные усилия, чтобы хоть как-то облегчить страдания вверенных им людей. Потому и теряли самообладание, когда видели в глазах подопечных опустошённость, вызванную безразличием к своей судьбе или жизни. Замкнутость Анны Керман взволновала Рябова не на шутку. Именно она подтолкнула Евгения Петровича заняться сложной процедурой ходатайства о переносе заседания суда по делу Кравцов-Керман- Фёдорова на как можно более ранний срок. – Анна, скоро вы будете свободны оба, – не переставал твердить женщине адвокат. Но она только смотрела на него запавшим взглядом. Так прошла у Рябова первая рабочая пятидневка. В воскресенье, ровно семь дней спустя после возвращения из Сибири, адвокат вдруг проснулся утром от какогото странного ощущения. Ему словно чего-то не хватало в мягкой постели рядом с мирно спящей женой и пристроившейся у кровати мохнатой колли по кличке Лама. Сев в кровати и свесив ноги в тапочки, Рябов просидел так несколько минут. Затем осторожно встал, переступил через собаку и пошёл на кухню. За окном было серое ноябрьское утро одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года. Шёл дождь: холодный, долгий. Акация под окном почти облысела, открывая вид на внутренний дворик многоэтажки с песочницей и поломанными лавочками. Подойдя к окну ближе, Рябов попытался понять, что же помешало ему спокойно досыпать. Углубившись в себя, он принялся отыскивать в уголках памяти ту странную мысль, что должно быть явилась ему во сне перед самым пробуждением. Напрягая всё своё сознание, Евгений Петрович зафиксировал взгляд на каплях дождя, барабанящих по подоконнику. Постепенно он почувствовал, как в голове, где-то в её центральной части, стали словно натягиваться эластичные струны. Подобное состояние было хорошо знакомо. Адвокат знал, что на конце этих нитей и находится тот самый образ, что, всплыв вдруг откуда-то издалека и представ в виде слова, буквы, возможно какой-то фразы, сказанной кем-то, где-то, или чьего-то лица, возникшего внезапно, должны будут стать подсказкой. Для большего сосредоточения Евгений Петрович закрыл глаза и, продолжая напрягать мысли, стал водить перед собой руками, будто наматывая на них резиновые струны с ответом. Несколько минут прошли в полной темноте. Память Рябова, запрашиваемая столь активно, на этот раз ответа не давала. Отчаянно помотав головой, Евгений Петрович приложил руки к глазам и, продолжая держать их закрытыми, сменил тактику. Теперь он попытался воспроизвести события последней недели. Перед ним отчётливо стали проноситься сцены его прощания с Кириллом, прилёта в Москву, встречи с близкими, прихода на работу. Дойдя до моменте, когда он стал впервые собираться к себе в бюро, Евгений Петрович притормозил ход воспроизведения. То, что он искал, должно было находиться скорее всего именно в этом временном отрезке, в промежутке тех событий, который он, при большой спешке и не анализируя, как привык это делать обычно, прожил автоматически. Самым тёмным пятном из всей недели оказалось для Рябова утро первого рабочего дня. Потому, что после обеда он виделся с Николаем и с Анной; чего забыть никак не мог. А вот до этого... Что было до этого? Утро дома, такое же серое и дождливое. Он, выходящий из подъезда в тёмном плаще. Грязь на дорогах, поразительная в контрасте с белым снегом Севера и особенно расчищенными деревянными настилами Кузьмовки. Заляпанное лобовое стекло. Дворник на нём, соскребающий воду с песком. Огромная лужа на улице у его кабинета. Мусор во дворе конторы, через который надо было пройти. Крепкая тёмно-рыжая дверь кабинета и позолоченная табличка с его инициалами на ней. Рассеянный свет в прихожей. Ключи на связке: от кабинета, от сейфа, стеллажей с делами... 94 Напрягшись до максимума, Евгений Петрович, ещё не зная ответа, уже понял, что ищет в правильном направлении: с двух боков, чуть повыше висков, он вдруг почувствовал состояние лёгкости, словно включились в работу центры эйфории.Такое состояние Рябов испытывал либо когда редко закуривал, либо при выпивке, либо тогда, когда нужное решение приближалось и вот-вот должно было сформироваться. «Только не потерять, – подумал Рябов, параллельным потоком мыслей и продолжил воспоминания, – Я открыл сейф, достал папку с документами Анны, положил на стол. Затем взял со стула портфель, нашёл в нём показания Шкердина, вынул лист, пробежал его глазами. Убедившись, что это именно нужная мне бумага, прошёл к фотокопировальной машине и сделал две фотокопии. Одну положил в сейф, другую оставил на столе. Оригинал вложил в папку с делом. Закрыл папку. Спустил портфель со стола. Аккуратно поправил лежащую на столе почту; я сам её вытащил из ящика и занёс в кабинет. Так. Что потом? Стал искать дело Николая... Нет! Нет! Что-то упустил. Что? А, вот: поправив корреспонденцию, я её мимоходом просмотрел. Ничего интересного не было. Брошюра по Кодексу, платёжки, два или три письма: реклама, деловая переписка с коллегами и что-то ещё. Стоп! Вот!» И тут же Рябов резко открыл глаза: словно очнулся от гипноза. Только что перед глазами встал размытый почтовый штемпель на одном из конвертов, лежащих на столе. Сомнений не было, разбудившее состояние встревоженности исходило от неизвестности именно этого письма. Наспех умывшись и выпив холодного молока, адвокат выскочил из дома и понёсся к гаражу. – Анна! Николай будет оправдан! Ни о чём меня не спрашивайте, но у меня есть доказательство его невиновности, – заговорщически зашептал Рябов, явившись тем же воскресеньем к женщине в тюрьму, – Скоро, очень скоро вы оба будете на свободе. Уверенность, сквозившая в каждом его жесте, и одержимость при каждом слове, приковали Анну и сделали немой. Уходя через несколько минут в камеру, осуждённая женщина так и не смогла поблагодарить адвоката за поддержку. Рябову этого было и не нужно. Достаточно было убедиться, что взгляд Анны, пустой до этого, окаменел и наполнился новой болью – болью ожидания спасения, затянувшегося, вопреки всем обещаниям опытного адвоката, ещё на долгие, долгие месяцы. Наступило первое декабря тысяча девятьсот девяносто восьмого года. Сегодня, в день пересмотра решения суда по делу Кравцов, Керман - Фёдорова, зал уже слышал, как адвокат обоих обвинённых зачёл вслух показания геолога Анатолия Шкердина. Показания служили для Анны неоспоримым алиби и вызвали в зале тихую радость родных и друзей обоих осуждённых. Слышал зал и монолог Рябова, произнесённый после зачтения письма геолога.Услышал он и как максимально сосредоточенный Соев в ответ на речь адвоката защиты продолжал жёстко настаивать на том, что Анна всё-таки могла быть на квартире Фёдоровой в момент приёма снотворного. Времени, определённого промежутками между отравлением Ларисы и беседой Анны на балконе со Шкердиным, в обрез, но хватало, чтобы подозреваемая, отравив Ларису, могла вернуться в гостиницу и обеспечить себе алиби. – Никто не знает почему гражданка Керман вышла ночью на балкон, – говорил Соев, а в голосе адвоката обвинения, как и прежде, прослушивалось явное недружелюбие к молодой женщине, – Опираясь на опыт тех дел, которые мне приходилось иметь, и которых было немало, я склонен думать, что появление Керман на балконе было специально продуманным манёвром, – в этот момент Соев впервые показался снобом, кичившимся своей хорошей репутацией. – Анны в этот вечер у нас не было. Не было, – дважды повторил суду Кравцов, получивший слово, чтобы опровергнуть свои прежние показания. Поменявшиеся судья и присяжные вносили в поведение основного обвиняемого дополнительную 95 нервозность. – Тогда зачем вы всё-таки взяли вину на себя, если точно знали, что ваша бывшая жена не причастна к отравлению Ларисы? – злобно рассмеялся Соев. «Да уж, этот если в кого вцепится, то ждёт только крови, – охарактеризовал судья адвоката потерпевшей стороны, – Не травоядный он, это уж однозначно», – заключил он окончательно, заметив, как на шее Соева вздулись от напряжения синие вены. Дав ему понять, что вошёл в логику его вопроса, судья воловьим взглядом посмотрел теперь на обвиняемого. – Я очень боялся за Аню. Я думал, что если я возьму вину на себя, её сразу же отпустят, – объяснил Николай почти шёпотом, с ужасом глядя в маловыразительные глаза судьи, голос которого показался Кравцову безжалостным. Уверенность, с какой Николай сегодня шёл на процесс, предстала теперь иллюзорной. С тревогой метнув взгляд в сторону, он увидал, как на лице Анны отразился тот же самый запоздалый ужас. Кравцов почувствовал, что пол плывёт у него перед глазами. И вот тогда слово взял Евгений Петрович. Медленно поднявшись, он подошёл к стойке, за которой сидел обвиняемый, и протянул руку в сторону Николая. В ней он держал густо исписанный лист бумаги. – Это – письмо Ларисы Фёдоровой к своей студенческой подруге Светлане Родиной, которая живёт в Магадане, – объяснил Рябов всем, но прежде всего своему подзащитному. Настал час выравнивать его пошатнувшееся настроение. Глядя на Николая уверенным взглядом, адвокат продолжил, – Мне его переслали всего год назад. Письмо написано и отправлено двадцать второго января тысяча девятьсот девяносто седьмого года, то есть, в день смерти потерпевшей. Об этом свидетельствуют почтовый штемпель на конверте и дата, поставленная в конце текста самой Фёдоровой. – Рябов поднял со своего стола конверт и показал его залу. Судья кивнул. Соев впился в конверт суженным взглядом. Подсудимые широко раскрыли глаза. Сидящие в зале затаили дыхание. Адвокат защиты продолжил: – Графологическая идентификация почерка произведена и подтверждает то, что я сказал. А о сути написанного, господин судья и господа присяжные заседатели, судить вам. Но, думаю, по прочтении текста, всем всё сразу станет ясно, – Рябов поглотил зал взглядом. Уверенность, царящая в нём, приковала слушателей к его голосу. – «...я всегда знала, что рано или поздно, она снова встанет между нами. Коля не смог забыть её. Иначе и быть не могло. Мужчины, как он, любят в жизни только один раз. Теперь, когда эта... снова в Москве, нетрудно понять, что будет. И тогда... И тогда я снова останусь «бедной брошенной Лариской». Мысль об этом заставляет меня сделать то, что я задумала. Когда меня не станет, Светочка, поплачь обо мне. И ещё, скажи ему, что любила я его, как могла. Кравцов – моя роковая любовь. Не суди меня строго. Я не смогу пережить второй раз измены и разлуки. Ухожу первой, чтобы никому не быть в тягость. Прощай, подружка. Целую тебя крепко.Твоя Лариса.» Медленно и патетично Евгений Петрович зачитал последние строки письма, после чего стоически замолчал и уставился на листок бумаги в руках. Зал какое-то время, казалось, даже не дышал.Тишина после чтения взвилась в воздух и стояла хрустальным колоколом, зазвеневшим различными отголосками. Но, по прошествии нескольких секунд, малейшего шевеления хватило, чтобы Рябов снова пустился в объяснения глядя только в сторону судей: – Уважаемые господа! Из прочитанного мною, совершенно очевидно, что Лариса Фёдорова сама призналась подруге в своём намерении покончить с собой. Пусть простят меня все за то, что я легкомысленно предполагал, что Лариса всего лишь играла в самоубийство. Нет, господа, как следует из этого письма, Лариса Фёдорова 96 действительно решила умереть. И это письмо снимает с моих подзащитных все обвинения, предъявленные ранее. Поэтому я прошу пересмотреть назначенное решение по обозначенной сто пятой статье и освободить Кравцова и Керман из-под стражи. Свою речь Рябов завершил спокойным голосом. Высокий потолок зала заседания был в этот момент для многих действительно схожим с церковным куполом, а сам адвокат представлялся им проповедником, спустившимся с небес. Кравцов, пребывающий до речи адвоката в полу-обморочном состоянии, упал на барьер перед ним и зашёлся в рыданиях. Он плакал, не пытаясь сдерживать напряжение, что накопилось в нём за долгие двадцать два месяца тюрьмы. – Зачем? Зачем? – только и слышалось сквозь рыдания. – Коля, не надо, – тихо просила Анна издалека, по лицу которой тоже текли тихие слёзы. Рябов подошёл к барьеру Кравцова: – Николай, успокойтесь. – Объявляется перерыв на тридцать минут! – произнёс судья, поднимаясь из-за стола. «Но это ещё не конец», – пообещал самому себе Соев, всё-таки понимая, что в процессе наступил момент: переломный и решающий не в его пользу. Глава четырнадцатая : Растревоженные мысли Кравцова (декабрь 1998) Николай сидел в закрытой комнате суда, отличной от камеры только тем, что здесь стояла кабинетная мебель и не было массивной железной двери. Дверь была из дерева. Милиционер, охранявший Кравцова, то и дело подсматривал за ним снаружи в решетчатое окошечко, но Николай не обращал на него никакого внимания. Нервный стресс сменился апатией. Сидя на стуле, Кравцов не чувствовал тонуса в мышцах.Тело было вялым, а мысли пассивно блуждали, переплывая еле-еле с одного на другое. Не желая думать о том, что будет сейчас, Кравцов искал успокоение в прошлом. Ему вспомнилась Москва и его учёба в инженерно-строительном институте до знакомства с Ларисой. Студентом Николай Кравцов не выделялся среди прочих ребят ухажёрскими способностями. Однокурсницы, каких было всего четыре на курс, считали его угловатым и замкнутым. Николай всегда стеснялся вступать с женщинами в разговоры и никогда не заводил случайных знакомств на улице или в городском транспорте, как это делали другие. Обладая интересной внешностью, он оставался в стороне от шумных студенческих сборищ, не любил появляться на праздниках или собраниях института, дичился девчачьих улыбок, посланных ему напрямую. Скромность одежды, материальная недостаточность, а, значит, неспособность платить за девушек даже в кино, также как и неумение говорить грамотно и убедительно, отбивали у парня охоту общаться со слабым полом. Тот факт, что Лариса Фёдорова нашла его интересным и смогла в него влюбиться, откровенно удивило Николая. А уж когда в него влюбилась и Анна, Кравцов догадался, что всё-таки есть, видать, в нём что-то такое, что привлекает женщин. «Если бы кто из моих студенческих товарищей знал, что однажды я стану предметом ссоры сразу двух красавиц, то ни за что на поверил бы»,- думал Николай в августе восемьдесят девятого. Впрочем, такие мысли были у него нечасты и походили скорее на кураж, чем на бахвальство. И всё-таки, уже даже будучи женатым, Кравцов 97 отмечал про себя заинтересованность собою со стороны деревенских баб, проявлявшуюся во многом: от изменения голоса скромной бухгалтерши Кати, потенциальной невесты Мишки, до откровенного кривляния перед ним Шурки Зуевой, сестры друга. Все эти женские ухищрения Николай во внимание не принимал и особо им не верил. Бабы, на то и бабы, чтобы трещать языком и вилять бёдрами. Правда, порой поведение некоторых всё-таки Кравцова стопорило. Так было, например, с Антониной Морозовой. Скрытная и молчаливая староверка на первых порах сторонилась парня. Но уже через месяц пребывания Николая у них с Кириллом на постое, превратилась из пожилой неприметной женщины в откровенную красавицу средних лет. Об Антонине Николай вспомнил теперь тоже. «Как он надо мной тогда ворожила, – окунулся он в мысли, – С первого дня мазала мне ногу каким-то странным настоем из пихты, вытягивала сустав руками, пришёптывая и едва касаясь, – Николай бросил взгляд на некогда больную ногу, обутую теперь в ботинок. Он реально почувствовал на себе давний жар от рук староверки. В Кузьмовку Кравцова привезли ночью. Кирилл, вышедший к экспедиторам, помог проводникам-эвенкам занести больного парня и разместить в доме. Между двумя мужчинами сразу же установились лёгкие отношения. То ли деревенский говор Николая, то ли его немощное состояние, а может ещё что, о чём сам он не ведал, сыграло в пользу того, что нелюдимый и суровый к пришедшим Кирилл принял его за своего. После месяца отлёжки в таёжном «стационаре» Николай активно включился в повседневную жизнь староверов. Торопиться парню было некуда. Рыболовецкая бригада ушла вниз по реке к дельте, где должна была оставаться до конца августа, ожидая прохода рыбы на нерест в Енисей. В летнюю пору, когда каждый в Сибири стремился начать и поскорее закончить дела, запланированные за год вперёд, заниматься больным наёмником никто не хотел. Да, собственно, и чего было им заниматься? После того, как Кравцов подвернул ногу, бухнувшись с крыльца Морозовых, стало понятно, что вернуться на заработки ему уже не светит. Впрочем, Николай и сам не стремился в артель. Он знал, что за месяц до травмы какие-то деньги он заработал, и теперь даже рад был паузе в непростом рабочем графике. Парню хотелось поближе рассмотреть какая она, настоящая сибирская жизнь. Кирилл, разгадав эти желания, полностью взял его на попечение. Он научил Николая ориентироваться по звёздам, читать следы зверей в тайге, распознавать погоду на ближайшее время, стрелять из ружья, коптить рыбу в домашних условиях и ещё много каким житейским премудростям, привычным для самих кержаков, но диковинных для приезжего люда. – Вот смотри, – объяснял Кирилл, прикладывая ружьё и наводя его, – Если бить белку, то нужно бить только в глаз, чтобы не попортить шкурку. Кравцов послушно мотал головой, брал ружьё, прикладывал тоже, целился, но не то что глаза, самой белки разглядеть на дереве не мог. – Как ты их рыжих видишь? – поражался он своему учителю, спокойно настреливавшему за день по пять-шесть зверьков. – А ты попей с моё ежевичного настоя, что Антонина правит, так и не такое усмотришь однако, – пояснял кержак. Ещё его дед знал, что ежевика хороша для чёткости зрения, – Деды мои – стрелки добрые были. Один – под Москвой сгинул, но до того здорово бил фрицев. А второй дожил до ста лет и никогда на зрение не жаловался, – добавил он, – А мы от стариков только хорошее перенимаем. Ты поприсмотрись к жене-то моей, поприслушайся; она тебя тоже много чему нужному 98 надюжить горазда. Николай согласно мотал головой: – Да уж чего-чего, а по части заговоров и трав Антонина – мастер. Парень на себе испытал и сковывающий взгляд Морозовой, вопрошавшей у него о характере боли в ноге, и её шаманские нашептывания, действующие как анестезия, и, особо, жар её рук. А уж тому количеству трав, настоек, бальзамов, мазей, порошков или микстур, что хранилось у Антонины в специальной комнатке, он не мог и счёта свести. Сначала, когда они были мало знакомы, вход Кравцову в заветную коморку был запрещён. Но постепенно, завоевав доверие хозяев, Николай смог спокойно захаживать везде. В том числе и в «фармакологическую лабораторию» Антонины, как в шутку звал знахарский уголок жены Кирилл. – Учись-учись, – поощряла кержачка любопытство Николая, – Мало ли что в жизни случится – знать будешь. Череда – она, как очистительное хороша: раны промыть или если гнус загрызёт. Белладонна – для покойного сна. Только с ней осторожно: когда на небе полная луна, белладонна может и насмерть усыпить, она такая. Когда поясницей, скажем, маешься или в каком другом месте сустав скрутит – свежей крапивы пополам с молочаем натолки, прополисом, на спирту разведённым, залей и кашицей приложи к больному месту; за ночь всё отпустит, – объясняла она, приподнимая пузырьки, приоткрывая кузовки или передвигая баночки. – А если нет прополиса или что-то случится такое бытовое: обгорел, током ударило или подобное? – спрашивал Николай вслед. Антонина улыбалась ему с затаённым лукавством и говорила на самое ухо: – А тогда пользуй то, что всегда при себе. – Что? – Подумай! Николай думал, но в голову ничего не приходило. – Да не томи, говори уж, – просил он. Морозова смеялась: – Ох, и тупарь! Возьмись руками за то, за что держишься каждый день, может дойдёт. Следуя её взгляду, Николай опускал глаза на свои штаны, но, так и не понимая какова связь между знахарским рецептом, его руками и тем, за что нужно взяться, только краснел и начинал бурчать под нос от недовольства. Тогда Антонина усаживалась за стол в комнате и, раскрывая кукую-то банку или развязывая какой-то мешочек с травами, принималась перебирать их, приговаривая: – Жил у нас в деревне один такой мужичок, Никифором кликали. Он до того, как с нами староверами осесть, полсвета исколесил. И вроде не из местных приходился, родом-то он был откуда-то с Урала. А вот приблудился к нам на старости да и осел в Кузьмовке. Да ты видал, должно быть, его домик: куцый, такой, маленький, что подалее всех вверх по реке. Видал-видал, – утверждала она, не дожидаясь ответа, а сама всё протирала высушенные травы меж пальцев и нюхала их, как парфюмер нюхает благовония, – Так вот, рассказывал он нам всякие небылицы, что по жизни видал.Тешил, так сказать, байками. Ими тут местный народ богат и прославлен на всю Русь. Но порой и дело говорил. И вот однажды какую он нам историю поведал. Жил он тогда где-то в месте, где строили БАМ, и видел своими глазами такой случай. Когда строители прокладывали высоковольтные линии, один из молодых электриков как-то случайно коснулся провода, или ещё как там получилось, уж я и запамятовала. Да и не то важно. Главное, что кидануло парня со столба, как пушинку, на землю и остался бы он там лежать на веки вечные, кабы не нашлась на его счастье одна премудрая старуха. Когда напарники-то этого молодого заголосили, помощь 99 вызываючи, она поблизости была. Услыхала крики, прибежала. Глядит, синюшный малец на земле распластан, как и не жилец совсем. А вокруг все носются, вопят, скорую помощь зовут. Ну, какая однако в тайге скорая помощь может быть, думаю, говорить не стоит: позовёшь сейчас, прибудет в лучшем случае с Дедом Морозом к Новому году. Тогда бабка эта, не будь лоха, глядит - терять парню неча, вот и взялась за дело по-свойски. Мужиков всех растолкала, рот парню, как могла, разжала да и помочилась туда прямёхонько толстой струёй. Николай, слушавший до этого Антонину с огромным вниманием, вытаращил глаза и отпрял. Он ждал услышать об уникальном народном средстве, а на деле речь свелась к какому-то беспределу. Представив то, о чём шёл разговор, Кравцов скривился дольше, чем от лимонной кислоты. – Фу, – не вытерпел он, высказывая брезгливость, и посмотрел на рассказчицу с недоверием, мол не шутит ли, не разыгрывает. Но Антонина была серьёзна. – Фу, не фу, а парень-то ожил. – Бред! – не поверил Николай, – Ни за что не поверю, что электрошок высоковольтной линии можно снять мочой. Антонина при этом упрямо выпрямилась: – Про электрошок – не знаю. А вот то, что такое же своими глазами видала, когда у соседки пацан в бане угорел, так это было. Моча, Коля, она много от чего помогает. А уж веришь ты мне или нет, мне от того ни беды, ни радости никакой. Для тебя делюсь, сама-то я полно всяких прибауток наподобие этой знаю. Заметив, что хозяйка в обиде, Кравцов кинулся объясняться: – Так я что? Разве против? Но всё равно: ненаучно как-то. Ведь если бы моча помогала, как ты говоришь, во многих случаях, то в больницах наших вместо капельниц с лекарствами вводили бы её людям через клизму и вся недолга. – А может это и не худший метод? – не сдавалась Антонина, – Что естественно – не безобразно. – Да ладно, Антонина, не горячись. Моча, так моча. Какая мне разница? Главное, что парень жив остался, если верить твоему Никифору. – Он не мой, – отвечала Морозова, замолкая и уходя в работу. Кравцов, не желая оставаться забытым ею, крутил головой и менял тему. – Антонина, а там что? – указывал он на баночки, поставленные в стороне. Но староверка неожиданно бычилась и краснела: – А ничего. Тебе про это знать не надобно. Женское это всё. – Расскажи! – Не надо тебе, повторяю, – отпиралась Антонина и выпихивала гостя из комнаты. Но однажды, когда Кирилла не было дома, Антонина сама завела Николая в келью алхимика и принялась пояснять. Женскими оказались по большей части травяные настойки от нервных стрессов, крема на оленьем жиру для эластичности кожи, румяна из коры лиственницы да ещё всякие необходимые женщинам премудрости, ознакомившись с назначением которых Кравцов рассмеялся: – Так зачем вам всё это здесь? Кому нравиться? – У, дундук залётный, – обозлилась Антонина, – А то, навроде, как мы и не бабы, если далеко от глаза людского живём? А то, навроде, как у нас и проблем нет своих женских? Кравцов не унимал бахвальства: – Каких? – А мужа ублажать? Красоту не терять? Таким вот, как ты, нравиться? – Женщина посмотрела на Кравцова таким призывным взглядом, что ему стало не по себе и он затоптался на месте: 100 – Зачем тебе это? – А чтобы проверить, насколько я в колдовстве своём сильна. Захочу вот, опою тебя зельем приворотным, и никуда ты отсюда уже не денешься, – проговорила она, снижая голос до хрипоты, и вправду, как колдунья. При её приближении Николай почувствовал, как его окатило волной жара. Он остолбенело уставился на ладонь Антонины, выставленную на уровне переносицы. Голову повело, ноги стали ватными, он попятился к косяку двери. Антонина, не отпуская его взглядом какое-то время, затем всё же сморгнула, стряхнула руку в сторону и усмехнулась: – Ладно, Коля, не бойся меня. Что ты по нраву мне – истина. Да только не в моих правилах с приезжими любы шарить. Это я тебя на порчу проверила. Думала: как отреагируешь? Воспользуешься ли ситуацией, что Кирилла нет, или как? Во дворе в это время зашлась лаем собака. Антонина пошла к окну взглянуть. Густошерстая лайка по кличке Мост с разноцветными глазами, одним орехово-карим, другим белёсо-голубым, разрывала округу, отчаянно роя под собой всеми четырьмя лапами. – Застынь, прокуда! – шикнула хозяйка на животное через окно. Оглянувшись на Николая, она улыбнулась, – Мохнатого где-то поблизости учуяла, вот и бесится. Или волка. Вот ведь нос у неё! На зависть любому зверю. Порой за несколько вёрст живность чует. Она им всю деревню стережёт от захожих. Как только чужак или блудный хищник, так лает. Нам её блудный чукча подарил. Здоровой уже принёс, ей больше года было. Таких собак обычно уже и не берут на дрессировку, поздно. Но Кирилл в неё сразу влюбился, взял. У Кирилла моего, что на зверя, что на человека, тоже чутьё будь здоров! Сразу скажет есть толк в ком или нет, – Антонина посмотрела на гостя тем самым протяжным женским взглядом, что он уже знал по другим бабам. Кравцов опять затоптался, не отвечая. Женщина, видя это, усмехнулась и, отвернувшись, снова продолжила про собаку, как ни в чём не бывало. – А как такую красавицу не взять? Пойди вон на шерсть её только посмотри, – указала она на двор, подзывая молодого мужчину к себе поближе. Николай медленно зашаркал ногами, стараясь казаться как можно более безразличным. После только что состоявшегося разговора напрямик, он ещё не отошёл. Подойдя к женщине со спины, он наклонился вперёд посмотреть на собаку. Лайка, поняв что её услыхали, уже успокоилась, только стояла навытяжку и ловила носом воздух. – Нюх у неё хороший, это правда. И охотница она добрая, хоть на волка пойдёт, хоть на медведя, – повторилась Антонина, – А вот характер – дрянь. Избалованная. Не всегда слушает. И есть ей подавай особо. У чукчей-то на красной икре выращена. Они ведь сами едят только рыбу, а икру собакам скармливают. Чукчи, они и есть чукчи. Что с них возьмёшь? А собака от этого вон какая гривастая. Видишь, как у неё шерсть на солнце блестит? Так это летом. А зимой вообще глаз не оторвать, – добавила она и замолчала. Разговаривая, Антонина вплотную прислонилась спиной к груди Николая. Он отстраняться не стал. Стоял дерево-деревом, боялся шевельнутся. Женщина дальше этой вольности не пошла. Кравцов стоял позади с опущенными руками, не способный ни обнять, ни оттолкнуть. Антонина, поняв, что ничего ей с такого мужика не дождаться, выдохнула, покачала головой и первой пошла из комнаты, оставляя Кравцова в состоянии отупения. Он никак не мог предположить, что в глухой тайге его станут подвергать испытаниям подобного рода. С первого дня Николай чувствовал к себе симпатии хозяйки, но при этом и заподозрить не мог в её угодливости какую-то надобность. Антонина не кокетничала перед ним ни словами, ни действиями. А 101 теперь, на вот тебе, открылась. Кравцов стоял и думал правильно ли он сделал, не ответив на расположение Антонины. «Может пойти к ней, – мелькнул в голове, – Хоть она мне и в матери годится, а ведь всё-таки баба, со своим женским самолюбием. Колдовством пужает, а хочется-то ей самого обычного бабьего счастья. Чтобы приласкали, заметили. А я и вправду – дундук, мог бы понять, с чего она меня так подолгу по ногам гладит. Взблудилась баба, желанием зашлась при чужом мужике. Чего она тут в глуши видела? Кирилл, видать, и на ласки также расчётлив, как на слова. Вот ей и подумалось, что терять нечего, никто потом ничего не узнает», – колебался он, рассуждая. Но так ни до чего и не собрался, схоронился осторожно у себя в комнатке. Полдня после этого Николай скрывался, а к вечеру, перед тем как появиться к ужину хозяину, Антонина осторожно позвала Кравцова к столу: – Извини меня, Коля, за выходки. Нашёл на меня дурман, захотелось могуществом своим над тобой потешиться. Да ты, видать, не робкого десятка. – Не таким пуган, – коротко ответил Николай, стараясь не поднимать на хозяйку глаз. – Значит, забудь всё. Если бы хотела тебя присушить, уже давно бы тебе капелек в чай подлила. Забыл бы тогда свою Анну, остался бы с нами, –произнесла Антонина с необыкновенной лёгкостью. – Анну я, Антонина, никогда не забуду, – ответил Николай твёрдо. – Вот и ладно. Считай, значит, что шутка моя была глупой, – предложила хозяйка и занялась ужином. «А ведь не шутила она тогда», – дошло до Николая теперь, и встал перед глазами пытливо-манящий взгляд староверки, и обволок ноги ватный ступор, и прожёг тело жар её ладоней. Глава пятнадцатая: Отец Ларисы Анна сидела на стуле в тесной комнате суда с зарешеченной дверью и тупо глядела в окно. «Неужели любовь может расцениваться как преступление? – задавала она себе сложный вопрос. Анна была уверена в моральной незапятнанности её самой и Николая. Но уже через несколько секунд, продолжая думать о том, как они тайно мечтали, чтобы Лариса исчезла с их пути, впадала в самообвинение. «Мысли – материальны», – не раз твердила Анне мать. Похоже, что это было правдой. То, что Лариса мешала Кравцову воссоединиться с ней, Анна знала наверняка. Тонкость отношений, давно установившаяся между супругами, делала их особо близкими. Родство такого рода, редкое и недосягаемое для других, селило тайну, понятную только им, помогало понимать друг друга, чувствовать обоюдные желания, оценивать происходящее иначе других, а оттого дорожить друг другом по-особому. Как лёгкая паутинка мороза на стекле, едва заметная, но уже сковавшая его гладь, способствует формированию плотного узора, так и их связь – духовная оболочка, соединившая их души навечно в тот давний предгрозовой августовский вечер восемьдесят девятого года, позволяла строить в дальнейшем все те отношения, что возникали между ними при любых условиях. Передряги и неустройства, разрушившие основу жизненного узора, всё-таки не достали до той самой основы, что плотно держала на себе всю суть существования их обоих. Где бы Анна не была, и где бы ни был Николай, одной только мысли друг о друге было достаточно, чтобы почувствовать, что другой думает о нём тоже. Долгие месяцы, прожитые в разлуке, только ещё больше сковали 102 отношения. Анна знала, что Николай постоянно возвращается мыслями к ней. Порой, стараясь понять не является ли подобная убеждённость плодом её чистого воображения, уводящего от действительности, Анна начинала сомневаться. Тогда она доставала фотографию Николая, долго-долго смотрела на неё, гладила пальцами любимые черты лица, мысленно представляла бывшего мужа, разговаривала с ним вслух и затем снова клала снимок на место. И тогда, словно в подтверждение её догадок, Коля обязательно снился ей будущей ночью. Во время этих снов они совершали прекрасные прогулки то в горы, то по берегу моря, вели долгие беседы о жизни у костра в лесу, катались по морю на яхте, летали на парашютах... Эти сны были нечастыми, но долгими и особо запоминающимися. Анна могла пересказать любой из них. От тоски и одиночества она начала записывать их, а затем перечитывала. Кравцов ничего об этом не знал, но при встрече он начинал говорить вдруг те же слова, что она уже слышала во сне. Первый раз это случилось в Москве в январе девяносто седьмого года, когда Анна приехала на собеседование и Николай делился с ней планами фирмы Ларисы. Слушая его, Керман поразилась: она не только была в курсе задумок, но даже могла сказать какие конкретно решения нужно принимать по тому или иному вопросу. – Коля, а ты никогда не мечтал побывать в Испании? – вдруг спросила Анна, перебив объяснения. То, что Кравцов ответил, подтверждало, что сновидения являются ничем иным, как каким-то магическим синхронным переносом их обоих в другой мир. – Я не только мечтал об этом, но, мне кажется, я там уже был. С тобой. В Коста Браве. Стоял бархатный сезон. Море было достаточно свежим, чтобы купаться. Дул ветер. На берег накатывались волны. Но было не холодно. Мы шли рядом босиком по краю намытой влажной кромки песка, и она то и дело проваливалась под ногами. Тогда мы оказывались в воде. Она освежала нас; ты вскрикивала от неожиданности, а я торопился тебе на помощь. В результате мы оказывались по колено в воде, но уже не замечали этого, потому, что глядели только друг на друга и были счастливы. – В этот миг Николай медленно вёл машину по заснеженной Москве. По замёрзшему лобовому стеклу устало елозили дворники, смахивая ленивые снежинки. А в машине, в установившейся тишине, двое близких людей видели перед собой одну и ту же картинку ушедшего бабьего лета, которое они пережили когда-то в другом измерении. Георгий Михайлович Соев шёл по коридору суда и медленно считал про себя. Он всегда так делал, когда на душе было гадко. Давнее предчувствие лёгкой победы, которое адвокат сохранял долгие месяцы с тех пор, как взялся за обвинение Николая и Анны, и которому верил ещё не далее как сегодня утром, испарилось. Теперь Соев не просто чувствовал, он знал, что проиграл. И хотя он не хотел себе в этом признаваться и то и дело повторял про себя, что дело не проиграно до тех пор, пока не заслушано последнее показание, что-то предсказывало Соеву неудачу. Остановившись в коридоре перед ликом Фемиды и изображением весов, выгравированных на мраморной стене, Соев подумал о древних египтянах, придумавших символику. Неужели же и тогда было так трудно доказать виновность обвиняемых? Адвокату не хватало воздуха. Все доводы и доказательства, предъявленные ранее, перевешивало одно-единственное письмо с размытым штампом, представленное сегодня суду адвокатом защиты. «Что делать? Что делать?» – лихорадочно метался Соев в мыслях, автоматически ускоряя счёт. Отвлечение счётом позволяло иногда выудить из подсознания те самые нужные аргументы, что были так необходимы. Прошагав коридор в обе стороны не один раз, Соев вдруг резко остановился и замер. «Нужна финальная речь! Такая, что будет способной побить все сомнения 103 относительно моих обвинений.» Утвердившись в правильной мысли, Соев встрепенулся и уже через мгновение нёсся к отведённому ему кабинету. Там он выхватил из папки бумаги лист, схватил карандаш и замер. Он никогда не писал черновики ручкой, оставляя за собой право на мгновенное уничтожение ластиком неправильной мысли или неподходящего слова, написанных грифелем. «Прежде всего писать стоит кратко. Времени на долгие рассусоливания мне теперь никто не даст. Далее: нужна простота фраз, чтобы все до единого понимали, о чём я говорю. Ещё нужна точность не только каждого слова, но даже слога. Необходимо также следить за интонацией: убить можно даже ударением. Ни в коем случае не стоит ничего доказывать. Только внушать! Крадучись, как кот. Нет, скорее, как дикая кошка. Внушать так, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что я говорю, и чтобы никто и не подумал воспротивиться моей мысли. Но самое главное сейчас – это найти необходимый тон. Нужна страстная воодушевлённая мысль в начале, чтобы приковать внимание слушателей, и ключевая побеждающая в конце, чтобы все помнили о ней ещё долго после окончания процесса. Ах, как здорово говорил Рябов тогда, в июле прошлого года! Как прекрасно он завершил свою защиту: на полном вдохе, обрубив её на самой важной мысли! Что он тогда сказал? - Соев напрягся. Рука его невольно потянулась за точилкой, куда он сунул карандаш и стал медленно крутить его, не глядя на то, что стружка падает на стол перед ним. – Что же он тогда сказал?» Адвокат на секунду закрыл глаза и тут же вспомнил, ибо обладал такой поразительной особенностью, что мог представить перед собой весь нужный ему процесс. А когда вспомнил, вскрикнул вслух. – Нет, это была не любовь!.. – перед глазами встала широкая рубашка Рябова и его лицо, озарённое убеждённостью. Медленно глядя на кучерявые стружки от карандаша, Соев принялся методично вдавливать их указательным пальцем в стол. – Какая сила сможет поставить такое под сомнение? – спрашивал себя адвокат вслух, с заметной обречённостью. Так прошло несколько секунд, во время которых мозг продолжал упорядоченно перебирать информацию, переворачивая её во всех направлениях, как переворачивается в стиральной машине бельё, пока наконец не нашёл то, что являлось для него единственным спасением. От простоты идеи, пришедшей на ум, Соев даже перестал дышать. – Мне нужна только та сила, что докажет обратное. Боже, какой я болван: тезис – антитезис. Это же элементарно! – от проступившей ясности мужчина улыбнулся и щёлкнул пальцами, – И вот тут-то письмо Ларисы, которое притащил мой оппонент, как никогда играет мне на руку. Эх, Рябов, Рябов. Ты даже сам не понимаешь насколько ты снова помог мне. И, совсем уже весело рассмеявшись, Соев смахнул на пол стружки карандаша и склонился над листом, усердно принявшись строчить нужный текст. – Лариса Фёдорова была женщиной балованной. Единственная дочь обеспеченных родителей, она привыкла к тому, что её все любят, и воспринимала чувства других с эгоизмом. – Соев начал свою заключительную речь после перерыва, стоя между судьёй и залом. Он говорил в сторону присяжных заседателей, медленно, по ходу разговора, переводя взгляд с одного из них на другого. Красивые глаза адвоката, тёмные, обрамлённые густыми ресницами, мягко окутывали каждого, на кого он смотрел. Из голоса исчезла так хорошо знакомая всем сухость. Даже тело его: энергичное, упругое, было в этот момент податливым, как подтаявшее масло. Заранее уверенный в фуроре, какой произведёт его финальная речь, Соев отточенно 104 произносил каждое слово, написанное всего несколькими минутами ранее, но, благодаря уникальной памяти, уже выгравированное в голове. – Лариса Фёдорова была женщиной властной, – продолжил адвокат потерпевшей осуждение её самой, намеренно вставляя противоречия, – Она подчиняла своей воле многих людей: как в быту, так и на работе. Лариса Фёдорова была женщиной сумасбродной. Но! – здесь Соев сделал свой изысканный жест, подняв высоко в воздух длинный указательный палец. Его жилистая рука оголилась из-под рукава тонкого дорогого свитера, дополнительно приковывая внимание, – При всём при этом Лариса Фёдорова не была ни глупой, ни жёстокой, ни подлой. Это не она предала этих двоих людей, после того, как безотказно доверилась им десять лет назад, – адвокат бестактно, не удосуживаясь даже повернуться, ткнул большим пальцем за спину, туда, где на скамье подсудимых сидели Николай и Анна, – И это не она предала их повторно после того, как помогла им обоим менее чем два года назад. Лариса не могла более сносить тяжести безразличия прощенных, обласканных и обязанных ей своим благополучием. Это ясно написано в том письме, что предоставила нам сегодня защита,- проговорил Соев, встав прямо напротив присяжных и глядя на них всех одновременно не жёстким взглядом уверенного человека, а потерянно, почти беспомощно. В этот момент риторический талант и артистические способности адвоката достигли апогея. Тупо, вслед за этим, уставившись в зал, он продолжил надломленным голосом, – Только любящая женщина может понять состояние Ларисы перед смертью. Только любящая и обманутая. Да, Лариса Фёдорова любила своего мужа. И именно из-за того, что она его так сильно любила, она не хотела больше быть ему препятствием. В первый раз Лариса просто молча ушла в сторону. Во второй раз – покончила с собой. И эти двое ничего не сделали для того, чтобы спасти её, чтобы оказать помощь нуждающемуся человеку. А за такое тоже судят. Не добавляя более ничего, Соев медленно побрёл и сел за стол. Он чувствовал, как в спину ему уставились десятки солидарных взглядов, услышал чьи-то вздохи и скорбные покряхтывания, боковым зрением заметил смятение на лицах присяжных. «Вот так, – подумал Соев, опалённый ражем состязания, – Сдаваться мне не пристало.» Он знал, что вслед за его словами, последними словами обвинения, уже не будет у оправдания никакого способа что-то опровергнуть. Значит, логически, должен последовать призыв судьи к присяжным, предлагающий удалиться на совещание. В интересах Соева было, чтобы произошло это как можно скорее. Повернувшись к столу оппонента, Соев увидел, как у Рябова побелели губы, пошёл испариной лоб, как затряслись на столе руки, сложенные ладонь к ладони и сплетённые пальцами. «Я здесь победитель, я! – говорил взгляд Соева, и никакие мысли о гуманности или жалости к тем двоим, которых до этого почти уже оправдали и которых он заново приговорил к осуждению, не было. – Посмотрим теперь, как понравится вам то прокрустово ложе, в которое я вас усадил, господин оппонент. И не надо смотреть на меня с таким презрением, гражданка Керман. Не надо меня так откровенно ненавидеть, господин Кравцов. Вы должны до конца дней своих знать, что вы – убийцы. Если не явные, то косвенные. А это в глазах суда одно и то же. Так что, получите вы своё. Пусть чуть меньше сроком, но всё равно получите. Каждый за содеянное достоин того, что определено законами общества. Вам – тюрьма. Мне – слава. Каждый сам за себя! Таков закон джунглей», – вспомнилась Соеву фраза Киплинга, и он почувствовал себя ШерХаном. – Погодите! – взмолился навстречу судье Евгений Петрович, предупреждая его слова, – Разве вы не понимаете, ваша честь, что происходит? Они ведь оба ни в чём не виноваты? 105 Слова Рябова прозвучали, как последняя молитва умирающего. Отчаяние в его голосе задержало судью на месте. Он прекрасно знал, что речь обвинения, представленная подобным образом, заставит присяжных принять совершенно не то решение, на какое рассчитывала защита. Тем не менее, пора была заканчивать заседание, и судья встал. На его веку он повидал уже немало таких процессов, во время которых наказание вынесено было не всегда оправданно, но он сносил это на фатализм. Каждый проживал данную ему жизнь по-своему. И каждого можно было либо похвалить за пройденный путь, либо осудить. Ошибки? Кто их не делал? Но, одно дело, когда они проскакивали незаметными, другое – когда оборачивались вот таким громким процессом. Судья нахмурился и посмотрел на осужденных. Они обратили к нему взгляды, наполненные надежды на чудо, на спасение, ждать которого было неоткуда. Судья был больше, чем кто-либо, подвергнут необходимости основываться на объективных показаниях, отметая при исполнении обязанностей любые личностные отношения. Отчего суждения его были сухими, если не сказать формальными. «Зачем надо было тебе, Николай Кравцов, путаться среди двух женщин, ломать им судьбы, толкать их к принятию роковых решений? – подумал судья, глядя на подсудимого, – В первый раз ты женился, испытывая к Анне настоящее чувство. Она тоже любила тебе до беспамятства. И как ты распорядился этой любовью? Твоя первая жена ушла от тебя сама, страдая при этом, но не желая продолжать жить по привычке. Оставшись один, ты оказался неспособным существовать без сильного женского плеча и женился во второй раз. Пусть не по любви, но зато на той, что была готова ради тебя на всё, – внутри судьи невольно заговорил голос мужской зависти, – Она верила, что ты сможешь если не любить её, то хотя бы быть преданным ей. Ты не смог. Тогда и она ушла. Навсегда. В мир смерти. Сильный проступок. Достойный признания того, что она действительно любила тебя. Иначе трепала бы тебе нервы, как какая-то стервь. Так как же я могу теперь не осудить тебя за то, что именно ты являлся источником несчастий для обеих своих женщин? Нет, я не могу. И присяжные не могут тоже. Значит, придётся тебе всё-таки отвечать перед судом за невольное участие в самоубийстве. А Анне – за содействие этому. Так как никто не докажет, что она не была с тобой в сговоре. По срокам получится порядка пяти и трёх лет, учитывая ваше безупречное прошлое...» – Глядя на обвиняемых, судья молчал, и молчание это говорило больше, чем какие-то слова. «Это – конец», – подумал Рябов. «Всё!», – пронеслось в голове Николая. «За что?», – качнулась вперёд Анна. Ещё мгновение, и томительное ожидание, висевшее на волоске надежды, должно было оборваться, превратившись в долгие месяцы наложенного наказания. Как вдруг в зале раздался женский голос: – Погодите, господин судья! С дальнего ряда с места поднялась красивая женщина и пошла к середине зала. Дойдя до стола Рябова, она остановилась и посмотрела на Кравцова. На вид ей было порядка пятидесяти лет. Она была очень хорошо одета и тщательно причёсана. Все участники процесса впились в неё, ожидая что последует за её появлением. – Ольга Антоновна? – тихо спросил Кравцов, всматриваясь в пошедшую. Что-то в чертах женщины подсказало кто перед ним. – Да, господа. Я – мать Ларисы Фёдоровой, – женщина обратилась ко всем, стараясь не глядеть в сторону подсудимых, – И бывшая свекровь Николая Кравцова. Мы с ним никогда не встречались. Но не я этому виной. Теперь слова подошедшей посвящались только осуждаемому мужчине. В глазах двоих 106 проскользнула боль. При общей внешней симпатии, которая, при иных обстоятельствах могла бы стать хорошей дружбой, ныне они были непримиримыми врагами. Кравцов это понимал лучше других и понял, что если и стоит чего-то ждать от вмешательства матери Ларисы, то это будет явно не в его пользу. Николай отвёл глаза от бывшей тёщи. Она подождала его нового взгляда, но не дождавшись, обратилась к суду. – Господин судья! Прежде, чем всем вам удалиться на совещание, согласитесь выслушать здесь ещё одного важного свидетеля. Я знаю, что его показания будут необходимы для правильного приговора. – Кто это? – заинтересовался судья одновременно и самой женщиной, и тем, что она говорит. Воловий взгляд, висевший на лице главного представителя правосудия преобразился: в нём заблестело мужское желание. Женщина, почувствовав этот интерес, глянула на судью без эмоций: – Николай Александрович Фёдоров. Мой бывший муж и отец Ларисы. К сожалению, он прикован к инвалидному креслу и в зале его нет. Но, учитывая тот характер, что принимает процесс, совершенно необходимо, чтобы вы, господа, выслушали его. Я очень прошу вас! Дни моего бывшего мужа сочтены. А факты, которые он может сообщить суду, помогут восстановить правосудие. Поэтому не откладывайте это на завтра. – Как скоро ваш му ..., ваш свидетель сможет предстать здесь? – голос судьи оживился. Представитель власти не был окончательно лишён интереса к интриге. – Максимум через час, если вы согласитесь подождать, ваша честь, – женщина улыбнулась еле заметной улыбкой, предназначенной только тому, к кому обращалась. Судья увидел её и ответил женщине лёгким прищуром глаз. Её просьба затягивала процесс. Но отказать главный судья не мог. Уж больно манящей была перспектива придать делу новый вектор. Про себя судья подумал, что возможно после заявления нового свидетеля, у него ещё будет возможность увидеть эту женщину, а может быть даже и познакомиться с ней при других обстоятельствах. Вслух же он объявил перерыв. Ровно через час заседание возобновилось. На середину зала, поближе к столу судьи, на инвалидной коляске вывезли пожилого мужчину, сгорбленного под тяжестью болезни Паркинсона. Дрожащие руки двигались вразнобой. Рот, перекошенный почти поперёк, не мог сдерживать слюну. Она капала поверх салфетки, прикреплённой к одеялу, пеленавшему ноги больного. Речь Николая Александровича была прерывистой. Произношение монотонным и с плохой артикуляцией. Тем не менее, видя ту боль, с какой он говорил незнакомым людям о единственной погибшей дочери, никто не решился прервать его. Повествование Фёдорова сводилось к следующему. За несколько месяцев до смерти Лариса стала неузнаваемой. Она медленно спивалась. Отец видел это. Но ничего не мог сделать. На его замечания Лариса отвечала грубым нежеланием слушаться. Предложения отца помочь отстраняла тоже в грубой форме. Николай Александрович не знал что делать. По-хорошему, конечно же надо было встретиться и поговорить по-мужски с Кравцовым. Но отец Ларисы испытывал к Николаю откровенное презрение. Признаваясь в этом, Фёдоров еле заметно указал в сторону подсудимого. Он так и не смог простить зятю тот факт, что Николай когда-то отказался от его дочери. За те полгода, что Лариса и Николай были женаты, Николай Александрович ни разу не пришёл к ним в гости тогда, когда зять был дома. Дочь, зная отношение отца к её избраннику, приезжала навещать его тоже одна. В день смерти Фёдоров был у дочери дома под вечер, незадолго до того, как вернулся Кравцов вернулся. Прежде чем приехать, отец сначала позвонил. Мешая 107 культурную речь с вульгарной, отдавая по мере разговора предпочтение последней, дочь рассказала отцу о встрече с Анной Керман несколькими часами ранее. Николай Александрович отругал Ларису за лицемерие и посоветовал больше не заниматься стратегическими заигрываниями с бывшей подругой. – На твоём месте я бы не то что бы не брал её к себе на работу, а вообще запретил бы себе даже думать о подобной выходке, – посоветовал отец, – Если ты считаешь, что это компромисс и что, находясь у тебя на виду, они оба не найдут возможности решить свои личные интересы, то глубоко заблуждаешься, – грустно уверил Фёдоров дочь. Но Лариса, сильно пьяная и оттого неспособная мыслить адекватно, разрыдалась, обозвала отца таким же предателем, как все остальные, и бросила трубку. Недовольный разговором, Николай Александрович незамедлительно поехал к ней. В доме молодожёнов царил беспорядок и было очень холодно от открытых дверей балконов. Лариса приняла отца, поднявшись с кровати. Она была одета в халат и ночную рубашку. Когда отец пришёл, она спросила который час. Была почти половина десятого. Дочь стала возмущаться, что отец разбудил её. На вопрос где её муж, ответила нецензурной фразой. Фёдоров видел, что Лариса взвинчена. Принялся её успокаивать. Она стала кричать, что он лезет не в своё дело, потом зарыдала, потом стала нести вовсе какую-то чепуху. Она жаловалась, что никто никогда её не любил, обвиняла отца и мать в том, что они – эгоисты: построили свои жизни каждый посвоему, не учитывая интересы ребёнка, оставленного после развода без внимания. Отцу оправдываться перед ней было бесполезно. Слушать её обвинения – больно. Николай Александрович в свою очередь стал укорять дочь, что она опустилась до состояния пьянчужки, перестала за собой следить. Тогда на него снова посыпались новые упрёки и дочь пригрозила вслух, что покончит с собой. Отец испугался и спросил чего дочь стремится добиться самоубийством. Лариса ответила, что хочет таким образом отомстить мужу. Пусть, мол, он потом отвечает за её смерть перед судом. Она была уверена, что Николай не сможет оправдаться от подозрений, павших на него. В этот момент Лариса была похожа на сумасшедшую: глаза её горели огнём ненависти, лицо было решительным. – Я понял тогда, что, скорее всего, дочь решила поиграть на моих родительских чувствах. Она всегда манипулировала мною, – грустно произнёс Николай Александрович, вытирая трясущейся рукой глаза. Зал смотрел на него не шевелясь. Любое слово, произносимое с таким трудом, было сейчас для каждого сидящего необыкновенно ценным. Не видя зал и стремясь только поскорее закончить, Фёдоров продолжил. – Я уже не раз слышал от Ларисы о её желании умереть. Это были приступы истерики и плача. Я знал, что это происходит от безволия. При всей своей внешней решительности, у моей дочери чувства всегда преобладали над разумом. Вот почему я не принял тогда её слова всерьёз. Отругав за глупости, я сказал ей, что вместо того, чтобы нести чепуху, лучше бы она пошла приняла ванную и приготовила мужу ужин. Лариса приказала мне убираться. Я, в конечном итоге, разозлился, пообещал, что насильно помещу её на излечение от алкоголизма и уехал. Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Если бы только у меня был сотовый телефон Николая... Фёдоров запнулся и замолчал. Гордыня, не позволявшая когда-то этому мужчине снизойти до контакта с зятем, обернулась трагедией для всей семьи и ускорила течение его собственной болезни. После смерти Ларисы Фёдоров окончательно оказался в инвалидном кресле. Теперь, в свои неполные шестьдесят, он выглядел дряхлым обречённым стариком. Глядя на бывшего тестя, Кравцов вдруг понял, что если бы он был представлен Фёдорову ещё тогда, во время их первого с 108 Ларисой романа, то смог бы привязаться к этому некогда сильному и волевому человеку. Отец невесты мог бы, возможно, заменить Кравцову ту пустоту, что глодала в то время после смерти собственного отца. Да и мать Ларисы, такую красивую, решительную, он смог бы любить. Но тогда не было бы Анны... Потому как из одного только чувства уважения к будущим родственникам сумел бы Кравцов пересилить в себе тот похотный зуд, что затащил его когда-то в баню. А, значит, жил бы он теперь в сытости и уюте, работая ещё с тех пор на хорошем месте, не зная тягот и мытарств недавней жизни, и не нараскоряк с собственной совестью. Имел бы наверняка детей, хотя бы одного. Крутился бы в том самом избранном московском обществе, которое обещала ему когда-то Лариса. Превратился бы в обеспеченного Новорусского, наделённого делом, владеющего капиталом и широко плюющего на всё, что происходит вокруг него... «И, возможно, никогда бы я не познал, что такое настоящая любовь. Та, что вкушается с потом неги и бережётся бархатной глубиной глаз дикой оленихи», – грустно заключил про себя Кравцов, обернувшись на Анну. Она, впервые не понимая смысла его взгляда, виновато опустила глаза, пряча за ними набежавшие слёзы. – Простите мне всё, Николай Александрович, – неожиданно вдруг попросил Кравцов. Он поднялся, еле заметно протягивая руку, как для пожатия. – Бог простит, – ответил ему больной без всякой злобы. Развернувши своё кресло к барьеру, за которым сидел Кравцов, старик поднял голову как можно выше, – Всем нам когда-то перед ним ответ держать, – он указал пальцем в потолок, – Потому и я, зная, что скоро встречусь с ним, не могу больше молчать. Сначала хотел, чтобы ты ответил за смерть Ларисы. Да только неправильно это. Самое страшное наказание, оно у каждого внутри сидит, – Фёдоров положил руки на грудь и замолчал, словно погрузился в дремоту. Изо рта его потекла струйка слюны. Фёдоров не обратил на это никакого внимания. Зал всё ещё молчал. – Вам есть что ещё добавить, Николай Александрович? – обратился главный судья. Фёдоров поднял голову и, глядя на Кравцова, скривился, как от боли: – Я решил рассказать вам всё, как есть. А ты, Кравцов, если виновен в чём, – сочтёмся на том свете. А осуждать тебя за то, что любишь её, – взгляд больного мужчины метнулся на неподвижном лице на Анну, затем снова вернулся к Николаю, – не имею права. И никто не имеет. Фёдоров повернулся к судье и секундой зафиксировал его взглядом прежде, чем его голова окончательно упала на грудь. Ольга Антоновна, сидящая на переднем ряду, сделала знак судье. Он понял и кивнул милиционеру. – Увезите свидетеля. – Простите нас оба, – попросила Ольга Антоновна, подойдя к Николаю и Анне, – И простите, что не вмешались раньше. Ответить Анна не смогла: в горле встал ком, глаза наполнились слезами. В зале в это время плакали многие. – Суд удаляется на совещание, – прогремел голос судьи. «Должен же я когда-то закончить этот процесс», – подумал он, боком оглядываясь на ходу на зал и на Фёдорову. В судейском желудке давно уже урчало от голода, и подвергать свой организм дельнейшим испытаниям из-за вечных тяжб противоборствующих сторон он не собирался. «Увы, дорогой Соев, ничем более помочь тебе я не могу. Усмири своё сутяжническое помешательство, расслабься и переключись на что-то другое, – хотел бы посоветовать судья адвокату обвинения, столкнувшись с ним на выходе из суда, но не стал. Из жалости. Быстро отведя глаза от повисшего на нём безысходного взгляда, судья наспех попрощался со всеми, кто стоял на крыльце и, сев в «Ауди» дорогой 109 модели, мягко отъехал. Только что, единогласным решением декабрьского суда тысяча девятьсот девяносто восьмого года, оба обвиняемые в убийстве Ларисы Фёдоровой были оправданы и освобождены. Без права опровержения. Глава шестнадцатая: Ангелы свободы Николай стоял напротив выхода из женской тюрьмы и, не отрывая взгляда от двери, полушёпотом считал минуты. С момента, определённого органами правосудия, прошло, по подсчётам Кравцова, как минимум полчаса, а Анна всё никак не появлялась. Несмотря на то, что во время последнего заседания Кравцов и Керман были оправданы, из-под стражи их освободили не сразу. – Это тебе не телесериал, где решение суда по освобождению вменяется мгновенно, – успокаивал Николая Рябов, похлопывая по плечу. Исход процесса не просто радовал Евгения Петровича, он в очередной раз подтверждал домыслы о том, что ни одно дело, ведомое на Земле, не обходится без контроля высших сил. Тех, что человеку недоступны, и тех, что бдят над ними всеми. Кто и когда мог заранее предсказать появление на сегодняшнем судебном заседании родителей погибшей Ларисы Фёдоровой? А уж тем более кто мог предположить, что они внесут показания не в пользу обвинения, а в пользу защиты? Никто. Но только, видать, так было угодно кому-то в самой высшей инстанции, раз подзащитных Рябова оправдали окончательно. И никакие атеистические идеи, прочно поселённые в адвокатской голове ещё со студенческой скамьи, не могли противостоять столь фривольным отступлениям в рассуждениях коммуниста со стажем. Провожая Николая к милицейскому РАФику, в котором бывший осужденный должен был вернуться на место прежнего заключения теперь уже в качестве свободного человека, Рябов всё ещё приговаривал, объясняя: - Заполнят массу формуляров наши писаки, а потом отпустят. Недолго ждать осталось. Наберитесь терпения. День – два и всё, что было, останется в прошлом навсегда и забудется, как страшный сон. – Наберёмся, – Николай сел на место рядом с шофёром. Стражу, по оглашению приговора, отменили тут же. – Только вот забыть получится вряд ли. Он оглянулся в надежде увидеть Анну. Но её уже увезли. Перед этим они успели побыть вместе несколько минут. Мгновения, во время которых Анна, уткнувшись в плечо Николая, тихо плакала. Вокруг стояли Надежда, Иван, их дети, приехавшие из Калинок Верка и Фёдор Латыповы, их старшая дочь Татьяна. Родные лица озарялись улыбками. Вымученные тяготами длительного ожидания, улыбки были пока ещё натянутыми. – Вряд ли такое забудется, – опять прошептал Николай, но всё же крепко потряс адвокату руку, – А вам, Евгений Петрович, спасибо особое. Если бы не вы... – Ладно, Коля, потом, – захлопнул Рябов дверь машины. Сев в машину Кравцов с застывшим лицом всю дорогу ворошил мысли о том промежутке времени, что провёл в тюрьме, и действительно думал, что будет вспоминать про это всю жизнь. Но теперь, находясь на свободе вот уже вторые сутки, стоял и смотрел на проходную тюрьмы, как обычный человек. «Забыл или просто не хочу вспоминать?» – удивлялся Николай. Упившись в первый вечер освобождения до полуобморока, он до сих пор не ощущал 110 себя трезвым. «Пьянит воздух свободы! Ведь и вправду пьянит. Не врал тот, кто сказал это первым», – признавался он себе. От декабрьского мороза, пробравшего неожиданно, стали постукивать зубы. За время пребывания в тюрьме Кравцов отвык и от холода тоже. «Быстрей бы уже её выпускали!», – думал мужчина с досадой на проволочку. Анна с выходом на волю задержалась на пять дней. Об этом Николая предупредил всё тот же Евгений Петрович. Придя к нему в тюрьму вечером после оправдательного процесса, Рябов убедился, что его подзащитного перевели в отдельную камеру, где ему ничто не угрожает дожидаться оформления бумаг, и постарался успокоить. – Ты ведь знаешь, что она отказалась от немецкого гражданства, – напомнил Рябов, – Вот у них там и вышла какая-то промашка с оформлением русского паспорта. Гражданство-то ей вернули, а бумаги выписать не успели. А куда без паспорта? Никуда. Любой контроль на улице, и опять проблем не оберёшься. Не беспокойся, у неё всё хорошо: её, как и тебя, держат отдельно, в тюремном лазарете. Николай посмотрел на адвоката с разочарованной усмешкой. – Евгений Петрович, хорошей тюрьмы не бывает: хоть лазарет, хоть изолятор. – Понимаю, Коля, всё понимаю. Но теперь от меня вообще ничего не зависит. ОВИР хоть и принадлежит УВД, живёт отдельной жизнью. У них свои прерогативы. Они – формалисты, каких мало. Надеюсь, что за пару дней управятся и с пропиской, и с оформлением, и к выходным Анну освободят, – прикинул адвокат вслух. Суд с окончательным решением состоялся во вторник. Николай вышел из тюрьмы в четверг. Анне же пришлось «переспать» в медизоляторе не только наступившие после суда выходные, но и начало следующей недели. И вот сегодня, во вторник, ровно через неделю, Анна Керман должна была выйти на свободу. Николай, не пожелавший ехать в Калинки без неё, томился все эти дни ожиданием на московской квартире Надежды и Ивана. Родные и друзья побыли вместе с ним три дня, а в воскресенье с утра пораньше уехали в деревню. Компанию бывшему осужденному разбавляли племянник Егор и Татьяна Латыпова – невеста на уже законных правах. Но днём молодые учились и работали; Кравцов видел их только по вечерам. Впрочем, он настолько привык отстраняться ото всех, что одиночество не мешало. В противовес тому, о чём мечтал находясь под стражей, планируя длительные прогулки по Москве, поездки на природу, походы в кино или музеи, в первые дни свободы освобождённый не испытывал никакого желания выходить из дома. Обалдевший от шума и многообразия города, он заранее предвкушал упоение от деревенской тишины. Зимние вечера в родительском доме перед печкой и с Анной вдвоём представлялись Кравцову теперь самым высшим наслаждением, какое только можно было пожелать. Отчуждённость от суетности бытия, впечатанная заключением, должна была пройти не сразу. Огромное пространство, представшее перед узником за пределами камеры, пугало и казалось незнакомым. Николай никак не хотел оставаться с ним один на один, опасаясь потеряться в мире вне четырёх стен и соглашаясь на прогулки только в сопровождении родных. Так должен был бы чувствовать себя человек, страдавший всю жизнь слепотой и вдруг, в силу каких-то магических сил, обретший зрение. Переоценка окружающего пространства, произведённая по отношению к вещам, знакомым ранее благодаря исключительно четырём другим ощущениям, являлась своего рода шоком. Мозг, вмещавший в себя теперь ещё и активную зрительную информацию, быстро уставал и реагировал на усталость, включая защитные реакции. Именно этим объяснялась патологическая сонливость, динамическая пассивность и притупление вкусовых качеств бывшего узника. 111 Единственным чувством, работавшим наряду со зрением с полной интенсивностью, было обоняние. Сродни зрению, не упускающему в эти первые дни свободы любую мелочь, обоняние Николая впускало внутрь организма все ранее знакомые запахи, от преобразования которых он то замирал, как встревоженный зверь, то чувствовал в себе желание плакать, как разбуженный ребёнок, то оживлялся, как возбуждённый самец. Обоняние вело по улицам Москвы, заранее напоминая расположение их строений, особенности той или иной станции метро, ассортимент того или иного магазина. В одних местах Кравцову было комфортно и спокойно, в других неуютно и тревожно. Стоя напротив тюрьмы, из которой вот-вот должна была выйти Анна, Николай знал, что дрожь его должна своим присутствием не только морозу, но прежде всего, и скорее всего, эмоциональной возбудимости. А проще говоря – разболтавшимся нервам. И в тот момент, когда двери тюремной проходной наконец открылись и Николай увидел в них Анну, первое, что он понял, было то, что теперь им вдвоём потребуется много времени для того, чтобы точно знать, как именно распорядиться дарованной свободой. Быстро охватив открывшийся перед ней простор, Анна не сразу различила одинокую фигуру Николая. Он стоял на фоне белых деревьев по другую сторону дороги и помахал ей издалека, давая ориентир. Анна согласно кивнула, подчиняясь чужому жесту, и двинулась навстречу интуитивно, а не потому, что признала. Протянув руки в её сторону, Кравцов медленно побрёл через проём в заснеженном кустарнике, ограничивающем тротуар, и остановился только тогда, когда Анна оказалась совсем рядом. Они стояли на середине заледенелой дороги, на которой в любой момент могли появиться машины, но не осознавали этого. В глазах недавних пленников было только лицо другого. Как бы заново вглядываясь в забытые дорогие черты, встретившиеся молчали. Признаваться в чём-то не было сил. Да и не нужны им были слова. Всё заменяло полученное обретение. Наконец Анна подошла к Николаю совсем близко и вымученно улыбнулась. – Всё, Аня, конец всему, – сказал Кравцов надломленным голосом. Он знал, что стал с тюрьме настолько сентиментальным, что расплакаться мог от любой эмоции: положительной, как отрицательной. – Увези меня отсюда поскорее, – попросила женщина и уткнулась любимому мужчине в плечо. Кравцов обнял её сбоку за плечи и, повёл к тротуару, даже не подумав, чтобы взять из рук сумку с вещами. Ничего другого, кроме глаз Анны, он не видел. Переночевав эту ночь в Москве без сна за хорошим крепким чаем, по которому так соскучилась Анна за месяцы заключения, на следующее утро бывшие супруги выехали в Калугу. Оставаться в столице, где всё давило болью воспоминаний, не было сил. На вокзале их встречали Иван и Мишка Зуев. Миха, раздобревший за последние годы вдвое и в очках, не видел друзей с позапрошлого лета. Неловко щурясь, стесняясь своей близорукости, Зуев крепко пожал руку Николаю, а Анне сунул принесённый букет белых хризантем: – Поздравляю! – Пошли скорее! – заторопил Иван, обнимая родственницу и уводя к машине, – К вечеру обещали снежный буран. Не застрять бы в дороге. Как дела, дорогая свояченица? – Бывшая свояченица, – поправила Керман. – И в скором будущем будущая. Или я в жизни ничего не понимаю. Анна устало посмотрела на Ивана, ответив слабой улыбкой. Что тут можно было сказать? Впереди предстояло столько всяких объяснений. 112 – Спросишь то же самое через пару месяцев, – посоветовал Николай Ивану, залезая назад к Анне. – Куда мы? – спросила женщина, когда уже отъехали от вокзала. Ловко лавируя между заносами, где свежими, где улежавшимися, Белородько выкручивал руль нового джипа «Паджеро» и то и дело ругал то метеоусловия, то городские власти, плохо контролирующие работу автодорожных служб, то чьих-то ближайших родственников. – К нам, Аннушка, едем, – ответил Иван через плечо, – Надюха сказала, что побудете пока первое время у нас, пока ваш дом приведём в порядок. А там – поглядим. Николая, обнимая Анну за плечи, придержал её на повороте: – Э нет, братка, зря вы так решили. Поесть, попить с дороги мы, понятно, у вас остановимся. Но токо после мне поскорее охота в свой дом попасть. Да и Ане, думаю, тоже. – Кравцов ласково сжал ладони любимой женщины, которые не выпускал вот уже вторые сутки. - Намыкались мы по чужим углам – мочи нет, – улыбнулся он, продолжая говорить медленно, с новым приобретённым растягом ударных гласных на московский манер, – До своего охота добраться. Не серчай, Иван, но не терпится мне. В свой двор ступить. Баню истопить. По дому какие дела поделать. К тому же, и гостей нам скоро встречать: слышал же, как Петрович сказал, что сибиряки наши – Кирилл с Антониной сразу после Нового года приезжают? Так что, будут дела. Я, пока сидел, много о чём передумал. Завтра же начну по-свойски хозяйничать. – Да чего тебе там суетиться? Дом под замком нетронутым стоял. Прибрать малёха и айда – живи, грейся. Ты же, Коляня, ремонт перед отъездом делал, – встрял с рассуждениями Зуев, горбатившийся на переднем сидении. Из-за его широкой спины, даже высокий Кравцов не видел лобового стекла. – Не, Миха, ты не понимаешь про что я ..., – Николай мечтательно уставился на дорогу, – Хочу всё сделать, как душа просит. Знаешь, что-то меня к земле потянуло, по-настоящему. Вот зиму отожду, а по первым оттепелям весь двор переделаю. Амбар поставлю. Обязательно. Что за двор без амбара? Курятник новый сколочу. Тот, что отец с матерью имели, я из-за ветхости сломал, а теперь вот пришла пора новый построить. – Неужели кур заведёшь? – удивился Иван, – Теперь же в магазинах мяса и птицы – скоко хошь. А яйца так вообще в любое время. Да у нас, к тому же, есть свой кооператив, сельский! Всегда всё свежее. Зачем тебе эта грязь с живностью? Одна морока! Ты лучше как у нас сделай: газон и клумбы. Кравцов тошнотворно сморщился: ему вспомнились немецкие дома: – Мне эти иностранные замашки знаешь где сидят, братка?! Пластиковые оконца, бетонные дорожки, витые крендельца в дверях... А при этом – полный сквозняк душ. Живут каждый сам по себе и никто никому не сосед, а уж тем более не друг. Вся их прилизанность – даром не нужна. Лучше пусть у меня будет попроще, но при этом всегда с живыми тварями общаться, а не с камнями или беседками. Видали мы одну такую немку: каждый день в садике со статуями разговаривала. А чтоб детей к себе лишний раз на пирог позвать – ни за что! – Кравцов кивнул Анне, напоминая. Она едва заметно усмехнулась в ответ, – Аж противно от мысли, что во дворе негде будет ступить, чтобы в клумбу не влезть. Не жизнь, а сплошная морока, – заключил Николай. – Зря уж ты так, Коля, – впервые за дорогу проговорила Анна, – Разве это плохо, когда вокруг всё прибрано и аккуратно? Николай не ответил. Мысленно он уже представил, как заголосит на его заборе по утрам петух, как станут лениво прохаживаться по двору куры, грабасто роя лапами песок, отыскивая в нём зёрна, как загуляют под карнизом голуби. 113 – А ещё я собаку хочу, – посмотрел Кравцов на прижавшуюся Анну с восхищением, какое бывает у ребёнка, давняя мечта которого вот-вот должна осуществиться, – Овчарёнка купим. Если не совсем породистый будет – пущай! Но только настоящего псину, сторожевого. Как у нас Полкан был, помнишь, Иван? А то все эти шавкипустолайки, что из-под ног не видно, тоску на меня навевают. Рази это зверь, кода он декоративный, – одержимый желанием Кравцов незаметно перешёл на деревенский говор, – Зверь должон быть зверем. Настоящим. Игрушки для детворы годятся. Я в них уже не играю. Кравцов на какое-то время замолчал, предавшись дельнейшим мечтаниям. В машине стало тихо, только шумели шины на неровной от снега дороге, и скрипели тормоза. Анна, наслушавшись Николая, сидела с блуждающей улыбкой. Мысль о собаке понравилась ей тоже. Только она предпочла бы купить вместо овчарки, например, лайку или лабрадорчика. Длинная, одноцветная дорога разбавлялась кое где перекрёстками, редко обозначенными указателями. Так как эта трасса была поселковой, даже не городской, то машин было мало. Вскоре вдали показались первые дома. За последние годы Калинки разрослись до неузнаваемости. Многочисленный поток переселенцев, продолжавших переезжать в Россию из бывших социалистических республик, определялся на местах выраставшими районами. Новосёлы предпочитали держаться вместе, старались покупать жильё или земли рядом. Поэтому, стоило только появиться в посёлке одной-двум семьям, как через год уже стояло на новом месте пять-шесть домов. Строительство вели коллективно, проявляя особую солидарность и помогая, по возможности, новичкам во всём. Местные жители, не знавшие, или скорее, забывшие такую сплочённость из-за условий жизни, не перестававших быть непредсказуемыми с перспективой не улучшения, а наоборот, глядели на приезжих с нескрываемой завистью и даже неприязнью. Пьяные дебоши местных алкашей проходили незаметными, тогда как затянувшиеся мирные гулянки переселенцев обсуждались неделями. Разночинства и произвол своих бизнесменов спускались с рук. За приезжими же следили в оба и не прощали малейшей коммерческой провинности. Налицо царившая дискриминация по отношению к прибывшим не мешала новым руководителям областей сдавать размашистые отчёты о помощи русскому населению в интеграции и переселении. Как не мешала и списывать под эти отчёты капиталы, предназначающиеся определёнными статьями принятого государственного закона. Оживлённые появившимися строениями, Кравцов и Керман жадно впились в окна. Дворцы и хижины соседствовали и тут. К тому же, в отличие от столицы, в провинции их контрасты были больше заметнее. Глаз резала рухлядь строений, заурядность открывшихся мастерских, покосость бывших государственных сельхозпостроек. Повсюду на виду валялись жерди, прогнившая солома, проржавевшие металлические сваи, доски, брошенные бочки для воды, корыта, обломки шифера... Не зная, где блуждают мысли их спутников, Зуев указал на здание больницы: – Знаешь, Коляня, кто теперь там всем заправляет? Моя Шурка! – Мишка тут же прогнулся от важности. Глядя на обшарпанное двухэтажное строение, где с одного бока сквозь обвалы штукатурной извести показались наружу деревянные балки, Анна не удержалась: – Видать, особо заправлять твоей сестре нечем, раз больница того и гляди набок пойдёт? – Фь-ю, – присвистнул Мишка, – Шурки ты не знаешь! Она токо для виду ремонт не делает, плачется каждый раз перед депутатами, новых инвестиций требует. А сама на 114 одной токо аптеке уже две таких больницы могла бы отстроить. Как захотите – свожу я вас туда! У Шурки там, как в пещере Али-Бабы: чего токо нет. И помещение отделано, не в пример больнице. Слушая с какой значимостью говорит Мишка о сестре, Николай поглядел другу в затылок с подозрением. В его голове вдруг всплыл давний разговор с Вовкой Окуньком. Было это ещё осенью девяносто третьего года, до отъезда Кравцовых в Германию. Окунёк, мотавшийся в те времена по территории всего бывшего Союза в поисках лёгкой наживы, только что вернулся из Прибалтики и сразу завалил к другу. Сам Вовка до сих пор не женился, домом не обзавёлся, с родителями уживался плохо. Поэтому перебивался по углам где, сколько и у кого мог. Чаще всего он находил себе на короткое время подружку с жильём, у которой столовался, гулял, пил. До тех пор, пока не срывался в очередной раз с места, ведомый духом врождённого авантюризма, и нёсся, востря нос по ветру, навстречу манящим эфемерным капиталам. Нередко он действительно приезжал с деньгами, но бывало и прогорал, возвращался пустой, теша себя только тем, что любой жизненный опыт может пригодиться. В тот раз Вовка привёз из Прибалтики только планы и перспективы, которыми снабдили его более практичные и далеко видящие в плане бизнеса литовцы. – Машину покупать буду, Коляня. Грузовик. Сдам на права, первое время сам помотаюсь: в Польшу, в Германию. Раскручусь, а потом открою фирму по перевозкам, – делился планами Окунёк. – Ну-ну, – скептически одобрял Кравцов, – Как до Германии доедешь – заходи в гости, – заранее пригласил он. Вопрос об их отъезде уже был решён. – А чё, запросто, блин горелый! – оживился Окунёк, – Мне токо скажи, я тебя где хошь найду. – Давай-давай, – ответил Николай с прежним «оптимизмом» подморгнув Мишке, сидевшему здесь же. – Ладно, Вовчара, кончай нам всякой дрянью мозги затирать. Ты там про рыбу чё-то говорил? Принёс? А то у нас пиво на веранде уже льдом покрылось. Окунёк, пообещавший побаловать друзей какой-то особо редкой рыбой, привезённой из Вильнюса, встрепенулся, полез с принесённый баул. Оттуда он выудил несколько герметично запечатанных пачек с рыбным филе. – Бельдюга горячего копчения, – прочёл Кравцов по слогам, – Ну и имечко! – И прошу не путать вторую и третью буквы! – заржал Окунёк. Зуев, взяв из рук Кравцова упаковку, прочёл сначала про себя, потом сделал скидку на слова Вовки, потом флегматично ппроговорил: – Бледюга, так бледюга. Давай нож, щас мы с нею такой хорошей живо разберёмся. Мужики от его вида загоготали в голос. – Эх, Мишаня! Грубый ты человек! Деревенщина! – пожурил друга Окунёк, – Никакой эстетики не понимаешь. Рыба-то – редкая больно. – Нам бы чего попроще, Вовчара: тараньки или хотя бы той же воблёхи. Их ведро можно купить за те деньги, что ты за эту... отдал, – кивнул Зуев на этикетку, разрезая целлофан поданным ножом. Пока они разглагольствовали, хозяин принёс с веранды холодное пиво, убрал со стола скатерть и поставил на него стаканы: – Хоть редкая, хоть частая – рыба, есть рыба, воняет одинаково. За пивом разговоры пошли о жизни и работе. Кравцов тогда вовсю промышлял снабженцем для магазинов. Вовка, болтаясь по свету, надеялся на свою счастливую звезду. Зуев, не желая шевелиться, крутил гайки в механическом цеху и довольствовался малым. Жениться и он не хотел. 115 – А на фига ему? – заметил на это Окунёк, воспользовавшись моментом, когда Мишка пошёл «отлить». Он женат на своей Шурке. Слышал же, что он переехал к ней жить после смерти матери? – Ну слышал. И чё? – А видел, как Шурка за последнее время расцвела? – И чё? –– опять не понял Кравцов. – А то, что так баба токо при мужике добреет, – хитро сузил глаза Вовка. – Чё ты, дурак, балаболишь? Станет тебе Миша такой хренью заниматься. Кого это ты тут у нас опять понаслушался? – Опять я виноват, распиздасти-здрасте! – отмазался Окунёк. В последнее время он надёжно сменил своё коронное «ежели как что» на прилипавшие к нему по всей бывшей стране разнокалиберные и разнокачественные неологизмы разных диаспор широкого географического масштаба типа: «еханый бабай», «забубеним под расчёт», «едришкины матрёшки» или ещё какие прочие. От этого речь Вовки изобиловала порой шокирующими слушателей выражениями. Лучшие из них моментально усваивались молодняком и становились фонетическим дайджестом деревни, меняя привычный размеренный слог области на модный шубуршаще-звенящий сленг городов. – О чём шум? – переспросил друзей Мишка, появившийся в дверях и заставший Вовку врасплох. – Да так, ни о чём, – покраснел Николай, – Вовка вот рассказывает, что ел в Прибалтике консервированных анчоусов, а я спрашиваю вкусные или нет. Пор анчоусов Кравцов вставил моментально. Это слово крутилось у него на языке вот уже несколько дней. Он оформлял в Москве на оптовке очередную покупку и случайно услышал про новые приколы «богатеньких дядечек», летающих в «заграницу» попить фирменного баварского пивка, поесть перигорской фуагры или же пососать баскских анчоусов. – И как – вкусные? – обратился Мишка за ответом, вновь усаживаясь на своё место за столом и не учуяв подвоха. Вовка, мгновенно среагировавший на предложенный экспромт, закивал, благо знал о чём идёт речь : – Пойдёт. Что-то навроде пересоленной селёдки. Токо маленькие такие, что положишь в рот и жевать не надо, можно сразу глотать. – Как «селёдки»? А я думал, что анчоусы – это фасоль, – растерялся Зуев. – Сам ты, Миха, – фасоль, – ответил Вовка без эмоций, – Фасоль – это спаржа. Анчоус – это рыба такая. – А ну да, я же забыл, что ты один у нас царских кровей. Мы-то с Коляней – холопские морды. Куда уж нам до всех этих деликатесов, – надулся Мишка. «Эх, Вовка-Вовка, – вздохнул Николай, потревоженный воспоминаниями, – Кто бы тогда знал, что так скоро сложишь ты свою буйную голову, и не будет у нас больше неделимой троицы.» На душе Кравцова было больно. Вовка Окунёк нашёл, в конечном счёте, своё «эльдорадо»: после отъезда Кравцовых в Германию он стал в Калинках единственным владельцем новой бензозаправки. Встать на ноги помогли ему какие-то «крутые связи», на деле оказавшиеся уголовной группировкой неформалов с Кавказа. Они же снабдили деньгами. Им же Вовка отстёгивал львиную долю дохода с продажи горючего. Очень скоро Окунёк превратился в «нового русского» со всеми причитающимися для этого определения обязательными характеристиками: бритой головой, добротной кожаной курткой, последней моделью БМВ, толстой золотой цепью на шее, тёмными очками. Он купил себе в Серебрянке дом, за год перестроил 116 его и даже стал поговаривать о женитьбе. Нашёл где-то городскую деваху: разбитную, горлопанистую, фигурную что в фас, что в профиль, которая лихо сдаивала с Окунька значимую часть того лишнего дохода, что удавалось припрятывать от «покровителей». Так длилось почти два года. В конце девяносто пятого по всей области вдруг поползли слухи, что Окунёк пошёл с мафией в разлад. По рассказам Мишки, Вовка действительно решил отбояриться от покрывавших его обирал. Он поделился с Зуевым новостью, что даже предложил кавказцам какую-то компенсацию взамен за то, чтобы они позволили ему далее вести дела без контроля. Кавказцам такая постановка вопроса не понравилась. Уход дойной коровы на самовольные хлеба означал для них финансовую недостачу. Так недолго было и разориться. А подобного эти парни никак не любили. Они провели с Вовкой серьёзный разговор, суть которого была короткой и понятной: сиди и не рыпайся. Но Окунёк, в раздутую голову которого гонор западал теперь легче, чем от него можно было избавиться, не придал предупреждению должного значения. Он перестал платить дельцам, объяснив, что по его мнению уже давно рассчитался и за выделенный когда-то кредит, и за прочие услуги. На второй месяц самоуправства как-то к дому Окунька по сумеркам подкатил загруженный качками джип. Без лишних разговоров наёмники поднялись в дом и, не взирая на истошные крики городской невесты, забили Вовку на её глазах насмерть бейсбольными битами. Девку же запихали в машину и увезли неведомо куда. С тех пор никто о её судьбе ничего не слыхал. Всю эту картину видел сосед Окунька. Но вмешаться в расправу пожилой мужчина конечно же побоялся. Когда машина с убийцами скрылась из виду, сосед тихо прокрался в дом и увидел там измолоченное тело Вовки, признать которое не смогла бы даже родная мать. Милиция, вызванная на место преступления, ничего по данному происшествию делать не стала. Единственный свидетель – сосед, заикаясь рассказал то, что запомнил, не в состоянии назвать ни точное количество убийц, ни номер машины, ни даже её марку. Помотав дело по различным отделам УВД, его в конечном итоге закрыли за недостачей показаний и списали в архив по статье «сведение счётов криминальных структур». Кравцов, услыхав о жуткой смерти друга от Ивана, с ужасом представил все те мучения, что должен был испытывать безобидный Окунёк перед смертью. «Звери, не люди, кто сотворил такое», – похолодел Николай, вспоминая Вовку и сейчас, проезжая мимо бензозаправки. Простояв какое-то время без хозяина, заправка вскорости была продана Денису Зуеву, сыну Шурки. – Этот – оторва, никому не спустит, –охарактеризовал Белородько мишкиного племянника, – Якшается только с мафиози. Нас, простых дельцов – в грош не ставит. «А что же тогда говорить про народ?», – параллельно подумал Николай. Уж кому, как ни ему, было доподлинно известно, что как ни крути, но никак не отнести Ивана к простым дельцам. Напомнив свояку про его авторитет, Кравцов ещё раз ужаснулся. Но теперь уже полученному от родственника ответу: – Коляня, Денис, если будет нужно, через труп матери перешагнёт, не оглянется. Во какое поколение пост-советской молодёжи мы получили! Среди всех волков, они всем волкам волки. Капиталисты нас в своё время боялись, как идейных соперников. Страну нашу разрушили, подкупив руководство. Что ж, пусть готовятся теперь к худшему и боятся ещё пуще: если эта братва, типа младшего Зуева, в какой день появится на капиталистическом рынке, плакать их Бил Гейтсам горючими слезами. Наши новоиспечённые коммерсанты признают только один закон – закон больших денег. А он не щадит никого. И справедливым не бывает. Так что, как говорится, накакали все эти воротилы мирового капитала себе же в карман, обучив бывших мирных пахарей железной хватке. И если раньше русскому работяге особо терять 117 было нечего, то теперь, обзаведшись капиталом – есть, и немало что. Дрожите, значит, и Европа, и Америка, а с ними заодно и Китай с Гонконгом. Мы ведь не просто деловых да наглых имеем, мы, вопреки многим, ещё и не обделённые серым веществом. Столько лет нас угнетали, водворяя запреты на самовыражение и персональное мнение! Сколько нам внушали, что единственное возможное решение по любому вопросу, от управления колхозом до планирования частоты совокуплений с родной женой, принадлежит Партии! Столько долбили, долбали, отравляли коммунистической моралью и нравственностью, что в миг, когда народ почувствовал свободу от всех этих пережитков правления, он сначала, конечно же, растерялся. Про себя, Коля, признаюсь: странно было остаться без наставлений откуда-то сверху. Как это так? Кто же теперь будет пояснять, как нам лучше детей по заднице лупить: вдоль или поперёк? Но только тут же, чтобы не пропасть, поняли мы, что пора принимать какие-то меры. И вот тогда-то все мы – бывшие совковые строители коммунизма, а ныне граждане вмиг свободной демократической страны, выработали в себе особое противоядие, зовомое теперь в простонародье предприимчивостью. И от всего этого симбиоза, народился на свет молодой, неизвестный пока науке социологии тип – новорусский бизнесмен. Дениска Зуев – явный тому пример. Да ты и сам поймёшь, стоит тебе только раз в глаза его посмотреть. Ничего, кроме знака доллара, знаешь, как в американских мультиках, ты там не увидишь. А это означает что? Поясню: холодный свет расчётливости и полную бездуховность. И нет той половицы в доме этого молодого отморозка, из-под которой можно вытащить эту самую душу и обратно вдохнуть её в живое безразличное ко всему, кроме бабла, тело. И перевоспитать его некому: класса советской педагогики более нет, а мать его, преподобная Шурка, сама Сатане душу продала ещё давно. И сына таким именно она воспитала: циником и эгоистом. Рассказывая всё это Николаю в далёкой Германии, Иван морщился от боли и по-своему завидовал Николаю и Анне, уехавшим из России в столь непонятные времена. Кравцов знал почему такая зависть: перегибы былого времени и вправду казались многим мелочью по сравнению с тем настоящим горем, каким обернулся для всей бывшей советской Империи её развал и последующая за ним абсолютная анархия общественного устроя. Правду же о всей тяжести наступившей новой свободной жизни народ выносил на собственной шкуре. И даже таким, как Иван Белородько, стоявшим среди тех, кто удачно «вписался» в новую систему, нет-нет, да и приходилось жалеть об ушедших советских временах. Нелёгких, но при этом обязательных: социальным обеспечением, прекрасным образованием, действующим законодательством, сбалансированным финансированием общей государственной системы и высокой моралью. Сегодняшняя Россия, при всём её желании прослыть в глазах мира страной светлого будущего, ох как была ещё далека от состояния обеспечения граждан тем самым гарантированным существованием, каким славился СССР. Думая об этом, Кравцов отчего-то почувствовал в груди неприятное шевеление. Он догадался почему по возвращении из Германии ощутил себя столь нелепо несоответствующим тому обществу, что окружало его. Понял, почему никак не мог свыкнуться с людьми, что встречались на пути ежедневно. Кроме сотрудников по работе, оценивать человеческие качества которых Николай не пытался и не собирался, он виделся с массой посторонних людей, каких понять не мог никак. Вроде бы они и говорили все на одном с ним языке, и жили такой же, как он, заполошной столичной жизнью, а всё-равно был среди них Николай чужаком. Прожив в Москве первые два месяца, Кравцов уже отчётливо знал, что не может и, похоже, уже никогда не сможет стать столичным жителем. Таким, когда каждый ценит свои услуги не по самой 118 важности сделанного дела, а по времени, затраченному на него. Может от этого не чувствовал Николай в себе тяги заводить плотные отношения с кем-либо, ни даже малейшего желания просто общаться. Все казались переселенцу из Европы одинаково необхватными с их новым российским менталитетом, сложившимся за те годы, пока сам он жил заграницей. Лариса, с её заботливостью о Николае в первые месяцы, тоже не смогла приблизиться к особому образу мыслей мужа. Его нетронутая временем порядочность и равнозначное уважение к любому из клиентов фирмы коробили. Несколько раз Фёдорова пыталась объясниться с мужем на этот счёт, доказывая, что по условиям рынка скорость выполнения заказов по строительству, так же как их оплата, зависят не от возможностей предприятия, возможности всегда можно было бы изыскать, а от толщины кошелька заказчика. Но каждый раз начальница фирмы натыкалась на погасший взгляд супруга и его неизменный вопрос: «А как же престиж фирмы?» Как молодая супруга, Лариса могла бы понять такую щепетильность, заимствованную у немецких порядочности и основательности. Допустить же их, будучи деловым хозяином предприятия, она не могла никак. Расстояние между молодыми людьми увеличивалось ежедневно. Потеря Кравцова, как партнёра по бизнесу, постепенно переформировалась для Ларисы в утрату близкого человека, с которым хотелось бы говорить на любые темы. Как оказалось, на любые-то как раз было и нельзя. Кравцов не выносил никакой фальши, касалась ли она подмены стройматералов, двойных платежек или фиктивных накладных для предоставления в налоговую инспекцию. – Избавь меня от всей этой грязи, – попросил Ларису Николай в первый же раз, когда она принялась обучать его способам ведения дел. – Как хочешь, – ласково улыбнулась молодая жена. Ей вполне хватало для подобных манипуляций Светланы Геннадиевны Киряковой, – Только ведь обанкротишься ты так, Коля, – предупредила Лариса. – Обанкротишься ты. А я буду при тебе, – уточнил Николай сухо. Он и не думал становиться совладельцем фирмы. Даже в первые месяцы жизни, когда всё шло нормально, Николай строил планы завести своё дело. Зависеть от жены пожизненно он не собирался. Лариса, похоже, понимала это, но, неспособная что-либо изменить, бесилась, ударяясь по-тихому в пьянство. Она с трудом признавалась себе в правоте отца, предупреждавшего когда-то о непокорности деревенского избранника. Фёдоровой всё чаще казалось, что Кравцов только пользуется её предрасположенностью, что она нужна Николаю временно: с целью как можно скорее встать на ноги, а затем снова уйти из-под контроля. Но вместо того, чтобы хоть как-то пытаться удержать мужа при себе, Лариса делала всё для того, чтобы он удалялся от неё всё больше и больше. Желание Кравцова помочь Анне перебраться в Москву стало для Ларисы крушением последних надежд на возможное семейное счастье. То, чего Николай не смог бы достичь сам, Анна помогла бы ему сделать обязательно; у Керман стойкости характера всегда хватало на двоих. От осознания превосходства противницы, Фёдоровой становилось муторно. Хватаясь за спиртное, она надеялась избавиться от постоянных навязчивых мыслей о том, что её предали. Облегчение оказывалось несостоятельным, никак не оправдывая поведение. Безвольное самоспаивание постепенно переформировывалось в голове Ларисы в ярко выраженную ненависть к Анне. Приступы тяжкого опохмела сопровождались в голове Фёдоровой изобилием самых чудовищных проклятий в адрес подруги. В такие моменты неконтролируемая ненависть порождала агрессию, которая избирательно предлагала экстремальные способы устранения соперницы со своего пути. Ужасаясь тем зверствам, которые хотелось применить к бывшей подруге, Лариса, тем не менее, раз за разом изобретательно продолжала выдумывать возможности свершения 119 задуманного. Смерть Анны под колёсами нанятой машины или от руки наёмного убийцы являлась в этих злохитрых сплетениях самой невинной. Однажды, глядя в такой момент на себя в зеркало, Фёдорова поразилась неестественному блеску глаз. Лицо пылало местью, глаза сумасшедше сверкали, ноздри раздувались от переполнявшей негативной энергии, вырывающейся с шумным сопением. «Я похожа на разъярённого быка,- оценила себя Лариса и ей даже показалось, что она видит за головой двурогий орёол. Вглядевшись в серебро зеркала, женщина вскрикнула. То, что до этого позабавило её, теперь ужаснуло: собственный лик приобрёл чёткие очертания лукавого. Чёрные круги под глазами от размазанной несвежей туши, всклокоченные волосы, перекошенное от злобы лицо, и неестественно яркий блеск глаз делали Ларису похожей на дьяволицу,- Не хватает только хвоста и копытец»,- заключила она. Подобное прозрение стало страшным преследованием. На протяжении нескольких дней Лариса боялась смотреться в зеркало. Даже отражение в воде набранной ванной казалось злобной насмешкой чертовщины. Истерзанная мучительным страхом грехопадения, по истечении пятого дня Лариса бросилась в церковь исповедоваться. Поп, выслушав её внимательно, признал положение дел молодой женщины катастрофическим. По его словам душа Ларисы стояла на той последней грани, которая всё ещё держится за благодушие, но имеет на это все меньше и меньше сил. Состояние непочтенной христианки требовало срочного вмешательства церковного деятеля, причём вмешательства весьма обстоятельного, как по времени, так и по сумме запрошенной за свою «боготворительность». Перед выбором попасть в рай или гореть в Гиене огненной, Фёдорова, не думая, приняла условия попа. С того дня посещения церкви стали ежедневными. Во время сеансов «душевного очищения» представитель высших сил обильно окуривал Ларису всевозможными фимиамами из чадил, усердно обтирал её святой водой: собственноручно и в местах часто не всегда доступных глазу, и даже пытался обучить молодую забредшую душу церковным песнопениям. С псалмами у Ларисы дела шли неважно. Не взирая на толстенный сборник молитв, всученный новым душевным настоятелем за астрономически высокую, по рыночным соображениям, цену, дальше первого куплета «Отче наш» женщина ничего запомнить не могла. Сказывалось, наверное, впитанное с молоком матери материалистическое учение коммунистов. Да и индивидуальных внушений, производимых попом в интимной обстановке духовного воскрешения, хватало ненадолго. Возвращаясь из церкви, Лариса праведно огибала на своём пути все коммерческие точки, в которых был возможен риск искушения. Усилия хватало только для того, чтобы дойти из церкви до дома, внушая себе благость самоочищения, но ровно настолько, чтобы, проснувшись после обеденного сна, выйти на балкон, закурить и, почувствовав дикую жажду выпить, матернуться и, сломя голову, понестись в ближайший ларёк. Столица в ту пору не была обделена наличием прикупных забегаловок, разного сорта и значимости. В любое время дня и ночи сподобить в России водку или сигареты было гораздо проще, чем купить мягкий хлеб или свежее молоко. Ассортимент большинства алкогольных прилавков спокойно позволял расширять кругозор покупателя по дегустации как продукции отечественных производителей, так и зарубежных брагогонов. От сомнительных молдавских или грузинских вин – дешёвых, но часто проблемных при усвоении, до дорогих марочных сортов иностранных коньяков или виски, тоже, кстати, часто вызывающих при всасывании реакции обратного порядка, ряд промежуточных продуктов был в магазинах весьма внушительным. Задавшись целью выпить, российский покупатель мог позволить себе широкий выбор, не утруждая себя лимитировать имеющиеся сорта пива; этого уж натаскали отовсюду действительно в масштабах мирового 120 пивоварения, с привлечением как далёкого канадского, так и не менее близкого китайского или австралийского. Приобретя то не особо дорогое, но проверенно-эффективное, на что в этот раз хватало взятых наспех денег, Лариса накидывалась на купленное, как путник, пересёкший пустыню, бросается к фляге с водой – не дожидаясь, пока продавец отсчитает ей сдачу. А уж затем, утолив первую потребность, весело соловела и забирала пакет с остальным багажом, колличество которого было чётко установлено ею в сознании. Чаще всего оно определялось двумя бутылками вина и пятью-шестью баночками пива. Пиво шло для получения первого включения в кайф, а также для разговения кумара между вином. Оно же «догоняло» в конце, приводя Ларису в полную невменяемость. Глядя на неё, ни Кравцов, ни отец, ни, тем более, мать ничего сделать не могли. Теперь, думая об этой беспомощности, Николай надолго закусил губу и очнулся от грустных мыслей лишь тогда, когда машина Ивана остановился перед знакомым домом в Калинках. Глава шестнадцатая: Последние признания – Я знал, Аня, что её конец будет плачевным, – тихо прошептал Николай и обхватил голову руками. Разговор о Ларисе Кравцов впервые завёл только сейчас, хотя вот уже две недели, как бывшие осужденные приехали в свой дом. Анна, сидящая рядом на кровати, коротко потёрла его спину рукой и встала к окну. Снаружи мела метель. Сегодня ночью наступал новый, тысяча девятьсот девяносто девятый год. Всего месяц назад мечта вcтречать Новый год в Серебрянке призрачно брезжила перед каждым из них, сидящим на нарах тюрьмы. Но случилось чудо, и теперь, по прошествии этих четырёх тяжёлых недель, вместивших в себя событий на несколько месяцев, а может быть даже и лет, освобождённые узники не хотели вспоминать о прошлом. Все мысли дорогих друг другу людей были только от будущем, которое не имело больше права быть неудачным. И ещё от этого стало Николаю страшно от мысли о том, как примет правду жена. А ведь и действительно: пора было уже объясниться. – Что же ты молчишь, Коля? Ведь это не совсем то, что ты хотел мне сказать, правда? – спросила Анна через паузу, стоя у окна и глядя на вьюгу. Как ей хотелось, чтобы вместе с этой ветряной пургой вымелись из их душ все негативные мысли, все тяготящие недопризнания. Поймёт ли это Николай? Анна медлила. Мужчина молчал, коротко облизывая пересохшие губы. Кравцову тяжело было решиться на признание, которое, могло, если не оттолкнуть Анну, то наверняка напугать. От вопроса он вздрогнул и тяжело поднял голову. Анна обернулась: – Расскажи мне, как тогда всё было на самом деле. Кравцов медленно встал и подошёл к любимой женщине. Он понял, что момент для исповеди настал. Жить дальше и носить в себе тяжесть недоговоров он больше не мог. Без освобождения от бремени, никаких надежд на счастливое будущее у Николая не было. – Задёрни штору, – попросил Кравцов и заговорил только тогда, когда Анна выполнила его просьбу, принесла свечу и зажгла её. 121 Двадцать второго января тысяча девятьсот девяносто седьмого года, когда Кравцов шёл домой после проведённого с Анной вечера, на душе у него было тягостно, как никогда. Встреча с бывшей женой всколыхнула до той степени, после которой никакие отношения с другими не могут уже считаться возможными. Все, что было нужно для жизни, вмещалось только в одно слово – «Анна». Как сказать про это Ларисе, как объяснить всю ошибочность убеждений, заставивших жениться на ней, Кравцов не знал. Одно только было бесспорным: продолжать жить с Ларисой он дальше не мог. Дело было даже не в физической неприязни; её можно постараться маскировать. А вот как было спрятать то моральное отторжение, что пошло по нему? Любое слово, любая просьба Ларисы, обычное присутствие рядом и даже голос издалека по телефону вызывали у Николая отвращение. При виде жены хотелось поскорее уйти подальше, чтобы она не могла проникнуть в него пытливым взглядом, нелепым вопросом, неудачной шуткой. Запирая себя на замок, Николай сжимал не только мысли, но даже мышцы. Оставаясь замкнутым какое-то время, он чувствовал после этого, как ломит голову, клинит шею у основания черепа, корёжит всего пополам, словно от страшной боли. Боли не было. Не было и заболевания. Но вместе с тем Кравцов был безнадёжно поражён сложным недугом – недугом тягостной непереносимости одного человека, отягощённым скрытым чувством любви к другому. Промедление шло не на пользу. Кравцов это понимал. Но что делать – не знал. Открыться Ларисе? Это могло повлечь для Анны определённые осложнения. И хотя сегодня вечером бывшая жена в разговоре почему-то сказала, чтобы он не боялся за неё, не считал себя должным перед Ларисой, Николай всё-равно боялся и считал себя Ларисе должным. Скаредность соображений вводила Кравцова в уныние. Мысли были сумбурными, а принятое решение о последующих действиях незаконченным, когда Кравцов переступил в тот вечер порог дома. И стоило только увидеть Ларису, как всё картинно закрутилось перед глазами бешенным смерчем. Далее действие произошло настолько быстро, что Николай не успел ничего толком понять. А проснувшись на следующее утро, несколько раз задал себе вопрос с ним ли это было, прежде чем встать с кровати и убедиться в положительном ответе. Не дожидаясь, пока муж разденется, Лариса набросилась на него с упрёками и обвинениями. Обильно скреплённая матом и всевозможными обидными словами, её несвязная речь в сути своей укоряла в позднем возвращении. Такая агрессивность была присуща Фёдоровой при финальной стадии опьянения. Не отвечая на грубости, Кравцов прошёл и огляделся. Общий беспорядок и обилие пустой тары из-под спиртного на балконе подтвердили его догадки. «Только не отвечать на провокации», – решил Кравцов. Заранее отказываясь потворствовать заносчивости возбуждённой жены, он постарался представить вокруг себя стеклянный колпак, который хоть как-то мог бы оградить его от обрушившихся отрицательных флюидов. Николая знал, что стоит только ответить хотя бы на одну из нападок, как Лариса найдёт к чему прицепиться, и тогда её монолог рискует превратиться в обоюдную распрю, а следом и в ссору. Опускаться до ругани в данный момент не хотелось. После идиллического вечера с Анной, при котором тонкость понимания доходила до степени эйфории, мужчине казалось противным опускаться до мелочной перебранки с бабой, обезображенной пьянкой и ревностью. Это было бы несообразным завершением решения о разводе, частично уже созревшем в Николае. В полном молчании мужчина переоделся в домашний халат и пошёл в ванную. Лариса преследовала повсюду, не давая продыху оскорблениями. Понимая, что находится на грани срыва, Кравцов заперся в ванной. Непредвиденные обстоятельства по возвращении, требовали сменить тактику действий. Почти готовый 122 до этого признаться в том, что уходит к другой, теперь он решил отложить разговор на завтра. Зайдя в ванную, Кравцов на какое-то время отключился, не обращая внимания ни на колотьбу в дверь, ни на угрозы сорвать замок. Освежившись, он помедлил выходить, решая как ему поступить: идти сразу спать или всё-таки попытаться поесть, не взирая на докучливую жену. Голод был настолько сосущим, что Николай выбрал второе. Он тихо вышел из комнаты и направился в кухню. В квартире было странно тихо. Лариса спокойно курила, поджидая мужа на кухне. На стол были выставлены холодные закуски, запарен в глубокой пиале пакетный суп и сервировано на двоих. Не допытываясь, что явилось причиной смирения, Николай сел и принялся есть. Всё по той же причине нежелания оказывать видимую оппозицию, не стал он отказываться и от предложенного вина. Хотя пить мужчине совсем не хотелось, в данной ситуации уступить просьбе Ларисы было гораздо разумнее. Кравцов спокойно подождал, пока Лариса умело справится с открывалкой для бутылок, затем, на правах мужчины, налил в бокалы по половине. Разочарованно глядя на растрёпанный вид жены, Николай согласно чокнулся, выслушав пожелание о процветании. Постепенно они завели разговор. Сначала рваный, о прошедшем дне, в котором заботы у каждого были разные. Затем, благодаря самообладанию Николая, диалог стал более спокойным. Лариса уступила место солиста, превратившись в слушателя. Речь шла о работе. Ужин подходил к концу, и Кравцов уже успокоился, подумав, что вот сейчас он откланяется, поблагодарит Ларису за компанию и ляжет спать. Как вдруг, она принялась рассказывать ему о сегодняшней встрече с Анной. Это известие насторожило. Во-первых от того, что сама Анна не обмолвилась Николаю про встречу ни словом. Во-вторых, потому, что тот тон, с каким Лариса описывала поведение бывшей подруги в гостях, не предвещал ничего хорошего для последней. Кое-как стерпев бездушное описание гардероба и внешнего вида Анны, вызвавших у Фёдоровой бурю сарказма, Кравцов поднялся, чтобы уйти. Его действие ознаменовалось новой вспышкой желчности. Лариса принялась рассказывать про то, как когда-то она с Анной заключила договор. Это парализовало Кравцова. Слушая, он не мог поверить. Его «передали» с рук на руки, как беспомощного и безнадёжного? Возможно ли такое? И почему? Что за история с болезнью Анны? Да, она что-то там говорила ему про головные боли, головокружения, ходила к врачам, обследовалась. Но ничего серьёзного у неё не выявили. А может?.. С опозданием Кравцов понял, что Анна, видимо, знала про свои проблемы чтото такое, что не хотела говорить. Точно так же поступила когда-то мать Николая: долгое время не признавалась домашним в недуге. И Анна, помня это и опасаясь, что у неё может быть нечто подобное, решила заранее избавить своего мужа от мук ещё одной утраты в случае, если подозрения подтвердятся. Так, значит, она его жалела? И боялась за него? Не за себя, а за него! Именно поэтому и согласилась, чтобы он уехал в Москву. Знала, что там он наверняка встретится с Ларисой, и согласилась? Хотя, какой же он беспробудный идиот! Ведь Лариса только что сказала, что их встреча в Москве была чётко спланирована. А он-то ни сном, ни духом... Считал, что всё это случайно! «Аня, Аня как ты так могла? Зачем бросила меня в руки этой безумной алкоголички? Разве ты не знала, что любит она не меня, а только тот факт, что я у неё есть?» – Кравцов смотрел взглядом, полным ненависти. Рассказывая, Лариса говорила всё так же грубо, словно специально подбирая фразы, способные ударить по самолюбию, вызвать неприязнь. Николай уже не помнил точно при каких именно словах он не смог более сдерживаться и вместо того, чтобы покорно глотать оскорбления, лившиеся в адрес 123 Анны, принялся защищать её. Но как только он сорвался, обида, накопленная за последнее время, полилась рекой. Не подбирая более выражений и не стараясь быть любезным, Кравцов высказал Ларисе всё, что думает, за что её принимает и как намеревается поступить дальше. Он категорически запретил Ларисе дурно отзываться в его присутствии об Анне, заявляя, что настоящая жена не стоит даже мизинца бывшей. Его речь, а вернее та безбоязненная прямолинейность, с какой он говорил, были для Ларисы в новинку. Никогда ранее Фёдорова не имела столь обширного доступа к мыслям мужа, как во время этого объяснения. Никогда прежде Николая не заявлял с подобной убеждённостью о том, насколько сильны в нём чувства к Анне. И никогда до этого она не понимала насколько всё, что Кравцов говорит – серьёзно. Подобное самообличение мужчины, которого Лариса считала понятым, но, как оказалось, не знала ни на толику, повергло её. Перед чудовищным лицедейством, какое играл с ней Кравцов на протяжении всех этих месяцев, Лариса обомлела. Давая мужу выговориться, она молчала, и, лишь когда он закончил, оттолкнув её от себя воздушной волной от взмаха руки, Фёдорова тупо проследовала за ним. Николай пошёл за снотворным и выпил его. Потом, когда он разделся и лёг, намереваясь оставить её один на один переживать услышанное, Фёдорова подошла и села рядом. Скрестив руки на коленях, она была в этот миг не просто потерянной, она была побеждённой. Голос, севший от эмоций, прозвучал полушёпотом: – А что же мне-то теперь делать после этого, Коля? – Лариса покорно ожидала. Она думала, что муж ответит что-то похожее на «не знаю» или «решай сама». И уже подыскивала в голове фразы, чтобы пробудить в нём, соответственно, либо жалость, либо твёрдую уверенность, что не станет страдать. Но он, не поворачиваясь, сказал то, что не вмещалось ни в какие соображения пьяной женщины: – Лучше всего тебе теперь, Лариса, умереть. – Как это «умереть»? – То, что Фёдорова так спокойно разыгрывала незадолго перед отцом, то, что она кощунственно описывала в письме подруге Светлане Родиной, отосланном сегодня днём в Магадан, то, что сумбурно приходило на ум во время тяжкого опохмела, было сказано Кравцовым с такими прямотой и спокойствием, что отрезвило. – Как это «умереть»? – Похоже, Лариса не могла поверить в столь зловещее совпадение сразу нескольких случайностей. – Как? Просто. Чтобы не мучиться самой и не мучить других. – Голос Кравцова был убийственно безразличным, таким, словно он говорил о чём-то совсем незначительном. Лариса, всё ещё отказываясь верить, растерянно пробормотала: – Я не знаю, как сделать так, чтобы избавить вас всех от меня. Я уже думала про это. Но не знаю как... Женщина всё ещё надеялась на жалость. Если бы в этот момент Николай находился в состоянии здравого рассудка, он, конечно же, раскаялся бы в жестокости, признал свою вину, попросил у жены прощение и попытаться бы вывести её из транса, в какой Лариса впала после его слов. Но в том-то и дело, что в тот миг Кравцов уже подпал под воздействие принятого им снотворного. Тело его стал обволакивать тяжёлый дрём, окутывавший с ног до головы, и придававший мыслям приятную тягучесть. Вот почему, не придавая значения своим словам, а, вернее, попросту не в состоянии их полностью контролировать, Кравцов произнёс следующую крамольную фразу: – Лариса, прекрати со мной играть. Если ты действительно хочешь избавить всех от себя – выпей побольше «Барбамила». – «Барбамила»? – Моего снотворного. У меня его как раз в пачке осталось столько, чтобы ты заснула навсегда. – Значит, ты хочешь, чтобы я умерла? – Понимая, что муж далёк от шуток, Лариса 124 предприняла последнюю попытку пробудить раскаяние. – Разве ты хоть раз сделала то, что действительно хочу я? – убил он её ответом наповал. Повернувшись, наконец, к жене, Николай поглядел с презрением. Ничтожность в его взгляде была нетерпимой. Укрываясь от неё, несчастная, в этот миг, женщина поднялась и, натыкаясь на мебель в комнате, подошла к дипломату. Молча она раскрыла его ключом, вытащенным из кармана пиджака Николая. Также молча достала из дипломата пачку со снотворным, высыпала на руку пять белых крошечных таблеток и протянула их к лицу мужа. Кравцов лежал с закрытыми глазами. Смесь алкогольного дурмана, разбавленная горечью осознания собственной ненужности человеку, которого она всё-таки любила, сделали Фёдорову безразличной ко всему. Лариса коснулась пальцами лица Кравцова. Он последним усилием приоткрыл глаза. – Я ненавижу тебя, Кравцов, – произнесла Лариса, покачиваясь сейчас не столько от выпитого, сколько от навалившейся обречённости, – И шлюху твою ненавижу тоже. Будьте вы прокляты! – проговорила женщина медленно собственному отражению в окне. Тупо глянув на таблетки, Кравцов потянулся к ним, но Лариса убрала руку. – Не забудь закрыть дипломат и положить ключ обратно в карман пиджака, – последнее, что сказал Николай, прежде чем погрузиться в сон. – Безусловно, – горько усмехнулась Лариса, выполняя то, о чём он просил. Затем, понимая, что муж больше не обращает на неё никакого внимания, вышла на кухню.Там она взяла на столе начатую бутылку, бросила туда три таблетки и тщательно взболтала вино. Лариса долго смотрела на напиток, пытаясь увидеть, как растворяется снотворное. Но ни ожидаемых газиков, ни самих таблеток больше не видела. Только возмущённая гладь поверхности неспокойно кружилась. Пошатываясь, женщина взяла бутылку, бокал и пошла с ними в зал. Она села на кушетку, неуверенно налила себе почти полный бокал, размешала пальцем вино, вытерла руку о прихваченное с кухни полотенце и, не ощущая вкуса, залпом выпила напиток. В другое руке она продолжала держать оставшиеся две таблетки. Они неприятно давили кожу при сжатии. Лариса разомкнула ладонь, медленно пересчитала лекарство, ласково погладив каждую из таблеток. Она снова потянулась к бутылке, наполнила бокал наполовину, а две таблетки осторожно опустила в остаток вина в бутылке. Проделанное сопровождалось шумами в голове и странным видением, при котором женщина видела себя со стороны. Такое с Фёдоровой уже случалось. Нередко, оставаясь одна, она могла разговаривать вслух сама с собой и с тем, кого представляла. Вот и теперь она проговаривала действия вслух и вполголоса. Лицо было скорбным, как того требовал образ человека, решившего покончить с собой. Медленно, всё-таки осознавая опасность, Лариса взяла бокал и, боясь расплескать напиток на ходу, пошла снова в спальню. Там, обойдя кровать, она подошла к спящему Кравцову, подсунула ему вино под нос, объявляя, что собирается совершить фатальный акт. Убедившись, что муж не реагирует, тут же обидчиво сделала из бокала пару глотков, надеясь, что Кравцов откроет глаза и остановит её. Но, не дождавшись от спящего ни жалости, ни сострадания, испугалась: всё-таки Рябов был прав, рассуждая ещё в первый день суда про инстинкт самосохранения, и, не зная что теперь делать дальше, снова сунула вино Николаю под нос. Но в очередной раз убедившись, что муж не двигается, встала с кровати и грустная побрела в зал. Пить больше не хотелось. Тело Ларисы с каждой минутой становилось неуправляемым, неловким, чужим. Машинально женщина отпила из бокала ещё пару глотков, затем, понимая, что теряет контроль над собой, поставила бокал с недопитым вином на столик рядом с бутылкой, пошла в третью комнату, легла на кушетку, аккуратно сложила руки на 125 груди и погрузилась в смертельный сон. Уходя, она не думала более о ком-то ни хорошо, ни плохо и не желала никому ничего дурного. Фёдорова просто заснула: мирно, без всяких проблем, избавляя мир от себя, как её об этом так настойчиво просил Кравцов. Необъяснимым осталось только одно: почему несколькими часами ранее она написала и оставила здесь же, на журнальном столике у телефона последнюю записку. Ту, в которой разоблачала мужа, обвиняя его в измене с Анной Керман. Как было при этом не верить всем, оставшимся в живых, в дьявольщину!? – Вот и всё, – тяжело закончил Кравцов свой рассказ, сильно закусывая ус с одной стороны, – Остальное, Аня, ты знаешь. Анна, слушавшая признания почти не дыша, отряхнулась. Она знала, что тяжесть, которую Николай только что вылил наружу, теперь ляжет грузом и на неё. – Как ты понимаешь, я убил её, – твёрдо проговорил мужчина, не ожидая сочувствия. Анна, еле дыша от волнения, согласно качнула головой: – Понимаю, – она встала, несколько раз медленно прошлась по спальне взад-вперёд, собираясь с духом, а затем, остановившись совсем близко от Николая, произнесла ещё тише, чем он. – Мы оба убили её, Коля. Кравцов, не придавая словам должного значения, хмыкнул. Разве что-то значили для него в этот миг подобные соболезнования? Разве могли они успокоить растревоженную совесть? Полное осознание причастности к смерти Ларисы, причастности не косвенной, как было определено судом, а самой что ни на есть прямой, в чём обвинял его Соев, полосовало сердце самобичеванием по живому, – Тыто тут, Аня, ни при чём? – коротко усмехнулся он, пытаясь дать понять, что всё же ценит участие жены. – Ещё как «при чём», Коля. И даже больше, чем ты это предполагаешь. Анна вышла из комнаты на короткий миг, предоставив Николаю гадать о сказанном. Когда она вернулась, в её руке была какая-то открытка. Она протянула её: – Вот. Николай в полной растерянности взял открытку. Перед ним была обычная почтовая карточка с видами живописного курорта. Сверху фотографию помечала надпись на немецком Baden-Baden. Не понимая связи со сказанным, Николай взглянул на Анну. – Переверни. Кравцов перевернул карточку. Размашистым, незнакомым ему почерком, кто-то писал Анне на русском. Незамысловатый текст сообщал о том, как бурно проводит писавший время не курорте, любуясь красотами в приятном обществе. Так ничего и не понимая, мужчина опять поднял голову. – Это открытка от маленькой Дины. Помнишь нашу соседку по Фрайбургу? – спросила Анна. Кравцов кивнул. Когда они жили в Германии, жена познакомилась однажды с одинокой женщиной из Киева, воспитывавшей троих детей. Дети были от разных мужей, что не только не удручало бывшую соотечественницу, но, наоборот, радовало: каждый из отцов платил оставленному чаду алименты, строго взыскиваемые немецкими властями. Благодаря этому, Дина растила детей, жила сама и пыталась, как могла, устроить очередной брак, имея сразу несколько претендентов. Кравцов соседку никогда не любил и считал приспособленкой. То, что Анне написала именно эта женщина, окончательно сбило с толку. Николай ушёл в жену глубинным взглядом: – Аня, объясни мне всё, не терзая. – Всё очень просто, Коля: я никогда не была в Баден-Бадене. На губах Кравцова застыло восклицание. Несколько секунд Николай лихорадочно обшаривал лицо Анны, пытаясь найти в нём малейший подвох, и, не найдя, сжал челюсти и простонал: – Зачем же тогда ты это сделала? 126 В памяти Кравцова всплыл их телефонный разговор осени девяносто шестого года. Тогда он подумал, что Анна изменяет ему с кем-то в Баден-Бадене и распрощался холодно, почти резко. Кинув трубку, он убедил себя, что теперь-то уже точно между ними всё закончилось. «Пора, видать, и мне подумать о собственном благоустройстве», – решил Николай и в тот же вечер пригласил на ужин Ларису, ангажируя новые отношения между ними. – Что ты наделала, Аня? Что ты наделала? – закричал Николай теперь, –Зачем? Разве стал бы я жениться на ней, если бы ты хоть словом, хоть полу-вздохом дала бы тогда мне понять, что по-прежнему любишь и ждёшь меня! – Именно поэтому я и солгала. Ведь скажи я, что всегда любила тебя и только тебя, ты ведь бросил бы тогда в России всё. Медленно отводя взгляд с окна, куда он смотрел, как в бездну, Кравцов еле заметно кивнул. – Вот видишь, – грустно улыбнулась Анна сквозь слёзы, – И всё началось бы сначала: и твои мытарства, и мои упрёки совести. А ты тогда так радовался своей новой жизни в Москве! Николай удивлённо повернулся: – Откуда ты это знаешь? – Я ведь Надежде постоянно звонила. Спрашивала как у тебя дела. Сердце за тебя разрывалось. Но когда она говорила, что тебе нравится работа и ты счастлив, я понимала, что не имею права на эгоизм. Ты был в Германии несчастен. Больше всего я хотела, чтобы ты нашёл себя. – А твоя болезнь? Анна широко раскрыла глаза: – Тебе про это сказала Лариса? Кравцов кивнул. – С этим, Коля, живут, – ответила Анна, не мудрствуя. – Так, значит, ты действительно никогда никого кроме меня больше не любила? – переспросил Николай, притягивая Анну к себе. Она забилась в его руках плачем. Кравцов принялся гладить её по спине и плечам. – И никакого другого мужчины после меня у тебя не было? – даже в такой ситуации Кравцову было важно знать всё, чтобы успокоить своё мужской самолюбие. Анна замотала головой. – Аня, милая моя, любимая, единственная, драгоценная... Прости меня! Как же я мог сомневаться в тебе? Как мог жениться на Ларисе? Как допустил, что она... Что мы... В голосе вновь заскулила тревога. Анна освободилась от объятий и, встав с кровати, утёрла лицо. Николай сидел при свете горящих свеч, с прежней маской мученика. Анне стало его снова нетерпимо жалко: – Не надо, Коля, заново всё тормошить. Суд оправдал тебя. Мне ты рассказал как всё было. Грехи, какие есть, мы оба будем замаливать всю жизнь. Я люблю тебя и верю тебе. Значит, всё будет хорошо. Пошли поедим что-нибудь? Скоро Новый год. Анна направилась из комнаты, как вдруг её пронзила мысль, остановившая на пороге. Повернувшись к Николаю, женщина раздумывала мгновение говорить или нет и по его пытливому взгляду поняла, что он ждёт: – Коля, а как же объяснить то, что при повторном обыске милиция нашла ещё одну таблетку снотворного? – Анна пыталась поставить последнюю точку в объяснениях. Кравцов, словно готовый к вопросу, развёл руками: – Не знаю, Аня. Просто не знаю.., – мужчина посмотрел в глаза самой дорогой ему женщины. В его взгляде промелькнул испуг, – Ты мне не веришь? Сколько раз за прошедшее время Кравцов доказывал всем: следователям, адвокатам, 127 судьям, родным ту правду, что только что рассказал Анне! И сколько раз убеждался в том, что ему если и верили, то частично. Оттого теперь, объясняясь с ней, с которой предстояло после этого жить всю оставшуюся жизнь, Николай действительно испугался. Он не смог бы переживать неверие снова и снова, просыпаться каждое утро и сомневаться в том, что Анна подозревает его в чём-то. Но она, опять же всё поняв, поспешно выдохнула: – Верю, Коля, верю. После подобного признания, вряд ли бы Николай стал утаивать от неё ещё какие-то детали. Керман предпочла отставить историю с дополнительной уликой обвинения в сторону, снести её на странную случайность, сыгравшую неблаговидную роль в процессе. Разве только что оставалось предположить, что таблетка, найденная между подушками дивана в зале у Фёдоровой, была специально подстроенным фактом, чтобы сделать обвинение подозреваемого Кравцова очевидным? Анна устала гадать. Для неё не было ничего ближе, роднее и нужнее вот этого сидящего рядом человека. Побитого жизнью, униженного обвинениями, незаслуженно наказанного правосудием, сильного и решительного тогда, жалкого и слабого сейчас. Не желая больше копаться в прошлом, Анна вернулась к кровати, протянула руки и обняла Николая за плечи. Он облегчённо выдохнул, уткнулся ей в живот и так замер, покорно принимая её ласковые прикосновения. Перед глазами побежали те необыкновенно счастливые дни, что прожили они с Анной в течение последних двух недель. Глава восемнадцатая: А дальше нужно просто жить Анна и Николай обвенчались в деревенской церкви сразу же по возвращении в родительский дом. На скором венчании настоял Кравцов. Договор с попом, даже несмотря на близкое Рождество, вышел моментальным; чему способствовала капитализация духовного служителя. В присутствии Надежды и Ивана Анна и Николай одели друг на друга свои старые обручальные кольца, предварительно омыв в чане от всякого рода порчи. Несмотря на развод, кольца оба хранили бережно. А, убедившись в этом накануне, растрогались до слёз, поклялись никогда больше не разлучаться. Сцена со стороны была душещипательной. Благо, зрителей не оказалось. – Вам теперь любые несчастья нипочём, – заверила Анну после венчания Верка Латыпова. Их с Фёдором, также как и Мишку Зуева, пригласили на скромный ужин, по поводу окончания мытарства двух близких душ, – Я, Анка, прекрасно знаю, что такое любовные мучения, – продолжила Верка наставления, тут же перешедшие в исповедания, – Я кода без Фёдора жила, такого лиха натерпелась, не передать! Зато потом и любовь слаще будет. Вот увидишь, как заладится у вас теперь. Может, бог даст, и детишек народите. Без них ведь никак нельзя, правда? Анна в ответ Верке кивала. Предсказания вгоняли в трепет и слезили глаза. Обнявшись с Веркой, Анна почти переставала дышать: детей ей хотелось больше всего. И лада в семье хотелось. Отчего Анна доверительно затихала у Верки на плече. Латыпова не кривила душой. После того, как они заново сошлись с Фёдором в начале девяносто четвёртого года, Верка превратилась в невзрачную подданную своего господина и покровителя, каким стал в её глазах собственный муж. Последние годы окончательно стёрли с Верки девичью привлекательность, превратив в сухую востроносую бабцу с жидким хвостиком волос. Фёдор же раздобрел, заматерел и стал видным мужиком, принося теперь жене немало ревнивых хлопот. Мужа Верка 128 почитала, но любить перестала вовсе. К семейной жизни относилась покорно, выполняя свои женские обязанности, но не находя в них малейшей былой радости. Единственным источником удовлетворения для угомонённой Верки были только успехи детей, да неизменное покровительство мужа. Простив жену за прошлое, Фёдор ни разу не упрекнул за содеянные грехи. И, хотя держался с ней теперь по-хозяйски строго, но любить не переставал. В редкие минуты особого расположения из его глаз струилась нежность первых годов совместной жизни. Детьми Латыпов гордился тоже не менее. Танька, задрыга и шаболда, какою была пацанкой, как заневестилась, так и утихомирилась. Свадьба её с Егором висела у всех на языках. Ждали только пока Танька окончит двухгодичную учёбу секретаря-рефферента, куда она поступила заочно без отрыва от работы в Газпроме России. Сын Латыповых, Артём, на удивление всем оказался крайне способным к иностранным языкам. Ещё в школе он, по совету учительницы по немецкому, записался в Калугу на подготовительные курсы по подготовке к поступлению в местную Академию. Там теперь и учился на первом курсе. За компанию с ним поступал и извечный приятель – Максим Белородько. Но ему зубрение ломаных претеритов явилось сущим наказанием. Провалив экзамены в Академию, на будущий год Максим чётко решил отказаться от мысли стать, как друг, синхронным переводчиком, а планировал податься в бухгалтера. – А то кто моей Катьке будет семейный дебит с кредитом сводить, кода она за тебя замуж выйдет, хлыща картавого? – надсмехался Максим над Артёмом. Последний решил явно последовать примеру сестры и, женившись на Катюшке Белородько после свадьбы Егора и Таньки, возвести бывшие дружеские отношения родичей в неразбиваемый квадрат. Сочная фигурой в мать, и шустрая умом в отца, Екатерина, как она наказала звать себя всем, нравилась в деревне многим ребятам. Больше всех на неё имел виды Денис Зуев. Но шансов понравиться девушке у него не было. Дело было даже не в противной рыжине, коренастости и прыщавости, щедро унаследованных Денисом от дядьки Михаила. Мало ли по деревням ходило мужиков с такой внешностью, и даже ещё похлеще. Все они, благодаря деревенской закалке, выглядели более-менее прилично лет до тридцати. Едва же перевалив этот возраст, парни резко осаждались, грузнели, вываливались наружу сальными складками животов, боков и двойных подбородков, коряжились из рубах толстыми шеями, топорщились на люд выпученными самогонно-пивными краснюками глаз, слюнявились затёртыми лысинами или кучерявились слипшимися остатками волос. Денис Зуев исключение из правил не составлял. Но физическая неприязнь являла в нём лишь побочную причину того отвращения, что вызывал он у многих. Главной доминантой для брезгливости был всё же стервозный характер, в котором заносчивость слов вполне конкурировала с развязностью манер. Даже несмотря на несметные, по местным меркам, богатства, Екатерина, при встрече с Денисом, отшивала любые намёки и пряталась за среднего брата и его дюже умного приятеля. – Я, Артём от твоих « ви хайс ду» балдею больше, чем от денисовых заманов, – объясняла девушка ревнивому другу детства. – Погоди, Катька, поживёшь ты ещё со мной по райским уголкам, –счастливо обещал подружке полиглот, окрылённый ясной простотой девичьих глаз. – Не перестанешь звать меня «катькой», и не мечтай про такое, – требовала Катюха. А Артём широко и ласково улыбался: – Мне ведь можно. Я – свой. – В пацанячьих понятиях «катька» было самым нежным и доверительным, что не позволялось более никому. Думая про детей, Анна ушла в себя. Она прекрасно понимала, что временить с потомством не стоит. Года шли. По российским меркам женщину, не родившую до двадцати пяти лет звали в акушерско-гинекологических аналах «пожилой 129 первородящей». Анна, в свои тридцать три, уже давно перевалила этот рубеж, рискуя перейти в категорию «старых рожениц». Старение женщина чувствовала реально. С недавнего времени она стала замечать у себя то первые морщинки в уголках рта, то мешки под глазами при пробуждении, то уловимый запах собственного пота. Не говоря уже о появившихся ломоте в пояснице, головных болях, непонятных приступах раздражительности. « Разваливаюсь на глазах», – признавалась себе Анна. Невыполненная роль продолжательницы рода тяготила. Раньше женщина не задавалась целью родить. Теперь же любой акт любви сопровождался пожеланиями о возможном зачатии. Долгое отсутствие близости, вызванное сначала отъездом Николая из Германии, затем тюремным заключением, прорывалось в Анне и Николае постоянной потребностью интимного общения. Найдя друг друга, они никак не могли насытиться ласками и постоянно искали уединения. – Коля, может чуть-чуть передохнём? – просила Анна на исходе каждой ночи. – Давай, – соглашался Кравцов, изнурённый любовными усладами. Он покорно прижимал к себе тёплые ягодицы Анны, отвернувшейся для сна и гнездившейся в изгибах его тела по привычке, – Я тебя всего лишь обниму, – невинно обещал мужчина, принимаясь сначала только гладить любимое тело. Но уже через пару минут нажим его руки, огибая все перепады женских форм, носил менее «невинный» характер. А ещё через время притворно вздыхал, – Вот видишь, он никак не может лежать спокойно. Зная, о чём идёт речь, Анна, не оборачиваясь, находила рукой под одеялом то, что требовалось усмирить, и принималась тихо поглаживать. И чем больше она пыталась укротить «непоседу», тем сильнее и увереннее он проявлял нетерпение, взметаясь в воздух и тыкаясь. – Безобразник! – шептала Анна, поворачиваясь к забияке с закрытыми глазами, – Никакого с тобой покоя.Чего тебе снова нужно? – Ничего. Только впусти меня, я там сразу засну в тепле. Ты же знаешь... – В том-то и дело. Анна усмехалась: ей хорошо была известна абсолютная противоположность последующих действий просителя. В очередной раз надеясь, что предыдущие усилия скажутся на боеспособности «ваньки-встаньки», она наивно раскрывалась навстречу. И только уже по истечении очередного акта любви, выключавшего их обоих из всех пространственно-временных определений, устало спрашивала, – Ну, теперь, я надеюсь, всё? Можно поспать? Уже петух скоро заголосит! – Всё! – Николай улыбался, отворачивался, свёртываясь в клубочек, пряча уязвимые места от тёплых жениных рук. Через несколько минут Кравцов уже мирно спал. А Анна, совсем счастливая и перевозбуждённая, засыпала рядом не сразу и всего на миг. По первому же крику петуха, купленного у соседа сразу по возвращении домой, хозяйка дома просыпалась, вставала и принималась хлопотать на кухне. А бывало так, что она не могла заснуть и вовсе. Лежала в брезжащих сумерках скорого рассвета и через спину рассматривала любимого мужа. Ни возраст, ни испытания не отразились на внешности Николая. К былой атлетичности добавились только крепость и уверенность действий. Широкие плечи, тонкий закаченный торс, изящные тонкие суставы, длинные пальцы восхищали сейчас женщину не меньше, чем когда-то. Особенно нравилось Анне прикоснуться к спине мужа, провести рукой по всей длине мышц, задержаться на высоких ягодицах, соскользнуть с них к внутреннему рельефу ног, где так легко было отделить на ощупь одну мышцу от другой, а потом постепенно спуститься к коленям, острым, словно отточенным скульптором. Эластичность кожи Николая и шелковистость его 130 умеренного волосяного покрова делали движения лёгкими, а та податливость, с какой он отвечал на любое прикосновение, придавали ласкам женщины особую чувствительность. Безусловно, они были созданы друг для друга. Анна знала это всегда, с того самого раза, когда Николай впервые поцеловал её в бане. Воспоминание о нём сводило женщину судорогой истомы всякий раз, и являлось одним из самых тяжёлых испытаний при разлуке. Но с другой стороны, именно эта тактильная память помогала Анне верить в новую встречу, ждать её и дождаться. Лёжа рядом с человеком, ради которого пошла бы сегодня в пекло ада, Анна гордилась им и любовалась. Хотя тут же безысходно корчилась от дурацких навязчивых идей о собственном угасании. Её белая кожа не казалась более достаточно тонкой, локоны волос, давно уже укороченные в каре и распрямлённые феном, беспокоили утерянным блеском, талия, некогда необыкновенно тонкая на фоне крутых бёдер и пышной груди, отвращала своей расплывчатостью. И хотя Анна понимала, что от времени никуда и никому не деться, и что остроту девичьего подбородка, придававшую лицу форму сердца, не вернуть, как не вернуть сочность грудей и упругость бёдер, всё-таки страдала. «Бабий век – короток». Анна вздыхала, ревниво созерцая словно не тронутого временем мужа. После освобождения Николай остриг волосы совсем коротко, сбрив бакенбарды, в которых просматривалась первая седина, укоротив чёлку и зачесав её, по привычке, набок-назад. Тёмные короткие волосы необыкновенно молодили Кравцова. На этом фоне теперь чётко выделялся крупный нос с небольшой дугой на переносице, просматриваемой только в профиль. Нос Николая Анна любила по-особому. Ей нравилось целовать его, легко посасывая заострённый кончик. Нравилось любоваться симметрично вырезанными длинными ноздрями воина-римлянина. Нравилось требушить пышные усы, ровно и плотно огибающие губу. В минуты сна всё это совершенство лежало перед Анной покойно, отчего являлось особо притягательным. Но, не желая будить Николая своими прикосновениями, Анна сдерживалась от очередного искушения погладить и продолжала просто смотреть на мужа, умиляясь его красотой до слёз. Близкие слёзы тоже казались Анне проявлением старения. Керман теперь часто замечала в себе особую сентиментальность. Сцены фильмов, где герои плакали, страдали, признавались друг другу в любви; мелодии, передающие душевные переживания; рассказы грустные или, наоборот, слишком смешные, эмоционально встряхивали женщину. Чувствуя подступающие слёзы, она прятала глаза, сморкалась, а то и вовсе выходила из комнаты. Когда-то Анна слышала от той же Надежды, что особая чувствительность присуща женщинам в период беременности. Искренне желая, чтобы душевное состояние объяснялось именно этим, она прислушивалась к каждому отзвуку организма, пытаясь понять его. Анна боялась пропустить самое начало того счастливого мига, что зовётся материнством. Ей необыкновенно хотелось знать на самой ранней стадии о том, что это уже случилось. Надумывая беременность, а не будучи пока уверенной в том, что она наступила, Анна от мыслей о муже переходила к разговорам со своим нутром, готовя его к вступлению в новую роль. То, что беременность будет рано или поздно, Анна была уверена. При всей любви, что она отдавала, при всём том жизненном опыте, что хотела передать будущему ребёнку, женщина никак не хотела остаться без потомства. Зачем-то ведь были в ней накоплены все эти чувства и знания? От постоянных недосыпаний синяки под глазами, пролегшие ещё в тюрьме, никак не сходили, а утраченные объёмы груди и бёдер не восстанавливались, несмотря ни на обильное питание, ни на более-менее покойный образ жизни. Вернувшись в деревню в самом разгаре холодов, Николай и Анна решили 131 перезимовать без поисков работы. Заверенный Иваном в том, что может приступить к работе на его фирме в любой момент, Кравцов работать не торопился. После Москвы у него были скоплены какие-то деньги, которых в деревне вполне хватило бы до весны. Особых вкладов в дом не предвиделось. С Анной они довольствовались минимумом, установленным по обоюдному согласию. Не экономя на питании, всё остальное откладывалось на потом. Каждый день молодые супруги посвящали друг другу, не желая тратить часы ни на что другое. Просыпаясь по утру, оба хорошо завтракали. Анна часто пекла по немецкому рецепту сдобные булочки, коричный запах которых поднимал с кровати и по-особому щекотал ноздри. Обнаружив жену на кухне в переднике с заколотыми за уши волосами, прихваченными для верности с двух сторон, он шлёпал по застывшему за ночь деревянному полу без тапок только затем, чтобы уткнуться ей в голову и постоять так, задыхаясь от близости. Женщина в этот миг непременно ворчала, отчитывая мужа за безрассудство и предрекая ему то простуженные почки, то, ещё круче, застуженную простату, но на самом деле тоже ждала каждое утро только этого. После подобного первого сближения Анна прощала Николаю далее всё: и нежелание идти принять душ, ограничившись чисткой зубов и обычным умыванием, и ленность одеть на себя хотя бы самую малость одежды, усаживаясь к столу. По требованиям Анны уже одни только трусы могли сменить её гнев на милость. По понятиям Николая именно они мешали ему окончательно почувствовать себя свободным человеком в собственном доме. – Похабник, – незло определяла Анна поведение мужа, замечая, как после первой чашки кофе с молоком и пары проглоченных румяных булочек с маслом и сыром, он опускал руки под стол и начинал елеить жену взглядом. – Всего лишь здоровый мужчина, – противоречил Кравцов, поёрзывая от нетерпения, – Иди же сюда! – и он старался ухватить Анну за халат в тот момент, когда она проходила рядом, прибирая со стола ненужное. – Шторы дай поплотнее закрыть. – Некогда! Пусть с ними! – суетился Николай, вовсю уже проникая в запахи ткани. – Так ведь с улицы всё видно, Коля, – всё-таки настойчиво увёртывалась Анна, торопливо шла к шторам, задвигала их поплотнее, а для верности гасила лампу над столом. Для того, чтобы любить, ей достаточно было отсветов горящих в камине поленьев. Огонь Анна раскладывала непременно к каждому завтраку. Ей нравилось смотреть, как он отражает движущиеся тени, передаёт все уловки, придумываемые Николаем при сближении. Было в этом что-то от первобытнообщинного. Нередко для утех муж опускал её на пол на широко раскинутую баранью шерсть, брошенную к ногам у стола: густую, колючую. Потом уже, приняв напару душ, счастливые супруги продолжали трапезу. Заново варился горячий кофе. Грелись в микроволновке остывшие булочки. На стол к маслу и сыру подавалось необыкновенно вкусное варенье, купленное в местном кооперативе. Николай особо любил черносмородиновое. Анне нравилось абрикосовое или малиновое. Завтрак мог длиться больше часа. Это было святое время, когда говорили о самом важном и нужном. Следом за этим, прогуливаясь, Кравцовы шли в кооператив, что-то подкупить из съестного. Вечером к ним каждый день обязательно кто-то приходил. Двери были открыты для всех. Прежде всего их регулярно навещала Надежда. Она не мыслила и дня, чтобы не увидеться. Обычно Надежда заезжала в Серебрянку в районе пяти часов, дождавшись из Калуги Максимку с Артёмом. Мальчишки ездили туда на рейсовом автобусе и, как правило, возвращались после четырёх. К этому времени Катюшка, учившаяся в поселковой школе в утреннюю смену, старалась закончить школьные уроки и тоже вместе с матерью выглядывала ребят из окна. Как только пацанва появлялась на 132 дворе, Надежда загоняла в машину всю троицу и везла к дядьке на поклон. В доме Кравцовых с приходом молодёжи становилось сразу жарко, шумно, весело. Надежда каждый раз непременно что-то прихватывала к столу из продаваемого в магазине. Николай ругал сестру за тяжеленные пакеты, похожие обилием красок на гуманитарную помощь. В них консервированный горошек гармонировал с компотом из личий, появлявшихся на российском рынке только в это время года. – Молчи! Куда мне этих «ёжиков» девать? – тыкала Надежда на банки с восточными плодами, – Я их бабам нашим и так уже рекламировала, и эдак – бестолку. Им слаще хрена с редькой никакого банану не надо. Каждый год Иван заказыват на базе деликатесы, и каждый раз потом мы всей семьёй пузо надрываем, поедая это безобразие. Так что ешьте! Хотя бы из чувства сострадания. – А с чем ты их, Надежда, советовала есть? – тут же с интересом вмешивалась Анна. – А зачем с чем? Рази их так не едят? Надежда округляла глаза. Её нос, так похожий формой на братнин, с такими же длинными резными ноздрями, начинал запотевать. – Можно – так. А ещё лучше – с ванильным мороженным, взбитыми сливками и листочками мяты. Коля, помнишь мы во Фрайбурге в китайском ресторане ели? – вспоминала Анна. Надежда при обрисовке меню оживлялась и ещё шибче утирала переносицу: – О! Так это уже совсем другой расклад! Мороженного у меня какого хошь – завались на складах. Сливки тут в каждой избе найдутся. С мятой, конечно, похуже. Но, если постараться, в Калуге у туркменов или узбеков можно найти. Говоришь вкусно? Кравцов кивал. – Надо попробовать, – решительно заключала Надежда, тут же записывая рецепт в записную книжку. Потом уже, лопая принесённый компот без всяких премудростей прямо из банки, советовала, – Я вот, Аннушка, чем больше на тебя смотрю, тем больше убеждаюся, что пора вам ресторан строить. Китайский. Николай на подобные предложения заходился смехом: – Надюха, здесь на всю Калужскую область если и найдётся по два с половиной китайца на каждые сто квадратных километров, то хорошо. Для кого ресторан нужен? – Отстал ты, погляжу, брательник, от жизни, – Надежда своих позиций просто так никогда не сдавала, – Во-первых, в китайский ресторан ходят не одни китайцы. А вовторых, китайцев в Калуге на последний год стало больше, чем было комсомольцев в годы первых послевоенных пятилеток. К нам на базу один мужик приезжает затовариваться, у него в Калуге русский ресторан. Так вот кто ты думаешь ему там пельмени лепит? Они, горемычные, китайцы. Да ещё как лепят – один в один, глаз не оторвать! Так что, китайский ресторан –это дело. – Нам бы в этом ещё бы хоть что-нибудь понимать, – скептически смотрел на неё брат. – Зачем тебе чего-то там понимать? Тебе нужно будет только деньги вкладывать. Понимать за тебя другие будут. Анна, стараясь перевести русло спора в радикальное решение, тоже осторожно сомневалась: – Надь, но ведь, с другой стороны, Коля прав – ни он, ни я готовить для ресторана не умеем. – Эх, темнота заезжая! – кривилась на них Надежда, облизывая пальцы от сладкого консервного сока, – Зачем вам уметь готовить, если вы будете хозяевами? Это у них там, на диком Западе, хозяин ресторана должен быть обязательно шеф-поваром. У нас в России дело обстоит гораздо проще и для людей приятнее. Хочешь иметь ресторан – 133 доставай денюжки, нанимай персонал и все дела. – А зачем он тогда нужен, если там не работать? – Кто сказал, что не работать? – вскрикивала Надежда. От прежней деревенской девушки в ней теперь мало что осталось, кроме говора. И в голосе, и в поведении Надежды чётко проглядывалась деловитость, ухватистость и сноровка под стать любому столичному бизнесмену. Часто, слушая её, Николай думал, что годы жизни с Иваном сделали их похожими: свояк всегда был шустрым, сестра стала такой с возрастом. – А кто тебе будет следить за тем, чтобы пиво клиентам не разбавляли, с бара деньги не таскали, пропорции выкладки меню соблюдали? Кроме хозяина никого к такому подпускать нельзя, – продолжала Надежда уверенно, – Аннушка будет новинки внедрять, займётся рекламой, привлечением клиентуры. – Можно с таким же успехом управляющего нанять, – ворчал Кравцов. Идея с рестораном его никак не прошибала. – Коляня, совсем ты онемчурился! – возмущалась Надежда, – Нашему брату разве можно доверие оказывать? Сразу найдут способ без штанов тебя оставить. Русский человек воровал, ворует и воровать будет. Это уж, как здрасьте! – Ладно, хорош вам спорить. Пойдёмте, пока ещё не совсем стемнело, к родителям сходим. – Стоило Анне напомнить, как и Надежда, и Николай спохватывались. Каждый раз все трое обязательно спускались к деревенскому кладбищу постоять у могилок. Они оставляли детей в доме одних, а сами уходили. Сходить на погост тоже являлось необходимостью. Здесь трое взрослых замолкали, соединённые мыслями утраты. Контрасты русской жизни царили и тут, определяя кому мавзолей, а кому серый камень с расщелиной. Первой на кладбищенской территории стояла скромная железная оградка на могиле тётки Настасьи. По воле случая она нелепо соседствовала с массивным бело-каменным памятником, водруженным на захоронении Окунька. Денис Зуев, принявший после смерти Вовки дела на бензоколонке в свои руки, не поскупился на отстёг. Злые языки судачили, что таким образом он частично отмыл свой грех. Так как поговаривали, что неспроста была месть чеченской мафии; кто-то, кто доподлинно знал Вовкины планы, заложил его воротилам. Но дальше пересудов не шло, и убийцы найдены не были. Остановившись ненадолго около могилки бывшей соседки, женщины наскоро сгребали с креста снег, крестились, перешёптывались и шли дальше. Николай, молча постояв напротив бюста погибшего друга, бросал на прощание взгляд в его каменные глаза и нагонял Анну и Надежду на центральной дорожке. Теперь все шли в глубину кладбища к родителям. После смерти матери Анна настояла на том, чтобы отца перезахоронили в Серебрянке. Их совместная могила ещё тогда была помечена общей гранитной полоской с именами и датами. Поклонившись Керманам наспех, Надежда, не задерживаясь, шла к своим. Широкая мраморная плита с позолотой выгравированных бюстов, смотрелась богато, но помпезно. – Зачем им всё это? – спросил Николай у сестры, впервые увидев установленный барельеф. – Ради почести. – Какой почести? По нужде она им была при жизни, а ныне-то чего уж... – Так должно, Коляня. Он не спорил. Кому должно? К чему? Всё одно не понять ему теперешних нравов. При жизни у родителей в доме даже подоконники гранитом не облицовывали, позволить себе не могли, а тут на могильной доске зачем-то до пояса барельефы в золото закатаны. Не хуже, чем у танцора Нуриева на кладбище в Париже, как он когда-то видел по телевизору. Подобное выпячивание даже умерших походило на фарс. 134 – Кабы тогда им такие деньги, так отправили бы мы их в путешествие на остров Фиджи. Помнишь, Надюха, мама всегда мечтала? – грустно повторял Николай не раз. Надежда без ответа утирала слёзы, прибирая могилку и обтирая рукавицей снег с кованой богатой оградки. Далеко было то время, когда мать мечтала о Фиджи. Она о нём знала только по французским духам, подаренным как-то отцом: терпким, густым. Каждый раз, когда Николай упоминал о маминой мечте, перед глазами Надежды вставала картина: она и маленький брат ползают по расстеленной на полу огромной политической карте мира, взятой в деревенской библиотеке, и ищут остров Фиджи. Ищут, ищут, а найти не могут. Отец, сидя вдалеке, смеётся над ними, подхлёстывая, а мама стоит и смотрит на всех троих с беспокойством. А что, как вдруг и нет больше на современной карте такого острова? Разволновавшись, она сама опустится на колени и примется искать. И, как в награду, первой найдёт его, затерянный в водах Тихого океана, ткнёт пальцем, показывая, и зардится. – Хоть бы раз побывать там, – мечтательно проговорит она и улыбнётся, винясь за столь странное желание. – Куда нам, мать? – оправдается отец, заранее зная, что никогда не сможет исполнить просьбу. Вспомнив, Николай и Надежда помолчат, прежде чем возобновить разговор. Странно им станет нынче говорить о том, что когда-то казалось таким немыслимым. Доживи родители до сего дня, ничего бы теперь не стоило отправить их в любой конец света. В этом плане перемены в стране в лучшую сторону не признавать было нельзя. Анна, застав брата и сестру молчаливыми, также молча перекрестится на могиле незнакомых ей родных, поклонится им в пояс и тихо скажет: – Жили они честно, а посему слава им и добрая память от всех нас. Спите спокойно, дорогие наши родители. От таких слов в груди Николая заноет, сердце сожмёт, сведёт скулы. Но он знает, что именно за эти слова, самые простые, но такие незаменимые в тяжёлый момент, он всегда раньше и любил свою жену, а теперь любит ещё больше. После кладбища все пойдут в дом, где постепенно вернётся к каждому покой и весёлость. Дети станут забавлять взрослых своими причудливыми рассказами о буднях, планами на будущее.Часам к восьми подскочит из Калуги Иван, наскоро поев, весело забасит. Нередко подрулят к Кравцовым и Латыповы. Кинутся искать Артёма, а, не найдя его в Калинках, приедут в Серебрянку. Верка подвезёт горячего хлеба из собственной булочной, которой они обзавелись год назад в придачу к бару, да ещё какую кулебяку с мясом. Это, как догадаются все, Фёдор накажет взять; тоже, не хуже Надежды, побоится объесть молодожёнов. Мишка Зуев, гость более редкий, появится только в том случае, когда настоит на его приходе Николай. А это случится только тогда, когда два друга, брошенные каждый по своим делам, встретятся накануне днём где-то в деревне. Говорить на ходу обоим не пристанет. Вот и запросит Коля Миху зайти. А тот пообещает, несмотря на то, что всё-таки испытывает перед другом постоянную неловкость. От того, должно быть, что в ту пору, когда Анна вернулась в деревню из Германии одна, да рассказала встреченному Мишке про нелады в семье, Зуев, недолго думая, предложил ей выйти за него замуж. – Если Коляня тебя больше не любит, я всю жизнь буду любить, – пробасил он, теребя мясистые руки. Анна ничего Мишке тогда не ответила, всего только тихо прижалась к груди да поблагодарила. О чувствах Зуева Керман догадывалась давно. Ответить вот только ему было нечем. Принимая теперь Михаила в гостях, Анна ни словом не упомянет о былом. 135 Друга мужа она встретит, как встречала всегда: с почестью, не позволяя себе никакого превосходства из-за его симпатии к ней. Не в её характере заигрывать с мужиками. Да и Николай, хотя и убеждает, что не ревнует, всё равно нет-нет, да и приглянет за ними обоими. Кому, как не Кравцову знать, что нет ничего темнее закоулков женской души. И вспомнится Кравцову некстати Сибирь, и далёкая его интрига с Антониной Морозовой. А потом сразу перекинутся подозрения на свою жену. А что как и она, Антонине под стать, без него счастье с другим лелеет? Теперича-то Анна, поди вовсе недалека уж от критического возраста, когда хочется ещё от жизни взять всё, что она даёт. Миха-то, поди, тоже не евнух? Ох уж эта мужская дурь! Зачем только признался ему Зуев в своих грехах?! Тогда, в бане за пивом, Николай только рассмеялся рассказу Мишки о неудачном предложении. И уверил, что как бы там ни было, Миха всегда останется для него другом детства. Но опохмель прошла, а банный разговор в голове остался. Запал в один из уголков и постоянно теперь заставлял настораживаться, стоило только Анне подойти к гостю чуть поближе, или ему у неё что-то попросить. И неважно, что с точки зрения эстетики никак не сравнить было оленя с моржом; случись в природе какая опасность, даже медведь хвост поджимает. И успокоится кравцовское тщеславие только тогда, когда вырвется по ночи из груди Анны новый сладкий стон, неся на губах признание в любви. Дождавшись его, Николай сожмёт жену в объятьях, засопит ей в ухо, забормочет о любви, как сможет, по-неуклюжему, путая порядок слов: «люблю, я, Анна, тебя», так, словно никогда он этого до сих пор и не говорил. И испугается только тогда, когда Анна замолчит рядом, уплывая далеко, далеко в туман женского счастья. Испугается, что когда-нибудь не сможет дождаться ни этих вздохов, ни этого пугающего покоя удовлетворения жены. А дождавшись пробуждения, задаст Кравцов жене только один вопрос: – А как же нам теперь жить, Анна? – Как? – переспросит она, словно речь идёт не о сложном выборе дельнейшего пути. Словно не пережили они страх разлуки и горечь многочисленных потерь. Словно и не было когда-то между ними недомолвок и недосказов, прощённых, понятых, но до сих пор ещё стоящих перед каждым пугающей тенью. – Просто, Коля. Жить надо просто. А вернее, надо просто жить. Поминая всех, почитая всех, охраняя себя и заново строя вокруг тот мир, что станет отныне только нашим. Неповерженным. Непроникновенным для посторонних. Рожать детей. Работать. Жить, Коля. Понимаешь? Анна скажет это с той поразительной простотой, какая бывает в людях при абсолютной убеждённости в правильности найденного пути. Слушая тихий ровный голос, Кравцов медлено примется покачиваться из стороны в сторону, не разжимая рук и не отпуская жену от себя. И опустится на их плечи долгий зимний вечер, смена которого должна будет принести и новый год, и новую жизнь. Правильную. Счастливую. Право на которую оба они выстрадали и доказали... ... Горела на столе свеча. Полыхал в камине огонь. Трещал за окном мороз. И никого на всей земле не было в этот миг ближе и роднее, чем эти двое людей, ещё так недавно растерзанных, но отныне соединённых навечно роковою и, от того, такой неугасимой любовью... 05.01.03-18.02.04 136