(роман «Ф.М.»)
advertisement
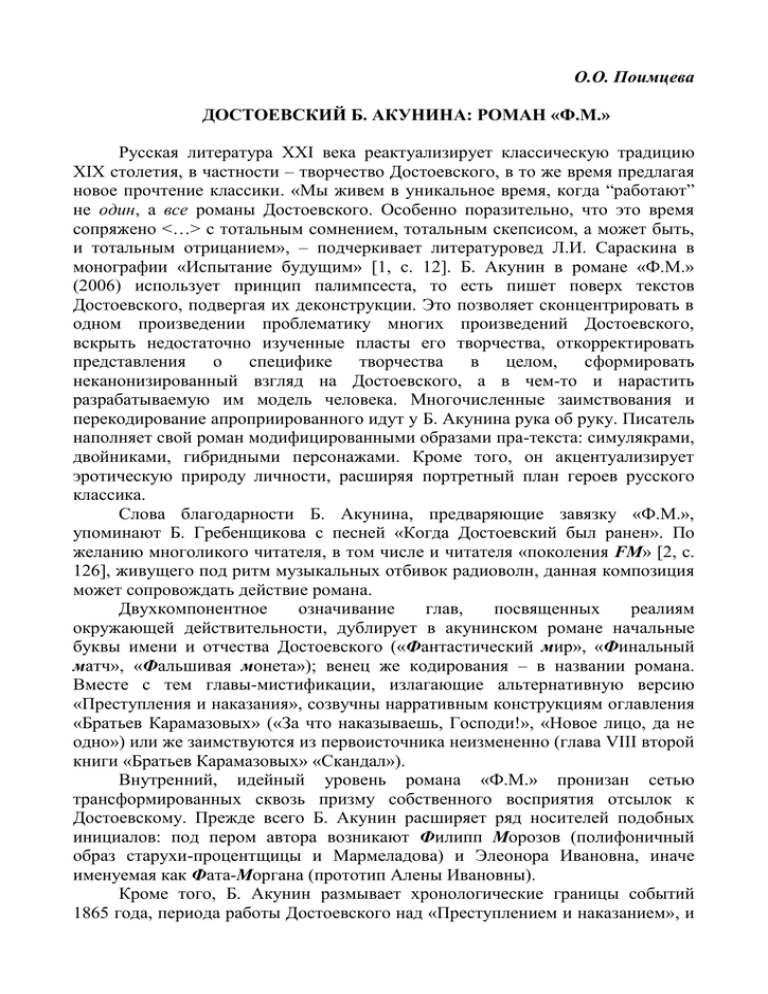
О.О. Поимцева ДОСТОЕВСКИЙ Б. АКУНИНА: РОМАН «Ф.М.» Русская литература XXI века реактуализирует классическую традицию XIX столетия, в частности – творчество Достоевского, в то же время предлагая новое прочтение классики. «Мы живем в уникальное время, когда “работают” не один, а все романы Достоевского. Особенно поразительно, что это время сопряжено <…> с тотальным сомнением, тотальным скепсисом, а может быть, и тотальным отрицанием», – подчеркивает литературовед Л.И. Сараскина в монографии «Испытание будущим» [1, с. 12]. Б. Акунин в романе «Ф.М.» (2006) использует принцип палимпсеста, то есть пишет поверх текстов Достоевского, подвергая их деконструкции. Это позволяет сконцентрировать в одном произведении проблематику многих произведений Достоевского, вскрыть недостаточно изученные пласты его творчества, откорректировать представления о специфике творчества в целом, сформировать неканонизированный взгляд на Достоевского, а в чем-то и нарастить разрабатываемую им модель человека. Многочисленные заимствования и перекодирование апроприированного идут у Б. Акунина рука об руку. Писатель наполняет свой роман модифицированными образами пра-текста: симулякрами, двойниками, гибридными персонажами. Кроме того, он акцентуализирует эротическую природу личности, расширяя портретный план героев русского классика. Слова благодарности Б. Акунина, предваряющие завязку «Ф.М.», упоминают Б. Гребенщикова с песней «Когда Достоевский был ранен». По желанию многоликого читателя, в том числе и читателя «поколения FM» [2, с. 126], живущего под ритм музыкальных отбивок радиоволн, данная композиция может сопровождать действие романа. Двухкомпонентное означивание глав, посвященных реалиям окружающей действительности, дублирует в акунинском романе начальные буквы имени и отчества Достоевского («Фантастический мир», «Финальный матч», «Фальшивая монета»); венец же кодирования – в названии романа. Вместе с тем главы-мистификации, излагающие альтернативную версию «Преступления и наказания», созвучны нарративным конструкциям оглавления «Братьев Карамазовых» («За что наказываешь, Господи!», «Новое лицо, да не одно») или же заимствуются из первоисточника неизмененно (глава VIII второй книги «Братьев Карамазовых» «Скандал»). Внутренний, идейный уровень романа «Ф.М.» пронизан сетью трансформированных сквозь призму собственного восприятия отсылок к Достоевскому. Прежде всего Б. Акунин расширяет ряд носителей подобных инициалов: под пером автора возникают Филипп Морозов (полифоничный образ старухи-процентщицы и Мармеладова) и Элеонора Ивановна, иначе именуемая как Фата-Моргана (прототип Алены Ивановны). Кроме того, Б. Акунин размывает хронологические границы событий 1865 года, периода работы Достоевского над «Преступлением и наказанием», и настоящего времени. Фамилия «Федорин» становится своеобразной «диффузной зоной». С одной стороны, она закрепляется за Порфирием Петровичем, приставом следственных дел с опущенной за скобки фамилией в романе Достоевского. С другой стороны, Николай Фандорин, расследующий тайну воскрешения рукописи русского классика в тексте Б. Акунина, владеет фирмой «Страна советов», созвучной названию книги «Монеты страны Советов» А. Федорина. Как видим, данная фамилия опосредованно проходит и через современную ветвь романа «Ф.М.». Композиционная модель произведения построена по аналогии с расстановкой фабульных частей «Мастера и Маргариты» М. Булгакова. Тем не менее, фазовость течения событий реального времени и событий рукописных глав обретает постмодернистскую обработку: финальные мизансцены ознаменованы лишь условной точкой. Роман «Ф.М.» Б. Акунина располагает дополнениями и примечаниями, которые оформлены в виде гипертекста. Биографические аллюзии, пояснения сюжетных коллизий, а также ввод рассказов, которые «автор намеревался опустить <…>, руководствуясь соображениями благопристойности», однако все-таки оставляет, поскольку «это было бы нечестно по отношению к читателю» [2, с. 419], постулируют свободу инициативы внимающего сознания и обеспечивают персональный уровень овладения текстом. Рецепция образа Достоевского обусловлена в «Ф.М.» эстетикой децентрированности субъекта, то есть освоение портрета классика преодолевает традиционный эгоцентризм личности. В романе Б. Акунина в акте «письма-чтения» дешифруется следующий коллаж ипостасей русского писателя: 1. Достоевский как метатекст. Цитатный фон слагают романы «Игрок», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», повести «Вечный муж» и «Кроткая», рассказы «Чужая жена и муж под кроватью» и «Мальчик у Христа на елке», а также фарс «Как опасно предаваться честолюбивым снам». Оперируя интертекстом с точки зрения «сам Достоевский <…> – полное собрание героев Достоевского» [3, c. 8], высказанной Е. Евтушенко, Б. Акунин разделяет позицию неканонической трактовки фигуры русского романиста и сбрасывает с него накидку идеализации через утверждение многозначной семантики образов пра-текста. 2. Достоевский как историческое лицо. Штрихи жизни и творчества классика мерцают на постмодернистском полотне отблесками фактологической основы и художественного вымысла. Одной из причин обращения Б. Акунина к биографии Достоевского может быть названа попытка создать правдоподобную иллюзию существования ранней рукописи «Преступления и наказания», именуемой в «Ф.М.» «Теорийкой». Разночтения же с истинными сведениями принимают вид «интеллектуальной игры» с читателем. Начнем с того, что замысел романа зарождается не в мыслях Достоевского, а даруется писателю Ф. Стелловским, прозорливым издателем, осенью 1866 года едва не завладевшим правом монопольного распоряжения сочинениями классика в течение девяти лет. Эпатажность сюжетной линии «Достоевский – Стелловский» раскрывается через эпистолярную форму. Письмо книготорговца к романисту построено по схеме «двойного кодирования». Во-первых, наказ издателя писать «полегче» и «повеселее» [2, c. 200] обнажает намерение взять под контроль творческую мысль классика. Во-вторых, идея «уголовного романа» [2, с. 200], излагаемая Стелловским и положенная в основу «Теорийки», деконструирует смысловое ядро «Преступления и наказания»: «<…> С преступником сами решайте, лишь бы только он до самого конца читателю неизвестен оставался. <…> И еще озаботьтесь, чтобы в центре повествования оказался не преступник, а расследователь <…>» [2, c. 200]. Напомним: в оригинале фигура убийцы не только не утаивается, но с первых же строк располагается под углом экзистенциального освещения [4]. История забвения фантомной рукописи Достоевского облекается постмодернистом в одежды псевдофакта. В письме А. Врангелю от 18 февраля 1866 года Достоевский признается: «<…> Было много написано и готово; я все сжег <…> (речь идет о романе “Пьяненькие”, раннем варианте “Преступления и наказания”. – О. П.)» [5, c. 278]. Подобный финал ожидает, по Б. Акунину, и рукопись «Теорийки»: «Бог и даже черт с нею, с <…> повестью, гори она огнем, – пишет в ответном послании Стелловскому Достоевский и приходит к выводу: – Вот именно, буду считать, что она сгорела <…>» [2, c. 202]. Помимо того, кисть Б. Акунина окропляет картину брызгами пароксической мифологизации личной жизни классика. К примеру, рассказлекция «Эротизм в жизни и творчестве Ф.М. Достоевского», включенный в фабулу «Ф.М.», деканонизирует фигуру романиста. Но одновременно Б. Акунин пародирует абсолютизацию методов психоанализа применительно к литературе, тем более вульгаризаторского их использования. Так, Филипп Морозов, доктор филологических наук и автор лекции, выделяет в романе пять болезненных пристрастий русского писателя: а) «садомазохистский комплекс»; б) «обессионную страсть к роковым женщинам»; в) «явное влечение к <…> легкомысленным развратницам»; г) «фетишизм по части женских ножек»; д) «“Лолита-комплекс”, то есть патологический интерес к несозревшим особям женского пола» [2, с. 215]. Опираясь на клишированные модели, сложившиеся вокруг интимной жизни Достоевского, Б. Акунин отшлифовывает грани стереотипов до гротескной фантасмагории, высмеивая их. «<…> Это один из законов рецепции гениальности: стремление приблизить гениальность к обыденному уровню, <…> спустить с пьедестала», – резюмирует М. Загидуллина в статье «Пушкин и Достоевский как народные герои» [6]. Новаторство постмодерниста проявляется и в расширении сексуальной сферы в изображении героев. К примеру, Санечка делится с отцом «физиологическими описаниями» [2, с. 214] первой близости, а Разумихин и Лужин заводят разговор «по части клубнички» [2, с. 174]. Как видим, энергия либидо выступает равноправной характеристикой создаваемой модели человека. 3. Достоевский как «мировой бренд». Стремление увековечить собственное имя благодаря авторитету классика – это отправная точка теории убийств в романе Б. Акунина. Ранняя рукопись «Преступления и наказания» признается героями «Ф.М.» «инвестицией понадежней» [2, с. 196], чем шаткость денежного состояния, а потому перерастает в предмет амбициозного вожделения. 4. Достоевский как синоним «собрания сочинений». Герой Б. Акунина Филипп Морозов кладет записки «в Федора Михайловича <…>. В тридцатитомник» [2, c. 302]. Уместность такой замены в реплике персонажа демонстрирует закрепленность в массовом сознании базовых представлений о фигуре Достоевского. 5. Достоевский как штамп интеллигентности. Конвейерное тиражирование фамилии классика в повседневном обиходе приобретает в «Ф.М.» статус метафорического «входного билета» в светское общество «тонкого слоя гламура» [2, с. 233]. А потому литературные беседы, выдержанные в тематике «Coelho-Murakami, Robsky-Dostoevsky» [2, с. 232], кажутся весьма допустимыми среди героев современной ветви романа Б. Акунина и красноречиво свидетельствуют о микшировании культурных границ. Освоение образов пра-текста в постмодернистском романе имеет специфические черты. Наряду с проекцией качеств одного героя оригинала сугубо на одно действующее лицо нового контекста (цепочки «Сонечка Мармеладова – Санечка Морозова» и «Илюша Снегирев – Илюша Морозов»), возможно усложнение структуры заимствования. Прежде всего, многовекторной ретрансляции свойственна дублетная основа прочтения персонажей. Отсылки к Раскольникову Родиону Романовичу аккумулируются в характеристиках Рульникова Руслана Рудольфовича, молодого наркомана, и Олега Сивухи, «мальчика-гения» [2, c. 103] с нарушением работы гипофиза («перекличка» с «Собачьим сердцем» Булгакова). Однако если Рульников похищает рукопись «от ярости и страха» [2, c. 10] перед ломкой, беспорядочно и вдруг нанося удары Морозову, то Сивуха расчетливо уничтожает совладельцев «Теорийки». Мотив его теории неказист: «Папе так хотелось ее (рукопись. – О. П.) получить. <…> Что ж я, отцу родному приятное не сделаю?» [2, c. 359] Модель же старухи-процентщицы переносится беллетристом на образы Филиппа Морозова и Элеоноры Ивановны. Оба претерпевают насилие от ряженых «Раскольниковых». Также в тексте «Ф.М.» распознается прием письма Достоевского – мотив двойничества. Личность «травмированного достоевсковеда» [2, c. 93] бесконтрольно раскалывается на «позитивный отпечаток» [2, c. 298] и «свой негатив» [2, c. 100], то есть на антагоничные друг другу созидательный и разрушительный полюса. Да и «специалистка по рукописям Достоевского» [2, c. 84] сталкивается как с идентичным отражением себя, так и с метаморфозой этого зеркального облика в черта из «Братьев Карамазовых». «Всю жизнь занималась Федором Михайловичем, ничего удивительного <…>», – утешается она [2, c. 80]. Наконец, к механизму рецепции системы героев русского классика относится создание симулякров. Исследуя мир Достоевского, Морозов и «людей, которые ему встречались в реальной жизни, <…> обозначал <…> именем того или иного персонажа» [2, c. 308]. Так, среди знакомых ученого числятся условные «Лужин», «госпожа Ресслих» и «Свидригайлов», что свидетельствует о злободневности данных образов в разрезе современности. Особый интерес в романе «Ф.М.» Б. Акунина представляет сюжетный блок «Теорийки», выдержанный в стилистике первичных разработок «Преступления и наказания». Матрица оригинального текста деформируется композиционными коррективами постмодерниста. а) Осуществляется перестановка акцентов транслируемых эпизодов. Смещение фокуса убийцы с Раскольникова на Свидригайлова наблюдается через инициативу противостояния Порфирия Петровича и Свидригайлова. Как следствие, Раскольников и Сонечка Мармеладова становятся периферийными героями, инертно окаймляющими ход основного действия. По Б. Акунину, Родион Раскольников – бедный «худосочный студентик» [2, с. 155], способный на философские рассуждения о природе преступления, но чуждающийся мысли практического подтверждения своих взглядов. Максимальный порог внутреннего бунта героя ограничивается рамками статьи «Еще раз о быке и Юпитере». Причем идея насилия как естественной основы мироздания, звучащая в письменном слове «нового» Раскольникова, распространяется и на авторитет христианского вероучения. «<…> Разве не был по понятиям иудейских законоустановлений величайшим преступником Иисус Христос, покусившийся разом и на государственность, и на самое религию?» – вопрошает герой [2, с. 60]. Таким образом, Б. Акунин вводит в теорию Раскольникова лейтмотив деидеализации незыблемой праведности христианского световосприятия, замещая позицию единственности истолкования истины множественностью присущих ей смыслов. Двойник Раскольникова, «складной человек» Свидригайлов, аккумулирует в себе намеренно гиперболизированную Б. Акуниным бездну людских пороков. Скаредная прагматичность вкупе с топким сладострастием порождают в сознании Свидригайлова мрачную заповедь, которая «позатейливей раскольниковской будет» [2, с. 400]. Построенная наподобие арифметического уравнения, теория Свидригайлова решает задачу – вывести ее автора «в нуль целых, нуль десятых» [2, с. 403]. Тем самым каждая людская жизнь приравнивается к положительному числу («живые души» [2, с. 400], безвинные) или к отрицательному («люди иного сорта, с душою мертвой» [2, с. 400], развращенные), а каждое убийство – к очередному математическому действию. Итак, по-новому интерпретируя сон Раскольникова о трихинах, в первоисточнике – микроскопических существах, проникающих в непорочные души и пробуждающих в них бесноватость, Б. Акунин иронично освещает абсолютизацию расчетливости и личной выгоды. В конце концов, оба воплощения Раскольникова, Свидригайлов и Олег Сивуха, мутируют в гибридный постмодернистский облик «Родиона Романовича». Близость героев означивается в романе «Ф.М.» пунктирно: финальная сцена разоблачения преступников трафаретно переносится Б. Акуниным на ткань и XIX века, и XXI столетия. Во-первых, «исповеди» убийц начинаются подобными психологическими ремарками. «Давно не имел возможности хорошо поговорить, да с умным человеком», – замечает Свидригайлов [2, с. 395]. Ему вторит Сивуха-младший: «Мне кажется, вы (Николай Фандорин. – О. П.) единственный, кто сможет меня понять» [2, с. 357]. Во-вторых, преступники травмируют своих собеседников, смакуя сладость власти над новоявленными жертвами. «Позволительно ли мне будет поинтересоваться, что вы намерены делать далее?» – вопрошает Порфирий Петрович о своем положении у Свидригайлова [2, с. 394]. В отличие от пристава следственных дел, Николай Фандорин слышит вопрос схожей тематики из уст самого Олега Сивухи: «А что же вы про себя не спросите? <…> Неужели не интересно?» [2, с. 363] В-третьих, обосновываются теории двоих «Раскольниковых». Из сказанного можно заключить, что рецепция идейных положений «Преступления и наказания» Достоевского в контексте «Ф.М.» Б. Акунина размывает границы моральных ориентиров, пропагандируя полиморфное, незамкнутое, вариативное рассмотрение нравственных устоев настоящего времени; б) Фиксируется сжатие рисунка действий. К примеру, не получает освещения инцидент четырехдневного лихорадочного беспамятства Родиона Раскольникова. Соответственно, приезд Лужина происходит непосредственно в день обморока Раскольникова, а не после его выздоровления; в) Наблюдается изменение последовательности мизансцен. Разумихин в «Ф.М.» априори знаком с содержанием статьи бывшего студента, а потому известие о существовании публикации, озвученное при знакомстве Раскольникова и Порфирия Петровича, не удивляет героя. Первооснова базируется на противоположном начале; г) Диктуется альтернативное развитие сюжета. Четырехдневная апробация теории Свидригайлова насчитывает пять жертв, среди которых – Алена Ивановна, Чебаров, Дарья Францевна, Лужин и Заметов. Все они пали по однотипному алгоритму: от математически точного удара по голове тростью с бронзовым набалдашником. Как видим, расширяя парадигму насильственных смертей, Б. Акунин вскрывает деструктивный характер потребительского мировоззрения современного человека в условиях аксиологической невесомости. Кроме того, Б. Акунин осваивает образный почерк Достоевского. Подобно Раскольникову, который, «как паук, <…> в угол забился» [4, с. 395], вынашивая идею «убить без казуистики, убить для себя» [4, c. 397], Олег Сивуха облачается в костюм Человека-Паука, претворяя в жизнь свою кровавую идеологию. Стало быть, символ паука, переходящий из романа в роман русского классика, дешифруется на страницах «Ф.М.» в постмодернистском ключе карнавализации и игры. Еще один «след Достоевского» – это стилизация лексики романиста. Прежде всего, Б. Акунин неоднократно транслирует такую излюбленную форму обращения писателя, как «голубчик»: «объявляй голубчика в розыск» [2, с. 39], «схватим голубчика за шиворот» [2, с. 296], «голубчик, да тебе, пожалуй, не в каторге место» [2, с. 397]. Осваивается беллетристом и введенный в русскую традицию Достоевским глагол «стушеваться»: чувство крайнего смущения свойственно в «Ф.М.» Разумихину, который при виде Авдотьи Романовны «как всегда стушевался» [2, с. 289]. Наконец, нередки в «Теорийке» случаи практически дословного цитирования первоисточника. К примеру, очевидно межтекстовое сходство в описании черт лица Порфирия Петровича: «Преступление и наказание» Достоевского: «Оно было бы даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами» [4, с. 236]. «Ф.М.» Акунина: «Оно выглядело бы, пожалуй, даже и добродушным, если бы не выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами» [2, с. 27]. Думается, такие расхождения оригинальной основы и ее интерпретации аттестуют идейный принцип «Ф.М.»: эволюцию романа «Преступления и наказания» из рукописи «Теорийки». Рассматривая образ Достоевского и его творчество под углом вероятностного детерминизма и полифоничности истины, Б. Акунин предлагает нехрестоматийный взгляд как на феномен автора, так и на прочтение классики в ситуации постмодерна. _______________________ 1. Сараскина Л.И. Испытание будущим. Ф.М. Достоевский как участник современной культуры / Л.И. Сараскина. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. 2. Акунин Б. Ф.М.: Роман / Б. Акунин. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. 3. Евтушенко Е. Нефильтрованный Достоевский / Е. Евтушенко // Журнал ПОэтов. – 2012. – №7 (39). 4. Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. / Ф.М. Достоевский. – Л.: Наука, 1988. – 5 т. 5. Достоевский Ф.М. Собр. соч.: в 15 т. / Ф.М. Достоевский. – Л.: Наука, 1988. – 15 т. 6. Загидуллина М. Пушкин и Достоевский как народные герои / М. Загидуллина // Вестник ЧелГУ. Сер. 2. Филология. – 1999. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zagidullina.msk147.listkom.ru/my_articles/пушкин-и-достоевский-как-народные-гер. – Дата доступа: 26.02.2013.
