По-неженным-тропам
advertisement
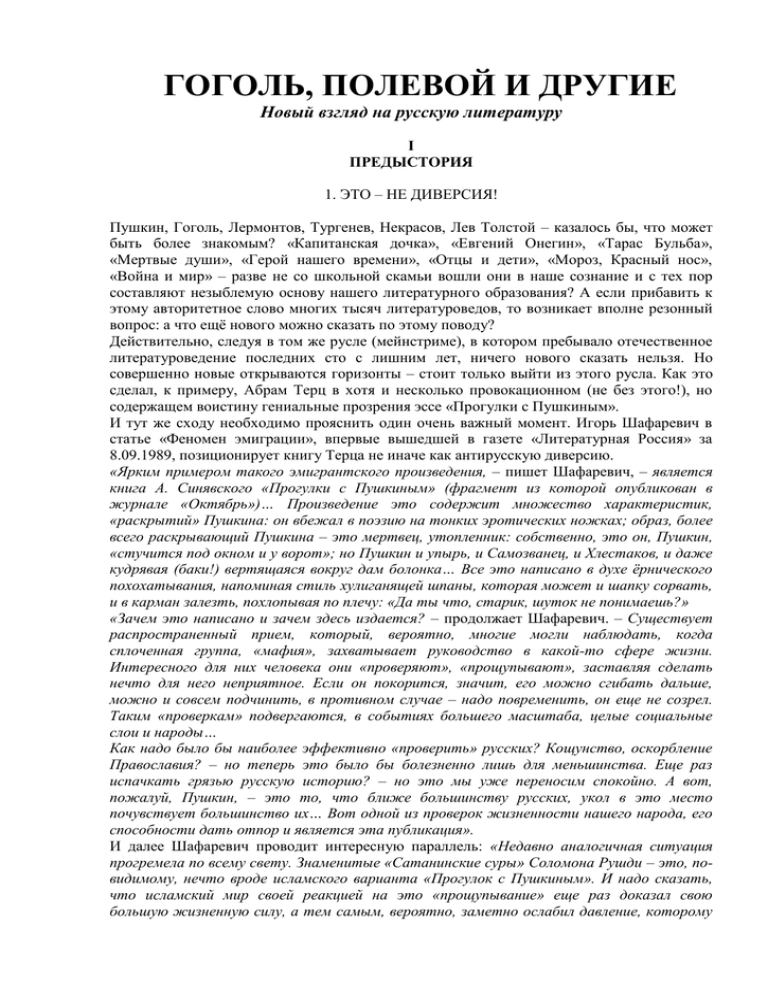
ГОГОЛЬ, ПОЛЕВОЙ И ДРУГИЕ
Новый взгляд на русскую литературу
I
ПРЕДЫСТОРИЯ
1. ЭТО – НЕ ДИВЕРСИЯ!
Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Некрасов, Лев Толстой – казалось бы, что может
быть более знакомым? «Капитанская дочка», «Евгений Онегин», «Тарас Бульба»,
«Мертвые души», «Герой нашего времени», «Отцы и дети», «Мороз, Красный нос»,
«Война и мир» – разве не со школьной скамьи вошли они в наше сознание и с тех пор
составляют незыблемую основу нашего литературного образования? А если прибавить к
этому авторитетное слово многих тысяч литературоведов, то возникает вполне резонный
вопрос: а что ещё нового можно сказать по этому поводу?
Действительно, следуя в том же русле (мейнстриме), в котором пребывало отечественное
литературоведение последних сто с лишним лет, ничего нового сказать нельзя. Но
совершенно новые открываются горизонты – стоит только выйти из этого русла. Как это
сделал, к примеру, Абрам Терц в хотя и несколько провокационном (не без этого!), но
содержащем воистину гениальные прозрения эссе «Прогулки с Пушкиным».
И тут же сходу необходимо прояснить один очень важный момент. Игорь Шафаревич в
статье «Феномен эмиграции», впервые вышедшей в газете «Литературная Россия» за
8.09.1989, позиционирует книгу Терца не иначе как антирусскую диверсию.
«Ярким примером такого эмигрантского произведения, – пишет Шафаревич, – является
книга А. Синявского «Прогулки с Пушкиным» (фрагмент из которой опубликован в
журнале «Октябрь»)… Произведение это содержит множество характеристик,
«раскрытий» Пушкина: он вбежал в поэзию на тонких эротических ножках; образ, более
всего раскрывающий Пушкина – это мертвец, утопленник: собственно, это он, Пушкин,
«стучится под окном и у ворот»; но Пушкин и упырь, и Самозванец, и Хлестаков, и даже
кудрявая (баки!) вертящаяся вокруг дам болонка… Все это написано в духе ёрнического
похохатывания, напоминая стиль хулиганящей шпаны, которая может и шапку сорвать,
и в карман залезть, похлопывая по плечу: «Да ты что, старик, шуток не понимаешь?»
«Зачем это написано и зачем здесь издается? – продолжает Шафаревич. – Существует
распространенный прием, который, вероятно, многие могли наблюдать, когда
сплоченная группа, «мафия», захватывает руководство в какой-то сфере жизни.
Интересного для них человека они «проверяют», «прощупывают», заставляя сделать
нечто для него неприятное. Если он покорится, значит, его можно сгибать дальше,
можно и совсем подчинить, в противном случае – надо повременить, он еще не созрел.
Таким «проверкам» подвергаются, в событиях большего масштаба, целые социальные
слои и народы…
Как надо было бы наиболее эффективно «проверить» русских? Кощунство, оскорбление
Православия? – но теперь это было бы болезненно лишь для меньшинства. Еще раз
испачкать грязью русскую историю? – но это мы уже переносим спокойно. А вот,
пожалуй, Пушкин, – это то, что ближе большинству русских, укол в это место
почувствует большинство их… Вот одной из проверок жизненности нашего народа, его
способности дать отпор и является эта публикация».
И далее Шафаревич проводит интересную параллель: «Недавно аналогичная ситуация
прогремела по всему свету. Знаменитые «Сатанинские суры» Соломона Рушди – это, повидимому, нечто вроде исламского варианта «Прогулок с Пушкиным». И надо сказать,
что исламский мир своей реакцией на это «прощупывание» еще раз доказал свою
большую жизненную силу, а тем самым, вероятно, заметно ослабил давление, которому
мог бы подвергнуться в ближайшее время. Я говорю, конечно, не о призывах покойного
Аятоллы убить автора – они оказались как раз очень удобным предлогом, чтобы под
видом защиты Рушди (который еще, наверное, заработает на этом шуме не один
миллион), замазать то кощунственное оскорбление, которое было нанесено целой
цивилизации – многим сотням миллионов человек. Реальным ответом были грандиозные
демонстрации, то, что в столкновениях с полицией сотни людей отдали свои жизни – и в
результате удалось добиться запрета книги во многих странах».
«Но наш-то ответ еще впереди, – продолжает Шафаревич. – Как это случилось, что
грязное хихиканье по адресу одного из самых светлых имен русской культуры публикует
журнал, являющийся органом Союза писателей России? Неужели в своей жизни (и в
самой смерти) Пушкин принял не достаточно гонений – нужно еще приложить руку и
потомкам? Неужели травли Ахматовой, Пастернака, Солженицына нам недостаточно?
Пойдут ли теперь гонения в глубь истории, пока не охватят всю русскую литературу?
Это зависит от того, каков будет наш ответ на предложенную нам «проверку». Говоря
о «нас», я имею в виду не только русских, но всех, принадлежащих той культуре, одним из
источников которой был Пушкин».
Аж дух захватывает от вышеприведённых рассуждений известного учёного! По причине
содержащейся в них глубинной антиномии – противоречия, в котором каждое из
положений в принципе правильно. В принципе-то правильно, то есть может быть
логически доказано – но в какой-то момент тезис и антитезис меняются местами и
изначальная правильность, то бишь правда оборачивается своей противоположностью –
ложью. Парадокс, достойный незабвенного ходжи Насреддина: «Однажды у ходжи
спросили: «Где у тебя нос?» Ходжа указал на нервный узел, что на затылке. «Ходжа, –
сказали ему, – ты как раз показываешь на противоположное место». «Ага, – заметил
ходжа. – Вот видите: пока не выяснится антитезис, и тезис не определится»».
Тезис Игоря Шафаревича об антирусских происках вовсе не безоснователен. Это
действительно имеет место, сколько бы ни пытались напустить тумана в этот вопрос и
замылить глаза публике манипуляторы общественным сознанием. Обусловлены эти
происки столь значимым фактором – особенно обострившимся в эпоху так называемой
«глобализации» – как столкновение глобально-цивилизационных интересов,
вклинивающихся в сферу духовной культуры. Восточнославянская православная
цивилизация – Русский мир – оказывается несовместимой с главным вектором
«глобализации», проводимой по – якобы наиболее совершенным и «прогрессивным» –
«западным» лекалам. Поэтому любым путём она должна быть устранена, переварена и
приведена в абсолютно подчинённое придаточное положение.
Главная роль в устранении данной «помехи» отводится так называемому «малому
народу», определение которому и дал Шафаревич в нашумевшей своей работе
«Русофобия». Под это определение подпадают, прежде всего, находящиеся на стадии
крайнего вырождения собственно-российские «западники», утратившие либо никогда не
имевшие глубинной взаимосвязи с русской традицией. Разложить русскую традицию
изнутри, дискредитировать, опустить, опошлить, профанировать – вот их главная, если не
единственная, цель. И «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца (А. Синявского)
рассматриваются Шафаревичем как явление именно этого порядка…
Вот тут-то и проходит та невидимая грань, за которой обоснование тезиса с твёрдой
почвы переходит в зыбучие пески, трясину-хлябь, в результате чего правда в одночасье
становится ложью. А беда вся в том, что вследствие некоторой запрограммированности
собственного сознания – о чём речь ниже – за внешними признаками Шафаревич не
различает внутренней сути.
Что это за различие, покажем на примере. Сравним два произведения. С одной стороны,
«Энциклопедию русской души» Виктора Ерофеева – небезызвестного российского
литератора, отмеченного множеством регалий: как указано в аннотации к его книге, он и
член Русского ПЕН-центра, ещё и лауреат премии имени Набокова, вдобавок кавалер
французского Ордена литературы и искусства, а также автор и ведущий программы
«Апокриф» на телеканале «Культура». С другой – «Прогулки с Пушкиным».
Итак, «откровения» от Ерофеева: «Огненное озеро. Водяной, домовой и леший,
окунувшись, уходят на фронт тремя богатырями. Александр Невский дарит Василисе
Премудрой мешки отрезанных русских ушей и носов. Петр Первый запросился обратно в
Азию. Христос схватился с Перуном, другие поганые боги разбежались, не зная своих
имен. Первый бал Наташи с чертом. Клеится к сумеркам дымный рассвет.
Милитаристское выступление сестрицы Аленушки в военно-политической академии
имени Фрунзе».
И ещё: «Еду в метро и чувствую, что мне противна эта потная сволочь. Инертная,
покорная, прыщавая шваль. Хочу ли я, чтобы Россия распалась на куски? Чтобы Татария
отделилась от Мордовии? Чтобы Волга высохла? Чтобы судорога прошла по Сибири?
Чтобы кончился балаган? Хочу! Хочу!»
И для сравнения – характеристика образа Татьяны Лариной в книге Терца: «Зияния в ее
характере, не сводящем (сколько простора!) концы с концами – русские вкусы с
французскими навыками, здравый смысл с туманной мечтательностью, светский блеск с
провинциализмом, сбереженным в залог верности чему-то высшему и вечному, –
позволяют догадываться, что в Татьяне Пушкин копировал кое-какие черты с портрета
своей поэзии, вперемешку с другими милыми его сердцу достоинствами, подобно тому,
как он приписал ей свою старенькую няню и свою же детскую одинокость в семье.
Может быть, в Татьяне Пушкин точнее и шире, чем где-либо, воплотил себя
персонально – в склонении над ним всепонимающей женской души, которая единственно
может тебя постичь, тебе помочь, и что бы мы делали на свете, скажите, без этих
женских склонений?..»
И далее: «Открыв письмо Татьяны, мы – проваливаемся. Проваливаемся в человека, как в
реку, которая несет нас вольным, переворачивающим течением, омывая контуры души,
всецело выраженной потоком речи…»
Это – что называется – почувствуйте разницу! В первом случае – ничем не прикрытая
внутренняя агрессия, утилитарная одномерность, вызванная конкретным – неважно
сознаёт это автор или нет – заказом, во втором – не что иное как попытка анализа и
синтеза, и как результат – открытие новых горизонтов, смысловая многомерность.
Таким образом, книга Терца – это никак не «ёрническое похохатывание», не «грязное
хихиканье», как то утверждает Шафаревич, и не «Прогулки Хама с Пушкиным», как её
обозначил ещё один известный литератор Роман Гуль. Хотя в ней и используются
вольности и нелицеприятности по отношению к поэту, но направлена она вовсе не против
Пушкина, а против стереотипных толкований его жизни и творчества. Именно этим и
вызваны все эти вольности и нелицеприятности!
Но что такое хамство? Кого и в каком случае позволительно обвинять в этом грехе? В
случае с Ерофеевым видим хамство неприкрытое, пытающееся самоупиваться –
неспособное, впрочем, даже и на это в связи со столь же явной энергетической
импотенцией. Но так ли с Терцем? Не будет ли как раз хамством обвинять в нём Терца на
том основании, что он, дескать, позволяет себе многое в отношении Пушкина? Есть ли
признаки хамства, к примеру, в наиболее часто цитируемом высказывании из его книги:
«На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел
переполох»? Отметим, что здесь не просто фигура речи – пикантные эти эпитеты Терц
применяет не с бухты-барахты, не ради красного словца, а исходя из логики собственных
рассуждений, изначального анализа эротической природы пушкинской музы,
противопоставляемой эпической поэзии в духе Хераскова и Державина. Но даже если
вырвать фразу из контекста, то налицо здесь карикатура, шарж – но никак не хамство.
Другое дело, что хамством для Шафаревича и Гуля является само по себе изображение
Пушкина в карикатурном виде. Для них это недопустимо в принципе, как недопустимы
для мусульман карикатуры на пророка Мухаммеда. Недаром появилась ведь и параллель с
исламским миром – но именно эта параллель позволяет нам сформулировать собственный
тезис, способный разрешить антиномию Шафаревича. Итак…
Противоречие в рассуждениях Шафаревича вытекает из неверного представления о месте
Пушкина. Именно ЭТО помешало ему увидеть в книге Терца нечто большее чем
«заказную диверсию» и «грубый наезд». За непривычными, не принятыми в «хорошем
обществе», «нетрадиционными» определениями и высказываниями он увидел только
«хамство» – и шокирован был именно «не-традиционностью». Но какова же в таком
случае «традиционность», «традиция»?
Согласно этой традиции Пушкин является центром мира, Солнцем, источником русской
культуры. На самом деле при всей своей значимости он никак не центр, не Солнце, не
источник, он – продукт жизнедеятельности истинного источника. Как продукт он не
может быть центром и источником – и потому не может быть недоступен для
критического анализа. Непонимание этой истины и приводит к указанной антиномии.
Но беда в том, что это непонимание легло в основу, стало неотъемлемой частью сознания
сначала российского, а затем советского образованного общества. Так, что претендует на
роль не больше не меньше как национальной религии. Пушкин в центре, рядом Гоголь и
Лермонтов, есть несколько предтеч: Ломоносов, Державин, Жуковский, Грибоедов, есть
реформатор-идеолог Белинский, и великие последователи: Лев Толстой, Достоевский,
Тургенев, Некрасов, и, наконец, «звёзды» советского периода с учётом постсоветских
реабилитаций: Блок, Есенин, Маяковский, Шолохов, Булгаков, Пастернак, Мандельштам,
Ахматова…
Таким образом складывается СВЯЩЕННЫЙ ПАНТЕОН, на основании которого мир
русской литературы оборачивается неким псевдоуниверсальным пространством с чётко
определённым положением планет больших и малых. Но беда в том, что в основе своей –
по изначально заданным законам – мир этот лишён движения. Он статичен, а не
динамичен. Пушкин и Гоголь здесь – понятия незыблемые, и переосмыслений, подобных
Коперникову переосмыслению геоцентрической системы Птолемея, по отношению к ним
не допускается. Потому что всё установлено раз и навсегда!
Вот это и лежит в основе стереотипного мышления – повторяющегося без изменений;
воспроизводящего общеизвестное; шаблонного, трафаретного. «Философский словарь»
(под редакцией И.Т. Фролова, М., Политиздат, 1991) даёт весьма ценное для понимания
сути нашего вопроса определение: «СТЕРЕОТИП СОЦИАЛЬНЫЙ (греч. stereos –
твердый, typos – отпечаток) – устойчивая совокупность представлений,
складывающихся в сознании как на основе личного жизненного опыта, так и с помощью
многообразных источников информации. Сквозь призму С. с. воспринимаются реальные
предметы, отношения, события, действующие лица. С. с. – неотъемлемые компоненты
индивидуального и массового сознания. Благодаря им происходит необходимое
сокращение восприятия и иных информационных и идеологических процессов в сознании,
закрепляется как положительный, так и отрицательный опыт людей, чем объясняется
их односторонность и ограниченность, способность сравнительно легко превращаться в
предрассудки…»
СОКРАЩЕНИЕМ ВОСПРИЯТИЯ и объясняется та реакция, с какой вполне образованная
часть нашего общества воспринимает не-традиционные в их понимании подходы к
изучению классического наследия. В свете всего вышесказанного вспомним ряд работ –
весьма «зубастых» и нелицеприятных для разбираемых авторов – направленных, однако,
не против России или русской литературы, а на поиск и установление истины. Все они –
как и следовало ожидать – вызвали негодование литературной общественности (как когдато «Выбранные места из переписки с друзьями»): «Воскресение Маяковского» Юрия
Карабчиевского; «Цветок-Татарник. В поисках автора “Тихого Дона”: от Михаила
Шолохова к Федору Крюкову» А. Макарова и С. Макаровой; «Литературный котлован.
Проект “Писатель Шолохов”» Зеева Бар-Селлы; «Анти-Ахматова» Катаевой-Топорова;
«Сатанинские зигзаги Пушкина» Мадорского; и, конечно, «Прогулки с Пушкиным»
Терца. (В этом же ряду, но применительно к другой национальной культуре –
направленная против «стратфордианской школы» книга Ильи Гилилова «Игра об Уильяме
Шекспире, или Тайна великого феникса». Но это вовсе не «проверка» англичан, не
диверсия по отношению к Англии и английской литературе, а вызванное
исследовательской жаждой истины и потому наиболее убедительное слово по т. н.
«шекспировскому вопросу»).
Что не позволяет относиться к этим работам спокойно и без лишних эмоций? Именно
СОКРАЩЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ, в результате чего мышление способно двигаться лишь по
незамысловатой прямой: за – против; сбросить с пьедестала (с парохода современности) –
водрузить на пьедестал, – только так воспринимается критическое переосмысление
незыблемых якобы установок. И по той же причине оно (мышление) оказывается не в
состоянии оперировать наиболее важными в своём деле заповедями – теми, что
сформулировали столь достойные мужи как Гераклит: всё течёт, всё изменяется; Сократ: я
знаю, что я ничего не знаю; и с детства незабвенный Карлсон: спокойствие, главное –
спокойствие!
А получается вот что. Если Пушкин (или Гоголь) не центр, не источник, а сам является
продуктом традиции, то весь пушкиноцентричный мир русской литературы вмиг теряет
всякое реальное содержание и смысл, и перед исследователем открывается чистое поле.
Оказывается, что совершенно не известен контекст, не установлены корни традиции, её
центр и источник. И потому естественная наша сверхзадача – восстановить контекст во
всём его многообразии, определиться с истинными ориентирами, путём научнофилософского анализа и синтеза – без формализма, без предвзятости – найти центр
искомой Традиции.
2. ИСХОДНАЯ ПОЗИЦИЯ
Почти сорок лет минуло с того дня, когда, отправившись в школу – первый раз в первый
класс, на торжественной линейке я получил в подарок изданную киевской «Весёлкой»
книжицу «Бородино» – стихотворение М. Лермонтова с хорошими иллюстрациями А.
Кондратьева. Пожалуй, это было первое чётко оформленное знакомство моё с большой
русской литературой, хотя уже в дошкольные годы больше в подсознание, чем в сознание
успели проникнуть стихи и сказки Пушкина, Ершова, Некрасова, Сурикова: «Как ИванЦаревич Птицу-жар поймал; Как ему невесту Серый волк достал. Слушаю я сказку, –
Сердце так и мрёт; А в трубе сердито Ветер злой поёт…»
С тех пор классическая русская словесность большими дозами систематически входила,
как говорится, в плоть мою и кровь, постепенно оформившись в некую сущностную
платформу, так или иначе определяющую сознание. С тех пор остались в нём в качестве
изначальной литературной субстанции многие вещи, которые ни при каких
обстоятельствах не могут быть отброшены как пережиток. По причине не только своей
изначальности, но и ввиду чисто литературного совершенства. Например: «Не ветер
бушует над бором, Не с гор побежали ручьи, Мороз-воевода дозором Обходит владенья
свои. Глядит – хорошо ли метели Лесные тропы занесли, И нет ли где трещины, щели, И
нет ли где голой земли? Пушисты ли сосен вершины, красив ли узор на дубах? И крепко ли
скованы льдины В великих и малых водах?»
Или же: «Мороз и солнце; день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный, Пора,
красавица, проснись: Открой сомкнуты негой взоры Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись! Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, На мутном небе мгла носилась;
Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачные желтела, И ты печальная сидела – А
нынче… погляди в окно: Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на
солнце, снег лежит; Прозрачный лес один чернеет, И ель сквозь иней зеленеет, И речка
подо льдом блестит».
…Потом были – «Дубровский» в 5-м классе, «Тарас Бульба» – в 6-м, «Капитанская дочка»
– в 7-м, «Евгений Онегин» и «Герой нашего времени» – в 8-м, а также кинофильмы
«Руслан и Людмила», «Выстрел» (с М. Козаковым), «Ночь перед рождеством»,
мультфильм «Мёртвые души», в котором – ещё задолго до знакомства с текстом – хорошо
запомнилась сцена «Чичиков в гостях у Ноздрёва»: «– Вот граница! – сказал Ноздрев: –
всё, что ни видишь по эту сторону, всё это моё и даже по ту сторону, весь этот лес,
который вон синеет, и всё, что за лесом, всё моё». – И так моё знакомство с большой
русской литературой – и параллельно формирование литературного сознания –
продолжалось вплоть до первого прочтения «Мастера и Маргариты» в 1988 году. А
дальше – многократные переосмысления…
Однако и переосмысления бывают разными – изнутри и снаружи. Вот, например,
львовянин Юрий Винничук в статье «Уроки російської літератури» («Пост-Поступ»
№2(53) березень 2011) «переосмысливает» русскую литературу в том смысле, что
Пушкин-де «звичайний епігон Еваріста Парні та Андре Шеньє», «що людина, начитана у
світовій літературі, легко побачить усю вторинність роману «Майстер і Маргарита»»,
а потому изучать в украинской школе «вторичных» Пушкина с Булгаковым вовсе не
стоит, так же как и Грибоедова, Фонвизина, Островского, Крылова, не говоря уж про
«різних успєнскіх, сухово-кобиліних і боборикіних».
Учитывая тот факт, что Винничук – не только главный редактор газеты «Пост-Поступ»,
но ещё и автор ряда художественных вещей («Діви ночі», «Мальва Ланда», «Весняні ігри в
осінніх садах» тощо), становится интересно заглянуть в его собственные творения.
Открываем наугад и… «Взагалі, коли чесно, Віра мала на мене найбільші права – адже це
я її позбавив невинності. Живучи в Галичині, ви не можете бути певні того, що привівши
до хати дівчину, ба, навіть лишивши її на ніч, ви її вграєте, вона може виявитися
цілочкою і говорити щось про чисті почуття. Цілочки бувають різні, одні не дозволять
скинути з себе навіть мештів, інші скинуть все, але до істеричного стану будуть
боронити свої майтки». – И что тут скажеш? Мягко выражаясь, это не слишком
блестящий стиль для того, кто рассуждает об «эпигонстве» Пушкина и «вторичности»
Булгакова! Понятно, что в таком случае и «переосмысление» будет соответственным:
рассуждая о литературных образцах, автор просто не в силах подняться до их
сущностного уровня, а потому норовит опустить их до своего.
А то ещё можно вернуться к вышеприведенному примеру «переосмысления» русской
истории не ко сну помянутым Ерофой – к его т. н. «Энциклопедии русской души».
Главным и, пожалуй, единственным содержанием является здесь глубинная ненависть к
России, из чего вытекает и всё «переосмысление». В результате мы видим вовсе не
заявленную «энциклопедию», а нечто из разряда «Большое в маленьком, или Рассказ о
том, как маленький Ерофеев воспринимает большую Россию», иначе говоря, попытка
вместить океан в табакерку. Что же до наличия в этом «русской души», то разве что в
смысле душевной трагедии псевдо-русского литератора Ерофеева.
Короче говоря, ничего хорошего не может быть в принципе, если «переосмысление»
предмета затевается снаружи – людьми, не знающими и не чувствующими предмет. Для
того, чтобы «переосмысление» было реальным, оно должно быть органично, то есть
пребывать в органичной связи с предметом, исходить изнутри организма и быть движимо
не злобой-ненавистью, но любовью.
Итого – суммируя всё вышесказанное и во избежание вероятных обвинений в диверсии –
отмечу, что единственным двигателем в моём случае является любовь к русской
литературе, – и сколь бы радикальными ни были последующие переосмысления, но
вызваны они потребностью видеть её во всей глубине и сложности, не ограниченной
никакими идеологическими рамками и стереотипами.
3. ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
Когда же и как возникла потребность в переосмыслении? А дело было так. По мере
внедрения в предмет, а попросту говоря чтения, информация накапливалась, что
естественным образом вело к расширению горизонта. Из русской литературы т. н.
«второго ряда» первой книгой, которую мне довелось прочитать, был роман Ивана
Лажечникова «Ледяной дом». Затем – произведения малых форм из серии «Русская
романтическая новелла», в частности, «Испытание» и «Лейтенант Белозор» БестужеваМарлинского, «Эротида» Вельтмана, «Концерт бесов» Загоскина, «Странный бал»
Олина… Ничто не предвещало «переосмысления» – по своим литературным
достоинствам перечисленные вещи не шли ни в какое сравнение с усвоенной со школьной
скамьи классикой и вполне соответствовали статусу «второго ряда». Однако… всё в
одночасье изменила повесть Полевого «Блаженство безумия»:
«Что такое успели мы разгадать нашим умом и выразить нашим языком? Величайшая
горесть, величайшая радость – обе безмолвны; любовь также молчит – не смеет, не
должна говорить… Вот три состояния души человеческой, и при всех трех уму и языку
дается полная отставка! Все это человек может еще, однако ж, понимать; но что, если
мы осмелимся коснуться тех скрытых тайн души человеческой, которые только
ощущаем, о существовании которых только догадываемся?..» – Написанная в духе
«неистового» мистического романтизма повесть поражает как совершенством формы, так
и необычностью идейного содержания. Ничего подобного в «канонической» русской
литературе рассматриваемого периода не просматривалось. Идеи выходили за пределы
привычного рационалистического сознания, свойственного пушкинской прозе, и в то же
время – в противовес удушающей атмосфере Гоголя – были наполнены мощной
жизненной энергией. Не могло быть никаких сомнений в том, что эта была сокрытая от
массового читателя ЗВЕЗДА ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ:
«Антиох открыл мне новый мир, фантастический, прекрасный, великолепный – мир, в
котором душа моя тонула, наслаждаясь забвением, похожим на то неизъяснимосладостное чувство, которое ощущаем мы, купаясь в море или смотря с высокой,
заоблачной горы на низменное пространство, развивающееся под ногами нашими...
«Леонид! – говорил мне Антиох, – человек есть отпадший ангел божий. Он носит семена
рая в душе своей и может рассадить их на тучной почве земной природы и на лучших
созданиях Бога – сердце женщины и уме мужчины! Мир прекрасен, прекрасен и Человек,
этот след дыхания божьего. Бури низких страстей портят, бури высоких страстей
очищают душную его атмосферу и сметают пыль ничтожных сует. Любовь и дружба –
вот солнце и луна душевного нашего мира! К несчастию, глаза людей заволокает темная
вода: они не видят их величественного восхождения, прячутся в тени от жаркого полдня
любви и пугаются привидений священной полуночи дружбы или больными, слабыми
глазами не смеют глядеть на солнце и спят при серебристом свете месяца. Тяжело
тому, кто бродит один бодрствующий и слышит только храпенье сонных. Пустыня
жизни ужасна – страшнее пустынь земли! Как грустно смотреть, если видишь и
понимаешь, чем могли б быть люди и что они теперь!»»
Из одной только вышеприведённой цитаты можно понять и главную причину забвения
данного писателя – его ярко выраженное идеалистическое мировоззрение, идущее вразрез
с идейным «мейнстримом» 2-й половины XIX века, не говоря уж про марксизм-ленинизм
советской эпохи. Вот и не мудрено, что звезда Николая Полевого оказалась вне поля
зрения астрономов отечественного литературоведения. И дело здесь вовсе не в недостатке
таланта, ибо последовательное знакомство с творчеством писателя свидетельствует о
прямо противоположном. Перу Полевого принадлежит великое множество
художественных, публицистических и исторических произведений. Прозе его
свойственны разносторонность и разнообразие:
«Живописец» – одно из ключевых и вершинных произведений русского романтизма, но
это уже не «неистовый» романтизм «Блаженства безумия», а романтизм реалистический;
«Рассказы русского солдата» – а это уж и вовсе не романтизм, а самый что ни есть
натуральный реализм;
«Повесть о Симеоне, Суздальском князе» (первоначальное название – «Симеон
Кирдяпа») – первая историческая повесть Полевого, который наряду с Булгариным,
Загоскиным, Лажечниковым и Рафаилом Зотовым является одним из основоположников
русской исторической прозы. Причём, «закваска» здесь вовсе не Вальтер-Скоттовская с
акцентом на авантюрный сюжет, историческая проза Полевого – это попытка
философского осмысления исторических событий, «историософская реконструкция» того
же ряда, что и произведения таких авторов ХХ века как Ян, Ладинский, Балашов. Итогом
данного направления у Полевого является роман из византийской истории «Иоанн
Цимисхий» (1841 г.).
«Старинная сказка о судье Шемяке с новыми присказками» – блестящая импровизация
на фольклорную тему, демонстрирующая виртуозность Полевого-стилиста…
Таким образом, возникла серьёзная предпосылка для мысли о том, что русская литература
гораздо шире и глубже, нежели устоявшиеся о ней представления. Вслед и параллельно с
Полевым открылись мне значение и глубина «Русских ночей» и других произведений
философа-романтика Владимира Одоевского, а затем пришёл черёд и для «Фрегата
“Надежда”» Бестужева-Марлинского и таких в высшей мере необычных произведений
как «Странник», «Кощей бессмертный», «Светославич, вражий питомец»
«модерниста» Вельтмана.
Ввиду открывшихся горизонтов – а стало быть, и возможности сравнивать, – совсем по
иному стали восприниматься с младых лет знакомые рассказы и повести «канонических»
писателей. Тогда и произошла первая проба упорядочить перемешавшиеся c новыми
знаниями старые чувства – и была она приурочена к 200-летию со дня рождения
Владимира Фёдоровича Одоевского.
КНЯЗЬ В.Ф.ОДОЕВСКИЙ
Тезисы нового канона
Конечно, “Княжна Зизи” имеет более истины и занимательности, нежели
“Сильфида”, но всякое даяние Ваше благо… “Сильфиду” ли, “Княжну” ли, но
оканчивайте и высылайте. Без Вас пропал “Современник”.
(Из письма Пушкина Одоевскому)
11 августа 2003 года не вызвало в среде почитателей русской литературы сколько-нибудь
заметного оживления. Между тем, этого дня отмечался 200-летний юбилей Владимира
Федоровича Одоевского, русского писателя-романтика, видного общественного деятеля
ХIХ века (годы жизни: 1803* -1869). *По другой версии – 1804
Кто же такой писатель В.Ф.Одоевский? Каково его место в каноне русской литературы?
Соответствует ли отведенное ему место действительному его значению?
Прежде, чем самому ответить на эти вопросы, приведем мнение по этому поводу
советских литературоведов.
А.Н.Соколов. История русской литературы ХIХ века (1-я половина). Москва. Высшая
школа 1970 год:
“Универсально образованный человек и философ, музыкант и музыкальный критик..,
Одоевский в своих литературных произведениях отразил переходное состояние русской
литературы. Одним из излюбленных его жанров была романтическая, философскомистическая повесть… Большее значение имели бытовые повести Одоевского, в
которых нашли выражение реалистические тенденции… Светская повесть Одоевского
далека от шаблона, который сложился в те годы. Однако и Одоевский ограничивается
критикой “нравов”, не поднимаясь до той социальной критики дворянского общества,
которую можно найти в произведениях его великих современников: Грибоедова, Пушкина,
Лермонтова, Гоголя. Чужды Одоевскому и демократические тенденции названных
писателей в их изображении “маленького человека”… Если при этом вспомнить, что
философско-эстетические
взгляды
Одоевского
носили
ярко
выраженный
идеалистический характер, то мы поймем, почему этот талантливый писатель и
энциклопедически образованный человек, несмотря на наличие прогрессивных элементов в
его творчестве, не занял видного места среди передовых деятелей русской литературы и
общественной мысли 30-х гг”. (Указанное сочинение, сс. 335-336).
Е.А.Маймин. Владимир Одоевский и его роман “Русские ночи”:
“Долгое невнимание к В.Одоевскому объясняется скорее резким своеобразием
литературного дарования автора “Русских ночей”, нежели недостатками дарования.
Историко-литературное значение его творчества, быть может, не до конца осознанно и
определено, но в целом оно неоспоримо. В.Одоевский был открывателем новых жанров.
Один из виднейших представителей философского романтизма в России, он был автором
не только первого русского философского романа, но и философских новелл…” (В книге:
В.Ф.Одоевский. Русские ночи/серия “Литературные памятники”. Ленинград. Наука. 1975
год. Сс 257-248).
Однако, несмотря на относительное признание творчества В.Ф.Одоевского, как это видно
из приведенной цитаты Маймина, место его остается на маргинесе литературного канона.
Почему так?
Тут следует обратить мысль на условия создания канона. Начиналось с “неистового”
Виссариона Белинского, который буквально костьми лег, чтобы направить литературный
процесс в “реалистическое” русло. Линию эту подхватили “революционные демократы”
века ХІХ-го, а затем восприняли “советы”. Ключевой здесь была идея социальной
революции, для воплощения которой в литературе необходимо как раз то, о чем пишет в
вышеприведенной цитате советский литературовед Соколов.
Во-первых, реализм как метод. В этом случае менее всего возможно проникновение в
литературную ткань идей мистических и иррациональных. Такие исключения, как
“магический реализм” Гоголя и Достоевского, можно было рассматривать в качестве
литературных приемов.
Во-вторых, литератору чуть ли не вменялась в обязанность “социальная критика
дворянского общества”. (Часто эту критику находили даже там, где ее, по сути, не было:
например, в “Герое нашего времени” Лермонтова).
В-третьих, демократизм писателя определялся наличием в его творчестве “темы
маленького человека”. Маленького – значит заурядного, “типического” – в отличие от
романтической сильной личности, противопоставленной окружению.
Таким образом, при формировании канона писатели романтического лагеря оказывались
на втором и третьем планах. И сколько бы ни был талантлив и интересен В.Ф.Одоевский,
исходя из данного постулата, его все же нельзя было поставить в один ряд с “великими
современниками”, величие которых, по мнению Соколова и Ко, именно в приверженности
их идее социальной революции.
Но у романтиков иное: у них имеет место критика не строя, а человеческого общества как
такового, изначальное противоречие “энтузиаста” с миром “филистеров”. И проблема из
социального плана переносится в психологический, а затем – в духовный.
Разрешима ли данная проблема вообще?
С позиции материализма – нет. Социалисты твердили о несовершенствах общества
угнетения и как на панацею указывали на новый справедливый строй. Как видим, они
жестоко просчитались, потому как человек остается все тем же – со всеми пороками. По
этой причине путь развития литературы и искусства, базирующихся на идеях
материализма и атеизма, неизбежно приводит к вырождению.
С позиции же философского идеализма проблема противостояния человека и
несправедливого общества – разрешима. Но не сугубо в этом мире. Она разрешима
мистически.
Идеализма же и писателей, стоявших на ярко выраженных идеалистических позициях,
творцы канона боялись, как черт ладана.
Однако советская система, утвердившая этот канон авторитетом “единственно
правильного учения”, уже более как 10 лет приказала долго жить. Не пора ли задуматься о
кардинальном пересмотре литературного канона, чья подпитка происходила во многом за
счет потерпевшей крах идеологии? Сегодня это – не более чем штамп, усвоенный со
школьной скамьи. Жесткий каркас, сооруженный кем-то с определенными целями, и
становящийся поперек горла при попытке его проглотить.
На ком же держится сей каркас? На Белинском? Нет, он скреплен слюной Белинского, а
держится на трех китах, имя которым: Пушкин, Гоголь и Лев Толстой.
Ого-го! Вот это имена! Попробуй подступись! Смотри, не расшиби лба! Ври да не
завирайся!
Но если чувствуешь неладное, в поисках истины не должен останавливать чей бы то ни
было авторитет, каким бы колоссальным он ни был. В данном случае нужно выйти из-под
воздействия его лучей, и просто-напросто заняться изучением той литературы, которую
мы очень плохо знаем: русской литературы XIX века.
Итак, Пушкин Александр Сергеевич – Солнце русской поэзии (выражение, кстати,
В.Ф.Одоевского), навсегда первый русский поэт, в чем нет никаких сомнений. В его
поэзии не стоит искать большой философии. Здесь нет лунного мистицизма Лермонтова
или грандиозного пантеизма Тютчева и Державина. Это не обличающий Гюго, не
плачущий Шевченко, не угрюмо вещающий Байрон, не демонический Бодлер. Это – идея
красоты, еще не выродившаяся в противостояние этики и эстетики.
Однако ошибка возникает, когда первенство в поэзии автоматически переносят на прозу,
публицистику и т.д. Забывая, что лирика и эпос имеют разную природу.
Охранители канона возложили табу на критику Пушкина, проведя его мумификацию. Но
вспомним эллинскую мифологию: какими несовершенными бывают порой боги! И вот
перечитывая, к примеру, “Повести Белкина”, убеждаешься, что из пяти пьес лишь две
выполнены на приличном уровне (“Выстрел”, “Станционный смотритель”). Что же до
трех оставшихся, то они ничем не превышают уровня Загоскина, Олина или Лажечникова.
Кроме того, обратим внимание на слова А.С., вынесенные нами в эпиграф. В отличие от
Лермонтова, от Державина, от Тютчева и Баратынского метафизический и мистический
аспекты достаточно чужды Пушкину. Не мудрено, что в социально-психологической
“Княжне Зизи” он видит “более истины и занимательности”, чем в философскомистической “Сильфиде”. Проблемы светского общества занимали его много больше,
были намного ближе и понятнее, нежели тонкая материя иного мира. Мистика же в
лучшем случае могла вдохновить его на сказки, на сон Татьяны, в худшем – на грубые
поделки вроде “Гробовщика”. Как бы там ни было, но это предпочтение, эта привязка к
светским делам стоила поэту жизни. Именно светское общество его в буквальном смысле
съело.
Далее. Николай Гоголь. Великий художник, открывший новую трактовку конституции
человека, что тоже не подвергается сомнению. Но ключом к его творчеству, к его роли и
месту, возможно, являются “Записки сумасшедшего”. Гений и помешательство – идея эта
как нельзя лучше относится к Гоголю. Вопрос в том, что несет его Гений? Ответ: тему
маленького человека, демонстрацию уродств общества маленьких людей, психических и
психологических болезней. Где выход? У Гоголя выхода нет: острейшим образом стоит
проблема положительного героя. Таким образом, тема болезни становится
основополагающей в каноне русской литературы. Подход чрезвычайно интересный,
требующий изучения, как это делается в книге Абрама Терца “В тени Гоголя”. Но на этот
ли только маяк следует ориентироваться? Где же идеи здоровья? Они выбрасываются на
маргинес: “Фрегат “Надежда” Марлинского, “Мечты и жизнь” Полевого, “Двойник”
Погорельского, “Русские ночи”, “Косморама” и “Сильфида” Одоевского – хорошо ли
изучены эти произведения?
Ну и наконец – столп канона Лев Толстой. Наряду с Гомером, Данте и Шекспиром один
из наиболее почитаемых писателей человечества. Но нам он открылся несколько с иной
стороны. В одном из центральных его произведений – “Смерти Ивана Ильича” – находим
мысль: “…ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь,
сознательная жизнь, была “не то”. Вот главная мысль “гениального” Толстого! Ничего
большего он не может вытянуть из своего рационалистического сознания, своей
философии. А ведь идеям “Смерти Ивана Ильича” в русской литературе можно
противопоставить идеи “Бригадира” и “Живого мертвеца” Одоевского, таких рассказов,
как “Между жизнью и смертью” Алексея Апухтина, “Сон смешного человека”
Достоевского, “Призраки” и “Клара Милич” Тургенева и, в конце концов, концепцию
“Околдованной жизни” и “Девахана” Елены Блаватской. Уверяю, что здесь мы найдем
гораздо большие пространства. Так стоит ли загонять русскую литературу в маленькую
комнату, в которой нет ни воздуха, ни света? Именно такой предстает пред нами
метафизика Льва Толстого в его трактатах “Исповедь” и “В чем моя вера?”, равно как и в
художественных произведениях, этой философией пропитанных.
Как и Гоголь, Л.Толстой под занавес пытается найти смысл жизни в религиознонравственной проповеди. У обоих это оборачивается подлинным мракобесием. “Мертвые
душат”, – по выражению Абрама Терца, – и они будут душить, пока не вырвешься из их
цепких объятий, пока не найдешь живых.
Тем более, что русская литература XIX века при более пристальном изучении предлагает
целую плеяду задвинутых на задний план писателей, не вписавшихся в свое время в
канон:
Н.Полевой,
А.Бестужев-Марлинский,
А.Погорельский,
А.Вельтман,
В.Кюхельбекер, А.К.Толстой, В.Одоевский…
Художественное наследие Владимира Одоевского при всей его разношерстности
составляет единую взаимодополняющую философскую концепцию. В нее входят и
социально-дидактические “Пестрые сказки” (1833), предвосхитившие гротескность
гоголевских “Петербургских повестей” и опусов Салтыкова-Щедрина; и светские, столь
любимые Пушкиным, повести “Княжна Мими” (1834) и “Княжна Зизи” (1839); и новеллы,
отображающие мистическое мировоззрение автора: “Сильфида” (1837) (много
превосходящая “Черного монаха” Чехова – повесть с той же идеей), “Орлахская
крестьянка” (1838), “Косморама” (1839), “Саламандра” (1841); и “Живой мертвец” (1839)
– своеобразный нравственный трактат, облеченный в художественную форму; и рассказ
“Живописец” (1839) – оттиск романтической идеи о несоответствии творческой личности
и окружающей реальности (эта тема в русской литературе наиболее ярко и проникновенно
разработана Н.Полевым в цикле “Мечты и жизнь”); и итоговое произведение – роман
“Русские ночи” (1844), включающий в себя множество философских прозрений:
“Здесь, в стоячем болоте, засыпают силы; как взнузданный конь, человек прилежно
вертит все одно и то же колесо общественной махины, каждый день слепнет более и
более, а махина полуразрушилась: одно движение молодого соседа – и исчезло
стотысячелетнее царство”.
“Слушайте и удивляйтесь… Я узнал теперь горьким опытом, что в каждом
произведении, выходящем из головы художника, зарождается дух-мучитель; каждое
здание, каждая картина, каждая черта, невзначай проведенная по холсту или бумаге,
служит жилищем такому духу. Эти духи свойства злого: они любят жить, любят
множиться и терзать своего творца за тесное жилище”.
“Но уже утро, господа. Посмотрите, какие роскошные, багряные полосы разрослись от
не восшедшего еще солнца; посмотрите, как дым с белых кровлей клонится к земле, с
каким трудом стелется по морозному воздуху, – а там… там, в недостижимой глубине
неба – и свет, и тепло, будто жилище души, – и душа невольно тянется к этому символу
вечного света…”
Следует отметить, что в художественном творчестве В.Ф. остается больше философом,
чем художником. Главным для него в любом случае является идейное содержание, порой
его повести напоминают философские, а то и откровенно дидактические, трактаты. С
одной стороны это несколько снижает художественный уровень, но с другой –
подчеркивает стремление создать четкую философскую систему.
Итак, в системе князя В.Ф.Одоевского мы нашли идеи, неподвластные времени,
сохранившие актуальность доселе; идеи, достойные лечь в основание нового канона
русской литературы.
«ЯрЪ»
(магазин литературных текстов, критики, религий и искусств, г. Ровно),
№ 4(17), август, 2003 г.
Прочтя данную статью спустя восемь лет с момента её написания, я убедился, отметил и
задумался… Убедился в правильности избранных тогда ориентиров, отметил пару-тройку
неточностей, обусловленных тогдашним недостатком знаний, а то и просто информации,
задумался над вопросом – достаточно ли этих знаний сегодня?
Конкретных уточнений всего два – во-первых, творческое наследие Михаила Николаевича
Загоскина весьма обширно и обладает достоинствами, много превосходящими
сомнительные достоинства «Повестей Белкина»; во-вторых, в случае с Гоголем
религиозно-нравственная проповедь, воплотившаяся в «Выбранных местах из переписки с
друзьями», при более зрелом прочтении оказалась вовсе не мракобесием…
Но даже и эти немногочисленные уточнения говорят о том, что осмысление предмета
было тогда ещё не совсем дозревшим. При правильном попадании в суть проблемы,
заключённую в фигурах Пушкина, Гоголя и Льва Толстого, это были ещё только
подступы, о чём красноречиво свидетельствует чистосердечное восклицание: «Ого-го!
Вот это имена! Попробуй подступись! Смотри, не расшиби лба! Ври да не завирайся!»
Здесь – с одной стороны – признание грандиозности предмета, а, следовательно, и
собственная к нему внутренняя (сознательная и подсознательная) причастность; с другой
– мысль о собственной соразмерности с этим предметом, мысль, заключённая в
простецком вопросе: А САМ ТЫ КТО ТАКОЙ БУДЕШЬ?
В недавно попавшей на глаза книге Татьяны Москвиной «Всем стоять!» наткнулся на
цитату из Евгения Шварца: «Когда-нибудь спросят: а что ты, собственно говоря,
можешь предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу
– большой, а сердце – справедливым». И потому, прежде чем браться за столь
грандиозную работу, необходимо задаться вопросом: по размеру ли примеряемая
туфелька, соразмерна ли душа, справедливо ли сердце?
II
ВЕРИТЕЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ
– Я извиняюсь, – заговорил он подозрительно, – вы кто такой будете? Вы – лицо
официальное?
– Эх, Никанор Иванович! – задушевно воскликнул неизвестный. – Что такое официальное
лицо или неофициальное? Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть на
предмет, все это, Никанор Иванович, условно и зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а
завтра, глядишь официальное! А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как
бывает!
Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита
– Молодой человек, – раздался его застольно-торжественный баритон, – понимаете ли
вы что творите? И это при таком скоплении почтенных и достойных людей. При двух,
можно сказать, руководителях… Подобное нарушение вертикали общения грозит
падением неминуемым, в чем вы уже чувствительно убедились, а тому, кто решается
выступить обвинителем, всегда нелишне предвидеть такой исход. Предъявите же
полномочия. Вы от какой будете организации?
– Это редактор «Калибурна»! – громко пояснила Секретина.
Ирина Корсунская. Карета Божьей помощи
…И это действительно вопрос. Кто ты такой, чтобы посягать на общепринятые истины?
Критик новоявленный? Литературовед? А подтверждающий статус документик у тебя
имеется? Может быть, ты доктор наук или на худой конец кандидат? Студиозусов
обучаешь? в академических сборниках печатаешься? Нет?! Тогда ты, батенька, просто
самозванец!
Что ж, возможна и такая аргументация. Да вот беда – люди, пишущие диссертации, как
правило, наукой-то и не занимаются. Их цель – карьера, физическое выживание,
устройство личной судьбы, всё что угодно, но только не наука. Впрочем, подобный
конформизм присущ не только современности – о том же находим свидетельство и в
конце XIX века:
«В углу каюты, на соседних койках, лежали двое студентов и беседовали о том, что
прежде в университете занимались более естественными науками, а теперь настали совсем
другие времена: студенты уже менее заняты исследованиями и наблюдениями, а более
ударяют в практические науки и более думают о том, как составить себе будущность. Они
рассказывали друг другу разные анекдоты про своих профессоров, которые стали
практичны не менее студентов и для примера своим слушателям хлопочут более о теплых
местечках, чем о научном усовершенствовании». (Роман «Знамения времени» Даниила
Лукича Мордовцева)
Однако если сто лет назад это выглядело ненормально, то в эпоху постмодернизма такое
положение вещей, войдя в норму, подчинило себе сам смысл научной академической
деятельности, сделав его псевдонаучным и псевдоакадемическим. Причина этого
коренится в самой природе вещей – срабатывает принцип, когда внутреннее развитие
ситуации приводит к подмене содержания формой. Формулировку данного принципа
находим в сочинении «Учение и ритуал высшей магии» французского оккультиста
Альфонса Луи Константа (1810-1875), более известного под именем Элифас Леви:
«Человек увлекается формой и забывает идею; знаки, умножаясь, теряют свою силу…
Люди, устав от света, укрываются в тени телесной субстанции; мечта о пустоте, которую
наполняет Бог, скоро кажется им больше самого Бога; ад создан». – При этом учёный муж
вносит существенное уточнение: «Когда в этом сочинении я буду пользоваться
освященными временем словами: Бог, Небо, ад – да будет раз навсегда известно, что я
столь же далек от смысла, придаваемого этим словам профанами, как посвящение – от
вульгарной мысли. Для меня Бог – Азот мудрецов, действующий и конечный принцип
великого дела». (Цитируется по изданию Дион Форчун «Тайное без вымыслов»; Элифас
Леви «Учение и ритуал высшей магии»; издательство «REFL-book», 1994)
То, во что ныне выродилась система высшего образования, может быть обозначено как
ФОРМАЛИЗАЦИЯ НАУКИ. Высшее образование как САМОЦЕЛЬ, составными частями
которой являются, во-первых, «корочка», то есть знак, фиксирующий получение
«высшего образования» и, следовательно, подтверждающий наличие оного и
несомненную принадлежность к нему. От иного обладателя двух таких «корочек»
приходится слышать, что у него, дескать, не просто высшее образование, а два высших
образования. Вот это и есть подмена идеи формой, непонимание того, что образование – а
тем более высшее – может быть только одно! Человек может быть либо образован, либо
необразован, – и определяется образованность вовсе не наличием «корочки» и не их
количеством, а реальными знаниями.
Вторым знаком – следующей ступенью – формализированной науки является учёная
степень, достигаемая посредством написания диссертации. Что же такое диссертация? По
идее это должно быть НОВОЕ СЛОВО – большое или маленькое – в науке, то, что в той
или иной степени расширяет научный горизонт. Но так ли в реальности?
Ознакомиться с образцами диссертационной мысли замкнутой на себе вузовской системы
человеку со стороны не представляется возможным, ибо они, как правило, не имеют
никакого продолжения в виде выходящих в широкое потребление монографий. Однако
получить представление о главном принципе их написания можно по многочисленным
«научным» статьям представителей «вузовской науки». Принцип этот называется
«переливание из пустого в порожнее» и состоит в том, что поднимаемый вопрос-проблема
придумывается на пустом месте, и по этому выдуманному поводу развивается пустая
наукообразная канитель.
С подобным сталкиваешься повсеместно – начиная от центральных академических
журналов и заканчивая «научными» сборниками провинциальных вузов. Примером
наукообразного «творчества» может служить статья «Две реальности «Мастера и
Маргариты»», напечатанная в журнале «Вопросы философии» № 2 за 1990 год. Её автор –
доктор философских наук, главный научный сотрудник Института социологии АН СССР
Л. Г. Ионин – на 12-ти страницах журнального текста только тем и занимается, что льёт
воду. Правда, не простую воду, а наукообразную:
«Теперь можно ответить на поставленные выше вопросы: интерпретация каких-то
фактов как символов ведет не к установлению коммуникации с другими сферами
реальности, но к «превращению» их из символов в знаки, т. е. к редуцированию
трансцендентного к повседневности.
Лишь только факт интерпретируется как подлежащий ведению представителя
милиции, или психиатра, или служителя культа («Окропить помещение!» – командовал
домоуправ Босой), – он превращается в обычный нормальный факт повседневности,
поскольку в повседневности имеются орудия для обращения с этим фактом.
В таком случае то, что Шюц именует символом, лучше считать симптомом –
симптомом «болезни» повседневности. Когда же симптом осознается в качестве
такового, задачей повседневных деятелей становится: предпринять все возможное для
его элиминации.
Таков булгаковский (имплицитно содержащийся в романе) вариант истолкования
повседневности как особой смысловой сферы. Для этой интерпретации характерна
закрытость повседневной жизни, ее отталкивание от трансцендентных сфер».
Это фрагмент из середины – но та же картина и в начале, и в конце: вместо смысла его
имитация, перетекание одних слов в другие без какой-либо необходимости (что одни, что
другие – суть дела от этого не меняется в связи с отсутствием самого дела). Вода, где
невозможно зацепиться ни за постановку вопроса, ни за какие-либо выводы, сплошной
поток рассуждений без конечной цели, без первоначального импульса, без энергии, и,
следовательно, БЕЗ ЖИЗНИ.
Или же статья «Стихосложение А. Кондратьева: метрика и строфика», напечатанная в
сборнике «Александр Кондратьев: исследования, материалы, публикации. Выпуск 2»
(Ровно, 2010). Ее автор – доктор филологических наук Ю. Б. Орлицкий (Москва) – на пяти
страницах занимается подсчетом и установлением в творчестве Александра Кондратьева
процентного соотношения различных стихотворных размеров: «…абсолютным лидером
среди размеров, используемых Кондратьевым в лирике, оказывается трехстопный
анапест, которым целиком написано более 29 (17,3 %) лирических стихотворений; еще
17 стихотворений написано разностопными вариантами этого метра, что доводит
суммарное количество стихотворений, в которых используется анапест, до 46 (27,5 %) –
доля, о которой ни один трехсложник не мог и «мечтать» в репертуаре ни одного
русского поэта!» – Решил, что называется, поверить поэзию не алгеброй даже, а
бухгалтерией! При этом мимоходом сделал уникальное открытие – непонятно, правда, к
какой науке относящееся – о способности стихотворных размеров мечтать.
Пускай это только «фигура речи», но уже само её употребление свидетельствует о
специфике мышления. Хвост виляет собакой. Анапест мечтает, чтобы поэты
предпочитали именно его. Вот это и есть та обманка, имитация, а говоря по-современному
– симулякр, что является основой постмодернистской ситуации как в искусстве, так и в
том, что его окружает – в частности, в «вузовской науке». И поскольку понятие это
основополагающе, то весьма нелишним будет привести выбранное из множества других
наиболее чёткое его определение.
«СИМУЛЯКР (франц. – стереотип, псевдовещь, пустая форма) – одно из ключевых
понятий постмодернистической эстетики, занимающее в ней место, принадлежащее в
классических эстетических системах художественному образу. Симулякр – образ
отсутствующей действительности, правдоподобное подобие, лишенное подлинника,
поверхностный, гиперреалистический объект, за которым не стоит какая-либо реальность.
Это пустая форма, самореференциальный знак, артефакт, основанный лишь на
собственной реальности.
Бодрийяр, чья теория эстетического симулякра наиболее репрезентативна, определяет его
как псевдовещь, замещающую «агонизирующую реальность» постреальностью
посредством симуляции, выдающей отсутствие за присутствие, стирающей различия
между реальным и изображаемым. <...> Эра знаков, характеризующая западноевропейскую эстетику Нового времени, проходит несколько стадий развития, отмеченных
нарастающей эмансипацией кодов от референтов. Отражение глубинной реальности
сменяется ее деформацией, затем – маскировкой ее отсутствия и наконец – утратой какойлибо связи с реальностью, замена смысла анаграммой, видимости – симулякром.
Перекомбинируя традиционные эстетические коды по принципу рекламы,
конструирующей объекты как мифологизированные новинки, симулякр провоцирует
дизайнизацию искусства, выводя на первый план его вторичные функции, связанные с
созданием определенной вещной среды, культурной ауры. Переходным звеном между
реальным объектом и симулякром является кич как бедное значениями клише, стереотип,
псевдовещь. <...> Эстетика симулякра знаменует собой триумф иллюзии над метафорой,
чреватый энтропией культурной энергии. <...> Сравнивая культуру 20 века с засыпающей
осенней мухой, Бодрийяр указывает на риск деградации, истощения, «ухода со сцены»,
таящийся в эстетике симулякра». (Источник: Культурология XX век. Словарь. Спб., 1997.
с.423)
Таким образом, как говорил Элифас Леви, ад создан. «Вузовская наука» представляет
ныне не что иное как симулякр науки. По сути это АНТИСИСТЕМА со всеми ее
признаками, как то шаблонность, уничтожение творческого начала, полное возобладание
количества над качеством (чему свидетельство огромное количество формальных
диссертаций), формы над содержанием.
Это, конечно, не значит, что в вузовской среде не может быть достойных ученых, – это
значит, что сама эта среда не способствует делу. Приходится выбирать: или диссертация,
или дело, потому как принадлежность к антисистеме – к ее знаковому обозначению – по
природе своей (вернее антиприроде) выхолащивает дело, лишает его реального
содержания, оставляя лишь дёргающуюся оболочку.
В то же время понимание сути антисистемы позволяет противостоять ей. Исходя же из
приведённого нами определения, смысл противостояния в данном случае состоит в
наполнении дела реальным содержанием. Но что для этого необходимо? Ни много ни
мало – знание предмета; непосредственность; энергия; чёткие ориентиры. Посему
избранный нами метод базируется на трёх китах, содержащих в своём естестве всё
необходимое, – а именно литературоведении, публицистике, метафизике.
Литературоведение является здесь основой, поскольку исследуемый предмет находится в
его пространстве. Следовательно, обладание глубокими знаниями, а также умение ими
пользоваться является реальной основой данного дела. Вместо постмодернистской
методики переливания из пустого в порожнее – старый дедовский метод анализа и
синтеза. Согласно «Словарю иностранных слов», анализ есть метод научного
исследования, состоящий в мысленном или фактическом разложении целого на
составные части; синтез есть метод научного исследования какого-либо предмета,
состоящий в познании его как единого целого, в единстве и взаимной связи его частей.
Живя в эпоху постмодернизма, следует фиксировать каждый свой шаг, каждое слово,
каждое действие. Для подстраховки. Чтобы потом не оказалось, что данное слово, шаг,
действие «проинтерпретированы» в каком-то другом смысле.
Деятели научного (антинаучного) симулякра установили, что научный стиль обязательно
должен быть сухим и неинтересным, исключать всякое проявление художественности и
публицистичности. Таким образом они избегают заостренности, энергетичности, а
следовательно и конкретности. В противовес этому в своих научных изысканиях мы
используем элемент публицистичности, что позволяет чётко направить острие стрелы,
зарядить его необходимой энергией, наполнить мысль непосредственным, а не
выдуманным смыслом.
Для того же, чтобы мысль подобно щепке не носило в бескрайних просторах бесконечных
пространств, необходимо иметь чёткие ориентиры. В этом и состоит предназначение
метафизики – чёткие ориентиры вместо свойственных постмодернистскому симулякру
умышленных затемнения и размытости. Для нас такими ориентирами являются основы
всемирного гнозиса, сформулированные в различных источниках – в священных книгах
мировых религий, в метафизических трудах посвященных философов всех времен и
народов, в частности, у Платона и неоплатоников, Шанкары и Шеллинга, Элифаса Леви и
Е. П. Блаватской, Владимира Шмакова и К. Г. Юнга, Идриса Шаха и Антуана де СентЭкзюпери…
В центральном своём произведении «Учение и ритуал высшей магии» Элифас Леви
говорит: «Эта работа относится только к науке; но магия или, вернее, магическая
сила, состоит из двух вещей: знания и силы. Без силы наука – ничто или, вернее,
опасность. Давать знание только силе – таков высший закон посвящения. Поэтомуто и сказал великий открыватель: «Царство Божие терпит насилие, и сильные
похищают его». Врата истины закрыты, подобно святилищу девы, чтобы войти,
нужно быть мужчиной. Все чудеса обещаны вере; но что такое вера, как не смелость
воли, которая не колеблется во мраке и идет к свету через все испытания,
преодолевая все препятствия». – Да будут эти слова девизом наших изысканий!
P. S. Но вернёмся к тому, с чего начали – к верительным грамотам, то бишь предъявлению
полномочий. И поскольку в силу всего вышесказанного таковыми могут быть лишь
реальные знания, продемонстрированные в реальном деле, в качестве верительных грамот
предъявляются собранные здесь эссе.
УКРАИНСКИЙ ФОКУС
а) ОТТОРЖЕНИЕ ГОГОЛЯ
«Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но
вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с
другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи,
хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками
месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший
голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто
ни в чем не бывал, побежал далее».
Подобно месяцу из собственного произведения, оказавшемуся в чертовом кармане, сам
Николай Васильевич Гоголь – Солнце и Месяц украинской (и русской) литературы –
оказался в «Курсе зарубежной литературы», который ныне проходят (сказать «изучают»
язык не повернется) украинские школьники. Гоголь – автор «Вечеров…» и «Миргорода»,
а именно «Сорочинской ярмарки», «Вечера накануне Ивана Купала», «Майской ночи»,
«Пропавшей грамоты», «Ночи перед Рождеством», «Страшной мести», «Вия» и «Тараса
Бульбы» – повестей, в которых заключено украинское рациональное и иррациональное,
украинские ментальность и дух – в «Курсе зарубежной литературы», что значит, «за
рубежом».
Главной и, пожалуй, единственной причиной этого парадокса, этого абсолютно
неестественного положения вещей является, конечно же, языковая принадлежность. Раз
не на украинском, значит не украинский. Но формулировка эта грешит крайним
упрощенчеством. Спору нет, язык относится к числу нациообразующих факторов, однако
ни в коем случае нельзя абсолютизировать этот фактор (как и любой другой). Особенно,
когда ситуация складывается весьма и весьма специфическая. Здесь уместно провести
параллели с теми национальными культурами, где ситуация также не однозначна.
Шарль де Костер, Эмиль Верхарн, Морис Метерлинк – три кита, на которых держится
бельгийская литература – писали не на фламандском, а на французском. Но в Бельгии, тем
не менее, никому не приходит в голову открещиваться от своего национального
достояния, запихивая его в «Курс зарубежной (на французском ведь!) литературы.
Томас Мур, Уильям Батлер Йейтс, Джеймс Джойс – три знаменитых ирландца, гордость и
слава ирландской литературы – писали не на ирландском, а на английском, и с полным
правом принадлежат обеим культурам. Также как великий Джонатан Свифт – англичанин,
родившийся и большую часть жизни проживший в Дублине, чьи стихи можно найти в
сборнике «Поэзия Ирландии».
Известная финская сказочница Туве Янссон – создательница мумми-троллей – писала на
шведском, а ставшая визитной карточкой Швеции поп-группа «АББА» исполняла свои
песни исключительно на английском. Так что же, считают в Финляндии Туве Янссон
зарубежной писательницей, а в Швеции «АББА» зарубежной группой? Конечно же, нет.
Почему же Гоголь для нас зарубежный писатель? Я думаю, что это объясняется тем
фактом, что количество «йолопів» в Швеции, Финляндии, Бельгии, Ирландии гораздо
меньше, чем у нас.
В чем же специфика украинской ситуации? Прежде всего, в переплетении языковых
моментов с политическими с одной стороны, и общедуховными – с другой. В XIX веке, на
этапе становления собственно украинской литературы, Украина пребывала в составе
Российской империи, т. е. составляла с Россией единое государство. В этом смысле не
изменилась ситуация и во времена СССР. Довольно логичным в этих случаях
представлялось деление литературы по языковому признаку: пишущие на русском –
русские писатели, пишущие на украинском – украинские. Правда, возникал вопрос, как
быть с теми, кто писал на обоих языках? Ведь в творческом наследии таких признанных
классиков украинской литературы как Квитка-Основьяненко, Тарас Шевченко, Марко
Вовчок, М.Старицкий, а также у Е.Гребенки, Н.Костомарова, Д.Мордовцева объем
написанного на русском значительно превышает украиноязычную часть. Здесь
украинские литературоведы нашли простое решение: если хоть что-то написано на
украинском, значит можно считать писателя украинским, если ничего не написано –
нельзя считать. Но и тут исключение составил Сковорода, который никогда на
украинском не писал: для него придумали «староукраинскую мову», которая по сути
ничем не отличается от существовавшего в то время русского.
Но кардинальным образом ситуация изменилась, когда Украина стала отдельным
государством, когда жизненно важным вопросом стало формирование общеполитической
нации. Украина обрела государственность, и смысл понятия «украинцы» в корне
изменился. Отныне это понятие в широком (не этническом) смысле включает в себя всех
граждан Украины, основой же для формирования украинской нации должен стать
общедуховный потенциал всех, кто себя украинцем считает.
И тут уже чисто языковой принцип совершенно не срабатывает. Ведь что тогда
получается. Огромный процент украинцев (т. е. граждан Украины) родным языком
считает русский. И вот относящиеся к этой категории писатели (нередко талантливые)
автоматически оказываются «зарубежными»! В своей стране ты – за рубежом!
Таким образом, чтобы все стало на свои места, необходимо признать существование
украинской русскоязычной литературы. Тут все просто: есть государство Украина, и есть
его граждане, которые говорят по-русски и создают на этом языке литературные
произведения.
В
свете
понимания
нации,
как
общеполитического,
государствообразующего и поликультурного образования, эти писатели – не зарубежные,
а украинские!
Но остается вопрос: как разобраться с теми, кто был раньше, и, в частности, с Николай
Васильичем? На мой взгляд, к факторам, определяющим принадлежность писателя к той
или иной национальной культуре, помимо языка, этнического происхождения, места
жительства, следует отнести также внутренний вектор сознания самого писателя –
направленность его души. По этому поводу Николай Гоголь оставил свое собственное
суждение:
«Скажу вам … что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только,
что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед
малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая
из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой – явный знак, что они должны
пополнить одна другую».
Как видим, мысль здесь предельно ясна и не требует комментариев. Очевидно, что Гоголь
принадлежит двум культурам, двум литературам – как русской, так и украинской. То же с
полным правом можно сказать и о его литературном предтече Василии Нарежном, об
Оресте Сомове и Григории Данилевском, и о нашем земляке Александре Кондратьеве с
его замечательным этнографическим романом «На берегах Ярыни». Никто из них на
украинском не писал, но многие произведения этих незаурядных литераторов являются
украинскими просто по самому духу.
А вот повесть «Гори димлять» – наиболее крупное прозаическое произведение Ярослава
Галана – написана на польском. Но, вне всяких сомнений, принадлежит украинской
литературе. (Впрочем, если полякам угодно считать ее своей, от Галана не убудет).
Но вернемся к нашим баранам, ибо приведенные выше рассуждения – это одно, а
реальное положение вещей – другое. А реальность такова, что Гоголь задвинут в
«Зарубежную литературу», и таким образом происходит отторжение его, равно как и
многих других выдающихся личностей, от украинской национальной культуры. Иными
словами, от национальной культуры отторгается ее духовная элита. Взамен же
навязывается все, что угодно, лишь бы на украинском. Как, например, творения так
называемого «волынского Гомера» Уласа Самчука (а из него такой же Гомер, как из
Поплавского Магомаев!)
«В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиной бородою летал из трубы и
потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он прятал
украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц,
пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по
небу».
Первая публикация: журнал «VIP» от 3.09.2004
б) «ОТКРЫТИЕ» «ТАРАСА БУЛЬБЫ», ИЛИ «ОСТОРОЖНО: ПОДДЕЛКА!»
Грядет 200-летие Гоголя. Писателя, чьи произведения вошли в наше сознание еще со
школьной скамьи – в советской школе «Тараса Бульбу» изучали в 6-м, «Ревизор» – в 7-м,
а «Мертвые души» – в 8-м классе. И в то же время писателя крайне неоднозначного и
загадочного, во многом непонятого и доныне. Для Украины эта неоднозначность
усугубляется еще и тем, что, будучи чистокровным малороссом и посвятив
малороссийской теме ряд своих произведений, писал Николай Васильевич исключительно
на русском языке и утвердился как один из столпов русской литературы. Посему у
сторонников тотального самостийничества и возникает вольное или невольное желание
восстановить историческую справедливость, как она им видится.
О нечистоплотных переводах «Тараса Бульбы» на державну мову, в которых этнонимы
«Русь», «русский» заменяются на «Украина», «украинский», говорилось немало. Но этим
дело не ограничилось. Львовское издательство «Кальвария» в купе с автором украинских
детективов и – по совместительству – переводчиком с русского на украинский Василием
Шкляром решились на более изощренный подлог. Их совместный проект воплотился в
книжицу с надписью «Микола Гоголь – Тарас Бульба – першотвір», которая продается
ныне в украинских книжных лавках и преподносится не иначе как справжній «Тарас
Бульба». «Кальварія» пропонує Вам справжнього «Тараса Бульбу», – читаем в аннотации,
– якого ані європейці, ані самі українці майже не знають. Адже наші діти й досі
вивчають за шкільною програмою, «виправлену» на догоду російському цареві, версію
повісті». (Символично, что уже в аннотации имеют место грамматические ошибки:
неуместная прописная буква в местоимении «Вам» и совершенно лишние запятые во
втором предложении).
В предисловии к тексту повести переводчик Шкляр, представленный как «блискучий
стиліст, знаний в Україні письменник, автор інтелектуальних бестселерів, лауреат
багатьох літературних премій», пишет: «Більшість українських читачів навіть не
підозрюють, що вони ніколи не читали справжнього «Тараса Бульбу». Річ у тім, що цей
шедевр Миколи Гоголя вперше побачив світ 1835 року в його збірці «Миргород», але, як ми
знаємо, не кожен шедевр задовольняє офіційну критику. Занадто українською видалася ця
повість великоросам-бєлінським, і вони почали домагатися, аби Гоголь її спотворив на
їхній копил. А саме – «усіліл общєрускій ідєйний смисл». І ось 1842 року в другому томі
його «Сочинений» раптом з’явився новий варіант «Тараса Бульби». Твір побільшав на три
розділи, деякі його фрагменти, зокрема батальні сцени, набули ширшої деталізації,
зазнала змін і кінцівка повісті. Та водночас серед тих доповнень з’явилися свавільні
вкраплення «общєруского ідєйного смисла», які, пам’ятаю, зачіпали за живе навіть мою
ще школярську гордість. Ну, не міг я зрозуміти, чому це наші козаки помирають за
«рускую землю», а щирий козарлюга Бульба, згоряючи в лядськім вогні, пророкує: «Уже и
теперь чуют дальние народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире
силы, которая бы не покорилась ему!..»
Не иначе как из уязвленной еще в школьные годы гордости Шкляр решается на
«беспримерный подвиг» – отыскание «шедевра», злостно сокрытого шовинистами: «Ще
два роки тому справжнього «Бульби» в Україні не можна було знайти вдень зі свічкою, і,
щоб видати його, нарешті, в перекладі нашою мовою, оригінал довелося розшукувати в
Санкт-Петербурзі. Знайшли, переклали і видали…»
Трудно сказать, чего здесь больше – мошенничества или невежества. Начнем с самого
смешного: первый вариант «Тараса Бульбы» (редакция «Миргорода») в качестве
приложения систематически печатался в собраниях сочинений Гоголя, а также в
разнообразных сборниках русской исторической повести, особенно активно издававшихся
в перестроечное время. Только в моей личной библиотеке имеется четыре издания этого
варианта: во 2-м томе собрания сочинений 1952 г. (тираж 300 тыс.), аналогично в
собрании сочинений 1984 г. (тираж 700 тыс.), в двухтомном сборнике «Русская
историческая повесть» (Москва, 1988 г., тираж 500 тыс.), и в аналогичном сборнике
«Предания веков» (Киев, 1991 г. тираж 300 тыс.). А вот бедолаге Шкляру «диковинку» эту
«довелося розшукувати в Санкт-Петербурзі».
Не менее нелепым выглядит также желание представить читателям «оригинал»
произведения «в перекладі нашою мовою». Раз уж пошла такая борьба за восстановление
первоначального текста, который – как утверждает «Кальвария» – в свое время «викликав
шквал шовіністичної критики», то не логичней ли было бы издать его в первозданном
виде, чтобы читатель сам увидел, что к чему? Благо, русский язык у нас понимают все.
Но, видать, школярскую гордость Шкляра уязвляло не только желание казаков погибать
за русскую землю, но и тот факт, что сама повесть написана по-русски. И когда вырос,
решил он исправить досадную «ошибку» Гоголя, переведя его с ненавистной русской
мовы.
В своем предисловии переводчик сетует на российского посла Виктора Черномырдина,
который-де, возмущаясь искаженными переводами Гоголя, совершенно не прав. Он, мол,
просто не знаком с настоящим «Бульбой» – в настоящем-то ничего русского отродясь не
было. И здесь нет иного выхода, как просто уличить Василия Шкляра в заведомой
публичной брехне. Для этого возьмем его переклад на нашу мову и оригинальный текст
«Тараса Бульбы» (редакцию «Миргорода»).
У Гоголя: «Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли
только возникнуть в грубый XV век, и притом на полукочующем Востоке Европы, во
время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным,
нерешенным владением, к каким принадлежала тогда Украйна. Вечная необходимость
пограничной защиты против трех разнохарактерных наций – все это придавало какойто вольный, широкий размер подвигам сынов ее и воспитало упрямство духа… Когда
Баторий устроил полки в Малороссии…»
У Шкляра: «Бульба вдався упертим страшенно. Це була та затята натура, яку могло
породити лише свавільне XVI сторіччя, причому на дикому напівкочовому Сході Європи,
під час загарбницьких зазіхань на Україну, що стала тоді мовби нічиєю, проте для всіх
ласою землею. Споконвічна потреба боронити свій край від трьох різношерстих націй,
постійна готовність до відсічі – усе це надавало величі, якогось вільного, широкого
розмаху звитягам синів України і гартувало незламність духу… Коли Баторій запровадив
полки в Україні…»
Загадочным выглядит изменение XV века на XVI, и совершенно прогнозируемой замена
Малороссии Украиной. Правда, возникает еще вопрос, где в оригинале говорится про
загарбницькі зазіхання, ласу для всіх землю та велич синів України? Как видим, это не
более, чем отсебятина переводчика. Но идем дальше…
У Гоголя: «Тогдашнее положение Малороссии…»
У Шкляра: «Тодішнє становище мало кому відомої України…»
У Гоголя: «И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира восточной России…»
У Шкляра: «І витязі, що зібралися зі всієї волелюбної України…»
У Гоголя: «Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю
Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею».
У Шкляра: «Тоді весь південь, увесь той простір, що обіймає нинішню Україну, аж до
Чорного моря був зеленою, незайманою пусткою».
Забавно, что Украина у Шкляра соответствует совершенно разным географическим
понятиям – Малороссии, восточной России, Новороссии! Похоже, что географические
реалии тоже вызывали у него приступы школярской гордости. Главной же задачей
«переводчика», по-видимому, являлось полное искоренение из гоголевского текста всех
слов с корнем рос (рус). В результате «русское духовенство» перевелось как «православне
духовенство», а «толстая русская купчиха» стала просто «гладезна перекупка». И
ненависть ко всему русскому настолько застит переводчику глаза, что он уже порой не
понимает и самого значения, в каком это слово употреблено.
У Гоголя: «Эта бурса составляла совершенно отдельный мир: в круг высший,
состоявший из польских и русских дворян, они не допускались».
У Шкляра: «Ця бурса була зовсім окремішнім світом: її вихованців не допускали до
вищого кола польських дворян та московитів».
Очевидно, что здесь речь идет о местном дворянстве, которое всегда называлось русским.
Но у Шкляра русское дворянство Киева каким-то образом превратилось в «московитів».
Притом, что рядом имеется аналогичный пассаж:
«Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве, где жили
малороссийские и польские дворяне…» (у Гоголя).
«Іноді він опинявся й на вулиці багатіїв, у теперішньому старому Києві, де мешкали
українські й польські дворяни…» (у Шкляра).
По всей видимости, этот ляпсус объясняется тем, что во втором случае подсказкой для
Шкляра явилось слово «малороссийские» – значит «українські», а так как в первом случае
говорится о русских дворянах, значит – рассуждает Шкляр – речь идет о «московитах».
Видать, и существование Киевской Руси вызывало у молодого Шкляра приступы
уязвленной гордости: почему, мол, Киевская Русь, а не Киевская Украина?! Интересно,
планирует ли сей толмач «перевести», т. е. отредактировать еще и франковского «Захара
Беркута»? А то в ней сплошь и рядом говорится про якусь там «нашу Русь, про Червону
Русь, про галицько-руських князів» и в то же время «про громадські порядки в північній
Русі, в Новгороді, Пскові, про добробут і розцвіт тамошніх людей…» Одним словом,
какой-то «общєрускій ідєйний смисл» и непочатый край работы для Шкляра и Ко.
Возвращаясь собственно к переводу, отметим множество случаев сокращения,
редактирования авторского текста, применения произвольных оборотов и прочих
вольностей. В результате это уже и не совсем перевод, а свободный пересказ. Среди
наиболее показательных вольностей переводчика, не имеющих никакого отношения к
Гоголю, искажающих его индивидуальный стиль, отметим: «…она – баба» – «…вона –
жінка»; «безженных рыцарей» – «лицарів, які зневажали жіноцтво»; «ее милых сыновей»
– «її рідних кровинок»; «пойдем, дети!» – «рушаймо, хлопці!»; «Кто бы была эта
красавица?» – «Що за одна? Хто така ця красуня?»; «…покамест быстрые ноги не
спасли его» – «…поки він не дременув геть»; «Чорт вас возьми, степи, как вы хороши!» –
«Який же ти гарний, степе, дідько б тебе вхопив!»; «обожатели женщин» – «ловеласи»;
«…что дело не на шутку» – «…що тут непереливки»; «Когда так, то пусть повашему…» – «…коли так, то хай буде гречка»; «…враг бы поколотил вашего батька» –
«…дідько побив би вашого батька»; «Бабы не доведут тебя к добру» – «Жінки не
доведуть тебе до добра»; «…он вспомнил про татарку, появлявшуюся в его ставке» –
«…він пригадав татарку, яка крутилася в їхньому таборі»; «Вишь, чортова детина, тытаки свое взяла!» – «Ти бач, дідько лисий таки взяв своє!» (Интересно, что Тарасова коня
по кличке Чорт Шкляр все-таки не рискнул переименовать в Дідька!)
Но все эти недостатки перевода, в том числе и искажения, продиктованные
идеологической конъюнктурой, это только полбеды. Главный же грех Шкляра и
Кальварии, на который ну никак нельзя закрывать глаза, состоит в клевете на Гоголя, а
также на всю современную ему критику. Ведь в приведенном выше отрывке из
предисловия Шкляра к своему переводу, что не слово, то брехня! Во-первых, Белинский
никоим образом не относится к тогдашней официальной критике. Напротив, наряду с
Герценом это наиболее оппозиционный царскому режиму публицист. Во-вторых, и со
стороны «официальной» критики, если под такой подразумевать тех, кто придерживался
триады «самодержавие/православие/народность», никаких нападок на первый вариант
«Тараса Бульбы» – из-за его якобы чрезмерной «украинскости» – замечено не было. По
причине, что никакой чрезмерной «украинскости» там нет и в помине, да и – в отличие от
Шкляра – не знала тогдашняя критика, что оно такое – эта самая «украинскость». Втретьих, именно Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя»,
вышедшей в журнале «Телескоп» в 1835 г. расхвалил все раннее творчество писателя, чем
положил начало последующего культа Гоголя в среде как демократов, так и славянофилов
(кружок Аксакова). О интересующем нас произведении (первом его варианте,
естественно) Белинский выразился так: «Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой
эпопеи жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот
вам ее высочайший образец, идеал и прототип!..» – и далее одни лишь чрезмерные
восхваления и ноль претензий. Так что никаких переделок не требовал от Гоголя
«неистовый Виссарион», да и с какой стати мог он что-то требовать?!!
В-четвертых, в новой своей редакции твір побільшав не просто на три розділи, а –
будучи переписанным заново – чуть ли ни вдвое. В-пятых, усилившийся общєрускій
ідєйний смисл целиком и полностью отображает мировоззрение самого Гоголя. А столь
непонятные Шкляру слова о том, что подымается из Русской земли свой царь, устами
своего Тараса Бульбы говорит, конечно же, сам Николай Васильевич. Как он относился к
идее царя, можно понять из его же собственных слов: «Государство без полномощного
монарха – автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули
Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них
выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномощного
монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты,
но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал
знак, никуды не пойдет концерт». (Выбранные места из переписки с друзьями. О лиризме
наших поэтов).
Желал ли Гоголь новой версией «догодити цареві», трудно сказать. Судя по его
отношению к монархической идее вообще, и личности Николая Павловича в частности,
может быть, и желал в какой-то мере. Но во всяком случае без какого бы то ни было
принуждения со стороны последнего. Тот и знать не знал о творческих планах своего
тезки.
А вот Шкляру и иже с ним – в отличие от Гоголя – могут быть жутко ненавистны и
монархизм, и общерусская идея, здесь спору нет. В конце концов, это их личное дело. Но
какое отношение к личному делу Шкляра имеет Николай Гоголь? Думаю, все согласятся,
что никакого. Так что, как говорится, руки прочь…
Но в завершение все же попробуем разрешить вопрос: зачем Гоголю понадобилось
переделывать «Тараса Бульбу»? Разве плоха была редакция «Миргорода»? И ответим: да,
ужасно плоха. И что бы ни утверждал Белинский (тот еще субъект), не говоря уже про
Шкляра, а это вовсе не шедевр, но весьма сырая вещь. Прочтя ее как-то в уже упомянутом
сборнике «Русская историческая повесть», я пришел в недоумение: по сравнению с
представленными там же мастерскими произведениями А. Бестужева-Марлинского,
Николая Полевого, А. Вельтмана и Н. Кукольника она выглядела просто убого. Кроме
прекрасного описания степи во второй главе, все остальное повествование больше
напоминает не произведение изящной словесности, а краткий текст какого-то
киносценария. Наверняка, «мученик стиля» Гоголь прекрасно это осознавал. А потому и
взялся за детальную переработку…
Газета «2000» от 30.05.2008
в) УКРАИНСКИЙ РОМАНТИК МИКОЛА ТОМЕНКО
Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня
никто не трогал. Городовой следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек!
Фамилия ему была Небаба, Семен Васильевич. Я его недавно встретил. Он теперь
музыкальный критик.
Не надо оваций! Графа Монте-Кристо
переквалифицироваться в управдомы.
из
меня
не
вышло.
Придется
Полку гоголеведов прибыло! «Український романтик Микола Гоголь» – под таким
названием киевское издательство «Генеза» выпустило весьма любопытный образчик
нового украинского гоголеведения. Его автор – не кто иной как Микола Томенко! Тот
самый бывший вице-премьер по гуманитарным вопросам, запомнившийся волевым
проталкиванием на песенный конкурс «Евровидение» приснопамятных майданных
«Гринджол».
Как известно, после пребывания на вице-премьерском посту политическую карьеру пан
Микола не закончил, и ныне занимает кресло вице-спикера. И вот – решил осчастливить
литературоведение. Согласимся, сам по себе факт подобного приобщения к высокой
классике со стороны государственного мужа может вызывать только уважение. Да и то:
возможно, министр из него не получился как раз по той причине, что истинным его
призванием является литературоведение?
Очень хотелось в это верить, но – увы! – все ожидания на сей счет рассеялись при первом
соприкосновении с мыслями достопочтенного автора. При полном же прочтении
«монографии» пришлось убедиться, что Микола Томенко в очередной раз сел не в свои
сани, то бишь «гринджолы». Впрочем, довольно интересную информацию получить из
его книги все же можно – вот только не об объекте исследования, а о его субъекте. То есть
не о Гоголе, а о самом Томенко.
Не все так просто
«Моє призначення просте – сообщает в предисловии автор, – відкрити для себе і для
українського читача того Миколу Гоголя, якого менше знали, ту творчість, на яку
звертали менше уваги». – Однако сразу же возникает вопрос: почему подобное
предназначение автор считает простым? Ведь если взять во внимание, что творчество
Гоголя перелопачено вдоль и поперек, то найти в нем что-то малоизвестное – ой как не
просто!
Автор не иначе как претендует на ту простоту, которая открывается одним лишь гениям.
Недаром ведь говорят в народе: просто, как все гениальное. Но не стоит забывать и
другую народную поговорку: простота хуже воровства. Какой же природы – гениальной
или воровской – простота нашего новоявленного гоголеведа?
Первое, на что обращаешь внимание, это объем исследования: вся-то книжечка (без
приложений) составляет всего 60 страниц, более чем на половину заполненных цитатами
из других авторов. Так что сразу отметим: слишком уж простой путь избрал Микола
Томенко.
Однако тут на ум приходит еще один афоризм: краткость – сестра таланта. Да и как не
вспомнить гениального аргентинца Хорхе Луиса Борхеса, способного в двухстраничное
эссе вместить содержание целого романа. Быть может, под стать ему и наш Микола? Что
ж, давайте заглянем в его книгу…
«Двісті років тому на світі з’явилася людина, що прославилася геніальністю своїх творів
та одночасно незбагненністю своєї поведінки. Ім’я цієї людини – Микола Васильович
Гоголь», – с таких слов начинается вступительный раздел «Микола Гоголь – 200 років
потому».
И сразу же вспоминаются слова Эрнеста Хемингуэя: «Хлюст – это человек, который
никогда всерьез не занимался делом и только раздражает всех своим нахальством». Дело в
том, что не пристало приличному литературоведу начинать свою книгу с общего места о
«гениальности» (колоссальности, потрясающем воображение непреходящем значении и т.
д.). Более того – непостижимым (незбагненним) поведение Гоголя может казаться лишь
тому, кто ничего о нем не знает. Поэтому сразу же становится ясным, на каком уровне
пребывают познания на сей счет пана Миколы.
И уже во втором абзаце автор затронул основной вопрос гоголеведения в его понимании:
«Серед чи не найбільш дебатованих й досі тем – тема українськості чи російськості
цього унікального письменника, не однозначно сприйнятого як російською, так і
українською елітою». – Что это за «элита», интересно бы знать? Никак и себя пан Микола
причисляет к таковой? В таком случае, вынужден его разочаровать: тема, о которой он
говорит, «дебатується» исключительно среди, мягко говоря, не очень умных людей. По
той простой причине, что такие понятия как «українськість» и «російськість» не имеют
ровно никакого отношения к кругу тех проблем, которые волновали Николая Гоголя. Если
же этот вопрос не дает покоя нынешней украинской «элите», то выход из этого положения
предельно прост: без всяких «дебатувань» считать этого писателя своим, украинским, и
для начала ввести изучение творческого его наследия в школьный курс родной
литературы. Наследия, разумеется, не кастрированного, приспособленного под
нынешнюю политическую конъюнктуру, а истинно гоголевского, наглядно
отображающего взаимосвязь двух ветвей русского народа.
Но что-то мешает претворению в жизнь столь простого в своей очевидности решения. И
это «что-то» – не что иное как несоответствие уровня культуры и мышления наших
чиновников с тем, что представляет собой феномен Гоголя. И книга пана Томенко со всей
наглядностью демонстрирует данное несоответствие. И потому ее правильнее было бы
назвать «Микола Гоголь в розумінні українського чиновника Миколи Томенка».
Гоголь в роли «засланного казачка»
Отметим ключевые моменты этого «розуміння». Прежде всего, никак нельзя обойтись без
ссылки на высший авторитет. Как в былые времена «редкая птица могла долететь до
середины Днепра» без упоминания имен Маркса, Энгельса и Ленина, так и Микола
Томенко в первых же строчках, посвященных Гоголю, ссылается на Тараса Шевченко. Но
несмотря на то, что имена эти в определенном контексте действительно пересекаются,
глубиной мысли ссылка не блещет. «Тарас Шевченко, – сообщает нам автор, – високо
оцінював твори Гоголя, з якими ознайомлювався одразу після їх виходу в світ». – После
чего приводится стихотворение Шевченко «Гоголю», где, в частности, обращают на себя
внимание следующие строки: «Не заревуть в Україні Вольнії гармати. Не заріже батько
сина, Своєї дитини, За честь, славу, за братерство, За волю Вкраїни. Не заріже – викохає
Та й продасть в різницю Москалеві…»
Весьма странным представляются сетования на то, что «не зарежет отец своего сына».
Чем-то это напоминает несостоявшееся приношение Авраамом в жертву Яхве своего сына
Исаака. Вот только в новом – не библейском – контексте выглядит это довольно дико. И в
этой связи весьма кстати было бы привести мнение о стихах Шевченко самого Гоголя.
Григорий Данилевский рассказывает, как во время посещения Гоголя осенью 1851 года
приятель его профессор Бодянский прямо попросил писателя высказать свое мнение о
стихах Шевченко: «Дегтю много, – негромко, но прямо проговорил Гоголь; – и даже
прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами, как малороссам, это,
пожалуй, и приятно, но не у всех носы как наши. Да и язык…» (Г.П. Данилевский.
Знакомство с Гоголем. Цит. по кн. В. Вересаев. Гоголь в жизни. Харьков, «Прапор», 1990,
с. 597)
И здесь мы выходим на тему коренного отличия двух мировоззрений – Гоголя и
Шевченко. Тему действительно интереснейшую в плане религиозно-философском. Но, к
сожалению, недоступную для украинской чиновничьей «элиты» в лице Миколы Томенко.
Вместо философской глубины, метафизического постижения природы вещей – что
является необходимым для литературоведения – то и дело сталкиваешься с
высказываниями, своей откровенной несостоятельностью вызывающими недоумение.
Например:
«Одразу після виходу твори Миколи Гоголя ставали подією – їх із захопленням читала (і
читає) без перебільшення вся Україна». – При кажущейся простоте данная мысль
поражает какой-то иррациональной нелогичностью, ставит в тупик при попытке уяснить
ее смысл. Если же называть вещи своими именами, то надо сказать, что подобный эффект
достигается в связи с откровенной примитивностью мысли.
При жизни Гоголя Украина представляла собой чисто географическое понятие, во всех
остальных аспектах – административном, национальном, культурном – пребывая в
органичном единстве с другими частями Российского государства. И как можно читателей
Гоголя, чьи книги издавались в основном в Петербурге, ограничивать одной только
Украиной – уму непостижимо! С другой стороны, процент грамотного населения был
тогда не слишком значителен. Поэтому читать произведения Гоголя «без перебільшення
вся Україна» никак не могла. Да и сегодня подобная фраза выглядит явным
преувеличением. Зато многое говорит о мыслительной манере п. Томенко, в основе
которой находится с одной стороны – попытка изначально разделить «українське» и
«російське»; с другой – непонимание того, что как раз Гоголь и его творчество служат
наглядным примером их неразрывного единства.
Конечно же, в своих построениях п. Томенко не одинок. Вот он приводит цитату из
некого Володимира Янива – «відомого вченого», как утверждает автор: «…у критиці
виявився талант …творців, при чому у Гоголя критика перейшла у насміх, що був справді
своєрідним троянським конем для росіян, яких Гоголь геніально висміяв і тим спричинився
до захитання їх самовпевненості. Насміх належить також до могутньої зброї
Шевченка». – Таким образом Гоголю отводится роль какого-то «засланного казачка»,
своим творчеством («троянським конем») напакостившего «росіянам».
Но подобное заявление на поверку оказывается опять-таки не чем иным, как очередной
глупостью. «Мертвые души» и «Ревизор» – это отнюдь не «Похождения Швейка», где
сатирические персонажи все как на подбор австрийской национальности. А можно ли чтонибудь конкретное сказать о национальной принадлежности гоголевских помещиков и
чиновников? Абсолютно ничего! Как по той причине, что о ней самим автором ничего не
говорится ни прямо, ни косвенно (равно как и о местностях, в которые автор помещает
описываемые события); так и по причине гротескности гоголевских персонажей. Ведь это
даже и не люди, а карикатурные носители гиперболизированно раздутых пороков. Порок
же, как известно, национальности не имеет. Во всяком случае, Гоголя интересовал сам
порок в чистом виде, но отнюдь не национальная принадлежность его носителя.
Кто есть кто в литературе
Но почему столь очевидные вещи не понятны украинской чиновной «элите», «відомим
вченим» и т. д.? Думается, что по причине ментальной недоразвитости, отсутствия в их
мышлении необходимых качеств, благодаря которым осуществляется переход от
конкретного к абстрактному. Гоголя они делят так, как доставшийся в наследство
батьківський огород – лишь бы побольше оттяпать себе. «Кайдашева сім’я» Ивана НечуйЛевицкого – вот гениальное воплощение украинской ментальности, мышления того
уровня, выше которого неспособна подняться доморощенная хуторянская «элита».
Как подтверждение тому – мыслительные «перлы», сплошь и рядом разбросанные по
книге Миколы Томенко. Как, например: «Одним з ідеологів твердження українськості
Гоголя є Микола Дашкевич, який в ХІХ столітті назвав його «великим українським
письменником» та поставив в одному ряду Гоголя, Квітку, Стороженка, Левицького». –
Казалось бы, ну что здесь не так? Вроде бы, все в порядке. Но это лишь для того, кто
плохо знаком с творчеством перечисленных литераторов, в ряд с которыми поставлен
Гоголь. А дело в том, что и в духовном, и в ментальном, и в чисто художественном плане
авторы эти стоят неизмеримо ниже Гоголя. Поэтому ставить их в один ряд значит
принижать Гоголя до их уровня.
Впрочем, требовать понимания «кто есть кто в литературе» от п. Томенко не приходится.
«Найбільший прихильник творчості Гоголя, – пишет он, – а згодом близький приятель
письменника, Олександр Пушкін першим захоплено оцінив «Вечори на хуторі поблизу
Диканьки»». – Вот еще одна тонкость, недоступная пану Миколе. Как известно, во
взаимоотношениях Пушкин – Гоголь бесспорно доминирующее положение занимал
первый, что Гоголь его буквально боготворил, считал высшим авторитетом. Посему
именовать Пушкина чьим-то «прихильником» и «приятелем» довольно нелепо.
Психологическая субординация нарушается.
В другом месте в число «відомих українських письменників» с томенковской легкой руки
попадает… Гоголь-батько! Здесь напрашивается параллель с французами: у них есть два
писателя Дюма – отец и сын, так почему бы украинской литературе не обзавестись еще
одним Гоголем? Не беда что вся его «литературная» деятельность ограничивалась
переделками для домашнего театра бытовых народных сказок, не беда, что писателем себя
он никак не считал, – для украинского литературоведения подобные нюансы неуловимы.
Главное, чтобы имен было побольше. Не качеством, так количеством! Вот и появляются в
школьной программе такие «гении» как Улас Самчук, Иван Багряный, Васыль КороливСтарый и т. п.
Не иначе как на школьную программу ориентирована и «монография» Миколы Томенко.
В подразделе под названием «Виховання Україною», с которого и начинается собственно
исследование, читаем: «Народився Микола Васильович Гоголь 20 березня (1 квітня за н.
ст.) 1809 року на Полтавщині, в містечку Великі Сорочинці, неподалік від Василівки, де
знаходився родовий маєток Гоголів-Яновських. Він був старшим сином небагатих
поміщиків Василя Опанасовича і Марії Іванівни. Дитинство майбутнього письменника
минуло в селі Василівка (тепер Гоголеве) в маєтку батьків. До мовно-музичної культури
рідної землі дбайливо привчали його батьки, дідусь та бабуся Тетяна Семенівна, мамина
мама. Тому любов до мови, відчуття слова закладалися у юного Миколи Гоголя вже з
дитячих літ. Згодом він захопиться збиранням українських народних пісень, прислів’їв та
приказок, готуватиме матеріали до українсько-російського словника…»
Что ж, весьма ценная информация для детей младшего школьного возраста. Именно в
таком ключе и учат их писать сочинения на уроках украинской литературы. И хотя
Микола Томенко заканчивал школу не сегодня, но крутая школьная закваска здесь
налицо. Все, что прививалось и прививается на уроках украинской литературы, есть в его
книге, а именно: линейность мышления, сглаживание острых углов, патологическая
боязнь глубины и высоты, упрощение сложного и усложнение простого...
Ну и, конечно, непреодолимая душевная лень, мешающая читать, размышлять, искать
необходимую информацию и приобретать новые знания. Думается, что именно она,
родимая, не дала новоиспеченному «гоголеведу» ознакомиться хотя бы с такими работами
как «Гоголь в жизни» Вересаева или «Гоголь» Золотусского. А заглянуть в них все же
стоило, хотя бы для того, чтобы знать как называется первое из напечатанных гоголевских
произведений: «Ганц Кюхельгартен», а не «Ганс Кухельгартен» как у пана Миколы.
Не мешало бы еще и прочитать сам текст данного произведения, чтобы не смешить
честной народ и детишек не вводить в заблуждение, как это делает пан Микола,
утверждая следующее: «Судячи із усього, твори Гоголя-студента викликали негативну
реакцію з боку товаришів (вони були прихильниками романтичної поезії), не через те, що
були погані, а лише через їх незвичайність». – На самом же деле все происходило с
точностью до наоборот. Гоголь так же как и его товарищи был «прихильником
романтичної поезії», его ранние произведения вызвали насмешки не из-за
«незвичайности», а из-за того, что были ужасно плохи. Его «Ганц Кюхельгартен» – не что
иное как неумелое подражание Пушкину, немецким романтикам и… Гомеру. Насколько
неумелое – можно судить хотя бы по следующим фрагментам:
«Но кто прекрасная подходит? Как утро свежее, горит И на него глаза наводит?
Очаровательно стоит? Взгляните же, как мило будит Ее лилейная рука, Его касаяся
слегка, И возвратиться в мир наш нудит».
«Сквозь пар окрестность чуть сверкает. Какую кучу тайных дум Наводит моря
странный шум!»
«Подымается протяжно В белом саване мертвец. Кости пыльные он важно Отирает,
молодец. С чела давнего хлад веет, В глазе палевый огонь, И под ним великий конь,
Необъятный, весь белеет И все более растет, Скоро небо обоймет; И покойники с покою
Страшной тянутся толпою. Земля колеблется и – бух Тени разом в бездну… Уф!»
Что такое романтизм?
Под псевдонимом В.Алов поэма «Ганц Кюхельгартен» увидела свет в 1829 году.
Интересен тот факт, что к своему литературному первенцу сам автор относился весьма
благосклонно – иначе зачем подобную галиматью издавать? Это уже после
уничижительной критики Николая Полевого в «Московском Телеграфе» Гоголь скупил и
уничтожил весь тираж злополучной поэмы. Но при этом на всю жизнь затаил обиду на
Полевого.
Понятно, что Микола Томенко поэму «Ганц Кюхельгартен» не читал – хотя она регулярно
печаталась во всех многотомных собраниях сочинений Гоголя, но в школьной программе
ее нет! Но что поразительно – пан Микола не усвоил и школьной программы. «Народні
українські традиції, – пишет он, – які добре знав і на яких виховувався Микола Гоголь,
лягли в основу деяких найзначніших творів відомого письменника: «Вечорів на хуторі
поблизу Диканьки», «Тараса Бульби», «Миргорода» та інших». – Откроем новоявленному
гоголеведу маленькую «тайну»: «Тарас Бульба» – одна из четырех повестей,
составляющих сборник «Миргород», поэтому через запятую эти названия писать не
следует.
Тем не менее, при столь поверхностном знакомстве с предметом пан Томенко берется
рассуждать о романтизме. Интересно, что юношеские творения Гоголя он почему-то
склонен относить к неромантической поэзии, отмечая «їх незвичайність». То есть по
версии пана Миколы Гоголь начинал все же не как романтик – таковым он стал, когда
обратился к украинской тематике.
Но имеет ли автор представление о том, что такое романтизм? По идее, для данной работы
вопрос этот должен быть краеугольным, раз уж называется книга «Український романтик
Микола Гоголь». Со своей стороны отметим, что вопрос этот очень сложный и – что
обязательно нужно подчеркнуть – умышленно запутанный в отечественном
литературоведении, основанном, как известно, на измышлениях Виссариона Белинского и
прочих революционных демократов. Однако тот, кто всерьез подходил к его изучению,
как правило, приходил к выводу, что романтизм – это не кратковременное литературное
течение, предшествующее реализму, как это принято считать в белинско-советской
традиции, – романтизм есть высший идеалистический реализм! В его основе лежат
идеализм и натурфилософия, главными его творцами были немцы Гельдерлин, Новалис,
братья Шлегели, Вакенродер, Тик, Шеллинг, Шлейермахер, Гофман, а также французы
Шатобриан, Пьер Симон Балланш и Шарль Нодье.
Как универсальное и непреходящее явление романтизм заслуживает не одного
фундаментального исследования. В нескольких же словах сказать о его сущности можно,
сославшись на книгу Арсения Гулыги «Шеллинг», вышедшую в серии «ЖЗЛ» в 1982
году. Итак, «Новалис… стал искать новые (мистические) пути отношения к жизни и
миру… Строки Новалиса полны заботы и тревоги: утеряна гармония в отношениях
между человеком и природой, как восстановить ее?
…Романтики видели в природе не «порождение своего беспорядочного воображения», а
абсолютную реальность… Природа – объект не покорения, а поклонения. Поэзия,
искусство – средства проникнуть в ее тайны, не нарушив первозданной гармонии.
…«Романтический» для романтиков – значит «всесторонний», «соответствующий
жизни», «взятый из истории». Одновременно возникает и другое значение слова –
«выходящий за рамки повседневности».
…по убеждению Шеллинга, ни мышление, ни бытие не следует рассматривать в
качестве первоосновы сущего. Ни то ни другое, вернее, и то и другое вместе – вот из
чего нужно исходить. Тождество духа и природы. Абсолютное тождество он называет
разумом. Это «полная нерасчлененность объекта и субъекта». Между объектом и
субъектом возможны только количественные различия».
Но если о романтизме западном (прежде всего, немецком) написано достаточно солидных
трудов, то романтизм в русской литературе до сих пор ждет своего исследователя. На
сегодняшний день имеем здесь картину, извращенную до предела. По той причине, что
истинные столпы русского романтизма – Николай Полевой, Александр БестужевМарлинский, Владимир Одоевский, Вильгельм Кюхельбекер, – все как один идейные
противники Белинского, а потому их творчество постарались задвинуть куда подальше от
читательского глаза – с глаз долой, из сердца вон. А между тем, лучшие их произведения
и в идейном, и в художественном аспектах сопоставимы с классикой западного
романтизма.
Романтизм по Томенко
А что же у Томенко, берущегося рассуждать об «украинском романтизме»? У него опятьтаки все просто, – и весь романтизм сводится к этнографическому изучению украинского
песенного фольклора. В разделе под названием «Український романтизм у творчості
Гоголя» читаем: «Знайомі та друзі Миколи Гоголя визначають його не лише як збирача, а
й знавця та прихильника українських пісень. Так, Осип Бодянський згадує, що були
випадки, коли Гоголь навіть набридав друзям своїм захопленням, через те, що «иной
куплет повторял раз тридцать сряду, в каком-то поэтическом забытьи, пока наконец
надоедал самым страстным любителям малороссийских песен, и земляки останавливали
его словами: «Годи, Мыколо, годи!»»»
И далее на четырех страницах автор, ссылаясь на Пантелеймона Кулиша, перечисляет «35
найулюбленіших пісень Гоголя»: Не буду я женитися, Бо що мені з того?... Казала
Солоха прийди, Щось дам, щось дам… Журилася попадя Своєю бідою… Чи се тії чоботи,
Що зять дав?... У Києві на ринку П’ють козаки горілку… – Так вот он оказывается какой –
український романтизм в понимании Миколы Томенко. Простой как «чоботи з бугая».
Одів чоботи разом з шароварами та вишиванкою – і ти вже романтик, ковтнув оковитої –
романтик, заспівав українських пісень – авжеж, романтик!
Порассуждав о гоголевском увлечении украинской этнографией, а еще больше об
украинских народных песнях вообще, автор делает вывод: «Романтизм – головна ознака
гоголівських творів на українську тематику. Почуттєвість та емоціоналізм, або
своєрідна «філософія серця», яку у свій час обгрунтував Григорій Сковорода, – це
визначний принцип, який сповідує у своєму літературному стилі Микола Гоголь». – И
здесь опять необходим литературоведческий ликбез для пана Миколы. Почуттєвість та
емоціоналізм – признак не романтизма, а такого течения в литературе как сентиментализм,
а вот Григорий Сковорода не имеет никакого отношения ни к одному, ни к другому.
Тем не менее, интересно, что же под «философией сердца», якобы легшей в основу
литературного стиля Гоголя, разумеет пан Томенко. А вот что: «Стосунки між
закоханими у Гоголя завжди ніжні, пристрасні та романтичні. Він не шкодує епітетів у
змалюванні таємних вечірніх зустрічей молодих людей, сам автор ніби захоплюється їх
щирими почуттями. У вже згадуваній «Майской ночи», парубок, викликаючи свою кохану
на вечірню зустріч, поетично обіцяє їй:
«Если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями,
надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни
на миг. Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою».
Кохана ж, у відповідь, і сама зізнається йому у своїх почуттях:
«Я тебя люблю, чернобровый козак! За то люблю, что у тебя карие очи, и как поглядишь
ты ими – у меня как будто на душе усмехается: и весело и хорошо ей; что приветливо
моргаешь ты черным усом своим; что ты идешь по улице, поешь и играешь на бандуре, и
любо слушать тебя».
Из приведенной цитаты становится окончательно понятным, что Микола Томенко
называет «українським романтизмом» – не что иное как лубочный сентиментализм.
Любить такую словесность, конечно, можно, однако причислять подобные куски к
«найвищим досягненням» все же не стоит, хотя бы по причине отношения к ним самого
Гоголя. В письме к Погодину от 1 февраля 1833 г. Николай Васильевич писал: «Вы
спрашиваете об «Вечерах» Диканьских. Черт с ними! Я не издаю их (вторым изданием. –
Авт.); и хотя денежные приобретения были бы нелишние для меня, но писать для этого,
прибавлять сказки не могу. Никак не имею таланта заняться спекулятивными
оборотами. Я даже позабыл, что я творец этих «Вечеров», и вы только напомнили мне
об этом… Да обрекутся они неизвестности, покамест что-нибудь увесистое, великое,
художническое не изыдет из меня! Но я стою в бездействии, в неподвижности. Мелкого
не хочется, великое не выдумывается. Одним словом, умственный запор». (Цит. по кн. В.
Вересаев. Гоголь в жизни. Харьков, «Прапор», 1990, с. 155)
Два Миколы
И здесь мы подошли к главному. К тому, в чем состоит несовпадение двух Микол –
Гоголя и Томенко. К тому, почему Гоголь оказывается не по зубам хуторянской элите.
Из вышеприведенного письма видно стремление Гоголя преодолеть самого себя, выйти за
пределы отпущенных ему талантов и способностей, сотворить нечто универсальное.
Томенко же стремится его втиснуть в какие-то узко националистические рамки, в рамки
собственного разумения «українського романтизма». В результате вместо Гоголя в
остатке выходит сам Томенко.
А потому логично сделать вывод, что книги, подобные томенковской к Гоголю по сути не
имеют никакого отношения. Здесь Гоголя не изучают, а используют – пытаются
притянуть за уши к своим недалеким концепциям. У Томенко это проявляется наглядно:
вся его книга ничего не прибавляет к осмыслению Гоголя. Ничего, кроме собственного
имени – дивіться який я гарний! Вот он я – в вышиванке (как же без нее-то настоящему
украинцу?) на тыльной стороне обложки. А рядом с фотопортретом –
«глубокомысленное» пустословие: «Микола Гоголь сформував своєрідний національний
міф про українців. Він представив світові популярну історію «вольного рыцарского
народа» з піснями, в яких «дышит эта широкая воля козацкой жизни», та
«божественной, очаровательной украинской ночью». Гоголь був передовсім українським
романтиком, а вже потім російським реалістом і сатириком».
Здесь первые два предложения – расхожее «общее место», штамп; последнее же являет
собой надуманное утверждение, лишенное реального смысла и содержания. Пан Томенко
пытается механически расчленить Гоголя на отдельные фрагменты и противопоставить их
друг другу. Это равносильно утверждению, что слон – передовсім хобот, а уже потом уши
и хвост. Вот и приходится озвучивать совершенно очевидную истину о том, что
творчество любого писателя – это, прежде всего, неразрывное органичное единство.
Что же до Гоголя, то в своих произведениях он стремился не к национальной
дифференциации, а к универсуму, в котором бы отобразилось его видение всего
человеческого общества. Его нельзя называть ни романтиком, ни реалистом, ни
сатириком, потому что элементы романтизма, реализма, сатиры относятся к формальной
стороне его творчества, – это разнообразные одежки, но не суть. А суть в том, чтобы
видеть общее в частном.
И в этой связи, возвращаясь к другому Миколе, отметим, что книга его, якобы
посвященная Гоголю, на самом деле посвящена современной Украине. Потому что это не
просто пустая книга человека, занимающегося не своим делом. Уровень данной книги –
уровень нынешней Украины. Страны, в которой на месте национальной элиты прочно
обосновались всевозможные гоголевские персонажи. И отнюдь не романтические.
за подписью Пантелеймон Рудый
газета «2000» от 11.09.2009
г) УРОКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Есть в славном городе Львове – Львуве, Лемберге, а по-современному Львиве – по улице
Володимира Великого, 5-а некое ТзОВ (что означает товариство з обмеженою
відповідальністю) с шибко распространённым ныне названием «Свобода слова».
Товариство это издаёт «postПОСТУП» – часопис, печатаемый в селе Рясно-Руська
Яворивского района Львивской области в типографии, расположенной по улице опятьтаки Свободы, 5. А редактирует этот часопис некто Юрий Винничук – весьма плодовитый
литератор, автор нескольких повестей и романов, а также редактор-составитель
различных антологий, популяризатор местных достопримечательностей.
Так вот, в номере 2(53) за март месяц 2011 года под рубрикой «ДЕМОКРАТІЯ» за
подписью Винничука размещена статья «УРОКИ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ». Речь в
ней о том, что министерство образования решило вернуть в украинские школы отдельный
курс русской литературы. Казалось бы, что за проблема? Однако, как водится ныне в
свободной Украине, всё, что связано с русским языком, действует на квасных патриотов
как красная тряпка на быка. Глаза тут же наливаются кровью – и мчится он во весь опор,
чтобы раз навсегда забодать, растоптать, покончить с ненавистной материей. Понятно, что
пройти мимо столь вопиющего нарушения – ишь, чего удумали! – Винничук, конечно, не
мог – и потому немедля ударил в колокол своего «Пост-поступа».
Но прошло полгода – начался новый учебный сезон – и никаких существенных изменений
в школьной программе – для кого к счастью, для кого к сожалению – не произошло. То
есть «тревога», поднятая Винничуком, оказалась ложной. И статья вроде бы канула в лету,
как будто ничего и не было. Что называется, поговорили и забыли.
Но думается нам, что забывать как раз и не приходится – явление вовсе не исчезло, в
ожидании нового повода оно остаётся, так сказать, в подкожной жировой клетчатке
некого супер-организма. Это ведь не просто мыльный пузырь лопнул, а засветилось
мнение, взгляд, исходящий изнутри, – из массового сознания тех, кого представляет
Винничук и тех, для кого он это пишет. Тем паче, что и «Пост-поступ» продолжает свою
«просветительскую» деятельность – каждую неделю выходит очередной номер со свежей
порцией «откровений» Винничука сотоварищи – с доводами и рассуждениями того же
уровня, что и в отмеченной нами статье. То есть дело поставлено на конвейер, – а посему
не столь важно, какую именно статью анализировать, главное, прояснить их общую суть и
выявить постоянно используемые технологии. Что движет этим глашатаем довольно
многочисленной группы украинского народонаселения? на что он ориентируется? какие
доводы приводит? какими приёмами пользуется? И в этом смысле трудно сыскать лучшее
наглядное пособие, нежели «Уроки російської літератури».
О «натуральной школе» и баснях Крылова
Попробуем же извлечь из этих «уроков» максимум пользы – как никак, а на кону не
только связь культур, но ещё и связь времён – что следует уже из первых слов автора:
«Не без ностальгії згадую той час, – пишет Винничук, – коли нам у школі викладали
російську літературу. Годин на її вивчення виділяли рівно стільки, скільки й на українську,
а от зарубіжну літературу, яку нам викладав учитель російської на общєпонятном,
обмежили лише кількома уроками. Зате ми довідалися про таких друго- і третьорядних
російських класиків, про яких навіть фахові зарубіжні русисти не мають поняття».
С первых слов попадаешь в некое пространство, главная особенность которого – мутность
мышления. Не без ностальгії згадує? – как же можно ностальгировать по тому, что
вызывает непреходящее раздражение и крайнюю степень ненависти? Затем обращаешь
внимание на абсолютно надуманное задним числом противопоставление двух литератур –
русской и зарубежной. Дескать, из-за засилья русской не оставалось учебных часов для
зарубежной. Здесь видна попытка нынешние политические реалии перенести на прошлое.
Это сегодня русская литература является зарубежной для Винничука, тогда же она была
всеобщим достоянием одной большой и единой страны, субстанцией, способной
объединить все народы многонационального государства. И вопроса почему, мол, в
советских школах русская литература изучалась в ущерб зарубежной, тогда не могло быть
в принципе.
Но и то вздор, что из-за такой, мол, гипертрофированной в винничуковском
представлении подачи мы якобы довідалися про якихось друго- і третьорядних російських
класиків. Здесь стоит вспомнить в чём состояла советская система. В литературной
программе она отличалась как раз крайне жёстким отбором в так называемый «первый –
канонический – ряд». И никаких друго- і третьорядних в школах не изучали. Хорошо это
или плохо – вопрос другой.
Курса зарубежной литературы тогда не было вовсе – но…. этот курс каждый проходил
самостоятельно. «Три мушкетёра», «Остров сокровищ», «Дети капитана Гранта»,
«Путешествия Гулливера», «Хоббит», «Северная одиссея»… – настоящее литературное
пиршество юных лет. И как знать: вызвали бы эти произведения такой же восторг, будучи
включёнными в обязательную школьную программу?
В этом смысле взаимодействие школьной программы и самостоятельного чтения – вопрос
весьма интересный. Вспоминая собственный опыт, признаюсь, что произведения из
школьной программы я читал лишь до восьмого класса включительно, в девятом – из
всего курса прочёл лишь «Отцы и дети», в десятом – «Поднятую целину» (да и то на
летних каникулах). Но характерно, что в старших классах по сравнению со средними
также резко падают и объёмы самостоятельного чтения. Объяснение крайне просто и
вполне естественно – пубертатный возраст, когда на первый план выходят другие
интересы: девочки, алкоголь, рок-музыка, кинематограф. Не думаю, что был бы в
восторге, если бы в то время меня заставляли читать Пруста, Кафку и Джойса. Вот и
считаю, что и сегодня школьная программа была бы много здоровее без представителей
модернизма, не говоря уж про постмодернизм.
Винничук, конечно, с этим не согласится. При всей мутности мышления главный
ориентир у него чёток и конкретен – что думают на Западе? «Зате ми довідалися про
таких друго- і третьорядних російських класиків, про яких навіть фахові зарубіжні
русисти не мають поняття». – Как будто зарубежные русисты – некий высший
авторитет! Если даже насчёт своего тебе нужно сверяться с чужим мнением, то чего ты
тогда сам по себе стоишь?
«Те, що нині витворяє так зване Міністерство освіти, – пишет Винничук, – скидається
на поганий сон. На фоні тотального наступу на україномовну Церкву і закриття
українських шкіл на Донбасі впровадження у школах окремого курсу російської
літератури свідчить про планомірне й нахабне повертання України в добре нам відомі
мацаки московського спрута. Уже гряде на наших діток нова лавина вєлікого і могучого.
Правда, на зміну різним успєнскім та рєшетніковим прийдуть Булгаков і Ахматова,
Пастернак і Мандельштам, що, звичайно, тішить. Не тішить лише те, що зарубіжній і
українській літературам доведеться трошки посунутися. А щоб посунути їх якомога
далі, ввели курс російськомовної літератури України».
Учитывая, что русофобия есть основополагающее подспорье, без которого национально
озабоченные не способны существовать, реплику относительно церкви, Донбасса и
«московського спрута» с его «мацаками» можно пропустить. Чем больше плевков,
ругательств и словесных испражнений в адрес ненавистного «старшего брата», тем
больше уверенности в собственном смысле. Обратим внимание на другое. Глеб Иванович
Успенский, Федор Михайлович Решетников – весьма незаурядные писатели, яркие
представители «натуральной школы» и, судя по воспоминаниям современников, глубоко
порядочные люди – удостаиваются от Винничука написания с маленькой буквы. При этом
непонятно, о какой смене он говорит – ни тот, ни другой в курс школьной программы
никогда и близко не входили, да и то – чем это Ахматова предпочтительнее Успенского
или Решетникова? Но оказывается…
«Сказане мною не означає, що я проти викладання російської літератури, бо знаю її дуже
добре, перечитав не тільки визнану класику, а й різних сухово-кобиліних і боборикіних.
Російську літературу повинні викладати у школах, але нарівні з європейською, а не в
такому обсязі, який ми мали в совєтських школах. Є кілька російських письменників, з
якими в школах мали б ознайомити. Але ж не з п’єсами Грибоєдова, Фонвізіна чи
Островського, і не з примітивним романом Чернишевського. Дітки знову мають учити
басні Крилова, які він передер в Езопа й Лафонтена, а не першоджерела? Не здивуюсь,
коли у програмі з’явиться «Как закалялась сталь» і «Молодая гвардия»».
Здесь мы наблюдаем весьма интересный эффект: в обилии имён, которыми сыплет
журналист, видно стремление продемонстрировать собственную эрудицию (обізнаність) –
но результат достигается прямо противоположный. По той причине, что именами он
сыплет, не понимая их значения. Это наугад выдернутые персоналии из обширного списка
русской литературы – вне общего литературного контекста.
Не иначе как к проявлениям вишуканої галицької культури относится написание со
строчной литеры имен різних сухово-кобиліних і боборикіних. Это ведь не визнана
классика – так чего тут церемониться? Вот только вопрос: визнана кем и когда? Теми, кто
составлял курс советской школьной программы? Или современными министерствами
освиты? Или, может, це передусім має бути визнано на Заході? Но как бы то ни было, а
столь пренебрежительно называя имена Александра Васильевича Сухово-Кобылина и
Петра Дмитриевича Боборыкина, Винничук попадает впросак. Дело в том, что знание
имён и знание творчества, которое за ними стоит, суть разные вещи. И тот, кто
действительно знаком с творчеством названных литераторов, никогда не позволит
пренебрежительного к ним отношения. Таковое – признак дремучего невежества.
Сухово-Кобылин – «загадка русской литературы», фигура в высшей степени
оригинальная. Автор трёх театральных пьес, объединённых литературоведами в цельную
трилогию, где в органичных пропорциях сосредоточена вся драматургическая традиция от
Мольера и Бомарше («Свадьба Кречинского») до Гоголя и Островского («Дело» и
«Смерть Тарелкина»).
Боборыкин – напротив, автор огромного количества прозаических произведений, и в этом
смысле без натяжек был назван «русским Дюма». Но по форме и содержанию
многочисленных своих романов он заслужил более соответствующее ему наименование
«русского Золя». Это один из наиболее ярких представителей русского натурализма –
направления, вышедшего из «натуральной школы», но пошедшего не по пути
Чернышевского-Добролюбова-Писарева,
где
литература
рассматривалась
как
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ учитель жизни, а путем эстетического скольжения в описании и
фиксации, казалось бы, совершенно неэстетических процессов. Здесь литература не учит
жизни, а показывает жизнь. Уловление духа времени, вечного движения жизни – вот в чём
смысл таких романов Боборыкина как «Китай-город», «Василий Тёркин» и др.
О крайне поверхностном знакомстве с вопросом, о полном незнании либо непонимании
контекста свидетельствует избранный Винничуком эпитет – примітивний – в отношении
романа Чернышевского «Что делать?». Контекст же состоит в том, что это произведение
изначально не претендовало на услаждение художественных запросов читателя. Цель его
была совершенно иная – как уже говорилось, оказать непосредственное влияние на
решение назревших в обществе социально-психологических вопросов. И судя по
воздействию на тогдашнее общественное мнение, своей цели автор достиг в полной мере.
С этих позиций и стоит рассматривать данный роман, а не искать в нём художественные
достоинства, которые туда изначально не закладывались.
В то же время – в отличие от романа Чернышевского – несомненные художественные
достоинства в той или иной мере присущи другим произведениям последователей
«натуральной школы», – начиная с рассказов, повестей и очерков Левитова,
Помяловского, Решетникова, – через зрелые опыты Гаршина, Николая и Глеба Успенских,
Мамина-Сибиряка, – и вплоть до Гиляровского (чего только стоят «Москва и москвичи»!)
и Семёна Подьячева. Кстати сказать, что именно к этой школе относятся и
украиноязычные творы Марии Вилинской известной под псевдонимом Марко Вовчок, а
также и творчество наиболее одарённых классиков украинской литературы начала ХХ
века – Ольги Кобылянской и Михайла Коцюбинского. И если Винничук целью своих
плевков выбрал русскую «натуральную школу», то надо заметить, что рикошетом брызги
летят и на украинскую.
А если уж говорить о наиболее достойных представителях данной традиции – знакомство
с которыми не помешает ни в школе, ни после её окончания – то, помимо общеизвестных
Тургенева, Достоевского и Льва Толстого, помимо шедевральной, но, к сожалению,
незавершенной поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, есть ещё и такие гиганты
слова и мысли как Павел Иванович Мельников-Печерский, Алексей Феофилактович
Писемский (с несомненным его шедевром – романом «Тысяча душ»), Николай Семенович
Лесков («Соборяне», «На ножах» и мн. др. замечательные произведения).
Но на этом урок – исходящий из одного только (!) винничуковского абзаца – не окончен.
Буквально в нескольких строчках этот «знаток русской литературы» кроме невежества
относительно «натуральной школы» сумел продемонстрировать ещё и незнание
литературных традиций драматургии и басни. Причём невежество настолько наглое, какое
может себе позволить только полный… профан.
Фонвизин – один из зачинателей русской сатирической комедии, творчество которого – в
частности, «Бригадир» и «Недоросль» – будет интересно как тому кто изучает век XVIII,
так и всякому кто любит драматургическое искусство вообще. Так же как Винничук
Фонвизина можно «сбросить с парохода современности» и Мольера, и Лопе де Вега, а
заодно и Карпенко-Карого! Защищать Грибоедова вообще нет нужды: значение и
достоинства его «Горя от ума» очевидны. В этой своей части реплика Винничука
совершенно аналогична тому, как если бы кто-нибудь заявил: в курсі української
літератури зовсім не варто вивчати «Украдене щастя» Івана Франка! То же – и
относительно Островского. Творчество этого автора вовсе не ограничивается, как то
думает Винничук, школьной «Грозой», но поражает разнообразием тем и направлений: от
популярной «Бесприданницы» через массу пьес социально-психологического содержания
до исторических хроник в духе Шекспира и сказочно-философской феерии «Снегурочка».
Без преувеличения, это есть глыба, краеугольный камень и основа русского театра.
Не менее диким является выражение о том-де, что свои басни Крылов передер в Езопа й
Лафонтена, – і що наші дітки мусять вивчати їх, а не першоджерела! Но какие
першоджерела предлагает изучать Винничук? Лафонтена на французском и Эзопа на
древнегреческом? Не слишком ли серьёзная нагрузка для младших школьников? Да и
зачем тот же Лафонтен, если – исходя из винничуковской логики – он тоже передер в
Езопа? А может и Эзоп у кого-нибудь передер?
Вот до каких глупостей можно дойти, следуя за Винничуком! А всё дело в том, что основу
и самобытность того или иного баснописца определяет вовсе не сюжет – заимствование
его у предшественников в басенной традиции дело самое что ни на есть естественное.
Главное в басне – это, во-первых, характерные для каждого самобытного баснописца
особенности фактуры, во-вторых, подробности, отображающие среду и эпоху, в-третьих,
национальный колорит, и, наконец – поскольку жанр этот имеет непосредственную связь
с фольклором – со сказками да с прибаутками – потому искусство басни это ещё и особое
умение их рассказывать.
Эзоповы басни написаны прозой, стихотворная же традиция европейской басни восходит
к древне-римскому поэту Федру, переложившему Эзопа стихами на латинский язык. В
творчестве Крылова в равной степени содержаться как известные сюжеты его
литературных предшественников, так и собственные, на коих строятся столь знатные
басни как «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак», «Кукушка и Петух»... В собственно русской
басенной традиции он достигает вершины, прежде всего, как рассказчик. До него были
Сумароков, Херасков, Хемницер, Дмитриев, Измайлов, но именно у Крылова язык, что
называется, заиграл – да так, что его басни стали восприниматься не просто как
литературное явление, а как органичная часть русского фольклора.
О Булгакове и Пушкине
Но вернёмся к «Урокам» Юрия Винничука. Очередной зигзаг его мысли приводит к
уроженцу Киева – Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Помнится, автор утешался тем, что
«на зміну різним успєнскім та рєшетніковим прийдуть Булгаков і Ахматова…» – Куда
придут? Они давно уж обосновались в курсе «Зарубежной литературы» – в учебнике для
11-го класса. Впрочем, как бы то ни было, а разница невелика – и этой мыслью Винничук
«утешался» лишь во втором абзаце, ибо уже в четвёртом – как то видно из
нижеследующей иронической реплики в адрес известной политикессы – Булгаков также
попал в немилость:
«Ось і беззаперечний авторитет Інна Богословська, яка має свою думку про все на світі,
недавно на шоу Шустера розповіла, що Україна перед світом може гордитися двома
іменами: Булгаковим і Малевичем. Правда, з таким самим успіхом можна було назвати і
Джозефа Конрада та Шмуеля Агнона (нобелівського лауреата). У всякому випадку ці
двоє значно відоміші на Заході, аніж Булгаков, якого ніхто там не має за першорядного
письменника. Причина та, що людина, начитана у світовій літературі, легко побачить
усю вторинність роману «Майстер і Маргарита»».
Ну, на Западе за першорядних мають Джоан Роулинг, Дэна Брауна и Пауло Коэльо! Но
нам-то какая разница кого там мають? И главное кто? Неужели Запад – это нечто
монолитное и обладающее единым мнением? Похоже, что Винничуку именно так и
видится! Однако по поводу вторинності роману «Майстер і Маргарита» послушать всё
же интересно.
«Чому француз має захоплюватися Булгаковим, якщо багато образів і сюжетних ходів
той запозичив із роману П’єра Мак Орлана «Нічна Маргарита», виданого у Москві 1927го? Головні герої тут професор Георг Фауст, що продав душу дияволу (таємничому
Леону, який, звісна річ, накульгує) і завдяки цьому перетворився на молодика, та руда
красуня Маргарита. Спаде на думку французові й роман Олександра Дюма «Жозеф
Бальзамо».
Американець, читаючи Булгакова, відразу згадає «Таємничого незнайомця» (1898) Марка
Твена, особливо бал і спільні філософські ідеї. Німецькомовний читач помітить безліч
ремінісценцій з роману Густава Майрінка «Ангел Західного вікна», а хтось іще
начитаніший буде просто ошелешений дивовижними збігами з «Пригодами авантюриста
Гуго фон Хабеніхта» класика угорської літератури Мора Йокаї (1825-1904). Тут маємо і
теологічні дискусії, схожі на ті, що велись на патріарших, і версію про те, що Ісус був
містифікатором, а справжнє його ім’я Йошуа Бен Ганоцрі, тут і бал у Сатани, і
відрізані задля розваги голови, і зниклі гроші, і жінка на кабані, і польоти відьом».
О том, что любое художественное произведение находится в живом литературном
контексте, где открываются всевозможные взаимосвязи, о том, что любой художник так
или иначе испытывает на себе различные внешние влияния, и на этом основании может
быть «уличён» в подражании, лучше всего сказал великолепный французский писательромантик Шарль Нодье в романе «История Богемского короля и его семи замков»: «И вы
хотите, чтобы я – подражатель подражателей Стерна – который подражал Свифту –
который подражал Уилкинсу – который подражал Сирано – который подражал Ребулю –
который подражал Гийому дез Отелю – который подражал Рабле – который подражал
Мору – который подражал Эразму – который подражал Лукиану – или Луцию из Патраса
– или Апулею – поскольку я не знаю, да и не хочу знать, кто из этих троих был ограблен
двумя остальными… и вы хотите, чтобы я написал книгу, новую и по форме, и по
содержанию!»
О литературном контексте романа Булгакова тоже хорошо известно: среди источников
больше всего повлиявших на него, помимо «Фауста» как отправной точки, в первую
очередь следует назвать романы Андрея Белого «Московский чудак» и «Москва под
ударом», его же «Северную симфонию», ну и конечно – повесть Александра Куприна
«Звезда Соломона». Основными же историческими источниками, на которые
ориентировался Булгаков, создавая «новозаветную линию», являются «Жизнь Иисуса»
Эрнеста Ренана и «Жизнь Иисуса Христа» Фредерика Фаррара.
Но… то, что говорит Винничук, вызывает чувство крайнего недоумения. Если сюжет
первого им названного – малодоступного – произведения рассказывает он сам, и из него
мы видим, что это не что иное как реминисценция «Фауста», то всё остальное – вообще не
имеет к Булгакову никакого касательства! Ни широкоизвестный роман Дюма,
посвящённый графу Калиостро, ни крайне слабая вещь Марка Твена (в трёх различных
редакциях), ни шедевр наивысшего класса Майринка, ни весьма интересный –
написанный в традиции плутовского романа – опус Мора Йокаи, – всё это никаким боком
– ни по сюжету, ни по смыслу – с романом Булгакова не соприкасается. Потому – в
объяснении столь нелепых инсинуаций – остаётся только вспомнить слова из «Мастера и
Маргариты»: «– Так что же говорит этот человек? – А он попросту соврал! – звучно, на
весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: –
Поздравляю вас, гражданин, соврамши!» – А также название шестой главы того же
романа – «Шизофрения, как и было сказано». – И после столь своеобразного установления
диагноза вернёмся к нашему пациенту:
«Одне слово, з Булгаковим – проблема. Зрештою, як і з Пушкіним, якого французи не
сприймають, вважаючи звичайним епігоном французької поезії. Чимало класичних віршів
Пушкіна, у тому числі «Письмо Татьяны» – це переспіви з французької».
Однако ныне французы в массе своей не знают даже кто такой Дюма! Так же как
американцы понятия не имеют о существовании писателя Джека Лондона! Слишком уж
высокого мнения Винничук о начитанности западных читателей – не учитывает того
факта, что из «самой читающей страны», откуда он родом, прямой дорогой угодил в
общество потребления, где читать вовсе не обязательно. А если уж читать, то о литературе
речь здесь не идёт, в обществе потребления создаётся её заменитель – чтиво на любой
вкус: для масс – Роулинг, Коэльо, Дэн Браун, для «элиты» – Эко, Зюскинд, Мураками.
Что же до Пушкина, то в переводе его не воспринимают не по причине, что он чей-то
эпигон – будь то Парни, Шенье или Байрона, – находясь под влиянием этих поэтов в
юные годы, их влияние Пушкин трансформировал в нечто совершенно оригинальное. А
не воспринимают Пушкина – в должной степени – за пределами русскоязычного мира
потому, что поэзия его НЕПЕРЕВОДИМА. Дело в том, что это не поэзия мысли, а поэзия
звучания – энергии созвучий русского языка.
«Але що нам заграниця? – продолжает трещать Винничук, – Наші дітки й так не будуть
вивчати Еваріста Парні чи Андре Шеньє, яких переспівував Пушкін. Вони будуть вивчати
вірші, де Анна Керн – ах! «мимолетное виденье», «гений чистой красоты», Але ніколи не
дізнаються про лист, в якому поет згадує мадам Керн, «которую с помощию Божьей я
на днях поёб».
Из мысли Винничука следует, что к изучаемым произведениям необходимо прикладывать
и всё им сопутствующее по жизни писателя. В таком случае, возможно, он хочет, чтобы и
творчество Шевченко детки изучали вместе с исследованием Олеся Бузины? Оттуда они
много интересного узнают из жизни национального гения!
Кроме того, человек сетует, что детки не будут изучать Парни! Надо полагать, что будь
его воля, он обязательно бы акцентировал внимание на творчестве этого пиита. Но как же
быть с центральной в его творчестве антихристианской поэмой «Война богов»? Тогда
вместо библейских историй в курс школьной программы следует ввести и опусы Лео
Таксиля!
И что же получается из винничуковских советов, уроков и размышлений? Наверняка –
исходя из своего уровня развития – хочет человек как лучше. Но – опять-таки в результате
недостатка развития – получается как всегда. Хочет человек блеснуть умом и широкими
познаниями – а из всех щелей лезет дурь…
О ястребе и куропатке
Но одним только экскурсом в русскую литературу не мог, конечно, ограничиться
ревностный популяризатор украинской словесности Винничук. И потому далее следует
переход на новый – российско-украинский – уровень. Читаем: «Найбільший подив
викликали підстави для нової ідеї Табачника: «Особлива роль належить російській
літературі як художньо-словесному надбанню, у тісній взаємодії з яким протягом
декількох століть формувалася українська література, а також з урахуванням того
місця, яке займає російська література у загальнолюдській системі духовно-культурних
цінностей»».
Ну что может вызвать удивление и недовольство в столь очевидном утверждении? Какникак основание его составляет творчество авторов, находящихся на пересечении двух
литературных пространств – Григория Сковороды, Ивана Котляревского, Василия
Нарежного, Антония Погорельского, Ореста Сомова, Николая Гоголя, Григория КвиткиОсновьяненко, Евгения Гребёнки, Тараса Шевченко, Николая Костомарова, Григория
Данилевского, Данилы Мордовцева, Михайла Старицкого… Но Винничук по этому
поводу заявляет нечто совсем уж дикое: «Усі науковці, які підписалися під цим
документом, засвідчили один спільний для них діагноз: маразм. На жаль, це не лікується.
Тільки пройдисвіт та останній бевзь може твердити щось подібне, бо вся тісна
взаємодія української літератури з російською виглядала як взаємодія яструба і куріпки».
Итак, Юрий Винничук устанавливает диагноз – но чей? Как то следует из клинической
психиатрии, ругательства, коими то и дело разражается больной, свидетельствуют о
собственных его психических проблемах. Таким образом больной сам себе устанавливает
диагноз.
А вот что касается причин психического расстройства, то таковыми в рассматриваемом
нами случае стали высказывания Виссариона Белинского. Именно на его словах
фокусирует всё своё внимание Винничук, когда говорит про яструба і куріпку. Ибо…
«Свідченням цього є висловлювання Бєлінського: «Вера делает чудеса – творит людей из
ослов и дубин. Стало быть, она может из Шевченка сделать, пожалуй, мученика
свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх
того горького пьяницу, любителя горилки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий
радикал написал два пасквиля на государя императора – один на государя императора,
другой на государыню императрицу… Я не читал этих пасквилей, и никто из моих
знакомых не читал…, но уверен, что пасквиль на императрицу должен быть
возмутительно гадок… Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я
его судьей, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам…»
«Одна скотина из хохлацких либералов, некто Кулиш (экая свинская фамилия!) в
«Звездочке», …журнале, который издает Ишимова для детей, написал историю
Малороссии, где сказал, что Малороссия или должна отторгнуться от России, или
погибнуть… Вот что делают эти скоты, безмозглые либералишки. Ох, эти мне хохлы!
Ведь бараны – а либеральничают во имя галушек и вареников со свиным салом…» – Тут
впору вместе с Винничуком воскликнуть «Ах!» – вот он оказывается грубиян какой этот
Белинский – настоящий шовинистический яструб, терзающий невинную и нежную
куріпку в лице украинских поэтов Шевченко и Кулиша!
Однако обилие ругательств в приведённой цитате свидетельствует о чём-то таком, что
ускользает от понимания Винничука, привыкшего в своих рассуждениях снимать лишь
первый – поверхностный – слой. А что мы увидим, если хоть на штык проникнем в глубь
от поверхности данного вопроса?
Прежде всего, что высказывания Белинского взяты не из предназначавшейся для
массового читателя журнальной статьи, а из личного письма. То есть высказанное
является сугубо личным мнением, на которое автор имеет, я думаю, не меньше права, чем
какой-нибудь Винничук. И то, что мнение Белинского о Шевченко оказывается в корне
отличным от той парадигмы, что возведена ныне в статус общегосударственной
идеологии, свидетельствует вовсе не о злостных происках «неистового Виссариона», а о
том, что в его время упомянутой парадигмы не существовало как таковой.
Кроме того, приведённые слова Белинского – как это на первый взгляд ни парадоксально
– свидетельствуют о младенческом состоянии мышления самого Винничука и ему
подобных. Дело в том, что, вырывая их из контекста и не замечая ни повода, по которому
они были сказаны, ни размышлений по этому поводу, Винничук демонстрирует
фрагментарно-избирательное восприятие – он способен реагировать лишь на то, что
задевает его собственные болевые точки. И совершенно не видит то, что говорится по
существу – главной темой письма Белинского к Анненкову от 1-10 декабря 1847 года
является инициируемый императором вопрос об освобождении крестьян, вызывающий
неудовольствие со стороны помещиков. Если же читать внимательно и по существу, то
становится понятным и отношение Белинского к тогдашнему, а не сегодняшнему (sic!)
Шевченко:
«Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это враги всякого успеха. Своими
дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным,
готовым видеть бунт там, где нет ничего ровно, и вызывают меры крутые и гибельные
для литературы и просвещения.
<…>
Наводил я справки о Шевченке и убедился окончательно, что вне религии вера есть
никуда негодная вещь. Вы помните, что верующий друг мой говорил мне, что он верит,
что Шевченко — человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса – творит людей
из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика
свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх
того, горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому.
<…>
Так вот опыт веры моего верующего друга. Я эту веру определяю теперь так: вера есть
поблажка праздным фантазиям или способность всё видеть не так, как оно есть на
деле, а как нам хочется и нужно, чтобы оно было. Страшная глупость эта вера! Вещь,
конечно, невинная, но тем более пошлая».
С другой стороны, мнением Белинского – тем более, высказанном в личном письме, а не
публично! – вовсе не ограничивается ситуация в русской литературе: тот же Тарас
Шевченко был, говоря современным языком, раскручен, в первую очередь благодаря
усилиям симпатизирующих ему российских писателей – представителей того самого
«демократического» лагеря, чьи имена Винничук пишет с маленькой буквы.
А вот упоминание Пантелеймона Кулиша наводит на совершенно другие мысли.
Известно, что творческим итогом этого автора являются исторические труды, написанные
много позже той «истории Малороссии», которую бранит в своём письме Белинский, –
это «История воссоединения Руси» и «Отпадение Малороссии от Польши». Но именно
эти произведения украинского классика у свобідній, незалежній Україні не переизданы ни
разу – исходя из чего вывод: покуда Кулиш не будет переиздан в полном объёме, говорить
о реальной свободе слова и отсутствии цензуры на Украине не приходится! И почему бы
Винничуку и другим борцам за свободу слова не посодействовать их переизданию?
P. S. К истории болезни – из произведений Юрия Винничука.
А напоследок – после всего сказанного – обратимся непосредственно к «зеркалу души»
самого Юрия Винничука – к его собственному художественному творчеству. Итак…
Надпись на книге «Весняні ігри в осінніх садах» (Львів: «Піраміда», 2005):
«Юрій Винничук – «культовий письменник» (Юрій Макаров); «надзвичайно широкого
діапазону» (Іван Малкович), який «робить більше за цілий інститут літератури»
(Костянтин Родик)…»
Из романа «Весняні ігри в осінніх садах»:
«Взагалі, коли чесно, Віра мала на мене найбільші права – адже це я її позбавив
невинності. Живучи в Галичині, ви не можете бути певні того, що привівши до хати
дівчину, ба, навіть лишивши її на ніч, ви її вграєте, вона може виявитися цілочкою і
говорити щось про чисті почуття. Цілочки бувають різні, одні не дозволять скинути з
себе навіть мештів, інші скинуть все, але до істеричного стану будуть боронити свої
майтки».
Из повести «Діви ночі»:
«Отже, пані Аліна належала до свідомих українок. А це вам не абищо, бо процент
українок серед львівських проституток завше був недостатнім для нормального
функціонування організму нації. Пані Аліна була начитаною, знала напам’ять вірші
Лепкого, Олеся, Чупринки, Філянського. Одного разу показала альбом, сторінки якого були
власноручно списані відомими поетами».
«Пані Аліна зберігала колекцію старих порнографічних журналів. Ну що вам сказати?
Звичайно, порнографія довоєнна – це ще несміливі квіточки в порівнянні з сучасним
«Плейбоєм». Їх можна спокійно розглядати навіть в присутності такої поважної
матрони…» (О-ля-ля! «Плейбой» для него – порнографический журнал! О довоенной
порнографии представления тоже не имеет – французское порно-кино уже в начале ХХ
века по используемым актёрами приёмам ничем не отличалось от того, что мы видим
сегодня).
«Клієнтура тут була різна. Але пані Аліна, яко справжній патріот, з особливим
задоволенням обслуговувала саме галичан. Для них, бувало, й ціну скидала.
– Нема ліпшого клієнта, як свій хлоп. Як колись вповідали, свій до свого по своє. І так
мусить бути. Я завше пам’ятала, що належу саме до українських повій. І тим пишаюсь.
Я створила особливий, український стиль кохання. Це вам не абищо! Рідко котра нація
може цим похвалитися. І якщо ми відстаємо в науці, культурі, мистецтві і взагалі в
побутовім життю, то в мистецтві кохання ми знаходимося серед найцивілізованіших і
найкультурніших народів світу».
«З сусідньої кімнати вийшов мій улюблений сержант, який після тяжкої праці над моєю
зовнішністю вирішив поснідати і тепер наминав пиріжок з м’ясом за чотири копійки». (В
описываемое время – 1978 год – 4 копейки стоил пирожок с ливером, пирожок с мясом
стоил 10-12 коп. Видать, что так же как эротику от порнографии, автор не отличает мясо
от ливера!)
Газета «2000» от 16.12.2011
СПОР О ГОГОЛЕ
а) О ПОВЕСТИ г. ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА»
Что такое гений?
В импровизационной интернет-заметке «Чем украинец Гоголь отличается от украинца
Шевченко» (автор – leonk), опубликованной в «2000» (от 22.VIII.2008), находим
следующие рассуждения: «Сначала общее. Оба безусловные гении с нелегкой судьбой.
Оба родились на Украине, примерно в одно время и в близких местах. Жили в России,
знали оба языка, обе страны, оба народа. Оба умерли не в возрасте Пушкина, но рано, оба
не завели семьи и детей. Гоголь мог бы застрять на Тарасе Бульбе, перейти на украинский
язык и от казацкой сабли к крестьянскому топору. Шевченко мог бы перейти на русский,
написать своего Тараса Бульбу и вечера на соседнем хуторе… Они писали об одном
времени в одной стране, а создали два таких разных мира. Мог бы Чичиков, покупая
мертвые души, заехать в имение Онегина? Запросто. Мог ли Ноздрев на каком-нибудь
балу столкнуться с Наташей Ростовой? Почему бы и нет. А мог бы кто-нибудь из героев
Шевченко хотя бы просто поговорить с кем-нибудь из героев Гоголя? С Тарасом Бульбой
– да, с кем-нибудь из Диканьки – да. А в Петербурге, Ревизоре, Мертвых душах – нет.
Совсем нет. Они инопланетяне друг для друга. Это другая вселенная, другой мир».
Обращает на себя внимание несколько раз употребленное сослагательное наклонение –
МОГ БЫ, – в пяти случаях из шести утвердительное. Однако мы вынуждены
опровергнуть столь уверенную утвердительность интернет-автора. Мог ли Гоголь перейти
на украинский язык и застрять на Тарасе Бульбе, то бишь на малороссийской тематике?
Ни в коем случае, ибо это в корне противоречило его внутренним установкам и всему
алгоритму его творческого пути. Впрочем, об этом говорил он сам: «Нам, Осип
Максимович, надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного,
владычного языка для всех родных нам племен… Я знаю и люблю Шевченка, как земляка
и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его
судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые
истинному таланту. Они всё еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки.
Русский и малоросс – это души близнецов, пополняющие одна другую и одинаково
сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой невозможно… Всякий пишущий
теперь должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицо
того, кто дал нам вечное человеческое слово…» (Г.П. Данилевский. Знакомство с
Гоголем. Цит. по кн. В. Вересаев. Гоголь в жизни. Харьков, «Прапор», 1990, с. 597)
А мог ли Шевченко «перейти на русский, написать своего Тараса Бульбу и вечера на
соседнем хуторе»? Насчет «перейти на русский язык» сослагательное наклонение тут
неуместно, потому как на русском Тарас Григорьевич написал гораздо больше, чем на
украинском. А вот создать своего Тараса Бульбу и т. д. навряд ли бы у него получилось,
ибо весьма слаб был в создании повествовательной интриги, разработке сюжета и фабулы,
о чем красноречиво свидетельствуют созданные им повести.
И, наконец, мог бы Чичиков встретиться с Онегиным, а Ноздрев с Наташей Ростовой?
Никак нет по той причине, что Онегин и Ростова – персонажи реалистических
произведений, в то время как Чичиков и Ноздрев – не что иное как карикатура, гротеск,
одномерные образы, не имеющие внутреннего измерения.
Но для чего мы все это опровергаем? Так ли уж важно, что написал некий анонимный
автор? А дело в том, что подобные рассуждения не являются чем-то единичным, но
весьма характерны для самого широкого круга наших читателей и «писателей».
Утверждать, особенно не вдаваясь в суть вопроса. Мог бы? Конечно, ведь он же ГЕНИЙ.
В статье «Тарас Шевченко как аналитик и политолог» («2000» от 22.VIII.2008)
харьковчанин Антон Турчак пишет: «Русский писатель Алексей Писемский происходил
из знатного рода, был отменно образован и воспитан, умел вести себя в обществе, был
превосходным рассказчиком. Николай Гоголь же был малообразован, неряшлив,
невыносим в общении, донимал своих знакомых религиозными поучениями. Ну и что?
Гоголь – гений, известный во всем мире, а о Писемском знают только специалисты».
Возникает очень важный вопрос: на каком основании Антон Турчак делает вывод, что
Гоголь – гений, а Писемский – нет? На основании собственного вдумчивого прочтения
полного собрания сочинений этих писателей? Или же только на том факте, что – как ему
кажется – Гоголь известен всему миру, а Писемский – только специалистам? На
сложившемся стереотипе, особенно не вдумываясь в его природу, а воспринимая как
непреложную данность?
И здесь мы выходим на один из ключевых моментов осмысления литературы. Гений – что
сие значит? Вот как, анализируя природу творчества Пушкина, об этом пишет Викентий
Вересаев: «Конечно, не откуда-то сверху, не с каких-нибудь мистических высот,
спускалось на поэта озарение, так высоко поднимавшее его душу над жизнью. Данные для
этого озарения лежали в его собственном подсознании. Но в обычное время
соответственные настроения переживались Пушкиным как бы в полусне, смутно и
недейственно, и только в состоянии вдохновения властно завладевали всею его душою.
Под поверхностным слоем густого мусора в глубине души Пушкина лежали
благороднейшие залежи». (В. Вересаев. В двух планах. М, Захаров, с. 15)
Как видим, гений здесь понимается как нечто, принадлежащее самому человеку и
находящееся где-то в глубинах его подсознания. Иного мнения и быть не может в рамках
атеистического материалистического мировоззрения. Но совсем по иному понимается
природа гения в идеалистической философии – там, где идея-эйдос рассматривается не
как нечто рожденное сознанием отдельного человека, но как первообраз. В этом случае,
говоря современным языком, признается существование единого информационного поля,
к которому та или иная личность подключается и черпает оттуда информацию. Но для
того, чтобы иметь доступ к информации определенного рода, человек должен обладать
необходимыми для ее приема устройствами. То есть антеннами, настроенными на
определенные частоты. Таким образом, гениальный человек здесь тот, кто способен
принять свыше и ретранслировать гениальные идеи. Но идеи эти ни в коем случае не
являются его авторской собственностью, доступной ему одному.
Но какие же идеи уместно считать гениальными? Очевидно, что те, которые открывают
перед человечеством новые горизонты сознания и познания, содержат в себе великие
истины и откровения. Момент новизны со временем проходит, а вот глубина – если она
есть – остается непреходящей. Это и есть главный и, пожалуй, единственный критерий
определения
гениальности
художественных
произведений,
но
отнюдь
не
общеизвестность, общепринятость, укорененность в школьной программе и
общественном сознании.
Посему, прежде чем заявлять о гениальности Гоголя или кого-либо другого, необходимо в
этой гениальности (или отсутствии таковой) самолично убедиться. Вот и попробуем – в
преддверии 200-летия писателя – подойти к его творчеству, освободившись от всех
общепринятых мнений и всевозможных идеологических установок, которые более века
эту общепринятость формировали. Оставив перед глазами лишь гоголевский текст.
«Высочайший образец, идеал и прототип!»
Мое отношение к творчеству Гоголя изменялось многократно. Одна из таких метаморфоз
произошла после прочтения в сборнике «Русская историческая повесть» первой редакции
«Тараса Бульбы». Сборник этот хорош тем, что дает представление о творчестве не только
хрестоматийных писателей, но и тех, кого прочно задвинули во 2-й, 3-й и 10-й ряд. И вот,
получив истинное удовольствие от произведений писателей, которые в нашем
литературоведении удостаиваются не иначе как уничижения, – а именно трех
исторических миниатюр Александра Бестужева-Марлинского («Ревельский турнир»,
«Изменник», «Замок Эйзен»), повестей Николая Полевого («Симеон Кирдяпа») и Нестора
Кукольника («Максим Созонтович Березовский»), – я приступил и к нашей классике –
«Тарасу Бульбе» Николай Васильича Гоголя. И каково же было мое удивление, когда
вместо ожидаемого стилистического блеска, я столкнулся с произведением крайне
растрепанным по форме и банальным по содержанию.
Дело в том, что вместо хорошо известной второй редакции, в сборник поместили
первоначальную версию повести – так называемую редакцию «Миргорода» (1835 г.).
Поражает, прежде всего, ее композиционная недоделанность: первые три главы,
являющиеся по сути прелюдией (приезд сыновей Бульбы, путь на Сечь, пребывание на
Сечи), занимают 30 страниц, в то время как основное действие (начало восстания, осада
Дубно, измена Андрия, убиение Андрия Тарасом) умещается всего на 10 (!) страницах.
Последующие 8 посвящены завершающей битве запорожцев под Дубно, после чего
столько же отведено на гротескно-карикатурное описание евреев – Янкеля, Мардохая и
Ко, с помощью которых Бульба безуспешно пытался освободить Остапа.
Не удивительно, что через несколько лет Гоголь принялся за существенную переработку
повести, в результате чего она увеличилась в полтора раза и приобрела свой классический
вид. Но ведь дифирамбов удостоилась уже первая ее редакция. Вот что писал о ней в год
ее выхода 24-летний Белинский: ««Тарас Бульба» есть отрывок, эпизод из великой эпопеи
жизни целого народа. Если в наше время возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее
высочайший образец, идеал и прототип!.. Если говорят, что в «Илиаде» отражается вся
жизнь греческая, в ее героический период, то разве одни пиитики и риторики прошлого
века запретят сказать то же самое и о «Тарасе Бульбе» в отношении к Малороссии XVI
века?.. И в самом деле, разве здесь не все козачество, с его странною цивилизациею, его
удалою, разгульною жизнию, его беспечностию и ленью, неутомимостью и
деятельностию, его буйными оргиями и кровавыми набегами?.. Скажите мне, чего нет в
этой картине? чего недостает к ее полноте? Не выхвачено ли все это со дна жизни, не
бьется ли здесь огромный пульс всей этой жизни?.. И какая кисть, широкая, размашистая,
резкая, быстрая! какие краски, яркие и ослепительные!»
Напечатанная в журнале «Телескоп» статья Белинского «О русской повести и повестях г.
Гоголя» (откуда взята вышеприведенная цитата) стала по сути отправной точкой
восхождения Николая Гоголя на олимп Русской изящной словесности. Белинский же
выступил в роли повивальной бабки «нового гения», пришедшего на смену Пушкину.
Интересно, что в деле завоевания литературного пространства так они и шли рука об руку
– Гоголь и Белинский – вплоть до развилки под названием «Выбранные места из
переписки с друзьями», когда явился совершенно иной Гоголь, неведомый и в корне
противный Белинскому. Но до этого было еще далеко, а пока молодой Белинский поет
дифирамбы молодому Гоголю, легшие затем в основу русского литературного канона и
породившие стереотип о несомненной гениальности Гоголя.
Однако вопреки этому стереотипу позволю себе не согласиться с мнением «Неистового
Виссариона». Очень уж далеко первой редакции «Тараса Бульбы» до «высочайшего
образца» и «идеала». Это не более, чем зарисовки на героическую тему начинающего
литератора, к тому же весьма скверно владеющего языком. Чтобы не быть голословным,
приведу пример стилистики, характерной для данной повести:
«Он завидел в стороне отряд, стоявший, повидимому, в засаде. Он узнал среди его сына
своего Андрия. Он отдал кое-какие наставления Остапу, как продолжать дело, а сам, с
небольшим числом, бросился, как бешеный, на этот отряд. Андрий узнал его издали, и
видно было издали, как он весь затрепетал. Он, как подлый трус, спрятался за ряды своих
солдат и командовал оттуда своим войском». – Каково? Три предложения кряду
начинаются с местоимения «он»; «он узнал среди его», т. е. среди отряда – вот это оборот!
– «издали» повторяется дважды в одном предложении, а «он» – 5 раз в 5-ти!
И подобных стилистических ляпсусов в тексте более, чем достаточно. Но, помимо
стилистики, обратим внимание на моменты, относящиеся к построению фабулы. И,
прежде всего, на линию Андрия – на любовные мотивы его измены и на приемы, к
которым прибегает автор.
«Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна брюнетку, прекрасную, как не знаю что,
черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца». – Такой увидел
свою роковую любовь, еще будучи бурсаком, герой повести. И в ту же ночь «…с дерева
перелез на крышу и чрез трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы…» – судя
по этой реплике, герой обладал выдающимися инженерно-строительными способностями:
с ходу сообразил, как через дымоход пробраться именно в комнату панны. Но знакомство
оказалось весьма непродолжительным – три мимолетных встречи. Тем не менее, автор
считает, что этого вполне достаточно, чтобы прирожденный воин без тени сомнения
отрекся от боевого товарищества. Уже пройдя боевое крещение, с головой погрузившись
«в очаровательную музыку мечей и пуль», а, говоря попросту, убивая, грабя и насилуя,
герой, глубоко в сердце хранил первую свою мальчишескую любовь. Даже не любовь, а
мимолетную влюбленность. Что ж, всякое бывает. Вот только слишком уж фантастично
описание новой встречи влюбленных.
«Он оглянулся и в самом деле увидел стоявшую подле себя женщину. Смуглые черты
лица ее и азиатская физиогномия показались ему как-то знакомыми. Он стал глядеть
пристальнее: так! это была татарка! та самая татарка, которая служила горничною при
дочери ковенского воеводы. Он встрепенулся. Сердце сильным ударом стукнуло в его
мощную грудь, и всё минувшее, что было во глубине, что было закрыто, заглушено,
подавлено настоящим вольным бытом, – всё это всплыло разом на поверхность…» –
Какова память? Так запомнить лицо даже не возлюбленной, а ее горничной – виденной
один раз! Но что это против того, как его самого вычислили! Оказывается, панна, выйдя
подышать свежим воздухом на стены крепости, увидела его среди запорожцев. Надо
думать, что он вовсе не изменился – что бурсак, что казак, даже оселедца не стал
отращивать, подсознательно рассчитывая на встречу с возлюбленной. И вот она его
узнала и отправила к нему служанку. Та чудесным образом сориентировалась на
местности: под покровом ночи, не обращая внимания на часовых, среди тысяч спящих
сразу же нашла Андрия. И тут же рассказала ему про подземный ход.
«– …Один только потаенный ход и есть; но на том самом месте стоят ваши обозы, и если
только узнают этот ход, то город уже взят. Панна приказала мне всё объявить вам, потому
что вы не захотите изменить ей». – И он их не подвел: не выказав и тени сомнения,
нагрузился провизией и, не обращая внимания на перепившихся часовых – неужели
запорожцы так бездарно вели войну? – отправился навстречу своей судьбе.
«Он опять увидел ее. Она сидела на диване, подвернувши под себя обворожительную,
стройную ножку. Она была томна; она была бледна, но белизна ее была пронзительна, как
сверкающая одежда серафима. Гебеновые брови, тонкие, прекрасные, придавали что-то
стремительное ее лицу, обдающее священным трепетом сладкой боязни в первый раз
взглянувшего на нее. Ресницы ее, длинные, как мечтания, были опущены и темными
тонкими иглами виднелись резко на ее небесном лице. Что это было за создание!» –
Вообще-то, если ресницы опущены, то глаза закрыты, – что же она – с закрытыми глазами
сидела? В целом же все это под стать развлекательному чтиву, рассчитанному на самого
что ни есть невзыскательного читателя. И что там говорилось о высочайших образцах,
ярких и ослепительных красках?
«Изменник»
О том, что сам Гоголь считал первую редакцию «Тараса Бульбы» слабой,
непосредственных сведений я не обнаружил. Но неспроста же он предпринял
кардинальную переделку повести. Многое было написано вновь и переписано заново, – и
повесть превратилась в действительно сильную вещь. Но все ли недостатки удалось
устранить?
Внимательное прочтение текста дает основания говорить, что и во второй редакции не
удалось Гоголю полностью освободиться от стилистических и грамматических ляпсусов.
Особенно много их в конце повести.
«Захотели остаться: весь почти Незамайковский курень, бОльшая половина
Поповичевского куреня, весь Уманский курень, весь Каневский курень, бОльшая
половина Стебликивского куреня, бОльшая половина Тымошевского куреня». – Не знал
Николай Васильич, что половина не может быть большей или меньшей.
А вот сцена казни запорожцев:
«…они не глядели и не кланялись народу». – Что значит «не глядели»? Шли с закрытыми
глазами?
«– Добре, сынку, добре! – сказал тихо Бульба и уставил в землю свою седую голову.
Палач сдернул с него ветхие лохмотья…» – Не «с него», то бишь с Бульбы, сдернул, – как
это следует из текста, – а с Остапа!
«Ни крика, ни стону не было слышно даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и
ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы отдаленными
зрителями…» – Интересно, что в первой редакции это предложение было составлено
правильно: вместо «послышался» имело место «слышался». Перестарался Николай
Васильевич.
«Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или безумных воплей
супруги, исторгающей волосы и биющей себя в белые груди…» – «Исторгающей волосы»
– что сие значит?
Но главный вопрос: сумел ли автор ликвидировать как-то банальность в линии Андрия?
Над этим моментом Гоголь потрудился основательно – и эпизод наполнился
принципиально новым содержанием. Во второй редакции (1842 г.) встреча Андрия с
панной написана высоким штилем – в духе рыцарского романа. Андрий здесь превратился
в некоего рыцаря, служащего своей Даме сердца и взыскующего Святого Грааля. И Дама
его сердца обращается к нему не иначе как:
«– Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодушный рыцарь, – сказала она…»
– Интересно, что автор настолько погрузился в созданную им новую атмосферу, что и сам
стал называть своего героя «рыцарем»: «В это время вошла в комнату татарка, она уже
успела нарезать ломтями принесенный рыцарем хлеб…»
Герой наделяется и соответствующей философией, что делает его наиболее загадочным из
всех персонажей не только «Тараса Бульбы», а, пожалуй, и всего гоголевского творчества:
«– Кто сказал, что моя отчизна Украйна? Кто дал мне ее в отчизны? Отчизна есть то, чего
ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя – ты! Вот моя отчизна! И понесу я
отчизну сию в сердце моем, понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть ктонибудь из козаков вырвет ее оттуда! И всё, что ни есть, продам, отдам, погублю за такую
отчизну!» – Иными словами, это рыцарь, взамен земной нашедший свою небесную
отчизну. На коленях перед Дамой сердца принимающий присягу на верное ей служение.
Бросающий вызов бывшим своим побратимам и даже кровному отцу:
«Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакам, скажи запорожцам, скажи всем, что
отец – теперь не отец мне, брат – не брат, товарищ – не товарищ, и что я с ними буду
биться со всеми. Со всеми буду биться!»
И что же дальше? А дальше – создав сей космический образ – Гоголь сталкивается с его
несоответствием сюжету. И банально возвращает ему роль «зарвавшегося школьника»,
отдавая на съедение Тарасу. Но не спасовал бы и перед собственным отцом тот персонаж,
который был изображен несколькими страницами ранее. Да и разве мало было в те
времена кровавых распрей между ближайшими родственниками? Поэтому в момент
сникший Андрий – что-то явно фальшивое.
Здесь весьма уместно упомянуть небольшую повесть Александра Бестужева-Марлинского
«Изменник», написанную еще в 1825 г. В ней рассказывается о русском князе, в Смутное
время воюющем на стороне поляков против своей страны и, в частности, против
собственного брата. Что особенно поражает: несколькими штрихами автор настолько
проникает в психологию «изменника», что становится понятной предопределенность его
измены. Понимаешь, что иначе просто и быть не могло. И настолько точно слово попадает
в идею, что она видна даже из отдельных цитат:
«…Сначала сияние двора ослепило меня, – но тем черней показалась чернота его после. Я
увидел во всех обман и во всех подозренье, зеркальные лица и ничем не подвижные
сердца, лесть, которой никто не верил и каждый требовал, умничанье безумия и чванство
ничтожества! Я чувствовал, как уменьшалась душа моя в кругу людей, которых греет
улыбка любимцев более, чем заемная шуба, которые не могут жить без низостей, ни к
чему не нужных! С каждым днем опостывал мне двор…
…Как ворон, встрепенулся я, послышав кровь, и радостно полетел к НовугородуСеверскому. С кем и за что сражаться – не было мне нужды; лишь бы губить и разрушать.
Эта забава стала мне целью, эта цель – моею наградой. Душа освежалась в пылу битвы; я
оживал тою жизнию, что отнимал у других…
…Да… я не знаю средины и границ в страстях моих: ненавижу до неистовства, люблю до
упоенья! Но не всем на счастье создана любовь. Смотри, как павшая роса оживляет былие,
но она снедает ржавчиною булат моей сабли, – и, как эта персидская сабля,
долженствовала моя любовь рассечь все препоны или разбиться вдребезги. Моя душа,
полная страсти, подобилась громовой туче, блистающей лучами солнца; но одно
противное облако, одна искра – и кто осмелится играть с перуном!.. Это мгновенье
настало. Меньшой брат мой, Михаил, приехал, за полгода, сюда, и скоро я не мог не
возненавидеть того, которого должен был любить. Я молчал… он таился, но уже взаимная
их любовь перестала быть тайною, и я узнал муки ревности, я спознался с адом злобы…
…Но не одну любовь Елены похитил у меня Михаил, любовь, с которой слит был покой
души, стало быть, счастие жизни! Нет! Он вонзил мне в грудь двойное острие. Волынский
удалялся; мне по старшинству и по опыту следовало принять воеводство. Лучшие
граждане обещали избрать меня, если б даже и Волынский воспротивился. Все было
готово… Я решился пересилить силу, думал несомненно получить если не взаимность, то
руку Елены; сватаюсь… и что ж? Я вдруг узнаю, что происками брата ему достается моя
суженая, и ей в приданое – воеводство… И в целом городе ни один голос за меня не
послышался…»
Вот это – точное попадание слова в идею – и есть литературное мастерство! Но какова
сегодня литературная репутация Бестужева-Марлинского? В свое время недоучившийся
чахоточный юнец выстроил систему взглядов на русскую литературу, основанную на
собственных вкусах и материалистическом мировоззрении. И с тех пор эта система стала
незыблемым фундаментом нашего литературоведения, которое ныне являет собой не что
иное как скопище стереотипов, основанных на ложных предпосылках. Произведения
Бестужева-Марлинского, равно как и многих других авторов, с легкой (а скорее тяжелой)
руки Белинского стали подаваться исключительно как образчик низкопробной фальшивой
литературы. И сегодня расхожее мнение в этом вопросе базируется не на собственном
прочтении текстов самих авторов, но на системе взглядов «великого критика» Белинского.
Так не пора ли научиться думать не мозгами Белинского или кого другого, но своими
собственными? И видеть то, что есть на самом деле, а не то, что сформулировал кто-то?
Не мертвых забронзовевших гениев, но живых талантливых писателей со множеством как
достоинств, так и недостатков?
Газета «2000» от 20.02.09
б) ДЕЛО БЕЛИНСКОГО-ДАВИДСОНА
Парадокс близнецов в журналистике
Уважаемая редакция! Хочу рассказать вам и читателям о любопытном происшествии в
вашей газете: в ней обнаружились корреспонденции – близнецы.
Речь пойдет о статьях Пантелеймона Рудого «Украинский романтик Микола Томенко»
(№27, 11.09.09) и Олега Качмарского «Гоголь – гений фальши?» (№8, 20.02.09).
Статья П. Рудого, вообще-то, посвящена критике книги Николая Томенко, но, поскольку
я оную не читал, то и касаться ее не буду. А нас интересовать будет ряд положений
указанных выше статей относительно Н. В. Гоголя, В. Г. Белинского, литературоведения
в целом и некоторых других материй, которые, как нам кажется, П. Рудый, мягко
говоря, позаимствовал у О. Качмарского. Будем сопоставлять.
Олег Качмарский (в дальнейшем для краткости – О. К.), желая потеснить Гоголя из ряда
гениев, применяет такой прием: на половине газетной страницы изливает желчь на
несовершенства первой редакции «Тараса Бульбы», хотя признает, что во второй
редакции «повесть превратилась в сильную вещь».
Попутно О. К. поясняет природу гения в идеалистической философии: «…признается
существование единого информационного поля, к которому та или иная личность
подключается и черпает оттуда информацию». Гениальный человек, объясняет нам
темным О. К., это транслятор гениальных идей, принимаемых свыше. Гениальные идеи,
понимаете ли, авторской собственностью не являются. Ну, – ученый человек О. К., – не
то что атеисты-материалисты, примитивно полагающие, что гениальные мысли
принадлежат самому человеку, как и не гениальные.
Впрочем, О. К. и во второй редакции «Тараса» кое-что наковырял. К примеру, «– Не знал
Николай Васильевич, что половина не может быть большей или меньшей». Уел О. К.
Николая Васильевича, уел. А то, замечает О.К., вместо правильного слова «слышался»,
как было в первой редакции, Гоголь написал во второй «послышался»! «Перестарался
Николай Васильевич» – выдает ему О. К. Ну, куда ему в гении? Разве что в «гении
фальши», хотя и с вопросительным знаком от О. К.?
Вот и Рудый Пантелеймон (в дальнейшем – П. Р.) не упускает случая обильно
процитировать несовершенный юношеский опыт Н. В. Гоголя «Ганц Гюхельгартен» и
похихикать над ним под предлогом защиты «истинного» романтизма от лубочного
сентиментализма (тоже – ученый человек П. Р., так «измами» и сыпет). Приемчик у
О.К. перенятый, какую-никакую тень на Николая Васильевича бросить может. Опять
же с гениальностью Гоголь у П. Р. подкачал … «видно стремление Гоголя, -- ободряет П.
Р. Николая Васильевича, – преодолеть самого себя, выйти за пределы отпущенных ему
талантов и способностей…». Стремление видно, да видать, по П. Р., – не срослось.
Сопоставляет П. Р. Гоголя с Пушкиным. Не знаю, можно ли вообще писателей
выстраивать по ранжиру. Нет сомнения, что Гоголь боготворил Пушкина, но и Пушкин,
хоть ему позднего Гоголя и не довелось узнать, относился к Гоголю очень тепло.
Встретились они в 1831 году, и Пушкин пишет с восторгом: «Каков Гогель?». В 1833 –
«Кланяюсь Гоголю. Что его комедия?». В 1834 – «Невский проспект перечел с большим
удовольствием». В 1835 – «Спасибо, великое спасибо Гоголю за его «Коляску». В 1836 –
заботится о помещении произведений Гоголя в «Современнике», заботится об успехе
постановки «Ревизора», цитирует «Ревизора». Чувствуется, что Пушкин в раннем
Гоголе разглядел его гений, в отличие от О. К. и П. Р.
П. Р. и О. К. поразительно и подозрительно сходятся в своей неприязни, чтобы не
сказать – в ненависти, к Белинскому. П. Р. ругает «отечественное литературоведение»,
«основанное, как известно (!) на измышлениях (!) Виссариона Белинского и прочих (!!!)
революционных демократов». Так ведь и О. К. поносит «наше литературоведение», как
«скопище стереотипов, основанных на ложных предпосылках», выдвинутых по О. К.
Белинским, о котором «освободившись от общепринятых мнений» О. К. пишет в
кавычках «великий критик». А атеизм и материализм, как мы видели выше. у О. К.
поперек горла стоит, как «прочие революционные демократы» – у П. Р. П. Р. приводит
слова Гоголя о Шевченко: «Дегтю много». По моему, Эти слова очень идут, как к П. Р.,
так и к О. К.
Опять же, литературные вкусы у П. Р. тютелька в тютельку совпадают со вкусами
О.К.: у П. Р. произведения Н. Полевого, А. Бестужева-Марлинского, В.Одоевского,
В.Кюхельбекера, – идейных противников Белинского, «сопоставимы с классикой
западного романтизма», ну и, конечно, О. К. «получил истинное удовольствие от чтения
А. Бестужева-Марлинского, Н. Полевого и Н. Кукольника. Правда, вот у Пушкина об
этой кампании мнение другое. К примеру, об Н.Полевом он писал: «Как писатель, он нет
имеет никакого таланта, как критик – повторяет чужие мысли». Так ведь то Пушкин
писал, а О. К. и П. Р. думают, по выражению О. К., своими мозгами. Кстати, к
Белинскому Пушкин, также как к Гоголю, относился с уважением, а я, – рядовой
читатель, предпочту мнение Пушкина мнению П. Р. и О. К.
Не могу не сказать еще вот о чем. О. К., говоря о Белинском, обзывает его
«недоучившимся чахоточным юнцом», в вину которому ставит материалистическое
мировоззрение. Во-первых, человеку, который опустился до того, что тычет больному в
лицо его болезнью (тем более – через полтора века после смерти больного), я бы не подал
руку. Во-вторых, в словах О. К. в адрес Белинского сконцентрирована вся его ненависть к
линии Белинского, Чернышевского, Некрасова, Добролюбова (к «прочим революционным
демократам – у П. Р.) в русской общественной мысли и литературе. Того и гляди,
авторы рассматриваемых статей заголосят за царя-батюшку. «Дегтю много»!
Уважаемая редакция, сделанное мною сопоставление двух статей приводит к выводу,
что либо имеет место плагиат П. Р. у О. К. (по крайней мере, перепев мотивов), либо
возникает предположение, о котором воздержусь говорить, так как доказать не могу.
Предположение это, думаю, у многих внимательных читателей возникает. А у вас?
В. ДАВИДСОН
ДЕЛО БЕЛИНСКОГО, или УРОК ЛИТЕРАТУРЫ
(Ответ на письмо в редакцию В. Давидсона)
Уважаемая редакция!
Хочу рассказать вам и читателям о любопытном происшествии в вашей газете: в ней
обнаружились корреспонденции – близнецы. Речь пойдет о статьях Пантелеймона
Рудого «Украинский романтик Микола Томенко» (№27, 11.09.09) и Олега Качмарского
«Гоголь – гений фальши?» (№8, 20.02.09). …сделанное мною сопоставление двух статей
приводит к выводу, что либо имеет место плагиат П. Р. у О. К. (по крайней мере,
перепев мотивов), либо возникает предположение, о котором воздержусь говорить, так
как доказать не могу.
В. ДАВИДСОН
О каком плагиате ведет речь В. Давидсон? Плагиат – это издание под своим именем
чужого произведения или же части такового. Какое же произведение О. Качмарского
издал под своим именем П. Рудый? Может ли В. Давидсон четко и ясно высказаться на
этот счет? Нет, он только ходит вокруг да около и как о чем-то вопиющем говорит о том,
что у О.К. и П.Р. на некоторые предметы взгляды, видите ли, совпадают! А у самого
Давидсона взгляды не с кем не совпадают? А то ведь с таким же успехом и ему можно
инкриминировать «плагиат» – что-то до боли знакомое вещает он, созвучное не только с
Пушкиным и Белинским, но и с «Кратким курсом истории ВКП (б)».
С другой стороны, какое отношение имеет этот, с позволения сказать, «плагиат» – в
котором не совпадает ни одного предложения и даже словосочетания! – к В. Давидсону?
Он что – решил защитить авторские права О. Качмарского? Так я, извините, никому
такого поручения не давал, ибо не вижу ничего ненормального в том, что высказанные
мной соображения могут разделяться другими авторами.
Как видим, повод, по которому «рядовой читатель» Давидсон взялся писать в редакцию,
не стоит и ломаного гроша. Зато его реакция сама по себе наглядно проявила ту весьма
занятную ситуацию, что сложилась в ментальном пространстве русской литературы. Об
этом и поговорим.
Прежде всего, нашего критика возмущает сам факт, что некие проходимцы Олег
Качмарский и Пантелеймон Рудый (если В. Давидсон не знает, кто это такой, пусть
обратится к истории русской литературы!) смеют не признавать незыблемые авторитеты,
коими в его понимании являются Гоголь, Белинский, Пушкин, Лермонтов, Некрасов и т.
д. по курсу школьной программы вплоть до Шолохова.
При этом, что касается сути вопроса, все ограничивается риторическими восклицаниями,
как то в следующем случае: «Впрочем, О. К. и во второй редакции «Тараса» кое-что
наковырял. К примеру, «Не знал Николай Васильевич, что половина не может быть
большей или меньшей». Уел О. К. Николая Васильевича, уел». – И как это прикажете
понимать? Если не согласен с данным замечанием, то так и скажи, что половина, мол,
может быть и большей и меньшей. А если согласен, тогда зачем кочевряжиться со всеми
этими «наковырял», «уел», «похихикать»?
Открытие Полевого…
Весьма симптоматична также манера, не имея собственного мнения, прятаться за спину
авторитетов, и даже бравировать этим. Я, мол, книг такого-то писателя не читал, но
считаю, что это плохие книги! И что бы там ни говорили Качмарский с Рудым, читать их
не буду. Потому как «у Пушкина об этой компании (то есть о Полевом, Марлинском,
Одоевском и др. – О. К.) мнение другое. К примеру, об Н. Полевом он писал: «Как
писатель, он не имеет никакого таланта, как критик – повторяет чужие мысли». Так
ведь то Пушкин писал, а О. К. и П. Р. думают, по выражению О. К., своими мозгами.
Кстати, к Белинскому Пушкин, также как к Гоголю, относился с уважением, а я, –
рядовой читатель, предпочту мнение Пушкина мнению П. Р. и О. К.» – А как насчет
собственного мнения? По В. Давидсону выходит, что раз уже есть мнение Пушкина, то и
сама необходимость думать «своими мозгами» естественным образом отпадает?
Очевидно, что это совсем не так, и прежде чем судить о каком-то предмете, необходимо
самолично с ним ознакомиться и всесторонне изучить. Потому что помимо мнения
Пушкина существует множество других – не менее «авторитетных» – мнений, весьма
противоречивых и неоднозначных. Чтобы не быть голословным, приведем другое
суждение о творчестве Николая Полевого:
«Одно из главнейших, из самых видных мест между нашими повествователями (которых,
впрочем, очень немного) занимает г. Полевой. Отличительный характер его произведений
составляет удивительная многосторонность, так что трудно подвести их под общий
взгляд, ибо каждая его повесть представляет совершенно отдельный мир. Что есть общего
или сходного между «Симеоном Кирдяпою» и «Живописцем», между «Рассказами
русского солдата» и «Эммою», между «Мешком с золотом» и «Блаженством безумия»?
Правда, этих повестей немного и они не все одинакового достоинства, но можно сказать
утвердительно, что каждая из них ознаменована печатию истинного таланта, а некоторые
останутся навсегда украшением русской литературы. В «Симеоне Кирдяпе», этой живой
картине прошедшего, начертанной могучею и широкою кистью, поэзия русской древней
жизни еще в первый раз была постигнута во всей ее истине, и в этом создании историкфилософ слился с поэтом. Прочие повести все отличаются теплотою чувства, прекрасною
мыслию и верностию действительности». – Для «рядового читателя» В. Давидсона
наверняка это будет сюрпризом, но так в 1835 году в статье «О русской повести и
повестях г. Гоголя» писал не кто иной как столь любимый им Виссарион Белинский. И
как тут быть «рядовому читателю», когда один его «авторитет» противоречит другому?
Может, все же стоит думать «своими мозгами»?
А между тем, отмечая достоинства произведений Полевого, Белинский писал: «Теперь в
«Святочных рассказах» и «Рассказах русского солдата» сколько того, что называется
народностию, из чего так хлопочут наши авторы, что им менее всего удается, и что всего
легче для истинного таланта! Это мир совершенно отдельный, мир полный страстей, горя
и радостей, все человеческих же, но только выражающихся в других формах, по-своему.
Тут нет ни одной побранки, ни одного плоского слова, ни одной вульгарной картины и
между тем так много поэзии, и, мне кажется, именно потому, что автор старался быть
верным больше истине, чем народности, искал больше человеческого, нежели русского, и
вследствие этого народное и русское само пришло к нему». – И это говорит не сторонник,
а идейный противник – разве не убедительное свидетельство в пользу Полевого? Одних
этих слов, думаю, вполне достаточно, чтобы усомниться в истинности «единственно
правильной» точки зрения на русскую литературу ХІХ века.
А вот что пишет о Полевом выдающийся пушкинист Юрий Лотман: «Николай
Алексеевич Полевой – энергичный, талантливый самоучка из купцов – сумел в короткий
срок сделаться заметным литератором. Вместе со своим братом Ксенофонтом он
руководил журналом «Московский телеграф», который стал одним из самых популярных
русских изданий. По своим литературным убеждениям Полевой был романтиком.
Политические его взгляды связаны были с декабристской традицией свободолюбия,
однако испытали сильное влияние идей, распространенных во французской буржуазнодемократической публицистике 1820-х годов. Полевой умел обходить цензуру, статьи его
были смелы и задорны, будили читательскую мысль, однако отличались эклектизмом и
сумбурностью стиля. В конце 1820-х годов Полевой начал поход против признанных
авторитетов дворянской культуры: Державина, Карамзина, Пушкина. Несмотря на то что
бунт этот имел чисто литературный характер, в условиях последекабрьского цензурного
режима, в обстановке всеобщей запуганности он звучал чуть ли не набатом и
действительно имел значение, выходящее за пределы литературы». (Лотман Ю.М.
Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Ленинград. Просвещение. 1982. С.
170)
Суждение Лотмана весьма содержательно, но самолично убедиться в его соответствии
либо несоответствии с истиной рядовой читатель получил возможность лишь с конца 80-х
годов минувшего столетия. Именно тогда впервые в советское время стали переиздаваться
художественные произведения Николая Полевого. А в 1990 г. мизерным по тем временам
тиражом 18 тысяч экземпляров были переизданы избранные литературно-критические
статьи братьев Полевых (для сравнения: книга Белинского «Сочинения Александра
Пушкина» (М, 1985) вышла тиражом 100 тысяч, а сборник «Русская романтическая
новелла» (1989, серия «Классики и современники») – 2 миллиона экземпляров!)
Так вот, познакомившись с литературной критикой Николая Полевого, приходишь к
убеждению, что в целом Юрий Лотман верно его охарактеризовал, за исключением того,
что касается «эклектизма и сумбурности стиля». Статьи Полевого, как правило, образец
основательности, логичности и убедительности. Впрочем, абсолютно понятно и то, зачем
Лотману понадобилось немного ругнуть Полевого – иначе тот мог бы показаться вовсе
безукоризненным, что вступало в противоречие с «генеральной линией».
…и полная его реабилитация
Но самое интересное здесь то, что для полной реабилитации Николая Полевого
достаточно свидетельства опять-таки одного только Белинского. После смерти Полевого в
1846 году Неистовый Виссарион посвятил своему недругу весьма пространную статью
«Николай Алексеевич Полевой». А так как был он человеком честным, хотя и
заблуждающимся (по этому вопросу В. Давидсона заблаговременно отсылаю к книге
Николая Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма»), то и получилось, что наряду
с различными теоретическими инсинуациями в статье недвусмысленно отдается дань
уважения идейному вождю русского романтизма.
«Три человека, нисколько не бывшие поэтами, – пишет критик, – имели сильное влияние
на русскую поэзию и вообще русскую изящную литературу в три различные эпохи ее
исторического существования. Эти люди были – Ломоносов, Карамзин и Полевой». – Вот
так – не больше и не меньше.
««Московский телеграф» – отмечает далее Виссарион Григорьевич, – был явлением
необыкновенным во всех отношениях. Человек, почти вовсе неизвестный в литературе,
нигде не учившийся, купец званием, берется за издание журнала, – и его журнал с первой
же книжки изумляет всех живостию, свежестию, новостию, разнообразием, вкусом,
хорошим языком, наконец, верностию в каждой строке однажды принятому и резко
выразившемуся направлению...
Первая мысль, которую тотчас же начал он развивать с энергиею и талантом, которая
постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости умственного движения, о
необходимости следовать за успехами времени, улучшаться, идти вперед, избегать
неподвижности и застоя, как главной причины гибели просвещения, образования,
литературы. Эта мысль, теперь общее место даже для всякого невежды и глупца, тогда
была новостью, которую почти все приняли за опасную ересь». – Обратим внимание, что
ныне «эта мысль» является такой же новостью, как и в описываемые Белинским времена.
Из чего делаем вывод, что в области мысли человечеству в целом свойственно не идти
вперед, а топтаться на месте, то и дело погрязая в косности мышления. Белинский
отмечает, что во времена начала деятельности Полевого «всякое независимое,
самобытное мнение, всякий свежий голос, все, что не отзывалось рутиною, преданием,
авторитетом, общим местом, ходячею фразою, – все это считалось ересью, дерзостью,
чуть ли не буйством…» – а не так ли обстоит дело и сегодня?
«Особенную ненависть, – читаем дальше, – навлек на себя Полевой со стороны ученого
люда, учившегося по старым книгам и не подозревавшего, что могут быть новые и
лучшие. Тогда-то раздались ожесточенные вопли: да что он, да кто он, где он учился, где
его аттестаты, какие его ученые звания? он купец, торгаш, самоучка, всезнайка и т. п.» –
Наверняка, что к этой категории относится и приведенное В. Давидсоном саркастическое
замечание Пушкина. Интересно, что Полевой столь безапелляционных выпадов никогда
себе не позволял, на что указывает и Белинский: «Загляните в современные
«Московскому телеграфу» журналы, – и вы подумаете, что Полевой не умел иначе
говорить, как страшными ругательствами, что журнал его был складочным местом
полемики дурного тона, брани, дерзостей, лжей. Но пересмотрите «Московский телеграф»
хоть за все время его существования, – и вы увидите, что всегда, в жару самой
запальчивой полемики, он умел сохранять свое достоинство, уважать приличие и хороший
тон и что в самых любезностях его противников было больше грубости и плоскости,
нежели в его брани…» – А далее критик гениально обнаруживает те в высшей степени
гениальные идеи, которые составляли суть журнала Николая Полевого: «Наведя справки,
не трудно убедиться, что полемики в «Московском телеграфе» было не много, по крайней
мере меньше, нежели в каждом из современных ему журналов, не говоря уже о том, что
его полемические статьи всегда умны, дельны, остроумны, ловки и приличны. И потому
причину общего ожесточения против этого журнала должно искать не столько в
полемических статьях, сколько в его критике и библиографии, где правда высказывалась
столько же прямо, сколько и прилично, отчего и кусалась больнее. До «Телеграфа» в
нашей журналистике уклончивый тон принимали за одно с вежливым; старались как
можно меньше говорить о писателях и сочинениях, а если говорили, то с тем, чтобы
хвалить общими избитыми фразами. Полевой показал первый, что литература – не игра в
фанты, не детская забава, что искание истины есть ее главный предмет и что истина –
не такая безделица, которою можно было бы жертвовать условным приличиям и
приязненным отношениям. (Курсив мой. – О. К.) Изъявить публично такой образ мыслей
в то время значило сделать страшную дерзость и выказать себя человеком
«беспокойным», то есть хуже, чем безнравственным».
И, наконец, делается вывод как о самом Полевом, так и о его детище: «Он был
литератором, журналистом и публицистом не по случаю, не из расчета, не от нечего
делать, не по самолюбию, а по страсти, по призванию. Он никогда не неглижировал
изданием своего журнала, каждую книжку его издавал с тщанием, обдуманно, не жалея ни
труда, ни издержек. И при этом он владел тайною журнального дела, был одарен для него
страшною способностию. Он постиг вполне значение журнала, как зеркала
современности, и «современное» и «кстати» – были в руках его поистине два волшебные
жезла, производившие чудеса…
И потому, без всякого преувеличения, можно сказать положительно, что «Московский
телеграф» был решительно лучшим журналом в России, от начала журналистики».
К столь красноречивому свидетельству остается добавить, что если хотя бы половина из
того, о чем пишет Белинский, соответствует правде, то название такого журнала вместе с
именем его создателя нужно золотыми буквами вписать в историю русской литературы и
в качестве литературного памятника и образца для подражания периодически
переиздавать для всеобщего ознакомления. Но видел ли кто переиздание «Московского
телеграфа»? Многие ли знают само название «лучшего журнала в России» или имя
бессменного его редактора – замечательного русского писателя и журналиста Николая
Полевого?
О небесном происхождении
А что же сам Белинский? «Не могу не сказать еще вот о чем, – пишет в своем письме В.
Давидсон. – О. К., говоря о Белинском, обзывает его «недоучившимся чахоточным
юнцом», в вину которому ставит материалистическое мировоззрение. Во-первых,
человеку, который опустился до того, что тычет больному в лицо его болезнью (тем
более – через полтора века после смерти больного), я бы не подал руку. Во-вторых, в
словах О. К. в адрес Белинского сконцентрирована вся его ненависть к линии Белинского,
Чернышевского, Некрасова, Добролюбова (к «прочим революционным демократам» – у П.
Р.) в русской общественной мысли и литературе. Того и гляди, авторы рассматриваемых
статей заголосят за царя-батюшку. «Дегтю много»!».
На мой взгляд, «ненависть сконцентрирована» именно в вышеприведенном пассаже, чему
свидетельством все эти «обзывает», «опустился», «тычет в лицо», «не подам руки» (как
будто ему кто-то предлагает это делать!), «заголосят». Подобный сленг говорит об уровне,
на котором В. Давидсон воспринимает литературную полемику, видит противостояние
идей в области искусства. И в этой связи действительно имеет смысл основательно
разобраться в вопросе – какова же роль в истории русской литературы Виссариона
Белинского? Ибо именно с его легкой руки доминирующее положение в литературной
критике заняла идеология и партийность. Таким образом в русском литературоведении
утвердились принципы «кто не с нами, тот против нас», «если враг не сдается, его
уничтожают» и в какой-то момент литература вобрала в себя функции отнюдь не
литературные.
Конечно, это дело рук не одного лишь Белинского. Идеи витали в воздухе, ими было
наполнено общество, и Белинский стал проводником господствовавших в его время идей.
Поэтому никакой ненависти лично к этому человеку, равно как и к его последователям, у
меня нет и быть не может. А есть простое неприятие тех идей, которые они
проповедовали. И не просто проповедовали, но навязывали другим.
В своем знаменитом письме к Гоголю от 1847 г., ставшем манифестом демократического,
а затем и советского понимания литературы, Белинский пишет: «Титло поэта, звание
литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот
почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое
либеральное направление, даже при бедности таланта (курсив мой. – О. К.), и почему
так скоро падает популярность великих талантов, искренно или неискренно отдающих
себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример
Пушкина, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения
и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви!»
В этом отрывке стоит обратить внимание, во-первых, на то, что аспектом, определяющим
литературное достоинство, вместо художественного становится идеологический – и
Белинского это вполне удовлетворяет. Во-вторых, на отсутствие каких-либо сомнений в
собственной правоте, на нетерпимость к инакомыслию, что является вообще характерным
для Белинского, в принципе исключающего плюрализм. В-третьих, на его отношение к
Пушкину. Как видим, Александр Сергеевич сам по себе не является незыблемым
авторитетом для Виссариона Григорьевича (в отличие от В. Давидсона).
С одной стороны, это, конечно, делает честь критику, для которого в его стремлении к
истине не может быть раз и навсегда определившихся авторитетов. Еще на заре своей
журнальной деятельности Белинский писал: «Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и,
как кажется, еще долго будет вредить распространению на Руси основательных понятий о
литературе и усовершенствований вкуса? Литературное идолопоклонство! (курсив
Белинского. – О. К.) Дети, мы еще все молимся и поклоняемся многочисленным богам
нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с
метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания.
Что делать? Слепой фанатизм всегда бывает уделом младенствующих обществ».
Но, с другой стороны, возникает вопрос: а кто выдает эти «метрики», свидетельствующие
о небесном происхождении? Уж не сам ли Белинский? А то ведь с тех пор прошло почти
два столетия, общество уже далеко не «младенствующее», а ситуация с литературным
идолопоклонством на Руси мало в чем изменилась. Вся разница лишь в том, что вместо
одних идолов утвердились другие. Основанием же для этого послужили взгляды самого
Белинского. Потому и возникает вопрос: а были ли у этого человека знания, необходимые
для постижения истины? То есть настала пора проверить «метрику» самого Белинского –
точно ли она небесного происхождения? А если не небесного, то какого?
О недействительной жизни и нежизненной действительности
Белинский не был философом в полном смысле этого слова, систематических
философских сочинений он не оставил. Его философия, почерпнутая из разных
источников, разлита по многочисленным литературно-критическим статьям. В чем же
суть этой философии применительно к литературному искусству?
Прежде всего, в разделении поэзии на идеальную и реальную. В статье «О русской
повести и повестях г. Гоголя» (1835 г.) читаем: «…Поэзия двумя, так сказать, способами
объемлет и воспроизводит явления жизни. Эти способы противоположны один другому
(курсив мой. – О. К.), хотя ведут к одной цели. Поэт или пересоздает жизнь по
собственному идеалу, зависящему от образа его воззрения на вещи, от его отношений к
миру, к веку и народу, в котором он живет, или воспроизводит ее во всей ее наготе и
истине, оставаясь верен всем подробностям, краскам и оттенкам ее действительности.
Поэтому поэзию можно разделить на два, так сказать, отдела – на идеальную и реальную
(здесь и далее в данной цитате курсив Белинского. – О. К.). Объяснимся.
Поэзия всякого народа в начале своем бывает согласна с жизнию, но в раздоре с
действительностию, ибо у всякого младенствующего человека, жизнь всегда враждует с
действительностию. (Весьма странное противопоставление, не правда ли? По
Белинскому выходит, что жизнь недействительна, а действительность нежизненна! – О.
К.) Истина жизни недоступна ни для того, ни для другого; ее высокая простота и
естественность непонятна для его ума, неудовлетворительна для его чувства. То, что для
народа возмужалого, как и для человека возмужалого, кажется торжеством бытия и
высочайшею поэзиею, для него было бы горьким, безотрадным разочарованием, после
которого уже незачем и не для чего жить. Разоблаченная и обнаженная от своих ложных
красок, жизнь представилась бы ему сухою, скучною, вялою и бедною прозою, как будто
бы истина и действительность не совместны с поэзиею; как будто бы солнце менее
великолепно и лучезарно, когда оно только простой и темный шар, а не торжественная
колесница Феба; как будто бы лазурный купол неба менее прекрасен, когда он уже не
звездный Олимп, жилище богов бессмертных, а ограниченное нашим зрением
беспредельное пространство, вмещающее в себе мириады миров; как будто бы, наконец,
земля, жилище человека, менее дивна, когда она лежит не на раменах Атланта, а держится
и движется в воздушном океане, не поддерживаемая ничьею рукою, повинующаяся
одному простому закону тяготения!..» – Здесь мы видим не что иное как программу
позитивизма. Что есть истина для позитивиста? Только то, что можно увидеть и
потрогать. Но ведь кроме видимого есть и невидимое, непознанное, и мир гораздо
многогранней, чем представляется позитивисту.
«Поэзия также имеет свои возрасты, – продолжает Белинский, – которые всегда
параллельны возрастам народа. Век поэзии идеальной оканчивается младенческим и
юношеским возрастом народа, и тогда искусство должно или переменить свой характер,
или умереть. С искусством человечества нашего, новейшего, случилось… первое; с
искусством человечества древнего случилось последнее, ибо народу, которого поэзия
вначале была идеальная вследствие его идеальной жизни, невозможно перейти к поэзии
реальной. Упрямо, назло природе, держится он прошедшего и в духе и в формах, и
опытный муж, невозвратно утративший веру в чудесное, освоившийся с опытом жизни,
силится придать своим поэтическим созданиям колорит идеальный». – И, наконец, на
основе сформулированных положений от имени утвержденной им «натуральной школы»
критик выдвигает требования к литературному искусству: «Мы требуем не идеала жизни,
но самой жизни, как она есть. Дурна ли, хороша ли, но мы не хотим ее украшать, ибо
думаем, что в поэтическом представлении она равно прекрасна в том и другом случае и
потому именно, что истинна, и что где истина, там и поэзия». – На что мы возразим: идеал
– это вовсе не украшательство, а высшая идея мироздания, первооснова жизни. Идеал –
это и есть истина в чистом виде. Он недостижим в этом мире, но это вовсе не значит, что к
нему не нужно стремиться! А потому и противопоставление поэзии идеальной и реальной
в высшей степени ложно и фальшиво. Истинная поэзия должна содержать в себе оба эти
аспекта, органично их совмещать, в чем по сути и заключается программа романтизма,
как она есть в сочинениях Шеллинга, Новалиса, Гофмана и др., а также последующей его
разновидности – символизма.
О литературном «киллерстве»
А теперь давайте посмотрим каким образом Белинский применял свою теорию на
практике. Пребывая в нежном 23-летнем возрасте ничтоже сумняшеся он уже раздает
«ярлыки на княжение». В статье «Литературные мечтания» находим: «Тредьяковский не
имел ни ума, ни чувства, ни таланта. Этот человек был рожден для плуга или для топора;
но судьба, как бы в насмешку, нарядила его во фрак…» – Чего больше в этом заявлении –
хамства или невежества? При чем здесь плуг и топор, когда Тредиаковский родился в
семье священника, а неутолимая жажда знаний привела его сначала в Московскую
академию, а затем подвигла на бегство за границу – три года будущий поэт учился не гденибудь, а в Сорбонне. Интересно, что Пушкин по поводу этой личности писал следующее:
«Тредьяковский был, конечно, почтенный и порядочный человек. Его филологические и
грамматические изыскания очень замечательны. Он имел о русском стихосложении
обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу
делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывают
необыкновенное чувство изящного». («Путешествие из Москвы в Петербург»)
Но вернемся к «Литературным мечтаниям». «Что сказать о… Сумарокове? – вопрошает
Неистовый Виссарион. – Он писал во всех родах, в стихах и прозе, и думал быть русским
Вольтером. Но, при рабской подражательности Ломоносова, он не имел ни искры его
таланта. Вся его художническая деятельность была не что иное, как жалкая и смешная
натяжка. Он не только не был поэт, но даже не имел никакой идеи, никакого понятия об
искусстве, и всего лучше опроверг собой странную мысль Бюффона, что будто гений есть
терпение в высочайшей степени. А между тем этот жалкий писака (курсив Белинского. –
О. К.) пользовался такою народностию!» – О степени таланта Сумарокова и
Тредиаковского можно, конечно, спорить. Но столь безапелляционные заявления, которые
позволял себе Белинский, характерны не для критики, а для того, что ныне называют
«литературным киллерством».
Понятно, что не обо всех он отзывался негативно, но и противоположные отзывы
отличаются такой же безапелляционностью. О поэте Батюшкове: «Это был человек не
гениальный, но с большим талантом». – Надо понимать, что перед ним, как на ладони, вся
иерархия талантов и гениев? Однозначно, ни скромностью, ни деликатностью малый не
отличался.
Откуда столь дикая самоуверенность? Во всяком случае, не от большого ума и не от
излишних познаний. Впрочем, недостаток знаний его вовсе не смущал. В тех же
«Литературных мечтаниях», мимоходом коснувшись произведений историка
Каченовского, Белинский заявил: «Я не ученый и в истории смыслю весьма немного: сужу
не как знаток, но как любитель: но ведь не из любителей ли состоит и публика? Поэтому
всякое добросовестное мнение любителя должно заслуживать некоторое внимание, тем
более, если оно есть отголосок общего, т. е. господствующего мнения».
Но то – история, в которой он, по собственному признанию, мало смыслил, а вот в
литературе… А что же он смыслил в литературе? Читаем: «Князь Вяземский, русский
Карл Нодье, писал стихами и прозою все и обо всем». – Тех, кто не понаслышке знаком с
творчеством как Шарля Нодье, так и Петра Вяземского, не может не удивить столь смелое
их сближение – слишком мало общего у этих писателей. Впрочем, Белинский не особенно
церемонился с подобными пустяками, в конце концов, в знаменитом письме к Гоголю он
выразился куда круче: «…Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе».
Но это так – по мелочам, есть у него заявления много смелее, например: ««Илиада» была
создана народом, и в ней отражалась жизнь эллинов, она была для них священною
книгою, источником религии и нравственности – и эта «Илиада» бессмертна. Но скажите,
бога ради, что такое эти «Энеиды», эти «Освобожденные Иерусалимы», «Потерянные
раи», «Мессиады»? Не суть ли это заблуждения талантов, более или менее
могущественных, попытки ума, более или менее успевшие привести в заблуждение своих
почитателей? Кто их читает, кто ими восхищается теперь?» («О русской повести и
повестях г. Гоголя») – Как видим, не только со своими не церемонится «гениальный
критик», на этот раз в «метрике о небесном происхождении» он отказывает не какомунибудь Ивану Ивановичу Перерепенко, а Вергилию, Тассо, Мильтону, Клопштоку. А
также и Виктору Гюго, как то следует из столь же смелого заявления: «Гюго имел свою
минуту торжества, но давно уже во Франции и он и романтизм не больше, как
предание…» («Николай Алексеевич Полевой»).
Думаю, что опровергать это и доказывать, что произведения упомянутых авторов вовсе не
утратили своего значения, излишне. Ведь подобные «откровения» свидетельствуют в
первую очередь об уровне самого «пророка». Ну а когда натыкаешься на следующее
заявление: «…признаюсь вам откровенно – священные письмена Вед для меня сущая
тарабарская грамота, а поэм и драм индийских я не видывал даже и в переводах.», – на ум
невольно приходит гоголевский «Ревизор»: это ведь какой-то Хлестаков навыворот,
который бахвалится собственным невежеством!
О сказках Пушкина
Уверен, что ныне в сочинения г. Белинского мало кто заглядывает, поэтому в сознании
«рядового читателя» сохраняется образ, усвоенный еще в школьные годы. Из-за
несоответствия оного образа приведенным мною цитатам впору возникнуть вопрос:
Позвольте, милостивый государь! А весь ли Белинский так плох, как это следует из
приведенных вами – наверняка тенденциозно подобранных – цитат? Ведь наряду с
недостатками были у него и сильные стороны, благодаря которым он и признан великим
критиком? На что я отвечу: Да-с, милостивые государи, конечно, и у Белинского были
свои достоинства. Но если разбирая художественные произведения – как «гениальных»,
так и «негениальных» авторов – мы действительно должны в первую очередь уделять
внимание сопоставлению сильных и слабых моментов, то совсем другое дело –
публицистика и литературная критика. Ибо здесь краеугольным камнем являются не
сильные и слабые стороны автора, но основания, на которых строит он свои теории. А
таковые основания у Белинского суть партийность, безапелляционность, вкусовщина.
В рецензии на мистерию Вильгельма Кюхельбекера «Ижорский» критик пишет: «Когда я
прочел предисловие к «Ижорскому», то содрогнулся от ужаса при мысли, что, по долгу
добросовестного рецензента, мне должно прочесть и книгу; когда прочел книгу, то
увидел, что мой страх был глубоко основателен. Господи боже мой! И в жизни такая
скука, такая проза, а тут еще и в поэзии заставляют упиваться этою скукою и прозою!..» –
Вот пример литературного «киллерства», где всесторонне обоснованный разбор
подменяется иронической трескотней по форме и вкусовщиной по содержанию. Да кто ты
такой, чтобы определять, что скучно, а что не скучно? Может, мне скучны как раз твои
умствования, а в мистерии Кюхельбекера я нахожу то, что тебе просто-напросто
недоступно? И оттого тебе скучно, что недоступно!
А вот суждение из статьи «О стихотворениях г. Баратынского»: «Несколько раз
перечитывал я стихотворения г. Баратынского и вполне убедился, что поэзия только
изредка и слабыми искорками блестит в них». – Сравним это с мнением Пушкина:
«Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов… Гармония его стихов,
свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого хотя несколько
одаренного вкусом и чувством». – То есть по Пушкину выходит, что Белинский напрочь
лишен вкуса и чувства!
Но главное, чего он лишен – это самокритики и самоиронии. Белинский жил в
придуманном им весьма ограниченном мирке, в который пытался втиснуть литературные
произведения, выходящие за пределы его понимания. Наглядным примером такой
попытки может послужить его высказывание из книги «Сочинения Александра
Пушкина»: «Сказки Пушкина, – пишет Белинский, – «О царе Салтане», «О мертвой
царевне и о семи богатырях», «О золотом петушке», «О купце Кузьме Остолопе и о
работнике его Балде», были плодом довольно ложного стремления к народности.
Народные сказки хороши и интересны так, как создала их фантазия народа, без перемен,
украшений и переделок. Но «Сказка о рыбаке и рыбке», о которой мы не упомянули в
числе прочих сказок, заслуживает исключение, потому что в ней есть положительные
достоинства. Это не народная сказка: народу принадлежит только ее мысль; но
выражение, рассказ, стих, самый колорит, – все принадлежит поэту». – Опять-таки, на чем
основаны все эти рассуждения о том, какие сказки хороши, а какие нет? Исключительно
на вкусовщине, то бишь на собственном вкусе, в свою очередь соответствующем тому
небольшому объему сознания, которым обладал Виссарион Белинский.
Что же до сильных и слабых его сторон, то об этом лучше нас скажет он сам (в статье
«Литературные мечтания»): «…у меня есть любовь к истине и желание общего блага, но,
может быть, нет основательных познаний. Что ж делать? Эти два качества редко сходятся
в одном лице». – Бесспорно, что намерения у него были благие, но что он мог знать об
истине?
О «недоучившемся чахоточном юнце»
Совершенно напрасно В. Давидсон возбуждается по поводу выражения «недоучившийся
чахоточный юнец». Ничего оскорбительного здесь нет, и я никого не «обзываю» и тем
более не «тычу в лицо», да и не могу этого делать, так как разминулись мы во времени и
уже полторы сотни лет некому тыкать. Я всего лишь констатирую факты. А именно три
факта, определяющих суть деятельности Белинского. «Чахоточный» здесь обозначает
лишь то, что критик пребывал в болезненном состоянии, что не могло не отразиться на
состоянии душевном, а следовательно и на всей его деятельности. «Недоучившийся» и
«юнец» обозначают соответственно уровень его познаний и духовного развития.
Но и в этом пункте я не стану «нести отсебятину» – Давидсону ведь подавай более
«авторитетные» свидетельства. Вот и обратимся к такому авторитету как Николай
Васильевич Гоголь.
Со школьной скамьи нам известно зальцбруннское письмо Белинского к Гоголю, в
котором критик с народно-демократических позиций гневно клеймит «не оправдавшего
доверия» писателя за его «ренегатскую» книгу «Выбранные места из переписки с
друзьями». Гораздо меньше известно ответное письмо Гоголя, тем паче что оно осталось
неотправленным. К счастью, оно сохранилось среди бумаг писателя и сегодня может
свидетельствовать о его действительной духовной глубине и полном расхождении с
мировоззрением Белинского. Вот некоторые из него цитаты:
«Как же с вашим односторонним, пылким, как порох, умом, уже вспыхивающим прежде,
чем еще успели узнать, что истина, как вам не потеряться? Вы сгорите, как свечка, и
других сожжете».
«Вы извиняете себя гневным расположением духа. Но как же в гневном расположении
духа вы решаетесь говорить о таких важных предметах и не видите, что вас ослепляет
гневный ум и отнимает спокойствие…»
«Вам показались ложью слова мои государю, напоминающие ему о святости его званья и
его высоких обязанностей. Вы называете их лестью. Нет, каждому из нас следует
напоминать, что званье его свято, тем более государю. Пусть вспомнит, какой строгий
ответ потребуется от него».
«Гнев отуманил глаза ваши и ничего не дал вам увидеть в настоящем смысле. Блуждают
кое-где блестки правды посреди огромной кучи софизмов и необдуманных юношеских
увлечений. Но какое невежество блещет на всякой странице!»
«Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать теперь Христа? Неужели
нынешние коммунисты и социалисты, объясняющие, что Христос повелел отнимать
имущества и грабить тех, которые нажили себе состояние? Опомнитесь! Волтера
называете оказавшим услугу христианству и говорите, что это известно всякому ученику
гимназии. Да я, когда был еще в гимназии, я и тогда не восхищался Волтером. У меня и
тогда было настолько ума, чтоб видеть в Волтере ловкого остроумца, но далеко не
глубокого человека. Волтером не могли восхищаться полные и зрелые умы, им
восхищалась недоучившаяся молодежь».
«Нельзя, получа легкое журнальное образование, судить о таких предметах… Что мне
сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к религии и что, говоря
о Боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины, замечание, которое вы с такой
самоуверенностью произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что тут
говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих
русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих… Нет,
Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в
Петербурге, в занятьях легкими журнальными статейками…»
«Позвольте мне напомнить вам прежнюю вашу дорогу. Литератор существует для
другого. Он должен служить искусству, которое вносит в души мира высшую
примиряющую истину, а не вражду, любовь к человеку, а не ожесточение и ненависть.
Возьмитесь снова за свое поприще, с которого вы удалились с легкомыслием юноши.
Начните сызнова ученье. Примитесь за тех поэтов и мудрецов, которые воспитывают
душу. Вы сами сознали, что журнальные занятия выветривают душу и что вы замечаете
наконец пустоту в себе. Это и не может быть иначе. Вспомните, что вы учились кое-как,
не кончили даже университетского курса. Вознаградите это чтеньем больших сочинений,
а не современных брошюр, писанных разгоряченным умом, совращающим с прямого
взгляда».
Комментировать эти цитаты, думаю, совершенно излишне, добавлю лишь, что относятся
они, конечно же, не к одному только письму Белинского, а целиком и полностью ко всей
его программе.
в) 200-ЛЕТНИЙ ГОГОЛЬ
«Первым впечатлением моим, когда упала пелена, было: здесь много чиновников. Затем,
ослепленный пестротой мундиров, оглушенный пением кантаты, я уже ничего не видел –
видел какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего. С перепуга едва не крикнул, как
Агафья Тихоновна: «Пошли вон, дураки!» Но снизу на меня смотрел экзекутор Яичница,
косился городничий Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, поглядывали Свистунов,
Пуговицын, Держиморда. У всех кавалерия через плечо. У кого кавалерия красная, у кого и
голубая. Клянусь тебе, друг Александр Сергеевич, что в обществе этом я почувствовал
себя таким несчастным и одиноким, что даже Ивану Васильевичу Тряпичкину был бы
рад.» (Слова Гоголя-памятника на собственном открытии в Москве в честь 100-летия со
дня рождения (из фельетона А. Амфитеатрова «Гоголевы дни»))
Словно в алхимическом тигле
Итак, 200-летие Николая Васильевича Гоголя. Одного из столпов новой русской
литературы, чье почитание на Руси давно уже приобрело многие черты культового
поклонения, в первую очередь, среди того слоя российско-советского населения, который
у нас принято называть интеллигенцией.
Впрочем, творчество этого писателя дает все основания для подобных проявлений любви.
Принесшие ему в 1831 г. известность «Вечера на хуторе близ Диканьки» с тех пор
приобрели «золотой» статус произведения воистину народного. Непреходящая ценность
этого сборника повестей, равно как и последовавшего за ним «Миргорода», заключается,
прежде всего, в их концептуальности. Словно в алхимическом тигле, в оптимальных
пропорциях соединены здесь юмор и сатира, быт, история и мистика, белое и черное,
малорусское рациональное и иррациональное, малорусские ментальность и дух, – в
результате чего произведен продукт высшей пробы, создан чарующе колоритный
художественный мир, покоряющий, как правило, всех без исключения – как
простодушных и неискушенных, так и самых отъявленных снобов.
Затем последовал «Петербургский цикл», благодаря которому Гоголь оказался
зачинателем так называемой «натуральной школы», ставшей во второй половине XIX века
главенствующей в русской литературе. Таким образом, творчество Гоголя оказало
определяющее влияние на практически всех крупных писателей этого времени от
Достоевского и Тургенева до Чехова и Короленко включительно. В беседе с французским
критиком Мельхиором де Вогюэ Федор Достоевский отметил, что все русские писатели
40-60-х годов вышли из «Шинели» Гоголя. Впоследствии эту фразу переврали в том духе,
что не только писатели 40-60-х гг., и даже не только представители «натуральной школы»,
но что вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели»!
Однако, высшими достижениями гоголевского творчества считают все же комедию
«Ревизор» и оставшийся незавершенным роман «Мертвые души». Дело в том, что
произведения эти концентрируют в себе весь талант Гоголя-сатирика, и в то же время
ставят писателя в центр всего сатирического жанра в русской литературе. По сути, он
оказывается средоточием всего лучшего, что было создано российскими сатириками как
до, так и после него. Из сатирических произведений гоголевских предшественников
назовем, прежде всего, пьесы Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль», сатирический роман
Крылова «Почта духов» и, конечно, «Горе от ума» Грибоедова. Однако если пьесы
Фонвизина являют собой только самое начало полноценной и самостоятельной русской
сатирической комедии; если роман Крылова восходит, скорее, к французской, чем к
русской традиции, – а именно к просветительской сатире Монтескье и Дидро; если
шедевру Грибоедова суждено было остаться единственным значительным его творением,
– то на основании «Ревизора» и «Мертвых душ» стало возможным утверждать, что
русская сатирическая традиция обрела полнейшую мощь и самостоятельность. Иными
словами, Гоголь – это краеугольный камень русской сатиры.
Его также можно уподобить сатирическому водохранилищу, вобравшему в себя многое от
предшественников (помимо указанных, необходимо также назвать гоголевского земляка и
предтечу Василия Нарежного) и дающему основание для многочисленных
последователей. Ведь при всем своеобразии практически все последующие русские
сатирики напрямую выходят из Гоголя. Вспомним и Александра Сухово-Кобылина,
автора блестящей драматургической трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть
Тарелкина»; и незабвенного Козьму Пруткова, помимо афористики упражнявшегося
также и в драматургии; и Михаила Салтыкова-Щедрина, считающегося
непосредственным продолжателем Гоголя в деле сатирического отображения реалий
Российской империи; и психологическую сатиру Антона Чехова; и такое во многом
«гоголевское» произведение, как «Мелкий бес» Федора Сологуба; и, наконец,
бюрократическую «Дьяволиаду» Михаила Булгакова, его же «Собачье сердце» – еще одно
слово о маленьком человеке, теперь уже в новых политических реалиях. Все это
наследники и ученики Гоголя.
Лучше ж сделать ревизовку всему
Но вот беда, или даже настоящее «горе от ума». Имея блестящий талант сатирика, будучи
поставленным во главе открытой Белинским «натуральной школы», Николай Васильевич
в глубине души своей обнаружил совершенно иные запросы. Недаром и в «Невском
проспекте» утверждал он, что «Дивно устроен свет наш!.. Тот имеет отличного повара,
но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может
пропустить; другой имеет рот величиною в арку главного штаба, но, увы! должен
довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет
нами судьба наша!» – Одно лишь изображение прохвостов и общественных негативов
отнюдь не удовлетворяло творческих устремлений Гоголя. Стремящаяся к горнему свету
душа его требовала произведений не сатирических, но духовно-эпических, подобных
Дантевой «Комедии», Мильтонову «Потерянному раю» или же «Духовной войне» и
«Пути паломника» Джона Беньяна. И он коренным образом пересматривает свое
творчество. В результате этого пересмотра Гоголь объявляет, что «Ревизор» – не что иное
как аллегория.
«Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не
знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот – наша проснувшаяся
совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя. Перед
этим ревизором ничто не укроется, потому что по именному высшему повеленью он
послан и возвестится о нем тогда, когда уже и шагу нельзя будет сделать назад. Вдруг
откроется перед тобою, в тебе же, такое страшилище, что от ужаса подымется
волос. Лучше ж сделать ревизовку всему, что ни есть в нас, в начале жизни, а не в конце
ее. На место пустых разглагольствований о себе и похвальбы собой да побывать теперь
же в безобразном душевном нашем городе, который в несколько раз хуже всякого другого
города, – в котором бесчинствуют наши страсти, как безобразные чиновники, воруя
казну собственной души нашей! В начале жизни взять ревизора и с ним об руку
переглядеть все, что ни есть в нас, – настоящего ревизора, не подложного, не
Хлестакова! Хлестаков – щелкопер, Хлестаков – ветреная светская совесть, продажная,
обманчивая совесть; Хлестакова подкупят как раз наши же, обитающие в душе нашей,
страсти. С Хлестаковым под руку ничего не увидишь в душевном городе нашем.» – Таким
образом трактует Гоголь содержание своей пьесы в «Развязке «Ревизора»», написанной
им в 1846 г. Тогда же он переосмысливает предполагаемое содержание «Мертвых душ».
Согласно его замыслам, первый том символизирует собой ад, второй том должен был
представлять чистилище, в котором, в конце концов, происходит преображение героя, и,
наконец, третий том – рай, Россия Небесная.
Вот так, пытаясь уподобиться Данте, планировал Николай Васильевич «показать всю
Россию». Однако талант писателя-сатирика – не то же самое, что талант писателядуховидца, а потому и написание второго тома «Мертвых душ» превратилось в сплошное
мучение. Очевидно, что задуманный Гоголем замысел был явно ему не по плечу (он,
кстати, не умещался даже в само название: о каких «мертвых душах» могла идти речь в
третьей части?!), и, в конце концов, вместо с нетерпением ожидаемого второго тома на
суд публики Гоголь вынес другую книгу – «Выбранные места из переписки с друзьями».
И тут коренится глубочайший конфликт, смысл и значение которого в российском
литературоведении до сих пор так и не уяснен. Сегодня многие говорят о Гоголе как о
«православном мыслителе», известный гоголевед Игорь Золотусский называет
«Выбранные места» «великой книгой», и в то же время остается в полной своей силе
знаменитое письмо Белинского к Гоголю. И вот здесь заключено то противоречие, не
разрешив которое, нельзя двигаться дальше ни в постижении гоголевского наследия, ни в
уразумении истинной истории русской словесности.
Дело в том, что невозможно одновременно любить «Выбранные места» и «Письмо
Белинского», потому что эти вещи по природе своей антагонистичны. «Письмо
Белинского» и возникло-то как гневная отповедь на книгу Гоголя. Так что в этом случае
приходится выбирать: или-или.
Но нынешнее российское, то есть постсоветское литературоведение не способно сделать
этот выбор по той простой причине, что в обоих случаях он будет СМЕРТЕЛЕН для той
громадной махины, каковой на данный момент является Гоголеведение.
«Выбранные места из переписки с друзьями» действительно проникнуты православными
мотивами, равно как и искренней любовью к России, окрашенной, однако, в откровенно
монархические тона. Сегодня все это в чести, а потому и книга воспринимается благостно.
Считать же ее ренегатством могут только убежденные атеисты и антимонархисты, верные
заветам Белинского и Чернышевского, Маркса и Ленина. Что ж, это их право, но, к
счастью, они уже не могут в приказном порядке требовать этого от других.
Но с другой стороны, что же не позволяет отказаться от «Письма Белинского»? А вот что.
Письмо это – не что иное, как завет Неистового Виссариона, в котором заключена вся его
программа. Потому, отказываясь от него, отказываешься от всей его литературной
программы. Но ведь программа эта является незыблемым фундаментом всего советского
литературоведения! За сотню лет безграничного господства она приобрела настолько
застывшие и непоколебимые формы, стала смыслом жизни и хлебом насущным столь
огромного количества литературоведов и критиков, докторов и кандидатов, на ее основе
написана такая масса книг и диссертаций, что последствия такого отказа сопоставимы с
последствиями недавнего крушения коммунистической доктрины. Ведь сколько было
душевных трагедий и перечеркнутых судеб!
Вот и приходится занимать компромиссную позицию, почитая одновременно как
православного монархиста Гоголя, так и атеиста-демократа Белинского.
Неча на зеркало пенять…
В «2000» от 20.II.2009 вышла моя статья с разбором определенных недостатков повести
«Тарас Бульба». Опубликована она под названием «Гоголь – гений фальши?», однако во
избежание дальнейших недоразумений, отмечу, что это не авторский заголовок, но
редакторская реакция на материал. Таким вопросом редакция газеты откликнулась на
приведенные в статье наблюдения, адресуя этот вопрос читателям. Оригинальный же
заголовок вовсе не содержит элемента провокации: «Гоголь в контексте русской
литературы». Часть I. «Тарас Бульба». Посему разбирая критические отзывы на мою
статью, я опускаю все, что связано с заголовком.
Итак, на сайте «2000» появилось два критических отзыва на мою статью. Первый,
озаглавленный как «Неча на зеркало пенять…», авторства «научного сотрудника
Донецкого НИИ судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, судебного
эксперта-искусствоведа, старшего преподавателя кафедры общественных дисциплин
Донецкого института психологии и предпринимательства» Ивана Сергеевича Ревякова,
второй – «Нам явился ревизор» – авторства «кандидата филологических наук» Юрия
Милёшина. Оба отзыва – хоть и в разной форме и с различным уровнем аргументации –
являют собой суть одно, а именно гневные филиппики в адрес зарвавшегося выскочки, то
бишь меня.
Для начала Иван Сергеевич обличает меня в некорректности. «Начнем с того, – пишет
достопочтенный эксперт-искусствовед, – что автор статьи забывает (намеренно или
нет, – судить не берусь) о таком понятии, как корректность. Стиль статьи
некорректен прежде всего по отношению к классику русской литературы, каким, по
моему глубокому убеждению, является Н.В. Гоголь». – Интересно, что после той же
публикации проректор Ровенского гуманитарного университета профессор А.Н. Воробьев
при встрече со мной высказался в том духе, что хотя он и не со всем согласен, но статья
произвела на него благоприятное впечатление, и, в первую очередь, именно своей
корректностью.
О какой же некорректности говорит Иван Сергеевич? Думается, что речь здесь о
«дерзости» как таковой. Как смеет какой-то безызвестный автор подвергать сомнению
художественные достоинства классика русской литературы? Именно это и называется
здесь «некорректностью», о чем свидетельствуют «корректные» доводы самого Ивана
Сергеевича: «Придирки г-на Качмарского к Н.В. Гоголю, В.Г. Белинскому и современному
литературоведению напоминают собою лай Моськи из известной басни И.А. Крылова.
Отмечу следующее: …пока г-н Качмарский не сделает для литературной критики
равнозначного тому, что сделал в свое время В.Г. Белинский, недопустимо так о нем
отзываться, как это делает г-н Качмарский».
Как видим, свою аргументацию Иван Сергеевич сводит здесь к вопросу «А ты кто
такой?!» и заявлению «Сам дурак!» Если же подробно разбирать доводы моего оппонента,
то невооруженным глазом виден ряд грубых логических ошибок. Начнем с утверждения о
том, как и в каком случае допустимо отзываться о критике Белинском. На чем же это
утверждение основано? На убеждениях Ивана Сергеевича? Но я-то отнюдь не обязан
разделять его убеждения, так как у меня есть свои собственные. В данном вопросе они
состоят в признании того факта, что в свое время г-н Белинский действительно сделал для
русской литературы очень много, ЧЕМ НАНЕС ЕЙ ОГРОМНЫЙ ВРЕД. Это мое мнение,
у кого-то оно может быть иным. Но почему и на каком основании достопочтенный
эксперт-искусствовед гневно требует, чтобы я думал так же, как он?! Думается, что
причина – в потребности ЕДИНОМЫСЛИЯ, наблюдаемой у тех, кто привык мыслить
согласно генеральной линии, и любое отклонение в сторону воспринимает как крамолу.
Обращает на себя внимание, что буквально через несколько абзацев после упоминания
известной басни Крылова, Иван Сергеевич располагает куда менее прогнозируемое
обвинение: «…нападки г-на Качмарского на Гоголя напоминают собою нападки критика
Латунского на Мастера из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». В этом
смысле нападки г-на Качмарского ничем не лучше нападок советских критиков 30-х гг. на
М.А. Булгакова, Б.Л. Пастернака, Д.И. Хармса и многих-многих других». – Неужели Иван
Сергеевич не видит здесь разницы, и не просто разницы, но и прямой противоположности
ситуации? С кем же он меня сравнивает: с никчемной Моськой, на которую и внимания не
стоит обращать, или же с представителем генеральной линии Латунским, травящим
беззащитного мастера? Что-то концы здесь не сходятся с началами, ведь по логике вещей
именно товарищ Ревяков – как представитель генеральной линии – в нашем случае
больше смахивает на критика Латунского. И в качестве доказательства последней мысли
тем еще душком повеяло от неопровержимого – как 10 лет без права переписки –
приговора, который от лица потомков вынес мне Иван Сергеевич: «Конечно, ругая великих
и обрушиваясь на них, можно постоять в их тени и «погреться в лучах их славы»,
возможно на некоторое время и самому стать знаменитым, но только вот будет ли это
настоящая слава, будет ли это действительно «нерукотворный памятник» или же это
будет надгробие презрения потомков к тому, кто позволял себе в угоду мимолетной
газетной известности «сбрасывать с корабля современности» тех, кто был причастен к
созданию духовного поля мировой культуры?»
Дискутировать здесь просто не с чем
А вот, что касается самого предмета дискуссии, то здесь усилия Ивана Сергеевича
вынуждают меня, подобно слону из той же басни Крылова, идти себе дальше, не обращая
внимания на там и сям раздающиеся звуки. Потому как «опровержения» достопочтенного
эксперта-искусствоведа настолько призрачны, настолько ускользают от логического
осмысления, что разбирать их – все равно, что толочь воздух в ступе. Но попробуем все
же кое за что ухватиться.
«Если г-ну Качмарскому, – пишет Иван Сергеевич, – до сих пор не представляется ясным,
почему Н.В. Гоголь – классик и гений, то я отвечу на этот вопрос: потому что Гоголь, в
частности (наряду с Пушкиным и Белинским), как раз и смог преодолеть традицию
романтизма, в отличие от тех же Бестужева-Марлинского, Кукольника, Полевого и
других, которые так и не смогли выбраться за пределы указанной романтической
традиции». – Со своей стороны отмечу, что «классик» и «гений» для меня не более, чем
ярлыки, Гоголь же в моем разумении просто очень интересный и неоднозначный
писатель, в чьем творчестве наряду с несомненными достоинствами имеют место также и
провалы – как стилистические, так и метафизические. А вот «преодоление традиции
романтизма» это, выражаясь словами самого Николай Васильича, все те же «давно
выкинутые жваки», которыми, начиная со школьной скамьи, потчевали нас воспитанные в
духе марксизма-ленинизма учителя.
Здесь мы выходим на еще одну особенность тех, кто стремится к единомыслию, – на
БИНАРНОСТЬ
ИХ
МЫШЛЕНИЯ,
что
проявляется
в
дуалистическом
противопоставлении различных явлений по принципу хорошо-плохо, да или нет, за
Гоголя или против него. Вот и романтизм здесь обязательно трактуется как нечто низшее,
что нужно было преодолеть, чтобы достичь более высокой стадии – реализма. На чем же
базируются эти умозаключения? На взглядах Белинского, Маркса, Ленина, Гегеля? Но
являются ли учения этих мужей незыблемой истиной? Если для Ивана Сергеевича
являются, то не могу сказать того же о себе, и, следовательно, романтизм я рассматриваю
совершенно с других позиций.
Не могу удержаться, чтобы не прокомментировать еще одно «опровержение» моего
оппонента. Касаясь отмеченного мной в тексте «Тараса Бульбы» неграмотного
употребления слова «половина», Иван Сергеевич пишет: «половина может быть и
большей, и меньшей, только вот г-ну Качмарскому сие неведомо, что слово «половина» в
разговорной речи может иметь следующее значение: «одна из двух неравных частей
чего-л.» [7, с. 904-905].» – Указанная ссылка означает «Большой толковый словарь
русского языка. / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.,1998.» К сожалению, у меня нет
этого словаря, поэтому верность ссылки проверить пока не могу. Но есть ведь и другие
словари, – и, думаю, не менее авторитетные. В частности, «Толковый словарь живого
великорусского языка» Владимира Даля, «Словарь русского языка» С.И. Ожегова,
наконец, выпущенный Институтом языкознания АН СССР «Словарь русского языка» в 4х томах (Москва, 1957). Во всех трех источниках значится одно и то же определение:
«Половина – одна из двух равных частей, вместе составляющих целое».
Так что же это получается? Либо выпущенный в 1998 г. словарь опровергает три наиболее
авторитетных словаря, либо уважаемый Иван Сергеевич умышленно вводит нас в
заблуждение! А при внимательном прочтении его реплики находим вероятную разгадку:
«в разговорной речи» – вот оно что. Так ведь в разговорной речи можно какую угодно
дичь нести! Да и причем здесь разговорная речь, когда разбирается литературный текст
автора?! А потому не остается ничего другого, как повторить крылатое коровьевское
«Поздравляю вас, гражданин соврамши!»
Но если текст эксперта-искусствоведа Ивана Сергеевича Ревякова всё же подкупает своей
эмоциональной уравновешенностью, достойным ученого хотя бы внешним спокойствием,
то в заметке кандидата Милёшина за показным ёрничаньем и псевдоиронической
трескотней находим лишь сотрясание воздуха да скрежет зубовный. Всё сплошь и рядом
или недопонимание, или передергивание того, о чем говорилось в моей статье, или какаято банальная отсебятина, – так что дискутировать здесь просто не с чем. Ну как,
например, опровергнешь столь гениальную мысль: «Гений – что сие значит? Если это у
меня спрашивают, я отвечу: писатель-гений отличается от писателя-не-гения только тем,
что он гений.»? Лихо, ничего не скажешь. Подобно недавно слышанному мной
рассуждению о Солженицыне: «Почему мы любим Солженицына? Потому что он –
классик. А почему он классик? Потому что мы его любим.»
Dead Or Alive
«Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его… Дело в том, что
хвалители и ругатели Гоголя переменились местами: все мистики, все ханжи, все
примиряющиеся с подлою жизнью своею возгласами о христианском смирении утопают в
слезах и восхищении. Я думал, что вся Россия даст ему публичную оплеуху, и потому не
для чего нам присоединять рук своих к этой пощечине; но теперь вижу, что хвалителей
будет очень много, и Гоголь может утвердиться в своем сумасшествии. Книга его
может быть вредна многим.» – Так о книге «Выбранные места из переписки с друзьями»
С.Т. Аксаков писал сыну своему И.С. Аксакову. Приведенные слова очень хорошо
характеризуют состояние умов российского общества середины XIX века – последних лет
земной жизни Гоголя. Как видим, мнения разделились, и действительно было множество
голосов в поддержку последней гоголевской книги, в частности, Шевырева, Плетнева,
Вяземского. Однако ныне нам трудно представить реальную картину тех лет по той
причине, что победившее революционно-демократическое направление, в конце концов,
привело к власти тоталитарную идеологию, действовавшую по принципу: «Кто владеет
прошлым, тот владеет настоящим». Поэтому прошлое всячески «переделывалось», из
недавней истории вымарывались нежелательные моменты, заглушались мотивы,
звучавшие не в унисон революционным демократам.
Вот и ситуация, связанная с выходом «Выбранных мест» сто лет рисовалась нам как
однозначная: все, мол, передовое общество осудило книгу Гоголя. О мнении же, да и о
самом существовании «непередового» общества говорить было не принято. Но как бы то
ни было, а конфликт позднего Гоголя с «передовым» демократическим обществом
так и не был разрешен, в результате чего произошло раздвоение Гоголя. Тот Гоголь,
каким он стал в конце жизни, благодаря новому состоянию своей души, оказался не нужен
его почитателям. Поэтому они объявили о своей верности Гоголю прежнему, тому,
который был возведен на пьедестал демократической критикой во главе с Белинским и
культ которого с новой силой расцвел после его смерти. Вот и получилось, что живой
Гоголь оказался в непримиренном отношении с тем Гоголем, который стал разрастаться в
культовый памятник.
Но пока единомыслие не было возведено в ранг государственной политики, живая мысль
не позволяла Гоголеву культу застыть окончательно. В статье «Гоголевы дни» –
фельетоне-отклике на 100-летний юбилей писателя и открытие ему памятника на
Арбатской площади, – писатель и журналист Александр Амфитеатров вспоминал:
«Восьмидесятники – с Чеховым, врачом по образованию, психологом-анатомистом по
складу таланта, нашедшим новую форму рассказа, а она, в свою очередь, потребовала
от русского языка новой фразы – первые посмели усумниться в художественной
непогрешимости Гоголя. Не только за «Переписку с друзьями» и «Авторскую исповедь»
(этого-то и отцы наши не приняли и нам не велели), не только за плохие
мнимоисторические статейки «Арабесок» (эти-то и отцам нашим казались ненужною
ложкою дегтя в бочке меда), но и за многое другое, что ранее принималось на веру как
непреложный стих из вечного корана красоты. Я помню ужас и негодование отца моего
– а он был очень умный и талантливый человек, и, даром что в рясе, тонкий, чуткий
эстетический критик – когда я осмелился сказать ему, что я не прихожу в восторг от
описаний природы, так частых у Гоголя и столько прославленных. И действительно,
чересчур уж литературны они, и красивое звучное слово часто съедает в них правду
наблюдения. Какая-то смесь гения с безвкусием, яркой поэзии и глубокого
художественного чутья с риторическою шумихою и вычурным празднословием,
способным, в громозвучной пустоте своей, произносить самые невероятные пошлости и
общие места.» – Далее автор приводит ряд примеров, один из которых процитируем и
мы: «В гениальной музыке бесовской ночи, когда очарованный Хома Брут мчит на спине
своей ведьму, режет уши прозаический эпизод русалки: «облачные перси ее, матовые, как
фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой,
эластически-нежной окружности». Это описание лампового колпака, а не женской
груди.» – Подобные примеры в своих статьях о Гоголе приводил и я. Но господам с
определенным типом мышления подавай ведь куда более важных авторитетов. Или
Амфитеатров тоже не годится? Не знаете такого? Тогда, может, вас удовлетворит
следующая фраза из того же фельетона: «Лев Николаевич Толстой раньше ставил Гоголю
хорошие и дурные отметки за мораль, а теперь, в интервью с сотрудником «Биржевых
ведомостей», не весьма уважительно отнесся и к медному кумиру Гоголя, и к памятнику
нерукотворному – творчеству его как художника-мыслителя. Максим Горький считает
Гоголя мрачным мизантропом, который развлекался, издеваясь над людьми.» – Тоже не
годится? Амфитеатров все выдумал? Ну тогда остается предоставить слово самому
Гоголю: «Мне доставалось трудно все то, что достается легко природному писателю. Я
до сих пор, как ни бьюсь, не могу обработать слог и язык свой, – первые, необходимые
орудия всякого писателя. Они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже
из дурных писателей, так что надо мной имеет право посмеяться едва начинающий
школьник. Все мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно
никак не может быть образцом словесности, и тот наставник поступит неосторожно,
кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать, или, подобно мне,
живописать природу: он заставит их производить карикатуры… У меня никогда не было
стремления быть отголоском всего и отражать в себе действительность, как она есть
вокруг нас.» (Из письма к Плетневу, 1847 г. Цит. по кн. Вересаев В. Гоголь в жизни.
Харьков, 1990. С. 448)
И пусть это слово Гоголя живого хорошо запомнят все почитателя Гоголя мертвого. Так
же как и то, что вовсе не забвение является главным злом для посмертной судьбы
писателя. Гораздо хуже – чрезмерное почитание, обожествление, создание культа. В этом
случае человека посмертно лишают его человеческих качеств – теперь на него
позволяется смотреть только снизу вверх, из жизнь создающего сцепления достоинств и
недостатков задним числом изымается негативная сторона, то есть человек лишается тени,
и во всех его недостатках позволено видеть только проявления гениальности. Теперь это
не человек, а памятник. А та огромная армия его почитателей – но отнюдь не
последователей – каждой дежурной статьей, никому не нужной диссертацией, мертвой
книгой добавляет ему не жизни, но смерти. И этот замкнутый комфортный мирок подобен
мертвому льву, на теле которого заводится и паразитирует бессчетное количество червей.
От этой мертвечины бежал Николай Васильевич при жизни, в ее же лапы угораздило его
попасть в своем посмертии. «Слышится часто по Карпату свист, как будто тысяча
мельниц шумит колесами на воде. То в безвыходной пропасти, которой не видал еще ни
один человек, страшащийся проходить мимо, мертвецы грызут мертвеца.»
А посему в канун 200-летнего юбилея Николай Васильича Гоголя пьем во славу не
бронзового мертвеца, но живого человека, часто смешного и несуразного, но оттого и
милого сердцу. Пьем за духовное здоровье автора многих веселых и страшных рассказов,
но в первую очередь – за автора «Старосветских помещиков» и «Выбранных мест из
переписки с друзьями»!
Газета «2000» от 27.03.2009
ПО СТРАНИЦАМ ГОГОЛЯ
а) МНИМОСТИ «НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА»
Сексуальный аспект творчества Гоголя
«Петербургские повести» Гоголя – это, пожалуй, тот «магический кристалл», глядя сквозь
который, можно разгадать загадку творчества этого писателя. В широких читательских
кругах повести эти – в связи с их безрадостностью – и близко не пользуются той
популярностью, что выпала на долю «малороссийского цикла» – «Вечеров на хуторе близ
Диканьки» и «Миргорода». Однако среди литературно более искушенных людей
авторитет «петербургского цикла» доведен до той степени, о которой говорит бытующее
утверждение, что, дескать, вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели».
Сегодня эти повести считаются самой что ни есть незыблемой классикой отечественной
изящной словесности. Им посвящено бесчисленное множество как разделов в
исследованиях о Гоголе, так и отдельных литературоведческих трактатов и монографий.
Неоднократно обращались к данной теме кинематографисты. Еще в 1926 г. по сценарию
Юрия Тынянова (объединившего в одно целое «Невский проспект» и «Шинель»)
режиссерами Козинцевым и Траубергом был поставлен «немой» фильм «Шинель». Под
таким же названием (но уже целиком основанный на одноименной повести) в 1959 г.
вышел фильм Алексея Баталова с Роланом Быковым в главной роли. В 1977 г. Ролан
Быков уже в качестве режиссера осуществил блестящую постановку «Носа». Нельзя не
упомянуть и о незавершенной работе над «Шинелью» выдающегося режиссера-аниматора
Юрия Норштейна, а из электронной «Энциклопедии кино Кирилла и Мефодии» узнаём о
существовании нескольких неведомых нам телеспектаклей – «Носа» А. Белинского (1965)
и «Записок сумасшедшего» К. Серебренникова (1996).
Но если благодаря творческому подходу кино-постановщиков, как правило, возникают
новые импульсы для изучения первоисточника, то основанные на идеологических
стереотипах литературоведческие опусы, напротив, затемняют его смысл и препятствуют
переосмыслению ложных установок. Главный же стереотип заключается в том, что сам
писатель, равно как и все его тексты, априорно считаются гениальными, а потому все
последующее исследование в этом случае состоит из доказательств гениальности всякой
глупости и несуразности, обнаруженной в тексте. Поэтому, принципиально отбросив все
«авторитетные» свидетельства о «гениальности», «колоссальности» и «непреходящем
значении» «Петербургских повестей» Гоголя, единственным авторитетом в деле их
постижения оставим лишь «магический кристалл» текста. И что же мы в нем увидим?
Могущество силы или могущество слабости?
«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он
составляет все. Чем не блестит эта улица – красавица нашей столицы! Я знаю, что ни
один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта.»
– Так выглядят три начальных предложения повести. Как видим, каждое из них
составлено крайне неудачно, – вот первое, на что обращаешь внимание, только лишь
приступая к чтению. И это сразу вызывает искреннее удивление: неужели «гениальному
писателю» было недосуг поработать над стилем уже первых строчек своего
произведения?
Тем более, что это не единичный случай. На той же первой странице находим следующее:
«Всемогущий Невский проспект!.. Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько
ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под
тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как
дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам
магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика,
проводящая по нем резкую царапину, – все вымещает на нем могущество силы или
могущество слабости.» – На первый взгляд вроде бы все красиво. Однако при
внимательном прочтении обращаешь внимание на сразу две несуразности. Во-первых,
ГРЕМЯЩАЯ САБЛЯ никак не вписывается в перечень НОГ, оставивших следы на
Невском! Во-вторых, что же это за прапорщик такой, у которого сабля волочится по
земле, оставляя этот след, – неужели карлик?!
Переворачиваем страницу: «По улицам плетется нужный народ: иногда переходят ее
(кого ее? говорится ведь об улицах во множественном числе! – Авт.) русские мужики,
спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский
канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть (был бы! – Авт.).»
«…ужели та, за один небесный взгляд которой он готов бы был отдать всю жизнь…» –
и опять то же неблагозвучие – «бы был» вместо «был бы»!
Возникает вопрос: как такое обилие ошибок могло остаться незамеченным
литературоведами, критиками и читателями? Но оказывается, что на этот момент
обращали внимание еще современники Гоголя – в частности, его литературные
противники Осип Сенковский и Николай Полевой. А вот что пишет по этому поводу
современный исследователь А. К. Жолковский: «Гоголь с самого начала писал «плохо»,
откуда и возникала необходимость периодического отказа от собственных текстов и даже
их уничтожения. Даже в лучших образцах его прозы критики всегда находили проявления
дурного вкуса, языковые провинциализмы и грамматические огрехи. Самые грубые
ошибки устранялись друзьями и редакторами, но большинство неправильностей остались
нетронутыми и вскоре были объявлены новаторскими находками, а затем и
канонизированы, когда на рубеже веков Гоголь был провозглашен первым
провозвестником русского модернизма. Его стилистические «провалы» оказались
составной частью широкой культурной революции, продолжающейся вот уже более ста
лет.» (Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы. М.: Наука, 1994, с. 77).
Здесь необходимо – дабы не быть превратно понятым – уточнить цель своего
исследования. Таковой является отнюдь не развенчание классика путем выискивания у
него слабых мест. Целью данного исследования является восстановление взгляда на
гоголевский феномен во всей его полноте. Дело в том, что в результате канонизации и
забронзовения Гоголя, была утрачена вторая его – теневая – сторона. В настоящее время в
общественном сознании писатель этот незыблемо занимает место «Солнца русской
литературы», что само по себе является абсолютным непониманием сути гоголевского
творчества и представляет извращение, возведенное в ранг высшей истины. Отметим при
этом, что солнечная символика в отношении Гоголя вполне уместна, вот только это не
солнце в привычном для нас состоянии, а не иначе как «черное солнце» – Sol niger –
алхимическое понятие, означающее нахождение солнца в низшей точке своей траектории.
Отметим также, что внести ясность в тот клубок противоречий, каковым является
феномен Гоголя, могут именно алхимические понятия. Такие как «Великое Делание»,
«Философский Камень», «Алхимическое Золото» – по сути основополагающие понятия
высшего творчества как такового, искусства вообще и литературы в частности.
Это был художник?
О чем же повествует «Невский проспект»? Большая ее часть посвящена истории как бы
художника Пискарева. Почему «как бы»? Потому что описанный субъект совершенно не
соответствует образу художника.
«Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно
странное явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо,
являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное
сословие очень необыкновенно в том городе, где всё или чиновники, или купцы, или
мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник
петербургский! художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро,
гладко, ровно, бледно, серо, туманно. – Итак, доминирующая мысль, которую проводит
здесь автор, состоит в том, что художник в Петербурге – весьма странное явление. По
причине якобы бледности, серости, туманности, то бишь отсутствия ярких красок, резких
перепадов, острых углов и т. д. Но ведь как раз всем этим изобиловало первоначальное
описание самим автором одного только Невского проспекта! А там, где бурлит жизнь, чем
не место для художника? То есть изначально в голову читателя запускается некий
искусственно выдуманный посыл, иначе говоря, ложная мысль. – Эти художники вовсе не
похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив
того, это большею частию добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий
тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате,
скромно толкующий о любимом предмете и вовсе небрегущий об излишнем. – На первую
ложь нанизывается вторая. Бесспорно, что по темпераменту южане – и не только
художники – отличны от северян, а вот природа художественного творчества строится на
законах, равно распространяющихся на все человечество. Потому откровенной фальшью
отдает пассаж о «добром, застенчивом народце, кротко пьющем чай и скромно
толкующем». Скромный художник – это что-то сродни боязливому драчуну. – Он вечно
зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов
шесть, с тем, чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он рисует
перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный вздор:
гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные
живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены,
запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и
бедные рыбаки в красных рубашках. – И опять не все в порядке: автор перечисляет
ученические упражнения, необходимые художнику для совершенствования технического
мастерства, выдавая это за сам смысл творчества. – У них всегда почти на всем серенький
мутный колорит – неизгладимая печать севера. При всем том они с истинным
наслаждением трудятся над своею работою. Они часто питают в себе истинный
талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так
же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на
чистый воздух…» – Таким образом, дается настолько превратное представление природы
художественного творчества, что назвать Пискарева художником очень сложно. Впрочем,
в дальнейшем ни о каких художествах данного персонажа в повести речи не идет, и
вероятно, что художником автор называет его чисто условно (аналогично хармсовскому
«рыжему человеку»).
Пред ним лежала красавица…
Чем же занят этот, с позволения сказать, художник? На протяжении всей повести его
функция сводится к преследованию некой женской особи, что называется, легкого
поведения, в воображении Пискарева преобразившейся в существо неземное.
«Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг
поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какие божественные черты!
Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными, как агат, волосами.
Они вились, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки,
тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были
замкнуты целым роем прелестнейших грез. Все, что остается от воспоминаний о
детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, – все это,
казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах…»
Образ такой вот неземной женской сущности гуляет по всем гоголевским произведениям.
Вспомним «Тараса Бульбу»: «Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой
еще не видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем
солнца… – и в другом месте: – Она потупила свои очи; прекрасными снежными
полукружьями надвинулись на них веки, окраенные длинными, как стрелы, ресницами.
Наклонилося все чудесное лицо ее, и тонкий румянец оттенил его снизу.»
А вот как описывается мертвая панночка-ведьма в повести «Вий»: «Трепет пробежал по
его жилам: пред ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось,
никогда еще черты лица не были образованы в такой резкой и вместе гармонической
красоте. Она лежала как живая. Чело, прекрасное, нежное, как снег, как серебро,
казалось, мыслило; брови – ночь среди солнечного дня, тонкие, ровные, горделиво
приподнялись над закрытыми глазами, а ресницы, упавшие стрелами на щеки, пылавшие
жаром тайных желаний; уста – рубины, готовые усмехнуться… Но в них же, в тех же
самых чертах, он видел что-то страшно пронзительное. Он чувствовал, что душа его
начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и
закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе. Рубины уст ее,
казалось, прикипали кровию к самому сердцу.»
До полнейшего абсурда описание подобной красоты доведено в отрывке «Рим»,
разделанном под орех в рецензии Николая Полевого «Похождения Чичикова, или
Мертвые души. Поэма Н. Гоголя», впервые опубликованной в журнале «Русский вестник»
за 1842 г. Однако в данном случае нас интересует не внешнее, а внутреннее, не форма, а
содержание. Обратим внимание на следующее: в приведенных отрывках идентичность
прослеживается касательно не только внешнего вида изображаемой женской сущности, но
и функционального ее содержания. Панночка-ведьма становится непосредственной
причиной гибели Хомы Брута, страсть к прекрасной полячке губит Андрия, а
«таинственная незнакомка» из «Невского проспекта» приводит к преждевременной
кончине Пискарева. Что же все это значит?
Жертва безумной страсти
В статье «Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»», вошедшей в
«Выбранные места из переписки с друзьями», Николай Васильевич пишет: «…отчего
герои моих последних произведений, и в особенности «Мертвых душ», будучи далеки от
того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства
совсем непривлекательного, неизвестно почему близки душе, точно как бы в сочинении
их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще год назад мне было бы
неловко отвечать на это даже и тебе. Теперь же прямо скажу все: герои мои потому
близки душе, что они из души; все мои последние сочинения – история моей собственной
души.»
Мысль эта дает основание утверждать, что и псевдо-художник Пискарев не что иное как
отображение одного из качеств самого Гоголя. В «Невском проспекте» в очередной раз
проявилась естественная устремленность мужского естества Гоголя к женскому началу и
невозможность овладения его сущностью. Также есть все основания утверждать, что
женское начало в воображении Гоголя приобретает совершенно фантастические
очертания в связи с сексуальной девственностью писателя.
Совсем не обязательно абсолютизировать выводы д-ра Фрейда, согласно которым все
поступки человека определяются вытесненными в подсознание сексуальными мотивами,
но нельзя и совершенно не учитывать столь важную в человеческой жизни сферу половых
взаимоотношений. В частности, тот факт, что не находящая естественного выхода
сексуальная энергия приводит к деформации сознания, к вечно возбужденному состоянию
и неадекватным поступкам. Что и прочитывается в поведении Пискарева: «Он взлетел на
лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной
страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще
дышащий неопределенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в
развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более освятило их.»
– Здесь видим диаметральное противопоставление любви небесной и земной. Но если в
принципе такое противопоставление вполне обоснованно, то именно его
взаимоисключающая диаметральность предполагает неминуемый душевный разлад. Что,
в свою очередь, вызывает проецирование собственных искусственных идеалов на
естественную окружающую жизнь, к примеру, небесной женской сущности на особу
легкого поведения. Подобный подход отличается крайней степенью наивности, полной
оторванностью от жизненных реалий и, следовательно, непониманием основ мироздания.
И то – как можно искать любви духовной, ведясь на красоту физическую?
А выход из этой ситуации крайне прост, ибо создан самой природой. Комментируя
главную каббалистическую книгу «Зоар», Михаэль Лайтман пишет: «В
противоположность прочим верованиям и неправильному пониманию творения мы
видим, что путь умерщвления нашей природы абсолютно не соответствует процессу
духовного возвышения. Запрещено механически ограничивать себя и налагать на себя
добровольно любые страдания. Правильный путь – если только в результате своего
духовного возвышения, как следствие полученных свыше новых свойств и желаний,
человек естественно меняет свое поведение.» (Лайтман М. ЗОАР. АСТ-Астрель. Москва.
2007. С. 38).
Но Гоголь вместе со своим Альтер-эго Пискаревым… «Вместо того чтобы
воспользоваться такою благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться такому
случаю, какому, без сомнения, обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со
всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу.» – После чего проблема, чья природа
коренится в ложности изначальных посылов, из сознания перемещается в подсознание, и
дальнейшие события происходят во сне и опиумных галлюцинациях Пискарева. Но
происходит все то же – устремленность мужского естества к женскому началу и
невозможность овладения его сущностью.
«Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее; к
величайшей досаде, какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла
ее беспрестанно…» – Имея сексуальность в основе описываемых событий, не будет
натяжкой трактовать эту фразу как попытку увидеть наконец то, что притягивает мужчину
к женщине, то, где сконцентрирована женская сексуальность. И вот он употребляет все
усилия, чтобы раздвинуть… ноги и рассмотреть ее, – но из-за густой растительности
сделать это не так просто!
Тем не менее, возбуждение достигает высшей степени: «О, какое небо! какой рай! дай
силы, создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! –
однако, как и все в неверном свете луны, то бишь бессознательного, и этот оргазм
оказывается воображаемым: – Она подала знак, но не рукою, не наклонением головы, нет,
в ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным
выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его.»
Но что же он понял? Ровным счетом ничего, потому как заканчивается эта история самым
банальным образом: так и не угнавшись за вечно ускользающим образом, герой повести
перерезал себе горло. «Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий,
робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может
со временем бы вспыхнувшего широко и ярко», – так под именем Пискарева похоронил
Николай Васильевич чувственную свою любовь.
Ум его помутился…
В письме к матери от 24 июля 1829 года Гоголь пишет: «Маменька, дражайшая маменька!
Я знаю, вы одни истинный друг мне. Поверите ли? и теперь, когда мысли мои уж не тем
заняты, и теперь, при напоминании, невыразимая тоска врезывается в сердце. Одним вам я
только могу сказать… Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом
человеке… Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости? Но я видел ее… нет, не
назову ее… она слишком высока для всякого, не только для меня. Я бы назвал ее ангелом,
но это выражение – не кстати для нее. – Это божество, но облаченное слегка в
человеческие страсти. – Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение
печатлеется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу; но их сияния, жгучего,
проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков. О, если бы вы посмотрели
на меня тогда!.. правда, я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская
тоска, с возможными муками, кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне
кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была…
я по крайней мере не слыхал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших
душевных терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного
взгляда алкал я… Взглянуть на нее еще раз – вот бывало одно единственное желание.
Возраставшее сильнее и сильнее, с невыразимою едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и
разглядел я свое ужасное состояние. Все совершенно в мире было для меня тогда чуждо,
жизнь и смерть равно несносны, и душа не могла дать отчета в своих явлениях. Я увидел,
что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хоть тень
покоя в истерзанную душу. В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне,
и благословил так дивно назначаемый путь мне. Нет, это существо, которое он послал
лишить меня покоя, расстроить шатко созданный мир мой, не была женщина. Если бы она
была женщина, она бы всею силою своих очарований не могла произвесть таких ужасных,
невыразимых впечатлений. Это было божество, им созданное, часть его же самого. Но,
ради бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока!» (Вересаев В. Гоголь в
жизни. Харьков. 1990. С. 105).
Игорь Золотусский в своем жизнеописании Гоголя вслед за В. Шенроком подвергает
сомнению само существование какой-либо особы, якобы вызвавшей у Гоголя столь
бурную страсть. Письмо к матери и последовавшее за ним неожиданное путешествие в
Германию по его мнению было вызвано исключительно неудачей литературного дебюта –
разгромной критикой поэмы «Ганц Кюхельгартен». Но является ли описанное в письме
состояние самого Гоголя только лишь недостойной внимания досужей выдумкой? От
внимания гоголеведа почему-то ускользает полнейшая его идентичность с состоянием
Пискарева в «Невском проспекте»: «Она проскользнула между толпою и исчезла. Он как
помешанный растолкал толпу и был уже там… Опять какой-то сон, какой-то пошлый,
гадкий сон. «Боже, умилосердись: хоть на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!»
…Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до
последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот
несчастный был он… О, это уже слишком! этого нет сил перенести. Он бросился вон,
потерявши чувства и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, не слыша,
не чувствуя, бродил он весь день… Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не
было ответа; наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным
горлом.»
Обратим внимание на тот факт, что в 500-страничном жизнеописании И. Золотусский по
сути не касается сексуальной стороны жизни писателя. В «целомудренной»
демократической и советской литературоведческой традиции считалось, что к творчеству
это не имеет никакого отношения. Но очевидно, что это совсем не так, а в случае с
Гоголем подобная установка ведет к полному непониманию скрытых энергетических
пружин его творчества, а, следовательно, и самого его смысла. Между тем, еще в XIX веке
знаменитый итальянский психиатр и криминалист Ломброзо, посвятив Гоголю одну
страницу своей работы «Гений и помешательство», делает весьма резкое для нашего уха
замечание: «Николай Гоголь, долгое время занимавшийся онанизмом, написал несколько
превосходных комедий после того, как испытал полнейшую неудачу в страстной
любви…» (Ломброзо Ц. Гений и помешательство. С.-П. Издание Ф. Павленкова. 1892. С.
82).
А вот выдающийся мыслитель ХХ столетия Карл Густав Юнг, размышляя о смысле
лунного и бессознательного, в итоговом своем труде «Mysterium Coniuctionis» приходит к
выводам, которые как будто списаны специально с Гоголя: «Если женщина отсутствует
или неприступна, то бессознательное порождает в мужчине определенную женственность,
которая проявляется в различных формах и дает толчок к возникновению
многочисленных конфликтов. Чем более однобоким является его осознанная, мужская,
духовная установка, тем неполноценнее, банальнее и примитивнее будет
компенсирующий женский аспект бессознательного. Мужчина, скорее всего, вообще не
будет осознавать темные проявления своей натуры, потому что они будут покрыты таким
толстым слоем сладчайшей сентиментальности, что он не только сам поверит в обман, но
и навяжет это свое мнение другим людям.»
Когда сам демон зажигает лампы
И это удалось – ему действительно поверили! К символической истории несчастливой
своей любви Гоголь присовокупляет совершенно вздорную историю про некоего
поручика Пирогова, в которой российские литераторы узрели нечто выдающееся. Между
тем, она полностью, что называется, шита белыми нитками, состряпана наспех. Описывая
общество, к которому принадлежал Пирогов, автор пишет о тех штатских чиновниках
средних классов, которые «не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о
бухгалтерии или даже о лесоводстве». Но ведь Пирогов – военный! То есть изначально
создается какая-то ненастоящая условная фигура. Особенно не напрягается автор и над
такими вещами как мотивация, психологизм поступков выведенного им персонажа.
Пирогов, не задумываясь, выкладывает крупную сумму за ненужные ему шпоры;
ухаживая за немкой, он хватает и целует ее при муже; эта самая немка пустилась с ним в
пляс без всякой на то мотивации и – что самое интересное – без музыки! И, наконец,
финальная сцена – за приставание к его жене жестянщик Шиллер с помощью своих
приятелей высек Пирогова. Но после первоначального возмущения, тут же зайдя
перекусить в кондитерскую, пострадавший несколько успокаивается, а вечером, уже как
ни в чем не бывало, отплясывает на балу мазурку. Этот момент поведения Пирогова,
свидетельствующий о его беспринципности и отсутствии офицерской чести, в
дальнейшем шибко возмущал некоторых русских писателей. Но если задуматься на
предмет правдивости описанного, приходишь к выводу: ежели он после порки спокойно
кушал пирожные, читал «Северную пчелу» и плясал, следовательно, физические
последствия порки его вовсе не беспокоили, а значит и сама порка была совершенно
символической! Значит, его так высекли, что он даже и не почувствовал. Что же до
«попранной чести», то и здесь что за беда? Вызывать на дуэль человека неблагородного
звания кодекс дворянской чести не велит, так что остается только сдавать его полиции –
велика ли в этом честь? Тем более, что получил за дело…
Тем не менее, весь этот вздор был на ура воспринят частью российского литературного
круга. В комментариях к данной повести в 3-м томе собрания сочинений Гоголя за 1977 г.
читаем: «Отмечая глубину гоголевских обобщений, типичность персонажей «Невского
проспекта», Белинский писал: «…Шиллер, Пискарев, Пирогов – разве все эти
собственные имена теперь уже не нарицательные?.. Святители! да это целая каста, целый
народ, целая нация! О единственный, несравненный Пирогов, тип из типов, первообраз из
первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок, многозначительнее, чем Фауст!.. Это
символ, мистический миф, это, наконец, кафтан, который так чудно скроен, что придет по
плечам тысячи человек!»…»
Вот уж действительно – эта вещь посильнее «Фауста» Гете! И на таких вот выдумках о
каких-то «обобщениях» и «типических образах» стало строиться все последующее
гоголеведение. А между тем сам Гоголь в последнем абзаце «Невского проспекта»
совершенно недвусмысленно говорит о настоящем смысле своей повести: «…Но боже вас
сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за
что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради бога, далее от фонаря! и скорее,
сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что
он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, все дышит
обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда
ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда
весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы
кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только,
чтобы показать все не в настоящем виде.» – И здесь как нельзя кстати еще один
комментарий из упомянутой выше работы Карла Густава Юнга:
«Что касается женщины, это именно так и есть: ее сознание имеет скорее лунный, чем
солнечный характер. Ее свет – это «мягкий» свет луны, в котором вещи скорее сливаются
друг с другом, чем проявляются по отдельности. В этом свете, в отличие от резкого,
слепящего света дня, предметы не видны во всей их безжалостной разъединенности и
обособленности, в его обманчивом мерцании те из них, что находятся поближе, сливаются
с теми, что находятся подальше, малые вещи магически трансформируются в вещи
великие, высокое превращается в низкое, все цвета приобретают мягкий голубоватый
туманный оттенок, и ночной пейзаж являет собой неожиданное единство.»
Но вернемся к дуализму Солнца…
«Огромная голова с темными курчавыми волосами», беспрестанно заслонявшая
Пискареву объект его желания, предполагает также и другой уровень прочтения: наиболее
известный обладатель подобной головы и жизнью своей, и творчеством действительно
заслонял недоступные девственнику Гоголю виды! В этом моменте можно найти и
причину взаимной их симпатии – противоположности притягиваются, а именно такими
противоположностями являются Пушкин и Гоголь. Положительный заряд первого
предавал солнечному свету даже то, что принято держать исключительно под покровом
ночи, подвергая сознательному анализу саму чувственную любовь:
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом всё боле, боле –
И делишь наконец мой пламень поневоле!
Стихи Пушкина – это то, на чем лежит свет солнечного единства. Того состояния, в
котором этическое не противопоставляется эстетическому, но состоит с ним в
неразрывном единстве. По этой причине даже внешне похабные его вирши – Как широко,
Как глубоко! Нет, бога ради, Позволь мне сзади – по сути, таковыми не являются, потому
как говорят о соитии богов, для которых нет нужды прятаться от солнечного света, ибо
сами они суть солнце. Гоголь же находится на противоположной стороне, а потому
разделение достигает здесь предела: «…ему казалось, что какой-то демон искрошил весь
мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе.»
– Таким образом, все его творчество представляет собой прохождение стадии Sol niger.
Необходимое разделение солнечной символики находим в «Словаре символов» Хуана
Эдуардо Керлота: «…Определив главные понятия солнечного символизма как
героического образа (Sol invictus, Sol salutis, Sol institiae – солнце непобедимое, солнце
спасения, солнце справедливости) в качестве божественного ока, активного начала и
источника жизни и энергии, вернемся к дуализму Солнца, к тому, что касается его
невидимого прохождения. Его «Пересечение Моря-Ночи» – символ имманентности
(подобно черному цвету), а также греха, затмения и искупления… Алхимики избрали этот
образ – Sol niger – для обозначения «первоматерии» или бессознательного в своей основе,
«нерабочего» состояния. Другими словами, Солнце находится в надире (низшей точке), в
глубинах, из которых оно должно с трудом, медленно подняться к своему зениту.»
(Керлот Х. Э. Словарь символов. REFL-book. 1994. С. 483)
б) АНТИМИР «ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОВЕСТЕЙ»
Между юмором и сатирой
Повесть «Нос» очень похожа на ребус. Первоначально, а именно 18 марта 1835 года, она
была послана Гоголем в журнал «Московский наблюдатель», издававшийся под
руководством Шевырева и Погодина. Однако была отвергнута редакцией, нашедшей
повесть «пошлой» и «тривиальной». Тогда автор передал повесть Пушкину для его
«Современника». На Александра Сергеевича в отличие от москвичей «Нос» произвел
весьма благоприятное впечатление, и его публикацию в 1836 году он снабдил следующим
редакционным примечанием: «Н. В. Гоголь долго не соглашался на напечатание этой
шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого,
оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием,
которое доставила нам его рукопись».
Что же развеселило Пушкина? Наверняка, то, что повесть строится на приправленных
черным юмором нонсенсах и парадоксах – явлении в русской литературе на тот момент
небывалом. Интересно, что в первоначальном варианте, предназначавшемся для
«Московского наблюдателя», развязка состояла в том, что герой просыпался с носом на
положенном месте, то есть фантастические события происходили во сне. В переработке
же для «Современника» момент сна убирается, действие переводится в явь, в результате
чего вся реальность приобретает совершенно нереальный вид.
Традиционно считается, что в данной повести заключена жесткая сатира на тогдашнюю
российскую действительность, что наглядно продемонстрировал в известной экранизации
1977 г. Ролан Быков. И с этим, конечно, никто спорить не будет – недаром ведь Гоголь
имеет репутацию великого сатирика, и упоминаемые по ходу текста «сахарные головы»,
которыми берет взятки частный пристав, газетные объявления о продаже наряду со
скотом и различными товарами крепостных и тому подобные приметы времени
предвосхищают последующие сатирические произведения автора. Но в отношении
«Носа» возникает дополнительный вопрос: разве только сатира является предметом этой
повести?
Дело в том, что сатира имеет вполне рациональный смысл, что хорошо видно на примере
«Ревизора» и «Мертвых душ», в то время как абсурдность и алогичность, присущие
«Носу», делают содержание этой повести совершенно иррациональным. Если абсурдность
еще может служить для сатирических целей, то алогичность скорее сбивает читателя с
толку, а не работает на общую сатирическую цель.
Причём сатира лучше всего чувствует себя в таком художественном пространстве, где всё
устойчиво, логично и основательно, как то, помимо упомянутых сатирических
произведений Гоголя, наблюдается, к примеру, в «Путешествиях Гулливера» Свифта или
в «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. В «петербургском» же цикле, в
частности, в «Носе» читатель сходу попадает в некий призрачный мирок, в котором всё
крайне зыбко и неустойчиво. И такой эффект сознательно создаётся самим автором, что
свидетельствует о совершенно иных – несатирических – целях.
Рассказ начинается с брани жены брадобрея Прасковьи Осиповны, вызванной тем, что в
одном из только что испеченных ею хлебов ее муж находит нос коллежского асессора
Ковалева. При этом, как позже выяснится из размышлений самого Ковалева, «…никаким
образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил к нему в
комнату; цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей
среды и даже во весь четверток нос у него был цел – это он помнил и знал очень
хорошо…» – Как видим, автор сознательно уничтожает малейшую логическую зацепку,
способную объяснить происшедшее. Надо полагать, что этот – обнаруженный именно в
тесте – нос является не чем иным как закваской, вирусом алогизма, введенным автором
для того лишь, чтобы разрушать логику им же создаваемого мира.
Однако закваска, выступая в качестве катализатора, определяет здесь непосредственное
действие, но не само положение описываемого мира, поскольку и помимо главного
диссонирующего элемента, то бишь носа, весь этот мир соткан из сплошных диссонансов.
Эта расшатанность положения захватывает читателя уже в первой главке – «предбаннике»
основного действия, где дается характеристика цирюльника и его супруги, а также их
взаимоотношений: «Где это ты, зверь, отрезал нос? – закричала она с гневом... – Сухарь
поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем
не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй!»
«Но я несколько виноват, – извиняется автор, – что до сих пор не сказал ничего об Иване
Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий
порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный».
То есть внутренние связи между двумя персонажами, определяющими художественный
мир «предбанника», держатся на пьянстве со стороны супруга, на невыполнении им своих
супружеских
обязанностей
как связующем элементе, и
на сексуальной
неудовлетворённости со стороны супруги, что и является подспудной причиной брани.
Не мудрено, что в столь шатком положении действия Ивана Яковлевича приобретают
весьма странный оттенок. Так, для того, чтобы поесть хлеба с луком, «Иван Яковлевич для
приличия надел сверх рубашки фрак», – и за столом он сидит без штанов, но во фраке.
Однако известное происшествие помешало спокойному течению трапезы: «Мысль о том,
что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное
беспамятство… Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю
эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в
тряпку и вышел на улицу.» – И начался бег с препятствиями по улицам Петербурга, что
можно уподобить танцам на палубе тонущего корабля.
Эстафету от Ивана Яковлевича принимает главный герой рассказа, с той разницей, что
действия его прямо противоположны: если цирюльник пытается избавиться от носа, то
коллежский асессор Ковалев всеми силами старается найти его, догнать и водворить на
прежнее место.
«Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление
неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул,
согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и
вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос!.. Бедный
Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном
происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него
на лице, не мог ездить и ходить, – был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к
счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором… Наконец увидел
его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий
воротник и с выражением величайшей набожности молился… Нос посмотрел на майора,
и брови его несколько нахмурились. …из собственных ответов носа уже можно было
видеть, что для этого человека ничего не было священного… его перехватили почти на
дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан
на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к
счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос.» – Вот в общих
чертах история беглого носа, его странных и ничем не объяснимых метаморфоз, никак не
позволяющих классифицировать данное произведение, как то пишется в послесловии к
третьему тому собрания сочинений Гоголя (М. Художественная литература. 1977), в
русле «трезвого реалистического анализа изображаемых противоречий социальной
жизни».
Нельзя не обратить внимания и на довольно странные изменения, которые претерпел в
«петербургских повестях» гоголевский юмор. Из всего цикла «Нос» наиболее
юмористичен, однако природа этого юмора уже вовсе не та, что имела место в «Вечерах»
или «Старосветских помещиках». От мягкости и органичности светлого юмора Гоголь
переходит к жесткой зигзагообразной изломанности, сродни тому абсурду, что спустя сто
лет конструировал в своих миниатюрах Даниил Хармс.
«Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно
говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!» – то Иван
Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» – «Не знаю, братец,
только воняют», – говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку,
мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою – одним словом, где
только ему была охота».
«Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал… что у порядочного человека не
оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и
исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам».
«Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды,
свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной
чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью
разных родов щеточками».
В библиотеке мировой литературы имеется великое множество всевозможных историй,
содержащих загадки, тайны, шутки и парадоксы. Фантастическое, сказочное, гротескное,
юмористическое выполняет здесь те или иные функции. Прежде всего, подобные приемы
применяются для создания особого художественного мира, живущего по своим законам,
отличающимся от привычных законов трехмерного пространства. При этом, законы
новосозданного художественного мира подчинены своей внутренней логике. Все это
имеет место и у Гоголя «Вечеров» и «Миргорода». У Гоголя же «Петербургских
повестей» видим нечто в корне иное, ибо разрушению подвергается сама внутренняя
логика, то есть сознательно разрушаются несущие конструкции создаваемого мира. Это
то, о чем он говорит в «Невском проспекте»: «…ему казалось, что какой-то демон
искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку
смешал вместе».
Таким образом, называя вещи своими именами, отметим, что новаторство Гоголя состоит
здесь в художественном использовании откровенно шизофренических мотивов, не
подчиненных никакой логике. Это все те же «записки сумасшедшего»: «Завтра в семь
часов совершится странное явление: земля сядет на луну… Луна ведь обыкновенно
делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это
внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не
имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей
земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна – такой
нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И
потому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне.
…когда я сказал: «Господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее», – то все
в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на
стену…»
Искреннее удивление вызывает мнение по этому поводу «великого критика» Белинского.
В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» он писал: «Возьмите «Записки
сумасшедшего», этот уродливый гротеск, эту странную, прихотливую грезу художника,
эту добродушную насмешку над жизнию и человеком, жалкою жизнию, жалким
человеком, эту карикатуру, в которой такая бездна поэзии, такая бездна философии, эту
психическую историю болезни, изложенную в поэтической форме, удивительную по
своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира: вы еще смеетесь над простаком,
но уже ваш смех растворен горечью; это смех над сумасшедшим, которого бред и смешит
и возбуждает сострадание». – Но о каком смехе говорит здесь критик? Как вообще
сумасшедший может вызывать смех?! Это ведь только пошляк в ужасной душевной
болезни может увидеть и бездну поэзии, и добродушную насмешку, и прихотливую грезу
художника. Потому как бред сумасшедшего и юмор суть вещи несовместимые. На первый
взгляд они действительно могут быть похожи, но, как говорит Козьма Прутков: ЗРИ В
КОРЕНЬ! Ну а мерой, определяющей отличие юмора от бреда, может служить знакомая с
детства истина: нельзя смеяться над больными.
Вот пример внешнего подобия и коренного различия:
«Теперь у меня нет никаких сомнений в том, что так называемые извержения Этны или
Везувия суть не что иное, как масса пепла, вылетающего из кузниц Вулкана… Во время
ссор со своими работниками-циклопами Вулкан швыряет в них раскаленными кусками
угля, которые они отбрасывают наружу. Вот почему среди пепла эти горы извергают
порою и уголь.» (Распе. Вечера барона Мюнхгаузена)
«Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною
в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают,
будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со
стороны Каспийского моря.» (Гоголь. Записки сумасшедшего)
В первом случае видим фантазию, скрепленную внутренней логикой. Во втором –
алогизм, вызванный повреждением головы. Нарушение же логических связей ведет к
дезориентации в мироздании. Космос превращается в хаос.
Еще раз отметим, что данное рассуждение относится не ко всему творчеству Гоголя, а
лишь к «Петербургским повестям». Потому как ранний Гоголь – певец Диканьки и
Миргорода – замечательный юморист, в то время как Гоголь «Ревизора» и «Мертвых
душ» – превосходный сатирик. И это бесспорно. А вот «Петербургские повести»,
находясь во времени между юмором и сатирой, не являются ни юмором, ни сатирой. В
таком случае, что же это такое?
«Всё обман, всё мечта, всё не то, что кажется»
Здесь необходимо осознать ту кардинальную ошибку, из-за которой вслед за
булгаковским Иешуа впору было опасаться, что путаница эта будет продолжаться
очень долгое время. Дело в том, что в эпоху торжества естественных наук, позитивизма и
материалистической философии, демократических тенденций в обществе и реализма в
литературе Гоголь равно как Пушкин и Лермонтов были восприняты российской
критикой как писатели-реалисты и их произведения, попав в жернова реализма, получили
реалистическую трактовку. С позиций реализма Писарев просто уничтожил «Евгения
Онегина», причём сделал это обстоятельно (комар носа не подточит!) – что вполне
закономерно, поскольку ключ к данному произведению лежит вовсе не в реалистической
плоскости, а в символической многослойности. Но мышление блестящего полемиста
Писарева было настроено исключительно на «реализм» и ничего другого не улавливало.
Тоже – с произведениями Гоголя, которые поспешили втиснуть в основание
реалистического направления в русской литературе, вовремя не разобравшись, что это
нечто совершенно иное – НЕРЕАЛИСТИЧНОЕ, а говоря современным языком,
СЮРРЕАЛИСТИЧНОЕ.
В 30-е годы XIX века не мог, конечно, Виссарион Белинский открыть, к примеру,
«Словарь иностранных слов» (М. Русский язык. 1988) и узнать оттуда о таком понятии
как «СЮРРЕАЛИЗМ [фр. surrealisme букв. сверхреализм] – сменившее дадаизм
направление в авангардистском искусстве 20 в., объявляющее своей задачей
бесконтрольное, «автоматическое» воспроизведение сознания и особенно подсознания,
что порождало причудливо-искаженные сочетания и сращения реальных и нереальных
предметов».
Не обладал Белинский и достаточным объемом сознания, чтобы увидеть необычность
творческой манеры Гоголя, не вписывающейся в концепцию «натуральной школы». Ведь
даже во Франции первое – оставшееся незамеченным – издание в полном смысле
сюрреалистических Лотреамоновых «Песен Мальдоррора» датировано 1869 г., второе же
– когда на них обратила внимание литературная общественность – аж 1890-м! А здесь –
вторичная в литературном плане Россия – 30-е годы! Но как бы там ни было, а всё же
весьма удивительно, когда по ведомству «натуральной школы» и «критического
реализма» проходят такие ирреальные вещи как «Невский проспект», «Нос», «Записки
сумасшедшего», «Шинель». Последняя из них не столь сюрреалистична как первые три –
но и здесь натыкаешься на места, которые не отнесешь ни к гротеску, ни к
гиперболизации, как то: «Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес;
платок был только что от прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для
употребления».
То, что Гоголь не реалист и никогда таковым не был, в настоящее время понимают
многие. Но при этом стараются закрыть глаза на вопиющее противоречие. Потому что в
таком случае для изучения творчества этого писателя необходим изначально иной подход.
И как тогда быть со всем зданием российско-советского литературоведения, в котором
Гоголь значится как основоположник «натуральной школы» и «критического реализма»?
Выдернешь это положение – и рухнет всё здание! Но по другому нельзя…
Для отечественного «гоголеведения» весьма характерен тот момент, что во всех
необычностях, парадоксах и даже очевидных недостатках гоголевских текстов,
«гоголеведы» умудряются видеть лишь достоинства и проявления гениальности. В
этой связи мы выходим на ключевые вопросы: что – какой позитив? – усматривают
исследователи творчества Гоголя в разрушении писателем логических связей?
Возможно ли объективно исследовать творчество писателя, будучи изначально
уверенным в его непогрешимой гениальности? И какова природа гоголевского
сюрреализма не в конструкциях его хвалителей, а в объективной реальности?
Ответ на первый из поставленных вопросов находим в монографии Владимира Марковича
«Петербургские повести Н.В. Гоголя» (Ленинград, Художественная литература, 1989). На
с. 52 читаем: «Автор петербургских повестей видит главную примету современности в
резком расхождении между сущностью общественного бытия и его осязаемыми реалиями
(«Все обман, все мечта, все не то, что кажется»). Очевидно, что такая истина может
открыться лишь за пределами «видимости», за гранью тех иллюзий, которыми человек
ослеплен».
То есть истина, которую Маркович находит у Гоголя, состоит в том, что осязаемые реалии
общественного бытия иллюзорны. Как известно, идея эта лежит в основе индийской
философии: «МАЙЯ (санскр.) – иллюзия, обман; …иллюзорность бытия как одно из
ключевых понятий, с помощью которого осмысливается Вселенная». (Буддизм. Словарь.
М. «Республика». 1992. С. 173)
Однако за иллюзорным бытием, согласно религиозной эзотерической традиции, лежит
бытие высшее – не-иллюзорное, тот абсолют, к которому, преодолевая иллюзорность,
ведомая духом стремится душа человеческая. И это есть вторая истина, которая вытекает
из первой – об иллюзорности видимой реальности. По Марковичу же «за гранью тех
иллюзий, которыми человек ослеплен» открывается что? Не что иное как «истина»,
гласящая, что «Всё обман, всё мечта, всё не то, что кажется»! И не более того…
Далее (с. 52, 53) указанный автор пишет:
«Мысль эта (об иллюзорности. – О. К.) в значительной мере проясняет характер и цель
того смешения разнородных элементов, которое совершается в художественном мире
петербургских повестей. Открывается смысл постоянной смены устных и письменных
форм речи, нарушающей всякий устойчивый порядок в организации повествования.
Становится понятным, почему необходимо головокружительное пересоздание столь
близко и основательно знакомой автору реальности. Цель авторских усилий очевидна. Все
обманчивые видимости современной жизни должны быть разрушены, деформированы
или смещены в сознании читателя – лишь при этом условии ему откроется ее подлинная,
незримая сущность. Сознание читателя должно быть освобождено от тяготеющих над ним
навыков – лишь при этом условии оно будет способно воспринять открывшуюся ему
истину. Глубинная истина эта окажется странной, иррациональной, невероятной – иной
она просто быть не может. И движение к ней не может быть ничем иным, кроме
импровизации – непредсказуемой и неудержимой. Только такое движение способно
приблизить, по мысли Гоголя, к истине высшего порядка, только оно поможет распознать
ее».
Но что же это за «подлинная, незримая сущность»?! В чём состоит и где пребывает та
«глубинная истина», «истина высшего порядка», о которой ведёт речь исследователь
гоголевского творчества?! Прямого ответа у Марковича не находится, посему следуем
далее по тексту и на страницах 64 и 65 читаем:
«…в «Носе» среди прочих объяснений совершившегося чуда мелькает и такое: «Черт
хотел подшутить надо мною!» …Впрочем, намек на участие в сюжете «нечистой силы»
более всего подкреплен у Гоголя не отдельными деталями, а всей абсурдно-хаотической
атмосферой повести. Мифологические традиции нередко предполагали отождествление
хаоса с преисподней (шире – с царством смерти вообще). Тогда вторжение хаотического
начала в человеческую жизнь толковалось как знаменательное и катастрофическое
нарушение границы, отделяющей «здешнее» от «нездешнего». А такое проникновение
потустороннего в земной мир обычно связывалось в народном сознании с мыслью о
наступающем «конце света»».
И наконец логического своего завершения данная мысль – надо полагать, что это и есть
«глубинная истина» по Марковичу, – достигает на страницах 67, 68:
«По существу, «беспорядок природы» пробивается в каждой из петербургских повестей: о
нем сигнализируют и абсурдные повороты действия, и алогизмы в повествовании, и
внезапное исчезновение границ между различными уровнями и элементами структуры. Не
только тот или иной сюжет – весь художественный строй сочинений Гоголя о Петербурге
выражает ощущение вселенского кризиса, угрожающего превращением космоса в хаос.
Вся воссозданная в повестях петербургская атмосфера предстает смятением жизненных
стихий, теряющих «нормальную» оформленность, разграниченность и определенность.
Иными словами, гоголевский Петербург как бы несет в себе предвестие мировой
катастрофы и отмечен многими приметами, свидетельствующими о ее возможности и
близости».
И что же всё это значит? Что «подлинная, незримая сущность» жизни состоит в
наступающем «конце света» и в «беспорядке природы»? И что именно об этом идёт речь в
«петербургских повестях» Гоголя? Надо признать, что в советском прочтении Гоголя
такая трактовка наполняется действительно позитивным смыслом: пускай летит к чёрту
старый несправедливый мир, на обломках которого «мы наш, мы новый мир построим» –
мир справедливый. Таким образом, Гоголь как бы изображал распад и обреченность
старого мира.
Однако сегодня вкладывать в произведения Гоголя столь ограниченные смысл и
содержание, наделять их настолько прикладным значением, в силу неизмеримо
расширившегося идейного пространства не представляется возможным. И если
совершенно очевидно, что «беспорядок природы» – хаос – действительно характерен для
мира «петербургских повестей», то не менее очевидно, что это никак не «подлинная,
незримая сущность», а как раз напротив – отрицание этой самой «подлинной и
незримой сущности».
Таким образом, исследуя мир «петербургских повестей» и пытаясь найти заключённый в
них смысл, «гоголеведы» ошиблись со знаком. В этих повестях преломленные в
художественном видении Гоголя действительно содержаться все те проявления хаоса, о
которых говорит Маркевич. Вот только смысл данного содержания не позитивный, а
негативный.
Ключевая ошибка «гоголеведения» состоит в указанном выше изначальном
положении о непогрешимой гениальности писателя, что автоматически исключает
из объекта исследования пространство отрицательных величин и не позволяет
уяснить суть отличия литературы ЗДОРОВЬЯ от литературы БОЛЕЗНИ.
Перевернутый мир
Согласно религиозной эзотерической традиции космос – это мир божественного порядка
(мир синархический), тогда как хаос означает отсутствие такого порядка, равно как дьявол
(черт) означает не что иное, как отсутствие Бога. Систематические знания на это счет
можно получить из книги Владимира Шмакова «Священная книга Тота. Великие арканы
Таро. Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма», вкратце же вопрос о
дьяволе решаем следующим образом:
“Дьявол. Пятнадцатый аркан из колоды Таро, где Дьявол приобретает вид Бафомета (у
тамплиеров), изображённого с головой и ногами козла и грудью и руками женщины.
Подобно греческому сфинксу он включает четыре элемента: его чёрные ноги
соответствуют земле и духам нижнего мира; зелёная чешуя на его боках указывает на
воду, русалок и растворение; его синие крылья отождествляются с крыльями сильфов и
летучих мышей (потому что крылья перепончатые); и красная голова относится к огню
и саламандрам. Цель дьявола – регресс, застой в том, что является фрагментарным,
низшим, разнообразным и прерывистым. В конечном итоге эта таинственная карта
относится к инстинктам и желанию во всех его чувственных формах, к магическим
искусствам, хаосу и извращению”. (Керлот Х.Э. Словарь символов. REFL-book, 1994. – С.
188)
Исследовать преломление идеи дьявола в творчестве Гоголя попытался Дмитрий
Мережковский в известном своём эссе «Гоголь и черт». Однако удачной эту попытку не
назовёшь по причине чрезмерной произвольности рассуждений и выводов философа. На
наш взгляд, данное исследование Мережковского являет собой тенденциозное прочтение
жизни и творчества Гоголя сквозь призму собственной концепции обновлённого
христианства. То есть во главу угла ставится не Гоголево, а своё – Мережковское! А
Гоголево из действительного объекта исследования становится страдательным субъектом
Мережковской концепции.
Мы же – во избежание подобной ситуации – будем ориентироваться не на то, что
возникает в нашей голове, а исключительно на то, что есть в тексте Гоголя. К примеру, на
следующий монолог Поприщина из «Записок сумасшедшего»:
«О, это коварное существо – женщина! Я теперь только постигнул, что такое
женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл это.
Женщина влюблена в черта». – И действительно, во многом определяющее положение в
творчестве Гоголя занимают женщина и чёрт – как нечто иррационально влекущее,
загадочно-непонятное, ведущее к разрушению психики, разрушению иерархии,
разрушению мира.
В данном смысле чёрт это вовсе не существо, не личность, а некая отрицательная
разрушительная величина, безличный принцип, болезненный процесс. И приведённое
нами определение из Керлота – «Цель дьявола – регресс, застой в том, что является
фрагментарным, низшим, разнообразным и прерывистым.» – поразительно точно
разъясняет цитата из Гоголя: «…ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на
множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе.» – То
есть процесс состоит в разрывании целого на части, на фрагменты, смешении их и
подмене, умышленном перепутывании местами.
Интересно, что «гоголеведы» тоже чувствуют этот момент – но только по модулю,
ошибаясь опять-таки со знаком. «…своими петербургскими повестями, – пишет
Маркович, – Гоголь начинает своеобразную полемику с романтизмом. Думается, что
можно выделить главное ее направление – коренной пересмотр установленной
романтиками иерархии высокого и низменного, исключительного и обыкновенного».
(Указ. соч., с. 88)
И приводится ряд примеров того, в чём этот пересмотр выражается, – в том числе: «У
героев петербургских повестей Гоголя даже высокое напряжение духовности несет в себе
некое искажение и никогда не достигает чистоты. Акакий Акакиевич, подобно Евгению
(герою пушкинского «Медного всадника». – О. К.) переживает историю трагической
любви, где есть и страстная одержимость, и жертвы, и грезы, и рыцарское служение
любимой, а потом ужасная утрата в минуту счастья, невыносимое потрясение и гибель».
(Там же, с. 102)
Здесь, прежде всего, обращаешь внимание на характерную особенность гоголеведческой
критики. Размышления в ней направлены, как правило, не в глубь исследуемого объекта, а
по касательной, – не вкапываются в суть, а как бы гладят. Ведь если речь зашла об
иерархии, тогда необходимо установить, что собой являет истинная иерархия –
независимо от чьих-либо установок. Насколько и романтики, и Гоголь исходят из
высшего идеала – основы всех религиозно-нравственных учений? (И даже не обязательно
религиозных, а и просто нравственных). Но такой идеал-первоисточник остаётся далеко за
пределами «гоголеведения», а его место замещает… сам Гоголь. (Или Пушкин! В той же
книге, ссылаясь на суждение Гоголя о «Капитанской дочке», Маркович проводит
обобщающий вывод о Пушкине: «Своеобразнейшая форма «малой эпопеи» позволит
совместить действительность «жестокого века» и гармонический идеал. Они сойдутся в
единстве чисто пушкинской поэтической реальности, которая есть «не только самая
правда, но еще как бы лучше ее»». То есть получается, что Пушкин и есть ВЫСШАЯ
ПРАВДА, поскольку не Пушкин поверяется правдой, а правда Пушкиным!)
Приводя же в пример высокое напряжение духовности якобы имеющее место в
отношении Акакия Акакиевича к своей возлюбленной, то бишь Шинели, критик сам не
осознает, что некое искажение оказывается присущим не только гоголевским персонажам,
но и его собственным рассуждениям. Потому как подобное принижение понятия
духовности оборачивается не чем иным как извращением. И в результате мы имеем дело
никак не с пересмотром иерархии, а с её разрушением.
Здесь не помешает оглянуться назад и вспомнить раннее гоголевское творчество – благо,
что произведения эти прочно вошли в наше сознание и для восстановления в памяти не
требуют особых усилий. В основе первых гоголевских повестей лежали народные поверья
– как шуточные, так и страшные – о нечистой силе. Главной характерной особенностью,
благодаря которой они и пользуются столь большой популярностью, является та
брызжущая через край жизненная энергия, что исходит из неиссякаемого фольклорнопантеистического источника. Тем более удивителен тот энергетический перепад в
гоголевском творчестве, который наблюдается при переходе от «малороссийского цикла»
к «петербургскому». Позволим себе не согласиться с установившимся в нашем
литературоведении стереотипом, что это был якобы переход от «романтизма» к
«реализму». Нет, это было обусловлено тем, что на новом витке творческой спирали
Гоголь вошел в минусовое пространство, в пространство отрицательных величин. Что
было, опять-таки, предопределено как изначальной его творческой доминантой, так и
всем его психотипом.
Проиллюстрируем нашу мысль описанием шабаша из вышедшей в начале ХХ века книги
М. Орлова «История сношений человека с дьяволом»: «По прибытии на место ведьму
встречает хозяин пиршества – сам дьявол в образе козла или пса. Сатанинский бал
освещается страшными огнями, испускающими густые клубы черного дыма.
Слетающиеся со всех сторон ведьмы воздают поклонение дьяволу. Знаками этого
поклонения являются особые позиции тела. Так, например, ведьмы приседают на
корточки и вместо того, чтобы склонить голову пред демоном, закидывают назад или
становятся с ним спина к спине. Вообще в изображении этой обрядности видно желание
народной фантазии дать картину чего-то вывернутого наизнанку, обратного обычному
представлению».
В этом малоинтересном, на первый взгляд, фрагменте при желании можно увидеть тот
момент, который лежит в основе отмеченной нами гоголевской метаморфозы. Первая
половина фрагмента – это ранний Гоголь, «малороссийский цикл», в котором дьявол, чёрт
обретает различные – и жутко-инфернальные («Страшная месть»), и загадочноромантические («Вечер накануне Ивана Купала»), и народно-смеховые («Ночь перед
Рождеством») – воплощения. Во второй же части фрагмента внешне-описательная
сторона сменяется внутренним действием, его сутью – а именно искривлением, вывертом
и подменой.
Скорее подсознательно, чем сознательно в гоголевском творчестве периода петербургских
повестей проявляется попытка вывернуть мир наизнанку, разрушить установленный
порядок вещей. И не только тот порядок, который определяется общественногосударственными законами, но и тот, что предопределён свыше.
В этой связи весьма уместно вспомнить определение: Дьявол – обезьяна Бога. В том
смысле, что при разрушении связей высшего порядка мир начинает кривляться, то есть
производить действия вне причинно-следственных связей. Как, к примеру, в рассказе
«Нос». Пришедши в «газетную экспедицию» с желанием дать объявление о ничем не
объяснимой пропаже собственной части тела, майор Ковалёв весьма своеобразно
реагирует на слова чиновника, что, дескать, «печатается много несообразностей и
ложных слухов»: «Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого».
– Так на совершенно фантастическое внешнее событие Гоголь нанизывает еще и
внутреннее несоответствие: человек, пребывающий в крайнем смятении по поводу
случившегося, говорит, что тут ничего такого нет! Ответ же чиновника не только не
проясняет ситуацию, а ещё более её затемняет, вконец разрушая всякое подобие логики:
«Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай.
Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по
расчету пришлось два рубля семьдесят три копейки, и все объявление состояло в том,
что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль:
пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения».
Последуем же за этим, оказавшимся казначеем, чёрным пуделем. Указывает он, вопервых, на знаменитое соответствие в гётевском «Фаусте», а во-вторых, прямиком
приводит к Гофману – к пуделям Понто и Скарамушу из «Житейских воззрений кота
Мурра». Сравнение здесь напрашивается само собой. К тому же явное влияние на Гоголя
великого немецкого романтика отмечалось как современниками, так и исследователями
его творчества. «…Даже в обращении к петербургским темам, – пишет Игорь
Золотусский, – к образам немцев в Петербурге Шевырев увидел влияние Тика и Гофмана,
влияние немецкое» (Золотусский И. Гоголь (Серия «Жизнь замечательных людей»), М.,
Молодая гвардия, с. 179)
Гоголь и Гофман
Два ремесленника – жестянщик и сапожник, избившие поручика Пирогова в «Невском
проспекте» носят говорящие литературные фамилии – Шиллер и Гофман. Почему
выбраны именно эти имена? Только лишь из большой их распространенности? Но есть
ведь и другие – не менее распространенные – Мюллер, Борман и т. д. Думается, что раз
автор выбрал именно хорошо известных ему литераторов, то этим он устанавливает с
ними некую связь, вводя их в собственный литературный контекст. Тем более, что,
называя своих персонажей, Гоголь тут же помянул и писателей: «Перед ним сидел
Шиллер, – не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю
Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в мещанской
улице. Возле Шиллера стоял Гофман, – не писатель Гофман, но довольно хороший
сапожник с офицерской улицы, большой приятель Шиллера… Шиллер сидел, выставив
свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за этот нос
двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности.
…слова Шиллера заключались вот в чем. «Я не хочу, мне не нужен нос! – говорил он,
размахивая руками. – У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц… Я не хочу
носа! режь мне нос! вот мой нос!» И если бы не внезапное появление поручика Пирогова,
то, без всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что ни про что Шиллеру нос, потому
что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву».
Можно, конечно, просто посмеяться от проявления столь «тонкого юмора». Или в
очередной раз восхититься гениальным новаторством писателя, раз уж в «гоголеведении»,
имеющем начало в критике Белинского, закрепилось мнение, что Гоголю удалось
преодолеть романтизм, его условности и излишества, вывести изображение
действительности на качественно новый – РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ – уровень. Однако
позволю себе усомниться в том, что здесь имеет место какая-то особая утонченность
юмора, потому как в описываемом положении не наблюдается психологической
обоснованности. Нелепость, бред – да! Но только не юмор, поскольку отсутствует одно из
главных составляющих, без которого юмор невозможен – здравый смысл. А какой
реализм может быть там, где отсутствует здравый смысл?
Уточню, что речь идет о настоящем юморе, то есть об «умении подмечать и выставлять
на смех забавное и несуразное в жизненных явлениях», а не о «плоском юморе», в котором
ситуации берутся не из жизни, а выдумываются на потеху публики. То, что гоголевское
творчество пестрит проявлениями настоящего юмора, с этим спорить не приходится, ибо
в этом одно из главных, а может быть и главное его достоинство. Но разумно ли в
недостатках находить продолжение достоинств? Как можно в грубости видеть тонкость, в
досужей выдумке – реализм, в нелепости – юмор?! Однако в «гоголеведении» это
оказывается не просто возможным, но полагающим основу моментом, и здесь
наблюдается некое массовое помутнение рассудка, описанное в гофмановской сказке
«Крошка Цахес по прозванию Циннобер».
Что же до аллюзий из Гофмана в гоголевском творчестве, то в особенности много их
именно в «петербургском цикле». Даже и вышеприведенная сцена с жестянщиком и
сапожником как будто выхвачена – вот только сколочена чересчур грубо – из идейнолитературного пространства новеллы «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» с ее
откровенно бытовой ремесленно-патриархальной окраской. Однако вся эта сцена живо
напоминает еще и ситуации из гофмановских волшебных повестей, в частности, из
«Повелителя блох»: «По рассказу старухи, оба почтенных господина, Сваммердам и
Левенгук, продолжали свою драку и в комнате, причем ужасно шумели и бесновались.
Потом вдруг все стихло, только глухое стенание возбудило опасения старухи, не ранен ли
кто-нибудь из них насмерть. Любопытствуя, она стала смотреть в замочную скважину
и увидела совсем не то, что ожидала. Сваммердам и Левенгук схватили Георга Пепуша и
терли и давили его своими кулаками так, что он становился все тоньше, причем он-то и
издавал те стенания, что донеслись до старухи. Когда наконец Пепуш стал тонок, как
стебель чертополоха, они попытались просунуть его сквозь замочную скважину». – Ну
чем не Шиллер с Гофманом, тузящие незадачливого поручика Пирогова?
Не просто похожим, а в полной мере идентичным у обоих писателей оказывается
поведение и лирических персонажей – влюбленных романтиков – к каковым в
«Петербургских повестях» мы вправе отнести единственно бедолагу Пискарева.
«– Этому не бывать, – вскричал Перегринус, давно уже догадавшийся, куда клонилась
речь Алины, и стремительно бросился вон из комнаты и из дому.
По старому, традиционному обычаю, герой повести, в случае сильного душевного
волнения, должен бежать в лес или по меньшей мере в уединенную рощицу. Обычай этот
потому хорош, что он господствует и в действительной жизни. Таким-то вот образом
и господин Перегринус Тис, покинув свой дом на Конной площади, бежал без передышки
все вперед, пока, оставив за собой город, не достиг близлежащей рощи». («Повелитель
блох»)
«Вместо того, чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вместо того чтобы
обрадоваться такому случаю, какому, без сомнения, обрадовался на его месте всякий
другой, он бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу…
Она проскользнула между толпою и исчезла. Он как помешанный растолкал толпу и был
уже там». («Невский проспект»)
В этой связи практически каждый «гоголевед», начиная с Белинского, не устает
повторять, что художник Пискарев – образ в высшей степени реалистический, «более
сложный», чем тот, в котором предстает художник в «романтической прозе». «Это
относится и к Э.-Т.-А. Гофману, и к русским романтикам – Н. А. Полевому и В. Ф.
Одоевскому», – читаем в примечаниях Г. М. Фридлендера к третьему тому собрания
сочинений Гоголя (М. Художественная литература. 1977). Однако заметим, что подобно
Пискареву персонажи Гофмана ведут себя только в сказочных его произведениях. Что же
до повести Николая Полевого «Живописец» и одноименного рассказа Владимира
Одоевского, то их герои предстают пред читателем людьми с глубоким внутренним
миром, вполне уравновешенной психикой и трезвым взглядом на жизнь. То есть в отличие
от гоголевского Пискарева это в высшей степени реалистичные образы. А посему видим
здесь опять-таки не «преодоление романтизма», а всего лишь явную недоработку.
Пискарев – это неудачно выхваченный из иного рассказа, иного стиля и жанра персонаж,
при переносе растерявший все те человеческие качества, которые ему полагались в своём
мире, и будучи введенным в нечто еще недодуманное и недоделанное, и потому не
приобретя взамен утраченных каких-нибудь новых качеств, обречен на роль бегающей
куклы.
Явное заимствование из Гофмана наблюдается и в новелле «Записки сумасшедшего», в
моменте, связанном с похищением Поприщиным собачьей рукописи. Вспомним, как
обстояло дело…
У Гоголя: «Хорошо, – подумал я сам в себе, – я теперь узнаю все. Нужно захватить
переписку, которую вели между собою эти дрянные собачонки».
У Гофмана: «…юный Понто набросился на мою последнюю рукопись и, прежде чем я
успел ему помешать, схватил ее в зубы и стремглав ринулся из комнаты».
У Гоголя: «Собачонка в это время прибежала с лаем; я хотел ее схватить, но, мерзкая,
чуть не схватила меня зубами за нос. Я увидал, однако же, в углу ее лукошко. Э, вот
этого мне и нужно! Я подошел к нему, перерыл солому в деревянной коробке и, к
необыкновенному удовольствию своему, вытащил небольшую связку маленьких бумажек.
Скверная собачонка, увидевши это, сначала укусила меня за икру, а потом, когда
пронюхала, что я взял бумаги, начала визжать и ластиться, но я сказал: «Нет,
голубушка, прощай!» – и бросился бежать».
У Гофмана: «Узнав от Понто, что Мурр подолгу просиживает на чердаке, я поднялся
наверх, вынул несколько черепиц и благодаря этому смог свободно заглянуть со своей
крыши в ваше слуховое окошко. И что же открылось глазам моим?! Слушайте и
удивляйтесь! В самом отдаленном уголке чердака сидит ваш кот! Сидит, выпрямившись,
за низеньким столиком, на котором разложены бумага и принадлежности для письма, и
то потрет лапой лоб и затылок, то проведет ею по лицу, потом обмакивает перо в
чернила, пишет, останавливается, снова пишет, перечитывает написанное и при этом
еще мурлычет (я сам слышал), мурлычет и блаженно урчит. Вокруг разбросаны книги,
судя по переплетам, взятые из вашей библиотеки».
Как видим, сходство налицо – и это сходство состоит, прежде всего, в обращении к
необычному. Однако в отношении к этому необычному, в его изображении, то есть в
авторской позиции, в развитии одной и той же идеи – художники идут в прямо
противоположных направлениях. Идея кота, пишущего трактаты и стихи, чью рукопись
похитил пудель и передал ее профессору Лотарио, у Гоголя трансформировалась в идею
двух собачонок – Меджи и Фидель, – упражняющихся в эпистолярном жанре, чью
переписку похищает столоначальник Поприщин. Идея в основе своей идентична, однако
воплощение и развитие ее оказывается совершенно различным. У Гофмана она
приобретает вид одной из двух сюжетных линий 500-страничного романа, густо
наполненного различными персонажами, действиями и идеями, у Гоголя – крошечным
эпизодом 20-страничного рассказа с единственной функцией, фиксирующей начало
умопомешательства персонажа.
Взаимодействие двух миров – людей и животных – у Гофмана оказывается органичным и
наполненным богатым положительным – символически многоуровневым – содержанием.
В качестве образца настоящего юмора, приправленного тонкой иронией и скрепленного
жестким каркасом логики приведем несколько фрагментов из монологов кота Мурра.
«О природа, святая, великая природа!.. Надо мной распростерся необъятный свод
звездного неба, полная луна бросает на землю яркие лучи и, залитые искрящимся
серебряным сиянием, вздымаются вкруг меня крыши и башни! Постепенно умолкает
шумная суета на улицах внизу, все тише и тише становится ночь, плывут облака,
одинокая голубка порхает вокруг колокольни и, робко воркуя, изливает свою любовную
жалобу… Что, если бы милая крошка приблизилась ко мне? В груди у меня шевелится
дивное чувство, какой-то сладострастный аппетит с непобедимой силой влечет меня
вперед, к ней! О, если бы прелестное создание спустилось ко мне, я прижал бы его к
своему истосковавшемуся по любви сердцу и уж конечно ни за что бы не выпустил».
«Да, не иначе как я родился на чердаке! Не погреб, не дровяной сарай – я твердо знаю:
моя родина – чердак! Климат отчизны, ее нравы, обычаи, – как неугасимы эти
впечатления, только под их влиянием складывается внешний и внутренний облик
гражданина вселенной! Откуда во мне такой возвышенный образ мыслей, такое
неодолимое стремление в высшие сферы? Откуда такой редкостный дар мигом
возноситься вверх, такие достойные зависти отважные, гениальнейшие прыжки?»
У Гоголя же исходная идея взаимодействия миров в результате нехитрого своего развития
оказывается пугающей черной дырой безумия с однозначно негативным зарядом, что и
является переходом в пространство отрицательных величин. Таким образом, в одном
случае творчество служит для воздвижения и утверждения грандиозного мира –
макрокосма, в другом – разрушается индивидуальный маленький мирок – микрокосм.
При этом творческая доминанта совпадает по модулю, но противоположна по знаку. С
положительным знаком эту доминанту определяет тема безумия как некоего поэтического
вдохновения, уводящего ввысь, безумия в том смысле, что человек, воодушевленный
идеей из высшего мира, со стороны заземленной толпы будет восприниматься не иначе
как безумцем. Если же знак отрицательный, то безумие в этом смысле просто безумие и
ничего больше. А что такое просто безумие?
Вот как в «Житейских воззрениях кота Мурра» описывается явление капельмейстера
Иоганнеса Крейслера, авторского Альтер-эго:
«Принцесса подхватила Юлию и стремглав побежала с нею прочь, громко восклицая: «Он
сумасшедший, сумасшедший, он сбежал из дома умалишенных!»»
А вот отрывок из диалога Крейслера с советницей Бенцон:
«– А ваша фантастическая экзальтация, – возразила Бенцон, – ваша надрывающая
сердце ирония всегда будут вносить беспокойство и замешательство, – словом, полный
диссонанс в общепринятые отношения между людьми.
… – Нет, вы никуда не уйдете от слова «Kreis» – круг, и я молю небо, чтобы в мыслях
ваших тот же час возникли волшебные круги, в коих вращается все наше бытие и откуда
мы никак не можем вырваться, сколько бы ни старались. В этих-то кругах и кружится
Крейслер, и возможно, что порой, утомившись пляской святого Витта, к которой его
принуждают, он вступает в единоборство с темными загадочными силами,
начертавшими те круги, и более страстно тоскует по беспредельным просторам,
нежели то допустимо при его и без того хрупкой конституции».
И еще фрагмент монолога Крейслера:
«…Почувствовав себя свободным, я вновь очутился во власти необъяснимого
беспокойства, которое с самой ранней юности так часто раздваивало мое «я». То не
было страстное томление, которое по верному выражению одного глубоко
чувствующего поэта, рождено высшей жизнью духа и длится вечно, ибо вечно остается
неутоленным; томление, которое не терпит ни обмана, ни фальши и, дабы не умереть,
должно всегда оставаться неудовлетворенным. Нет, безумное, снедающее желание
влечет меня вперед, в неустанной погоне за безымянным Нечто, которое я ищу вне себя,
тогда как оно погребено в недрах моей души, как темная тайна, как бессвязный,
загадочный сон о рае высочайшего блаженства…»
А что такое просто безумие? Это – нечто прямо противоположное космической гармонии,
а именно болезненный распад сознания. Только этим и не чем иным наполнены «Записки
сумасшедшего». Для того, чтобы в этом убедиться, нужно просто читать текст, видеть то,
что в нём есть – и ничего более! Не ставить перед собой задачу – как то принято в
«гоголеведении» – додумать, домыслить, доделать, достроить, и в результате найти то,
чего нет и никогда не было. Но сколько ни повторяй слово «халва», во рту слаще не
станет, и сколько ни пиши диссертаций на тему «Влияние северного сияния на поголовье
крупного рогатого скота в Сиаме», а текст Гоголя останется неизменным.
Поэтому ничего, кроме недоумения, не могут вызвать всевозможные «откровения»,
рассказывающие о духовном преображении бывшего столоначальника Поприщина. В уже
цитированной монографии «Петербургские повести Н.В. Гоголя» Владимир Маркович
пишет: «Наконец, очевидно, что человек пробуждается и освобождается в Поприщине как
раз в той степени, в какой герой сходит с ума. Высокие прозрения неотделимы от
галлюцинаций, от околесицы, от явных проявлений психологического расстройства (на
фоне многих современных ей произведений о безумцах повесть Гоголя выделялась еще и
тем, что в некоторых своих моментах очень близко подходила к достоверной клинической
картине помешательства)». (с. 96) – Здесь необходимо очень важное проясняющее
уточнение: повесть Гоголя выделялась не еще и тем, а именно тем и выделялась, что в
отличие от современных ей произведений о безумцах она изображала не «безумие»
художника, одержимого высокой идеей, а именно клиническое помешательство. То есть
предметом художественного изображения стало не что иное как психическая болезнь,
болезненный распад сознания человека, не имеющего никакого отношения к высоким
помыслам, а потому никак не могущего вдруг прийти к высоким прозрениям.
Но откуда же взялось расхожее это «гоголеведческое» общее место о «высоких
прозрениях»? Где можно узреть таковые? Оказывается, в последнем абзаце повести!
«Казалось бы, – пишет Маркович, – финал «Записок сумасшедшего» может служить
основанием для веры и надежды: оказывается, катастрофическое потрясение может
пробудить высокую духовность в человеке, как будто бы всецело ничтожном и
безвозвратно опошлившемся. Но вера тут же подрывается сомнением: потрясение
представляется непосильным для сознания героя, духовное освобождение неотделимо от
совсем не условного безумия». (Сс. 151, 152)
Приведём же целиком сей многозначительный финал, способный столь непомерно
расширить идейное пространство, клинический случай шизофрении перевести в разряд
высоких прозрений. Итак…
«Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на
голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За
что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего
не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится
предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь,
коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого
света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо
мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый
туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой
Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит
перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную
головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему
нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете
ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?»
И в чем же здесь духовность? В тройке лошадей и звоне колокольцев? – Эй, ямщик, гоника к «Яру»! – эка духовность! Во взывании бедняги к матушке? Ребенок плача бежит к
маме – разве это проявление духовности? Да и правда ли это? Не натяжка ли автора? Не
поэтическое ли украшательство: птица-тройка, Италия, русские избы – Поприщин ли это?
Не сам ли Гоголь?
Возвращаясь же к сравнительному анализу двух поэтов, приведем напоследок еще одну
весьма забавную параллель. Во втором томе «Житейских воззрений кота Мурра» пудель
Понто рассказывает о своей службе у барона Алкивиада фон Виппа:
«В хорошую погоду барон обычно благоволит глядеть в открытое окно и лорнировать
прохожих. Если прохожих не слишком много, то имеется другое развлечение, которому
барон может предаваться целый час, не уставая. Под окном барона находится
булыжник мостовой, отличающийся особенным, красноватым оттенком. В середине же
этого камня имеется маленькая искрошенная дырка. Благодаря неоднократным
длительным упражнениям барон добился того, что попадает в дырку с третьего плевка,
и уже выиграл не одно пари».
А вот аналогичный случай из гоголевского «Носа»:
«Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана,
который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же
место».
В чем заключается главное отличие двух описанных ситуаций? В первом случае мысль
подобна плавному течению реки, не встречающему на своем пути никаких препятствий.
Во втором же – при кажущейся его непритязательности – тут же натыкаемся на
замаскированную запруду в виде употребления устойчивого выражения «плевать в
потолок». Это значит бездельничать, чем лакей в данном случае и занимается. Однако
интересно здесь то, что условное выражение переведено в реальное действие. Есть еще
одно аналогичное выражение – «Ваньку валять». А что если бы Гоголь изобразил данный
эпизод следующим образом: «Вошед в переднюю, обнаружил он там лакея своего Ивана,
валявшего по полу рассыльного Ваньку»? Или валявшего собственную персону, поскольку
он и сам Ванька! Это я к тому, что перевод условного выражения в реальное действие
порождает нечто третье, ибо в реальности плевать в потолок – занятие, во-первых,
требующее физического напряжения лицевых мышц, во-вторых, не слишком приятное в
связи с тем, что плевки с потолка будут падать вниз – на плюющего.
Как видим, данное описание содержит в себе изначальную перевернутость, зеркальное
отображение, изобразительный негатив. Посему извлечение: Гофман – целен, естественен
и здоров; Гоголь (в «Петербургском цикле») – фрагментарен, перевернут и болен.
Обезглавленный макрокосм
Сегодня творческий метод Гоголя часто называют «магическим реализмом», однако и это
неверно, потому что как «магическое», так и «реализм» предполагают внутреннюю
логику, на которой выстраивается внешний и внутренний космос произведения. В
рассматриваемых же нами гоголевских текстах всё это подвергается тотальному
разрушению. Следовательно, в них нет ни реализма как правдивого отображения
физического и психического мира, ни магии как связующего элемента мира явлений с
миром причин.
А что же есть? Каким образом можем мы обобщить всё вышесказанное с тем, чтобы
понять смысл и содержание гоголевского «Петербургского цикла»? Для этого
необходимо, прежде всего, указать на основы, опираясь на которые можно собрать
воедино – в единую систему – ту распадающуюся и вечно ускользающую субстанцию, из
которой состоит ткань гоголевских произведений. Основы же эти прямо противоположны
основам, на которых построено монструозное здание «гоголеведения».
Это можно уподобить древу, чьи ствол и крона напрочь оплетены паразитирующими на
нем растениями, так что за ними не видно и самого древа. Такая картина открывается при
параллельном изучении двух взаимосвязанных предметов – Гоголя и «гоголеведения».
Удручает здесь то, что содержание, смысл и цели второго состоят не в том, чтобы
проникнуть в содержание и смысл первого, а в том, чтобы вложить в него совсем иные
содержание и смысл, не имеющие никакого подтверждения в первоисточнике. Во
избежание голословности разберем два примера, весьма характерных для
«гоголеведения».
В книге «Гоголь», вышедшей в серии «ЖЗЛ», Игорь Золотусский, в частности, пишет:
«…«Записки сумасшедшего» назывались вначале «Записками сумасшедшего музыканта».
Под таким названием они и были внесены Гоголем в список «Арабесок». Потом заглавие
изменилось, и изменился герой. Из двойника героев Э. Т. А. Гофмана и В. Одоевского, из
сумасшедшего музыканта он превратился в чиновника десятого класса, но не утратил
музыкальной идеи своего прообраза. «Музыкант» в Поприщине остался». – По ходу
возникает вопрос: на каком основании утверждается, что прото-Поприщин был
изначально «двойником героев Гофмана и Одоевского»? Очевидно, что одного лишь
первоначального варианта названия для этого никак не достаточно, а необходимы маломальски оформленные и проработанные варианты самого образа, по которым его можно
было бы сопоставить с героями упомянутых литераторов. Однако ни о каких фрагментах
прото-текста «гоголевед» не упоминает (ибо таковых не существует в природе) – и для
него достаточно одного лишь первоначального желания Гоголя видеть своего персонажа
музыкантом. Не улавливая разницы между «могло бы быть» и «было», учёный муж
продолжает: «В повести есть осколок старого замысла. Поприщин, останавливаясь перед
домом, где живет Фидель…, говорит: «Этот дом я знаю… Там есть и у меня один
приятель, который… играет на трубе». Приятель музыканта, естественно, должен быть
музыкантом». – В таком случае, следуя логике Золототусского, приятель поэта
обязательно должен быть поэтом, приятель сапожника – сапожником, а приятель
нотариуса не кем иным как нотариусом. Между тем, у Гоголя жестянщик Шиллер водит
дружбу с сапожником Гофманом, художник Пискарев приятельствует с поручиком
Пироговым, а чиновник Башмачкин в силу необходимости держит знакомство с портным
Петровичем. Но «гоголеведу» его более чем странное утверждение просто необходимо
для столь же странных дальнейших рассуждений: «Только Гоголь мог скрестить безумца
столоначальника, помешавшегося на мечте о чинах, с безумцем иного рода, безумцем
поэтом. Безумцев Гофмана, непонятных людей искусства, отделяла от толпы их
гениальность. «Гений» Поприщина выхвачен Гоголем из толпы. Он обитает в толпе, он ее
порожденье. И он приравнен к гению музыки…» – Что значит «только Гоголь мог
скрестить»? Из предыдущих слов самого Золотусского следует, что персонаж сперва
задумывался автором в качестве музыканта, но затем первоначальный замысел был
изменен и вместо музыканта был создан чиновник. Но в таком случае никто ни с кем не
скрещивается, а просто одна идея по ходу заменяется другой. Но дальше – больше: и на
лишённый всякого смысла вздор громоздится ещё большая нелепость – утверждение, что,
Поприщин, дескать, приравнен к «гению музыки», – и это на том лишь основании, что его
приятель играет на трубе! Уж если кем и приравнен, то никак не Гоголем, а самим
Золотусским!
Вот так и возникает разница между Гоголем и «гоголеведением»: вместо того, чтобы
смотреть в текст и видеть только то, что в нём есть, «гоголеведы» сочиняют собственные
содержание и смысл на основании досужих вымыслов либо изначально поставленных
перед собой задач, которые оказываются для них главнее поиска истины. И посему в
дальнейшем развитии мысли Игоря Золотусского видим лишь бурный полёт его
собственной фантазии, но уж никак не проникновение в суть разбираемого предмета:
«Гоголь не зря поместил эту повесть в конце «Арабесок». Ее «музыкальный мотив»…
ставит точку в развитии главной темы сборника. Тема эта – музыка и иерархия. Музыка
здесь не только музыка, но и, по мнению Гоголя, высшее из искусств, которое способно
«разоблачить» человека. Музыка – это свобода, иерархия – рабство. Музыка – это
нежность, иерархия – вражда. Музыка – спасение, иерархия – гибель. Уродство формы
исчезает в музыке. Музыка поднимает, возносит, вырывает человека из пут лжеидеала.
Она – голос нашего «гения»». (С. 170) – Трудно изобразить что-либо более отдалённое от
содержания и смысла как «Арабесок» вообще, так и «Записок сумасшедшего» в
частности, чем этот пассаж. Ведь тут, что ни предложение, то непонятно на чём
основанное утверждение. Вернее, понятно, что основано это на взглядах не Гоголя, а
Золотусского. В частности, антитеза «музыка – иерархия» свидетельствует исключительно
о «гоголеведе», представляющем иерархию только лишь в смысле чиновничьей «табели о
рангах», сковывающей, по его мнению, свободу личности. Но такой взгляд на иерархию
пусть остаётся на совести Золотусского, ибо для постижения Гоголя важно другое, а
именно: что такое ИЕРАРХИЯ в настоящем, а не «золотусском» смысле? и имел ли
представление о ней сам Гоголь?
Размышления на сей счёт – не столь банальные, как у Золотусского, – находим у
Владимира Марковича в связи с повестью Гоголя «Невский проспект»: «…У Гофмана (в
повести-сказке «Повелитель блох», – О. К.) красавица голландка Дертье Эльвердинк,
обреченная в границах житейской прозы на роль соблазнительницы и ассистентки
шарлатана, в иной, высшей, реальности оказывалась мифической принцессой Гамахеей,
которую погубил отвратительный принц пиявок, а потом воскресил и поработил живущий
уже второе столетие коварный маг Левенгук. Сюжетная схема «Повелителя блох» была
известна русскому читателю 1830-х годов – несмотря на отсутствие перевода,
опубликованного лишь в 1840 году. Увеличению ее популярности способствовал русский
парафраз гофмановского сюжета, осуществленный в повести Н. Полевого «Блаженство
безумия» (1833). Читатель «Невского проспекта» мог без труда расшифровать сделанный
ему намек в духе знакомого романтического мифа и, оживив обозначенные автором
ассоциации, увлечься открывшейся ему волшебно-поэтической перспективой». –
Прервём, однако, рассуждения об иерархии и – так как это тоже важно для нашей темы –
попутно обратим внимание на употребление здесь слова «парафраз». Согласно «Словарю
иностранных слов» (М. Русский язык. 1988), ПАРАФРАЗ – передача чего-либо своими
словами, пересказ близкий к тексту. Повесть же Николая Полевого «Блаженство безумия»
не только не является пересказом «Повелителя блох», но эти произведения вообще не
связаны ни фабульно, ни сюжетно. Единственным их соприкосновением есть тот факт,
что в прологе повести Полевого в неком обществе любителей изящной словесности
обсуждается упомянутая сказка Гофмана. Следовательно, употребление слова «парафраз»
может означать одно из двух: либо то, что автор не читал Полевого, либо то, что он
сознательно искажает правду. Называя вещи своими именами, в первом случае это будет
невежество, во втором – недобросовестность (лукавство).
Но вернемся к мысли об иерархии и продолжим прерванную цитату: «Однако и здесь, –
пишет Маркович, – объективное повествование вскоре вносит свои жестокие поправки.
Романтическая иерархия различных истин (при всей сложности гофмановской
иронической игры с нею) все-таки ставила сказочно-мифический мир идеала выше
законов действительности. У Гоголя эта иерархия беспощадно разрушается.
Мечтательные иллюзии снов развеиваются переходами к яви, а затем отчасти
компрометируются настойчивым напоминанием об их происхождении: ведь чудные сны
навеяны опиумом. Затем грезы вновь рассеиваются, и читатель остается лицом к лицу с
неприглядной житейской реальностью: перед ним – комната «в таком сером, таком
мутном беспорядке», свет «неприятным своим тусклым сиянием» глядит в окно. И вот
когда оказывается, что эта реальность вообще единственная, что кроме нее в
изображаемом мире просто ничего нет и быть не может (курсив мой. – О. К.),
неприглядная житейская реальность вдруг обнаруживает те же самые черты, что и
фантастический сон». (С. 30-31)
Как видим, Маркович в отличие от Золотусского понимает иерархию не в связи с
«табелью о рангах», но как верховенство «идеала над действительностью». При этом, в
силу материалистического мировоззрения он, конечно, не признаёт такой иерархии и как
большое художественно-идейное достижение трактует разрушение её у Гоголя – в
частности, в «Невском проспекте». И это будет верно для всех приверженцев
материализма, позитивизма и атеизма.
Но кто придерживается иных, а именно религиозно-идеалистических взглядов на
мироздание, кто воспринимает мир как божественный космос, тот в разрушении
иерархии, на которое указывает Маркович, будет видеть никак не достоинство, а напротив
– проявление недоразвитости сознания. Ибо именно высшая духовная иерархия является
тем каркасом, благодаря которому хаос организуется в космос, и при ее разрушении
нарушается первооснова жизни, червь и ржа подтачивают и разъедают ее несущие
конструкции, в результате чего жизненные установки деформируются и приобретают
уродливые формы.
Согласно закону, универсальную формулировку которого в книге «Закон синархии.
Учение о двойственной иерархии монад и множеств» (Киев. «София». 1994) дал
Владимир Шмаков: «Всякая идея по природе своей бесконечна, и именно эта
бесконечность составляет ее основной признак, отличающий ее от конкретной мысли.
Мысль есть нечто вполне конечное, относительное, феноменальное, а идея есть вестник
бесконечного и абсолютного мира ноуменов. Самое рождение понятия «предел» есть
признание разумом своего банкротства на весах абсолютного. Иерархия есть не только
идея, но и идея первоверховного достоинства, и из нее проистекают целые гроздья идей
более частного порядка. Поэтому иерархия даже в наиболее грубом, материальном ее
приложении, когда она утверждает возрастание синархичности лишь по размерам и
сложности, необходимо должна продолжаться в бесконечность». (С. 27) – Исходя из
этого, становится понятным корень тех заблуждений, на которые как на преимущество
Гоголя пред Гофманом указывает Маркович. Дело в том, что «сказочно-мифический мир
идеала» не то что бы «выше законов действительности», но сам является естественным
продолжением тех же законов действительности в высшую бесконечность, их
изначальной идеей-первоосновой. И если произвольным усилием художника мир этот
отсекается, то есть «иерархия беспощадно разрушается», в таком случае реальность,
которая, по мнению Марковича, якобы единственная, и «кроме нее в изображаемом мире
просто ничего нет и быть не может», являет собой не что иное как
ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ МАКРОКОСМ. Чтобы лучше уяснить его суть, представим тело
человека, которому трамваем отрезало голову и – обезглавленное туловище дёргается в
кровавой луже на рельсах. По сути это и есть та «реальность», в которой «иерархия
беспощадно разрушается» – реальность «петербургских повестей» Гоголя.
Несомненно, что изображение такой реальности тоже имеет свою смысловую ценность,
как история и природа болезни имеют ценность для того, кто хочет от нее излечиться. Но
для этого смотреть нужно не снизу вверх, как это делают «гоголеведы», а напротив –
сверху вниз, с точки зрения закона синархии. В указанном сочинении Владимира
Шмакова читаем: «…Если истинное эзотерическое учение есть нечто стройное и
законченное, как кристалл, то современная европейская мысль успела усвоить только
отдельные и весьма разрозненные его звенья. Сложная система идей, выражающая
гармоническое строение космоса в эзотеризме, объединяется в первоверховном законе его
бытия – в законе синархии. Наиболее легким для восприятия его выражением будет
следующее: закон синархии есть закон иерархического строения космоса. Мировое
многообразие не есть простая периферия абсолюта (Брахмана), раскрывающегося в
субстанции (Браме, Божестве Творящем – по эзотерической терминологии), – а
стройный организм, где отдельные формы расположены по закону бесконечно
углубляющегося синтеза. (Выделено в первоисточнике. – О. К.) В этом определении
неразрывно объединены две основные доктрины эзотеризма: 1) мир есть организм, то есть
нечто единое и целое, и 2) мир есть организм, а потому отдельные части его расположены
по закону возрастания типов, то есть по закону иерархии.» (С. 16-17)
Что же с точки зрения Закона Синархии представляет собой действительность
«петербургских повестей» Николая Гоголя? Не что иное как действительность с
разрушенным жизнеустройством – и потому, постигая суть литературного творчества,
искусства вообще, необходимо уяснить, что такое положение вещей может быть
характерно только для литературы болезненного мирочувствования и не может быть
квалифицировано как высшее достижение человеческого гения.
В нашем понимании гений есть высшее проявление мысли и разумения, охватывающих
весь мир во всём его многообразии, но в то же время в единой целостности со всеми
восходяще-нисходящими рядами. Посему в литературе гениальность проявляется в том
случае, когда в деле постижения космических законов жизни посредством литературного
искусства художник оказывается на высоте тех знаний и умений анализа и синтеза,
которые в высшей математике носят название дифференциально-интегрального
исчисления. Именно такое определение гениальности, на наш взгляд, будет иметь
реальное действительное содержание, отображающее все нюансы смысла, включая такие
понятия как отрицательные, иррациональные и мнимые величины. То есть – в
действительно гениальном произведении жизненный космос должен быть представлен во
всей его иерархической полноте.
Там же где иерархия разрушается, там разрушается и единство космоса, и «реальность» в
таком случае становится фрагментарной, не имеющей естественного продолжения, то есть
исключительно феноменальной (лишенной реальной сущности – ноумена). Потому
реальностью именовать ее можно чисто условно, как и человека без головы можно
именовать человеком. В этом случае мы имеем дело с реальностью мнимой, согласно же
закону: «В синархическом строении космоса нет места мнимым реальностям, ложным
построениям, но возможность их иллюзорного бытия предусматривается как уклонение
или извращение отдельных звеньев иерархии. В идею организма не могут входить
болезни, ибо они не имеют ноуменальных первообразов, а существуют лишь как
нарушение гармонического бытия». (Шмаков В. Закон синархии. С. 37)
Таким образом мы вышли на определение «литературы болезни», и на уяснение того
факта, что в случае с Гоголем это было не «преодоление романтизма», и не изображение
больного общества по методу «натуральной школы», а болезненное видение
распадающейся на фрагменты реальности, нашедшее отображение в литературном
творчестве. И главная отличительная черта между Гоголем и такими представителями
романтизма как Гофман, Полевой, Одоевский состоит в том, что изображение негатива у
романтиков так или иначе уравновешивается высшим божественным идеалом, в то время
как у Гоголя этот главный уравновешивающий ориентир временно утрачивается.
Почему временно? Да потому что сам Гоголь в отличие от «гоголеведов» ИЕРАРХИЮ в
полной мере признавал! Об этом красноречиво свидетельствуют строки из открывающей
«Арабески» статьи «Скульптура, живопись и музыка»: «Благодарность зиждителю
мириад за благость и сострадание к людям! Три чудные сестры посланы им украсить и
усладить мир: без них он бы был пустыня и без пения катился бы по своему пути…
Великий зиждитель мира поверг нас в немеющее безмолвие своею глубокою мудростью:
дикому, еще не развернувшемуся человеку он уже вдвинул мысль о зодчестве. Простыми,
без помощи механизма, силами он ворочает гранитную гору, высоким обрывом
громоздит ее к небу и повергается ниц перед безобразным ее величием. Древнему, ясному,
чувственному миру послал он прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую
красоту, – и весь древний мир обратился в фимиам красоте. Эстетическое чувство
красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам
неспокойным и темным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и
нетерпимости изгонял все радужное в жизни, дал он вдохновенную живопись,
показавшую миру неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный и
дряхлый век ниспослал он могущественную музыку – стремительно обращать нас к
нему». (Помечено 1831 г.)
И здесь мы подошли к разгадке гоголевского раздвоения. Всё дело в том, что взгляды
Гоголя всегда были религиозными, но в какое-то время они оказались смутными,
неясными, поскольку между высшей реальностью и её восприятием с последующим
художественным отображением встал проводник в виде расшатанной и неустойчивой
собственной психики. И именно в этот момент поэт нашёл союзника в лице демократа
Белинского, видевшего цель литературы в разрушении якобы «романтической», а на
самом деле высшей божественной иерархии, в изображении проблем лишь того мира,
который открывался в чисто позитивистском видении. Напрочь отметая религиозные
(мистические) поползновения Гоголя, Белинский провозгласил его вождём «натуральной
школы», всеми силами собственной полемической энергии направляя поэта в сторону от
реального его предназначения.
Во главу угла своей теории Белинский поставил понятие «типического» – на поверку же
идея, заразившая в дальнейшем всё российско-советское литературоведение, оказывается
совершенно бессмысленной, поскольку: «…В действительности в мире нет и быть не
может двух одинаковых форм или видов бытия, то есть повторения, ибо это было бы
признаком конечности мира, а, следовательно, и ограниченности Производящей Силы
Творца. Наоборот, бесконечное многообразие, бесконечная роскошь вселенной как в
великом, так и в малом – вот истинное Евангелие Божественного Всемогущества».
(Шмаков В. Закон синархии. С. 18)
Имея живой подвижный остро реагирующий на видимые факторы ум, но не обладая при
этом достаточными систематичностью, глубиной и объёмом сознания, своими
рассуждениями и выводами Белинский просто сбил Гоголя с толку. Николай же
Васильевич, будучи человеком тщеславным, не мог отказаться от предложенного ему
литературного трона. Однако выстроенное на недоразумении положение было довольно
шатким – в силу религиозного мировоззрения Гоголя, его непреходящего
богоискательства, оно заключало в себе корень противоречия, неустойчивости. А потому
рано или поздно, вопреки определяемой партией Белинского тогдашней литературной
конъюнктуре, должно было состояться возвращение на круги своя.
И с этой точки зрения «Петербургские повести» могут быть квалифицированы как
духовное дно писателя – надир, низшая точка, оттолкнувшись от которой богоискатель
Гоголь начал восхождение к «Выбранным местам».
в) ВСЕ МЫ ВЫШЛИ ИЗ ШИНЕЛИ?
Типическое и архетипическое
Фразу о том, что вся русская литература вышла, дескать, из гоголевской «Шинели» ныне
повторяют даже украинские парламентарии – все как на подбор «гоголеведы» – уровня
бывшего вице-премьера по гуманитарным вопросам Томенко и литератора Яворивского (а
именно народный депутат Мойсик на парламентских слушаниях 8 декабря 2010 года,
посвященных вкладу украинцев в мировую – читай российскую – культуру). Сей факт
однако свидетельствует отнюдь не о познаниях в области литературы, а напротив – о
нежелании мало-мальски напрягать мозговые извилины. Ведь даже из курса школьной
программы понятно, что русская литература существовала и до Гоголя, тем более до его
поздней повести. И что «Горе от ума», «Евгений Онегин», не говоря уж про более ранние
пушкинские произведения, никак не могли выйти из «Шинели». Равно как и
лермонтовский Печорин. Хотя бы потому, что написаны были раньше. Что же до
последующего литературного процесса, то и в этом смысле ставшая расхожей фраза не
имеет реального содержания. Потому как вовсе не из «Шинели» вышли, к примеру,
драматическая трилогия А.К. Толстого, его же «Дон Жуан», «Христос и Антихрист»
Мережковского, романы Валерия Брюсова «Огненный ангел» и «Алтарь победы»,
блоковский «Балаганчик» с обеими (поэтической и драматической) «Незнакомками» и мн.
др. Произведения эти, вошедшие в «золотой фонд» русской литературы 2-й половины XIX
– начала ХХ века, с гоголевской повестью соотносятся лишь тем, пожалуй, что написаны
на одном языке. Что же до стиля, жанра, идейного содержания, творческой манеры – всего
того, что определяет принадлежность к той или иной литературной школе – видим здесь
совершенно иную – не-гоголевскую – традицию.
Тем не менее, широкое хождение бессмысленной фразы, свидетельствует о неких
стереотипах, прочно вошедших в общественное сознание и обосновавшихся там на правах
общепринятой истины. Для того же, чтобы уяснить суть этой «истины», необходимо, вопервых, припомнить легшее в ее основу реальное высказывание. В интервью
французскому журналисту Мельхиору де Вогюэ Достоевский обмолвился, что все русские
писатели 40-60-х годов вышли из «Шинели» Гоголя. То есть речь шла о локальной
литературной ситуации, а именно о том временном периоде в русской литературе,
который условно можно назвать «Что делать?»/«Кто виноват?» Это был период
непосредственной реализации идей Белинского, и его продолжателей – Чернышевского,
Добролюбова, Писарева, – своеобразная развилка на пути, по прошествии которой русская
изящная словесность, утратив свойственную искусству самодостаточность, оказалась в
прикладном положении по отношению к идеям общественно-политическим.
Вспомним, во-вторых, что именно Гоголя Белинский провозгласил родоначальником и
главой «натуральной школы», долженствовавшей стать единственно правильным
литературным направлением. Таким образом, становится понятной причина, по которой в
сознании около-литературной общественности столь безразмерно разрослось значение
гоголевской «Шинели».
Но зададимся вопросом: насколько эта общепринятая «истина» соответствует
действительности? И тут же ответим: настолько, насколько истинной действительности
соответствует легшая в основание всего отечественного литературоведения и созданного
на ней литературного канона система взглядов отца русской социал-демократической
критики Виссариона Григорьевича Белинского.
Главными теоретическими положениями здесь являются типичность, народность,
верность действительности, а по сути – решение социально-политических проблем через
описание (постижение посредством литературы) «реальной», то бишь «действительной»
жизни. Чтобы не бороться с ветряными мельницами, обратимся к разъяснению основных
положений данной системы в «Словаре литературоведческих терминов» (М.,
Просвещение, 1974) – и прежде всего ключевых ее моментов. Итак, два фрагмента из
статьи «ТИПИЧЕСКОЕ»:
«…Маркс и Энгельс, развивая и материалистически переосмысляя эстетику Гегеля,
проникают в действительное развитие общественной жизни, в закономерности борьбы
классов и с этих позиций рассматривают и оценивают отражение жизненных процессов
в современной им лит-ре. Наиболее ясно это сказалось в письме Ф. Энгельса к Ф. Лассалю
по поводу драмы последнего «Франц фон Зиккинген». Заслуга Лассаля, по мысли Энгельса,
заключается в том, что главные действующие лица этой драмы являются
представителями определенных общественных классов, выразителями определенных
идей своей эпохи и что поступки этих лиц, выступающих в их неповторимом
своеобразии, в конечном счете мотивируются тем «историческим потоком», к-рый их
несет». – Добавим, что подобно Марксу с Энгельсом под воздействием идей Гегеля
развивался также и Белинский, основу мировоззрения которого составило чисто
гегелевское внешне-объективное стремление к Абсолюту (читай: к Истине), лишенное
субъективно-сущностной сопричастности с оным (даром, что в преддверии Гегеля критик
соприкоснулся с Шеллингом и Фихте). Но вернемся к «Словарю»:
«…Писатели типизируют черты тех или иных общественных классов той или иной
страны определенного времени (напр., образы русской буржуазии в комедиях
Островского и романах Горького, английской буржуазии у Диккенса и Голсуорси), черты
национального характера (образы героев «Песни про купца Калашникова…» Лермонтова,
«Пармской обители» Стендаля, новелл Мериме или рассказов «Русский характер» А. Н.
Толстого и «Судьба человека» М. Шолохова), черты эпохальных характеров, как
отрицательных (пушкинский барон Филипп – скупой рыцарь), так и положительных
(шиллеровский маркиз Поза), и т. д.»
О том же – в статье, смежной по содержанию: «ТИП ЛИТЕРАТУРНЫЙ –
художественный образ определенного индивидуума, в к-ром воплощены черты,
характерные для той или иной общественной группы, класса, народа, человечества».
А вот из статьи «НАРОДНОСТЬ ЛИТЕРАТУРЫ» вынесем не определение главного
термина, но весьма характерное детализирование: «…Добролюбов, решительно отвергая
современные ему «нелепые сказки, сочиняемые разными молодцами на потеху взрослых
детей», резко отделял эти сказки от фантастического мира, предстающего в творениях
древней поэзии. Хотя в этих творениях много сказочного – на самом деле «…Юнона не
обольщала Зевса, Афродита не спасала Париса на поле битвы, Афина не обманывала
Гектора, – …самые заблуждения, какие мы в них находим, интересны для нас потому,
что некогда целые народы верили им и по ним располагали жизнь свою»».
Здесь мы видим противопоставление действительности и фантастики, причём
действительности исключительно в понимании главенствующего тогда позитивистскоматериалистического мировоззрения, а также противопоставление фантастики древней и
современной. Фантастика древняя, по убеждению Добролюбова, интересна лишь как
отображение тогдашней жизни, тогдашнего уровня мысли. Следовательно, Гомер, Гесиод
или Овидий для Добролюбова являются не создателями самодостаточных поэтических
пространств – миров, космосов, вселенных, – а чудаками, находящимися на таком уровне
развития, когда еще не понимают, что Юнона не обольщала Зевса и т. д. Тем не менее, при
всей своей ограниченности они ценны, ибо по их произведениям можно изучать
тогдашнюю жизнь, что даёт необходимые сведения для постижения исторического
процесса в его цельности и непрерывности. Современная же фантастика, не отображая
правдиво окружающей действительности и не соответствуя нынешнему уровню научных
знаний (о том, что Юнона не обольщала Зевса), а будучи исключительно продуктом
фантазии разных молодцов, никак не может считаться сколько-нибудь серьезной
литературой, а не более как нелепыми сказками, сочиняемыми на потеху взрослых детей.
Если окинуть взглядом век ХХ, то к тем, кто удостаивается наименования «разных
молодцов», в первую голову следует отнести Толкина, Майринка, Борхеса, Павича, с
присовокуплением русских реконструкторов мифа Якоба Голосовкера и Александра
Кондратьева; в веке же XIX – родном времени Добролюбова с Белинским – Гофмана в
Германии, Нодье во Франции, Макдональда в Британии, а из русских – автора сказки в
народном духе «Конёк-горбунок» Петра Павловича Ершова и создателя ныне забытой
мистерии «Ижорский» Вильгельма Карловича Кюхельбекера.
Два эти произведения объединяет многое: и личная дружба их создателей, и то, что оба
являют собой уникальные жанровые образцы тогдашней русской словесности, а также тот
факт, что при положительном отклике представителей самых разных позиций (об
«Ижорском» сочувственно отзывались, в частности, Иван Киреевский и Осип
Сенковский), в то же время они подверглись крайне негативной критике со стороны
«Неистового Виссариона».
Чем же не угодили они сердитому критику? Ершовская сказка – так же как и сказки
Пушкина – ложным, по мнению Белинского, стремлением к народности. Почему ложным?
Потому что Белинский был убеждён, что истинно народные сказки могут родиться
исключительно в сознании народном, а потому они требуют только лишь тщательной
фиксации и ни в коем случае не собственно авторского литературного вмешательства. Что
ж, мнение вполне обоснованное – но только в том случае, когда это не более чем частное
мнение конкретного человека. Если ему по душе аутентичный фольклор, то никто не
принуждает его любить создаваемые на фольклорной основе всевозможные литературные
переделки! Но дикость белинской критики состоит в том, что свои личные вкусовые
предпочтения он стремится выдать за истину в последней инстанции. Ничтоже сумняшеся
он зачеркивает целый жанр – ОТКАЗЫВАЯ ЕМУ В ПРАВЕ НА СУЩЕСТВОВАНИЕ! –
жанр литературно-фольклорной сказки.
Но если – несмотря на критические выпады Белинского – жанр этот вместе с
критикуемыми сочинениями в силу общенародной их популярности благополучно выжил,
то, к сожалению, этого нельзя сказать о жанре мистерии. И главную негативную роль
сыграла в этом разрушительно-подавляющая деятельность возобладавшей в
отечественном литературоведении «критической школы» Белинского.
Хотя мистерия и не исчезла из русской литературы совсем – в ХХ веке созданы
драматическая «Железная мистерия» Даниила Андреева и содержащая в себе
основополагающие мистериальные признаки «Песнь о Великой Матери» Николая Клюева
– но в силу социально-политической конъюнктуры, торжества «типического» в
литературе сей жанр оказался на маргинесе литературного процесса. Хотя истинное его
место, напротив, находится в самом центре – в подтверждение отметим, что классическим
образцом мистерии является гётевский «Фауст».
Главным моментом, отличающим литературу с мистериальной закваской, является
наличие мистической вертикали – перпендикуляра к исторической горизонтали.
Последняя же – без вертикали – это не что иное как тот самый исторический процесс, со
всеми его «типическими» проявлениями находящийся во главе угла литературы НЕМИСТЕРИАЛЬНОЙ – той, за которую страстно боролся Виссарион Белинский. Данную
мысль постараемся разъяснить на примере мистерии Вильгельма Кюхельбекера
«Ижорский».
В комментариях Ю. В. Манна к критической заметке «Ижорский. Мистерия» (Белинский
В. Г. Собрание сочинений. В 9-ти томах. Т. 1. Статьи, рецензии и заметки 1834-1836.
Дмитрий Калинин. М., «Художественная литература», 1976) отмечается, что «…суровое
отношение Белинского к мистерии обусловлено прежде всего тем, что она
противоречила его эстетическому кредо. Выступая за органическое искусство, критик
был в это время непримиримым противником рационализма в искусстве. «Что создано
фантазией, а не холодным умом, то всегда истинно, верно и прекрасно...»
(«Стихотворения Владимира Бенедиктова»). Отсюда вражда критика к аллегоризму,
печать которого, по его мнению, несет на себе «Ижорский». В смешении же
мифологических образов различных планов – античного, западноевропейского и русского –
критик видел не только нарочитый рационализм, но и предвзятое, антиисторическое
отношение к фольклорному материалу. Ведь мифологическое сознание порождается
определенной стадией духовной эволюции, и восстановить его ретроспективно
невозможно».
Сам Белинский по этому поводу пишет: «Всего страннее в этой мистерии участие
персонажей небывалой русской мифологии. За неимением на Руси духов, автор наделал
своих, но, к несчастию, его Бука, Кикимора, Шишимора, Знич, его русалки, лешие, совы и
пр. очень плохо вяжутся с гномами, сильфами, ондинами, саламандрами, Титаниею,
Ариэлем и пр. Мифология тогда только имеет смысл, поэзию и фантастическую
прелесть, когда она есть создание фантазии народа, который питает в своих вымыслах
суеверный страх и от души им верит».
Обратим, прежде всего, внимание на довольно странное противопоставление фантазии
«холодному уму». Возникает вопрос: а что – одновременно с «холодным умом» фантазия
действовать не может? Только лишь с разгоряченным умом? То есть мысль Белинского в
этом плане состоит в следующем: то, что написано без вдохновения, написано на голом
рационализме – и потому не принадлежит к настоящему искусству. Ошибка же «великого
критика» очевидна: это ему только кажется, что критикуемые им произведения написаны
без вдохновения, потому как без вдохновения в искусстве вообще невозможно создать
ничего мало-мальски значимого – ни хорошего, ни плохого. И противопоставление
вдохновения и рационализма, фантазии и «холодного ума» полностью надуманно, никак
не способствует правильному анализу, а сбивает оный на произвол и вкусовщину. По сути
весь Белинский в этом: в чём-то он находит вдохновение, в чём-то видит лишь
рационализм и «холодный ум», и на этом основании делает выводы о причастности или
непричастности того или иного произведения к искусству. А дело вовсе не во
вдохновении, а в том, что иная вещь может быть просто недоступна пониманию критика,
поскольку лежит вне его сознания. В этой связи, перефразируя слова Ю. Манна, отметим,
что сознание Белинского порождается определённой стадией духовной эволюции. Что
хорошо видно в его рассуждениях о мифологии применительно к мистерии «Ижорский».
Мифология в понимании Белинского – не более чем СУЕВЕРИЕ народа, и потому
напрочь связана с народным сознанием, находящемся на определенной стадии духовной
эволюции, – и неотделима от народной фантазии. То же относится и к религии, поскольку
всякая религия имеет собственную мифологическую подкладку. Но согласиться с этим
можно лишь в том случае, если твоё сознание находится на стадии Белинского. Когда же
эта стадия успешно пройдена, приходит осознание, что миф – не суеверие, но АРХЕТИП –
первообраз, идея (от греч. arche – начало, typos – форма, образец) – принцип высшего
порядка, приводящий в движение систему мироздания во всех её – видимых и невидимых
– планах и на всех – проявляющихся и непроявляющихся – уровнях.
Именно архетип и архетипическое лежат в основании религиозного мышления,
мифологии, а также фантазии и искусства, наполняют их РЕАЛЬНЫМ (т. е.
символическим, архетипическим) содержанием. И в этом содержании рационализм
(«холодный ум») и интуиция (фантазия, вдохновение) вовсе не противостоят, а напротив –
всячески друг друга поддерживают. Причём подобное совмещение необходимо как
художнику, так и критику – первому для создания полноценного произведения, второму –
для его понимания и анализа. В противном случае – понимание и анализ будут
однобокими, фрагментарными, как это и наблюдается у Белинского. Не обладая высшей
архетипической интуицией, он делает чисто рационалистические выводы о смысле
мифологии. Являясь при этом «непримиримым противником рационализма в искусстве»!
И потому аллегоризм наравне с рационализмом для него значит нечто однозначно
нехорошее, что за аллегорией он не видит архетипического символа!
Что же до отмеченного Белинским в мистерии «Ижорский» смешения персонажей
различных традиций, то этот кажущийся недостаток возникает в воображении критика как
раз из-за отмеченного выше неправильного понимания мифологии как таковой (для
Белинского – это суеверие, для Кюхельбекера – архетип), равно как и тех конкретных
задач, которые ставил перед собой Кюхельбекер. Его мистерия это вовсе не
реконструкция мифа, чем в следующем столетии занимались Александр Кондратьев и
Якоб Голосовкер – это для них смыслом и целью было восстановить античный либо
славянский мифологический космос во всей его целостности («Сказания о Титанах», «На
берегах Ярыни»). Автором же «Ижорского» мифологические элементы используются
вовсе не для реконструкции той или иной традиции, тем более он не ставит задачу
создания какого-то особого фольклорного колорита, – его мифологические персонажи
заключают в себе архетипические принципы, общие для всех традиций! И в этом плане
творение Кюхельбекера сопоставимо с «Фаустом» Гёте, где христианская традиция
переплелась с античной, или комедией «Сон в летнюю ночь» Шекспира, населённой
персонажами из самых различных источников: древнегреческой мифологии (Тезей и
царица амазонок Ипполита), овидиевых «Метаморфоз» (Титания), средневековой
французской литературы (Оберон), британского фольклора (феи и эльфы).
Таким образом, мы подошли к постановке главного вопроса – В ЧЁМ ЦЕЛЬ И СМЫСЛ
ЛИТЕРАТУРЫ? ПОЭЗИИ? ИСКУССТВА? Как то следует из два столетия
главенствующей в отечественном литературоведении концепции Белинского, совпавшей с
идеями Маркса-Энгельса и Ленина, добавившего тезис о партийности литературы, – в
решении общественно-политических проблем, в осмыслении исторического процесса. Что
ж, возможна и такая функция. Но по нашему убеждению это только одна из функций.
Вспомним длиннющие семейные саги, образцовым примером которой является «Сага о
Форсайтах» Голсуорси, вспомним морально-этические и социально-политические
проблемы, лежащие в основе столь же объемных «саг» Льва Толстого «Анна Каренина» и
«Война и мир». В этих произведениях действительно дан срез общества, с несомненным
талантом воспроизведена общественная жизнь, показаны социально наиболее значимые
идеи, – всё то, что входит в понятие ИСТОРИЧЕСКОЙ ГОРИЗОНТАЛИ. С другой
стороны, весь смысл этих огромных романов при желании можно уместить в несколько
строк, как то продемонстрировал Н. Некрасов в эпиграмме «Автору “Анны Карениной”»:
Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать.
Может быть очень интересно – следить за перипетиями развития отношений нескольких
мужчин и женщин, наблюдать различные психологические нюансы, – и всё это на фоне
социальных проблем, а то и важнейших исторических событий! «Книга жизни», или – как
сказал известный критик об известном тексте – «энциклопедия русской жизни». Вот
только понимание ЖИЗНИ может быть в корне различным – одинаково ли видели жизнь
Белинский и, к примеру, Серафим Саровский? – следовательно, в корне различным будет
и ответ на вопрос о смысле искусства.
Посему тезис о том, что ИСКУССТВО ЕСТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ, даже с
уточнением о правдивом – верном действительности – отображении, может быть
приемлем лишь для тех, кто удовлетворяется осмыслением событий, происходящих на
«исторической горизонтали», то есть для представителей «натуральной школы» и для их
последователей. Для тех же, кто желает видеть отображение жизни во всей ее полноте –
внешней, внутренней, физиологической, метафизической, духовной – ответ на вопрос
будет выглядеть несколько иначе: ИСКУССТВО ЕСТЬ ОТОБРАЖЕНИЕ МИРОЗДАНИЯ,
– не жизни видимой, а именно мироздания!
«Анна Каренина» в этом смысле являет собой вершину «натуральной школы»,
образцовый пример литературы горизонтальной, где «типическая» жизнь представлена во
всей полноте – жизнь «типических» характеров со всеми «типическими» деталями
представлена на фоне «типических» обстоятельств в общем течении «типического»
исторического процесса. То же можно сказать и о другом шедевре графа Толстого –
эпопее «Война и мир» – это тоже изображение исторической горизонтали, с той, однако,
особенностью, что здесь имеют место эпизоды, в какой-то мере отображающие
мистическую вертикаль. Прежде всего, это взгляд князя Болконского, устремленный в
небо:
«Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются», – подумал он и упал на спину. Он
раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и
желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего
не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба, – высокого неба, с тихо ползущими по
нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал,
– подумал князь Андрей, – не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с
озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист,
– совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал
прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое,
все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того
даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!..»
<…>
К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось
его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и
разрывающей что-то боли в голове.
«Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидал нынче? – было первою
его мыслью. – И страдания этого я не знал также, – подумал он. – Да, я ничего, ничего не
знал до сих пор. Но где я?» (Толстой Л.Н. Война и мир. М., «Правда», 1972, стр. 351, 352,
363)
Вот она – мистическая вертикаль – со всей наглядностью соединившая внутренний мир
человека с небесной сутью, перпендикуляр к горизонтальному течению «типической»
жизни, архетип, матрица, прообраз, первоначальная идея. Ноумен, который
символической вертикалью пронизывает феноменальный мир, то есть мир следствий, мир
«типического». Таким образом, мы выходим на ключевое соответствие – «тип» и
«типическое» не что иное как основа исторической горизонтали, тогда как «архетип» и
«архетипическое» суть то, на чём держится мистическая вертикаль. А посему и
литература в этом смысле может быть «горизонтальной», либо «вертикальной».
Несмотря на приведённый выше пример, который в силу своей исключительности только
лишь подтверждает правило, к «горизонтальной» литературе – к наиболее полному ее
воплощению – относится творчество Л. Толстого. Пожалуй, главный парадокс этого
писателя – а в сущности и вся его духовная трагедия – заключается в богоискательстве,
исходящем из позитивистского мышления (из рацио без архетипической интуиции); в
потребностях, не совпадающих с возможностями, то есть в потребностях высших истин,
достичь которые невозможно, двигаясь по горизонтали.
Сформулированный нами тезис о литературе «горизонтальной» и «вертикальной»
проиллюстрируем на примере трёх произведений, которые при всём их различии
объединяет основополагающая идея о противостоянии любви и долга. Первое из трёх –
уже упомянутый «образцовый пример» – «Анна Каренина», второе – своеобразный ответ
Толстому из ХХ века – «Любовник леди Чаттерли» Дэвида Герберта Лоуренса, и, наконец,
третье – одна из вершин русского романтизма – «Фрегат “Надежда”» Александра
Бестужева (Марлинского).
Лев Николаевич, поставив в своём романе во главу угла адюльтер, проверил на прочность
понятие брака в его столкновении с «основным инстинктом». В этом он обнаружил
большую и по сути неразрешимую проблему, им же доведённую до крайней степени
истеричности в «Крейцеровой сонате», «Дьяволе», «Отце Сергии». В новеллах этих упор
делается на подавление «основного инстинкта», на его какую-то «дьявольскую» суть, – в
результате чего оный приобретает гипертрофированный вид.
Из мучительно неразрешимого для Толстого положения Лоуренс находит выход в
сгущении эротической сферы, эротика как живая (животная) взаимосвязь природной
своей (неформальной) силой уничтожает мёртвую оболочку формального брака. Вывод
ясен: ежели брак не одушевлён Эросом, не наполнен физиологией, то он изначально
парализован, как «законный» (формальный) супруг героини романа Констанции – лорд
Чаттерли, – и ничто – никакое апеллирование к «святости» института брака – не может
наполнить его реальным (неформальным) содержанием.
Неся в своей основополагающей идее столь различное – диаметрально противоположное –
толкование проблемы, отмеченные произведения Л. Толстого и Лоуренса, тем не менее,
находятся в одной плоскости, ибо равно принадлежат к «горизонтальной» литературе. Все
коллизии и столкновения происходят здесь исключительно в пространствах астральном и
ментальном, совершенно не затрагивая пространство духовное. «Отец Сергий» – даром,
что о монахе – поражает каким-то абсолютным непониманием духовной и в частности
монашеской практики, не-психологичностью типов и ситуаций, превращая данную
повесть в образчик того, как отсутствие мистической вертикали делает «реализм»
надуманно не-реальным.
И напротив – её наличие наполняет литературное пространство столь значительным
содержанием, что произведения, основанные на мистической вертикали, не будет
преувеличением считать мета-реализмом, сверх-реализмом. Именно таким произведением
является «Фрегат “Надежда”».
«…Да, созерцая свод неба, мне кажется, грудь моя расширяется, растет, обнимает
пространство. Солнца, будто отраженные телескопом на зеркале души, согревают
кровь мою; мириады комет и планет движутся во мне; в сердце кипит жизнь
беспредельности, в уме совершается вечность! Не умею высказать этого необъятного
чувства, но оно просыпается во мне каждый раз, когда я топлюсь в небе… оно залог
бессмертия, оно искра Бога! О, я не доискиваюсь тогда, лучше ли называть его Иегова,
или Dios, или Алла? Не спрашиваю с немецкими философами: он ли das immerwahrende
Nichts или das immerwahrende Alles (вечно длящееся Ничто или вечно длящееся Всё)? – но
я его чувствую везде, во всем, и тут – в самом себе. О, тогда весь шар земной кажется
мне не больше и не дороже медного гроша. Но жизнь, подобно удаву, наводит на меня
свои обаяющие глаза, и я, как жаворонок, падаю в пасть ее с неба!!» – Философские
размышления автора-рассказчика (нарратора), составляющие значительную часть общего
объёма, находят органичное отображение и в художественной ткани повествования. На
какой бы уровень ни переходил автор – и в юмористическом диалоге, и в меру
ироническом описании нравов светского общества, и в постижении искусства, и в истории
любви капитана Правина и княгини Веры, и в сопутствующих ей описаниях природных
явлений – скрыто или явно, но во всём прослеживается символический отблеск высших
идей. Идей-принципов, лежащих в основе цельного организма мироздания.
«Окинув опытным взором море и небо, Нил Павлович увидел, что с погодою шутить
нечего. Крутые, частые валы с яростью катались друг за другом, напирая на грудь
фрегата, и он бился под ними, как в лихорадке. Сила ветра не дозволяла подыматься
валам высоко, – он гнал их, рыл их, рвал их и со всего раската бил ими, как тараном.
Черно было небо, но когда молнии бичевали мрак, видно было, как ниже, и ниже, и ниже
катились тучи, будто готовясь задавить море. Каждый взрыв молнии разверзал на миг в
небе и в хляби огненную пасть, и, казалось, пламенные змеи пробегали по пенистым
гребням валов. Потом чернее прежнего зияла тьма, еще сильнее хлестал ураган в
обнаженные мачты, крутя и вырывая верви, свистя между блоками». – Что это: простое
описание шторма на море? С одной – внешней – стороны действительно так. Но если
воспринимать природу как внешнее проявление скрытых космических импульсов,
чувствовать её внутреннюю жизнь, тогда за данным описанием естественным образом
откроется фрагмент из Гесиодовой «Теогонии» (перевод В. Вересаева):
…Криком себя ободряя, сходилися боги на битву.
Сдерживать мощного духа не стал уже Зевс, но тотчас же
Мужеством сердце его преисполнилось, всю свою силу
Он проявил. И немедленно с неба, а также с Олимпа,
Молнии сыпля, пошел Громовержец-владыка. Перуны,
Полные блеска и грома, из мощной руки полетели
Часто один за другим; и священное взвихрилось пламя.
Жаром палимая, глухо и скорбно земля загудела,
И затрещал под огнем пожирающим лес неиссчетный.
Почва кипела кругом, Океана кипели теченья
И многошумное море. Титанов подземных жестокий
Жар охватил, и дошло до эфира священного пламя
Жгучее. Как бы кто ни был силен, но глаза ослепляли
Каждому яркие взблески перунов летящих и молний.
Жаром ужасным объят был Хаос…
А далее мы обращаем взор на творения духа и рук человеческих и вместе с Правиным в
Эрмитаже видим проявления космических законов в произведениях искусства:
«…Влево шумел черный лес Сальватора, вправо плескалось бурное море Вернета; люди,
климаты, города, небеса, океаны во весь рост развивались, росли, смешивались, меркли.
То был какой-то гармонический, но безмолвный танец образов, идей, веков; то был
осязаемый микрокосм души человеческой, начиная с грязной вещественности Теньера до
недосягаемой святыни Урбино, – бесконечный как хаос, неясный как сны, уже готовые,
но еще не виданные человеком».
Наконец, из гармонического танца, из микрокосма души человеческой, из бесконечного
хаоса, из неясности снов, ИЗ ПУЧИНЫ МОРСКОЙ возникает та божественная идея,
которой и посвящена повесть. И здесь мы видим, как вместо пристального исследования
поднебесного мира «типических» следствий и явлений, автор устанавливает ЛЕСТНИЦУ
НА НЕБЕСА, напрямую ведущую в мир архетипических идей-первообразов. Причём,
создаётся впечатление, что делается это без какого-либо напряжения, а чуть ли не
играючи: «…Знаете ли, как называю я знаменателя всех страстей и всех более любви? Я
называю его – любопытство! Узнали мы, испытали мы, повладели мы – и уже знание,
опыт, власть нам скучны. Мы уже хотим постичь иное, изведать лучшего, завладеть
большим. Еще, еще дальше и более – вот границы духа человеческого, а границы эти за
звездами Млечного Пути, за тенью могилы. Но не каждому дано пересекать пути многих
страстей, подобно комете, пронзающей многие солнечные системы…»
Символично, что дивная сия повесть имеет также весьма достойное контекст-обрамление.
Создавалась она вовсе не в тиши уютного кабинета или живописной усадьбы, а в горниле
Кавказской войны – 1832 год, Дагестан. Под столь своеобразный аккомпанемент как свист
пуль и рукопашное рубилово сооружался «Фрегат “Надежда”» – Повесть о любви и долге,
или История капитана Ильи Правина, его любви к княгине Вере, и о том как в следствие
этой любви оба изменяют своему долгу: княгиня – брачному, капитан – служебному. Ещё
это можно озаглавить как Плавание фрегата Надежды с Верой на борту по морю Любви.
Окинем же взглядом символическое пространство и отметим ключевые моменты
необычного плавания:
«Ему хотелось получше изведать море, называемое женщиною…»
«…она взглянула на море, которое развивалось впереди все шире и шире, потом на своего
милого – и взор ее сказал: «Перед нами море, море блаженства!»»
«…противные ветры замедляли путешествие фрегата «Надежды»… без сомнения,
любовь в том выигрывала; но едва не теряла в том служба, и очень много».
« – Спасите! – вскричал он, наконец, безумно, – фрегат мой тонет… Слышите ль
выстрел, еще выстрел, еще?..»
« – Умереть? кто говорит умереть – вздор! Теперь-то и надо нам жить, потому что
одна любовь стоит назваться жизнию; ты сама прелестна как жизнь, Вера! – произнес
он, обтекая ее взорами, пожирая лобзаниями. – Ты божественна как смерть, потому
что заставляешь забывать все, потому что заключаешь в себе рай и ад…»
« – …Море взлелеяло меня, море дало мне свои бурные страсти – пускай же море и
поглотит их: только в бездне его найду я покой!»
Вот это и есть та божественная идея – ЛЮБОВЬ И ЕЁ ПРИРОДА – исследованием
которой занимается Александр Бестужев. В гениальности данной повести, в глубине
прозрения её автора лишний раз убеждаешься, когда обнаруживаешь архетипическую
взаимосвязь «Фрегата “Надежды”» с опять-таки Гесиодовой «Теогонией» (перевод В.
Вересаева):
Ночь за собою ведя, появился Уран, и возлег он
Около Геи, пылая любовным желаньем, и всюду
Распространился кругом. Неожиданно левую руку
Сын протянул из засады, а правой, схвативши огромный
Серп острозубый, отсек у родителя милого быстро
Член детородный и бросил назад его сильным размахом.
И не бесплодно из Кроновых рук полетел он могучих:
Сколько на землю из члена не вылилось капель кровавых,
Все их земля приняла. А когда обернулися годы,
Мощных Эринний она родила и великих Гигантов
С длинными копьями в дланях могучих, в доспехах блестящих,
Также и нимф, что Мелиями мы на земле называем.
Член же отца детородный, отсеченный острым железом,
По морю долгое время носился, и белая пена
Взбилась вокруг от нетленного члена. И девушка в пене
В той зародилась. Сначала подплыла к Киферам священным,
После же этого к Кипру пристала, омытому морем.
На берег вышла богиня прекрасная. Ступит ногою, –
Травы под стройной ногой вырастают. Ее Афродитой,
«Пеннорожденной», еще «Кифереей» прекрасновенчанной
Боги и люди зовут, потому что родилась из пены.
По этому поводу Николай Добролюбов наверняка сказал бы, что всего этого вовсе не
было – и на самом деле Юнона не обольщала Зевса, а Кронос не отсекал серпом
детородного органа Урана! И что бедняга Гесиод в силу всеобщей темноты просто
здорово заблуждался. А вот Александр Бестужев думал об этом иначе.
VI
БЕЛИНСКИЙ О СУМАРОКОВЕ И НЕ ТОЛЬКО
Но мы возвращаемся…
В одной из программных своих статей «Полное собрание сочинений А. Марлинского»
(1840) Белинский пишет:
«Общество благоговеет перед Ломоносовым, но больше читает Сумарокова и
Хераскова: они понятнее для него, более по плечу ему. Является Державин, и все
признают его первым и величайшим русским поэтом, не переставая, впрочем,
восхищаться и Сумароковым, и Херасковым, и Петровым. Но у общества есть уже
насчет Державина какая-то задушевная мысль, есть к нему какое-то особенное чувство,
которое часто находится в прямой противоположности с сознанием: Херасков написал
две пребольшущие «героические пиимы» (род, считавшийся венцом поэзии), следственно,
Херасков выше Державина, пишущего небольшие пьесы; но со всем тем, от имени
Державина веяло каким-то особенным и таинственным значением. В драматической
поэзии Княжнин довершает дело Сумарокова и приготовляет обществу – Озерова.
Первые два холодно удивляли общество: Озеров трогал и заставлял его плакать сладкими
слезами эстетического восторга и умиления, – и потому в нем думали видеть великого
гения, а в его сентиментально-реторических трагедиях – торжество поэзии. Явился
Жуковский: одни увидели в его поэзии новый мир, и жизни души и сердца, и таинство
поэзии, другие талантливого стихотворца, увлекающегося подражанием уродливым
образцам эстетического безвкусия немцев и англичан. Батюшков больше Жуковского по
плечу, потому что называл себя классиком и подражал великим и малым писателям
французской литературы. Но молодое поколение не видело, но чувствовало в нем, как и в
Жуковском, уже нечто другое, именно нашел на истинную поэзию. Время невидимо
работало. Старики уже начинали надоедать. Мерзляков нанес первый удар Хераскову, и
хотя он же восхищался Сумароковым, но сего пииту уже давно не читали, а разве
только подсмеивались над ним. Тем не менее такие люди, как Сумароков, Херасков и
Петров, достойны уважительного внимания и даже изучения, как лица исторические.
Если они не имели ни искры положительного таланта поэзии, они имели несомненное
дарование версификаторов – достоинство, теперь ничтожное, но тогда очень важное».
В этой цитате – краткий курс раннего этапа новой русской литературы по Белинскому.
Как бы кратко здесь сказано о как бы многом. Именно «как бы», ибо что ни фраза то
недомыслие.
Итак: «Общество благоговеет перед Ломоносовым, но больше читает Сумарокова и
Хераскова: они понятнее для него, более по плечу ему». – Что это означает? Почему
Сумароков и Херасков более по плечу обществу, чем Ломоносов? Неужели их
произведения проще, а у Ломоносова сложнее, возвышеннее, парадоксальнее? Чтобы
убедиться, что это вовсе не так, достаточно ознакомиться непосредственно с
произведениями и сопоставить драматургию Сумарокова и Ломоносова и эпическую
поэзию Хераскова и Ломоносова. Вывод явно не в пользу Михайлы Васильевича. Но
почему общество благоговеет перед Ломоносовым? Да потому что он первый титан новой
русской словесности, а и Сумароков, и Херасков – его последователи. Кроме того, это
воистину титан – фигура многогранная – как говорится, и жнец, и певец, и на дуде игрец –
вот и благоговеют. И почитание заслуг одного вовсе не требует ниспровержения других.
А вот у Белинского: «Является Державин, и все признают его первым и величайшим
русским поэтом, не переставая, впрочем, восхищаться и Сумароковым, и Херасковым, и
Петровым. Но у общества есть уже насчет Державина какая-то задушевная мысль…» –
Раз признали Державина, значит должны перестать восхищаться Сумароковым,
Херасковым и Петровым – не иначе. Или-или – совместить никак нельзя. Если является
что-то новое – от старого нужно обязательно отрекаться. Интересно также, что это «все
признают», то есть ВСЕ до единого – двух-трёх-десяти мнений быть не может. Вот и
выходит, что общество по Белинскому это единое монолитное целое с однимединственным мнением.
«…от имени Державина веяло каким-то особенным и таинственным значением», – еще
одна характерная черта критики Белинского – в качестве довода приводить нечто
неопределённое: каким-то, какая-то – то есть неизвестно какая. Но с таким же успехом
можно утверждать – а мой личный опыт об этом и говорит – что каким-то особенным и
таинственным значением сегодня веет уже не от Державина, а как раз от имени
Хераскова, от его творческого наследия. А вот каким именно значением – постараемся
выяснить, когда речь пойдёт непосредственно об этом поэте.
Творения Сумарокова и Княжнина холодно удивляли общество, а вот Озеров трогал и
заставлял его плакать… – никаких нюансов-полутонов, всё чётко и однозначно – холодно
удивляли и горячо трогали – и потому в нем думали видеть великого гения, а в его
сентиментально-реторических трагедиях – торжество поэзии. – Не видели, а только
думали видеть, и не просто гения, но обязательно великого – а может быть он был не
великим, а маленьким гением?
Торжество поэзии? Почему бы и нет? Торжество поэзии происходит там, где она
достигает своей цели. Другое дело, что поэзия бывает разная, для Белинского же
существует лишь одна оппозиция – истинная поэзия и ложная: поэзия классицизма (в
особенности русского) для него однозначно ложная, а истинность начала появляться
когда: «Явился Жуковский: одни увидели в его поэзии новый мир, и жизни души и сердца, и
таинство поэзии, другие талантливого стихотворца, увлекающегося подражанием
уродливым образцам эстетического безвкусия немцев и англичан. Батюшков больше
Жуковского по плечу, потому что называл себя классиком и подражал великим и малым
писателям французской литературы. Но молодое поколение не видело, но чувствовало в
нем, как и в Жуковском, уже нечто другое, именно нашел на истинную поэзию».
Наконец, общество таки разделилось – уже к нашей радости существует не одно мнение, а
одни считали так, другие эдак. Но рано радоваться: это просто время невидимо работало –
и общество разделилось всего лишь на молодое поколение и стариков, которые уже
начинали надоедать. То есть всё молодое поколение опять-таки отличалось крайним
единомыслием и всё сводилось лишь к жёсткой оппозиции нового и старого.
«Тем не менее такие люди, как Сумароков, Херасков и Петров, достойны уважительного
внимания и даже изучения, как лица исторические. Если они не имели ни искры
положительного таланта поэзии, они имели несомненное дарование версификаторов –
достоинство, теперь ничтожное, но тогда очень важное». – Ну хотя бы искру-другую
оставил, а то ведь ни искры положительного таланта поэзии! Как бы то ни было, а
подобная крайность характеризует не столько объект, сколько субъект, то есть самого
говорящего. Свидетельствует о том, что у него нет ни искры понимания всей сложности,
неоднозначности, многообразия и парадоксальности искусства вообще и поэзии в
частности.
Наконец, почему дарование версификаторов (то есть умение слагать стихи) –
достоинство, теперь ничтожное, но тогда очень важное? Сейчас что ли не требуется
такого умения?
В статье «Русская литература в 1840 году»
Белинский пишет: «Сумароков имел большое влияние на распространение в
полуграмотном обществе охоты к чтению, и его столь же справедливо называют отцом
русского театра, как Ломоносова – отцом русской литературы. Сумароков, по
положительной бездарности своей, оказал больше вреда, чем пользы зарождавшейся
литературе; но нельзя отрицать, что он не оказал некоторых услуг общественной
образованности». – О Сумарокове мы скажем ниже, а пока отметим, что выделенная
фраза лучше всего применима вовсе не к Александру Петровичу, а к самому Белинскому:
по положительной бездарности своей, оказал больше вреда, чем пользы
зарождавшейся литературе. Но другой вопрос: как могло случиться, что взгляд одногоединственного недоучки, взгляд – как это видно при объективном разборе – совершенно
кривой, стал впоследствии «единственным взглядом всего общества»?
Продолжим же коррекцию нашего литературного зрения. Из той же статьи: «Если у нас
еще и доселе существуют люди, которые благоговеют перед именами Сумароковых,
Херасковых и Петровых, то еще гораздо больше людей, которые после Жуковского,
Батюшкова и Пушкина утратили способность восхищаться даже Державиным и
Озеровым… Если толпа расхватала романы гг. Булгарина, Греча, Зотова, это не
помешало же таланту Лажечникова быть оцененным по достоинству, хотя
Лажечников и не издавал газеты, в которой мог бы хвалить самого себя… Если чутьчуть не раскупили всего издания сочинений Марлинского, зато теперь трудно найти в
какой угодно книжной лавке «Вечеров на хуторе» второго издания, «Арабесок»,
«Миргорода» и «Ревизора» Гоголя».
Белинский видит и утверждает линейное поступательное развитие – прогресс – три
ступени поэзии: низшую (Сумароков, Херасков, Петров), среднюю (Державин, Озеров) и
высшую (Жуковский, Батюшков, Пушкин). Спору нет, это три различных вида поэзии,
но… какой из этих видов выше, а какой ниже? На наш взгляд, путь от классицизма к
предромантизму характеризуется переходом от поэзии мысли к поэзии чувства. Главная
особенность нового стиля поэзии – отсутствие четкой мысли, а то и мысли как таковой.
Вместо мысли – чувство, эмоции, сладкозвучность. Как сказал Пушкин в письме к
Вяземскому (май, 1824): «Твои стихи к Мнимой Красавице (ах, извини: Счастливице)
слишком умны. – А поэзия; прости Господи, должна быть глуповата». Как, к примеру, в
его юношеском «Городке»:
Блажен, кто веселится
В покое, без забот,
С кем втайне Феб дружится
И маленький Эрот;
Блажен, кто на просторе
В укромном уголке
Не думает о горе,
Гуляет в колпаке,
Пьет, ест, когда захочет,
О госте не хлопочет!
Никто, никто ему
Лениться одному
В постеле не мешает;
Захочет – аонид
Толпу к себе сзывает;
Захочет – сладко спит,
На Рифмова склоняясь
И тихо забываясь.
Невозможно представить, чтобы такое писали Сумароков, Херасков или Державин. Но
говорит ли это о том, что в своих представлениях о поэзии эти поэты находятся ниже?
Вовсе нет – а лишь о том, что смысл и цели поэзии они понимали иначе – и ввиду крайней
важности этого момента мы к нему ещё вернёмся.
Весьма показательна – в силу её последствий – видится нам и та реплика Белинского, в
центре которой находится «талант Лажечникова». Дело в том, что во многом благодаря
именно таким утверждениям мы надолго лишились возможности знакомиться с
богатейшим литературным наследием Фаддея Булгарина, Николая Греча, Рафаила Зотова.
И перечитывая сегодня Белинского, видишь то, что мы утратили – наше литературное
многообразие. И его осознание.
И, кстати сказать, знакомясь сегодня с задвинутыми в самый задний ряд, но, к счастью,
всё же вынырнувшими из литературного забвения произведениями вышеперечисленных
русских литераторов, находишь их гораздо интереснее много раз переиздававшегося
Лажечникова.
Что же до Марлинского, то противопоставление его Гоголю в данном контексте –
хороший Гоголь / плохой Марлинский – тоже выглядит крайне примитивно, и выводы
Белинского говорят лишь о его собственных литературных предпочтениях. Можно
сказать, что это два автора совершенно разных литературных пространств и направлений,
и если их сравнивать, то вовсе не по белинскому принципу «плохой/хороший», а исходя
из тех законов, которые – выражаясь словами Пушкина – ими самими над собой
поставлены.
Творчество Бестужева-Марлинского разнообразно, неоднозначно и неравноценно – с
населёнными ходульными персонажами повестями «Испытание» и «Лейтенант Белозор»
соседствуют такие шедевры как «Фрегат «Надежда»» (это вообще одна из вершин
русского романтизма), «Страшное гадание», «Изменник». (А кавказскую повесть
«Аммалат-бек» сопоставлять нужно не с Гоголем, а с аналогичным творением Льва
Толстого – его поздней повестью «Хаджи Мурат» – может получиться весьма
плодотворный критический разбор. Впрочем, это обращение уже не к духу «неистового
Виссариона», а к современному читателю и литературоведу). Но интересно, что
Белинский хвалит именно самые слабые произведения Марлинского: «По мне, лучшие его
повести суть «Испытание» и «Лейтенант Белозор»: в них можно от души
полюбоваться его талантом, ибо он в них в своей тарелке» («Литературные мечтания»). –
Что это как не лишнее свидетельство крайней субъективности и недалёкости «главного
русского критика»?
В статье 1841 года «Общее значение слова литература»
Белинский продолжает гнуть свою линию: «Державин уже более поэт, нежели
Ломоносов; Озеров более поэт, нежели Сумароков и Княжнин…» – Интересна сама
формулировка: кто более и кто менее, – при том что понятие поэта и поэзии никак не
укладывается в прокрустово ложе каких-либо жёстких рамок и ограничений. А дальше:
«Если смотреть только с художественной точки зрения на наших старых писателей, то
не только какие-нибудь Сумароков, Херасков и Петров, даже Ломоносов – мало того –
сам Державин лишится почти всего своего значения и перестанет казаться не только
великим, даже замечательным явлением в области русской поэзии. Но исключительно
эстетическая точка зрения, как всякая односторонность, всегда доводит до ложных
заключений: и потому при суждении о литературе, кроме эстетической точки зрения,
нужна еще и историческая. И вот с этой последней точки зрения, не только Державин –
и Ломоносов получает великое значение в русской литературе, не только как писатель
вообще, но и как поэт. Даже Сумароков, Херасков и Княжнин, которых так легко
совершенно уничтожить с эстетической точки зрения, – с исторической, напротив,
получают полное оправдание и являются в русской литературе именами замечательными
и почтенными. Эти трудолюбивые люди своею деятельностью, хотя и ошибочною,
размножали на Руси книги, а через книги – читателей, распространяли в обществе охоту
и страсть к благородным умственным наслаждениям литературою и театром, – и
таким образом, мало-помалу, приготовили для Карамзина возможность образовать в
обществе публику для русской литературы». – Хотя он и утверждает, что всякая
односторонность всегда доводит до ложных заключений, но сам при этом от
односторонности вовсе не уходит. Дело не в том, что кроме художественной и
эстетической точек зрения нужна ещё и историческая, а в том, что художественное и
эстетическое понимаются Белинским не вообще – с бесчисленным множеством различных
углов зрения, – а исключительно с его жёстко зафиксированной статичной позиции. То
есть это только при его наборе знаний перечисленных им поэтов так легко совершенно
уничтожить с эстетической точки зрения, если же этот набор знаний расширить, то
окажется очень легко уничтожить самого Белинского. Что же касается исторического
понимания, то для перечисленных поэтов оно состоит не только, и не столько в том, что
они подготовили почву для кого-то, а в том, что их деятельность ценна сама по себе. Ибо
множили они не просто абстрактных читателей, но читателей благодарных,
воспитывавшихся на вполне определённых идеях, составлявших основу их творчества.
Читая Белинского,
попадаешь в мутное и скользкое пространство, где постоянно повторяются одни и те же
мысли, царит произвол в выводах и оценках – по принципу: так захотелось моей – то
бишь Белинского – левой ноге. Но наша задача состоит в том, чтобы в этом расплывчатом
субъективизме уловить основополагающие идеи, на которых держится здание русской
литературы по Белинскому. И мы их таки находим – в датированной 1842 годом «Речи о
критике» (статья 2).
«…искусство и литература идут об руку с критикою и оказывают взаимное действие
друг на друга. Если новый гений открывает миру новую сферу в искусстве и оставляет за
собою господствующую критику, нанося ей тем смертельный удар, то, в свою очередь, и
движение мысли, совершающееся в критике, приготовляет новое искусство, опереживая
и убивая старое». – Крайне недалёкое суждение, направленное против многообразия
форм. Белинскому невдомёк, что если в какое-то время исчерпала себя одна форма и на
смену ей приходит другая – то это вовсе не значит, что одна отменяет другую, убивает её
на корню. Дело в том, что абсолютный антагонизм может быть уместен не в формальном,
а в содержательном аспекте – например, в извечном противостоянии добра и зла; – но не в
различии форм, где противостояние всего лишь относительно. Одни формы сменяют
другие, отодвигая их в глубь времён, где они продолжают своё существование, время от
времени возрождаясь в новых модификациях (неоклассицизм, неоромантизм и т. п.
примеры), но вовсе не убивая. Все формы продолжают существовать во вневременном
пространстве, а художественная ценность и актуальность для других времён определяется
не формами, а величинами заключённых в эти формы идей.
Далее Белинский пишет: «Русская литература была не плодом развития национального
духа, а плодом реформы. Хотя Петр Великий ничего не писал и не издавал, подобно
Екатерине II, но тем не менее он так же творец русской литературы, как и творец
русской цивилизации, русского просвещения, русского величия и славы, словом – творец
новой России». – Крайне спорное и сомнительное утверждение, но говорящее о
стремлении Белинского к единоначалию, к жесткому централизму, о склонности к
жёстким схемам с чёткими – и главное хорошо видимыми – центрами. Какое отношение
Пётр имеет к словесности? Ровно никакого, тем более что новая русская литература
возникла уже в послепетровскую эпоху, а старая – в церковном, летописном и
фольклорном облачениях благополучно существовала и до Петра.
Не иначе как грубейшей метафизической ошибкой следует считать и утверждение, что
«русская литература была не плодом развития национального духа, а плодом реформы».
Ничего не возникает на пустом месте, и любая реформа останется бесплодной, если ей не
будет сопутствовать национальный дух. Но Белинский развивает свою мысль следующим
образом: «Не менее дельного, умного и острого можно наговорить (да и было уже
довольно наговорено) о русской литературе, возникшей не из потребности общества, а
из слепого подражания иностранным литературам. И чего бы, в самом деле, можно
было ожидать от этого сколка, списка, от этой копии с чужих образцов, от этого
мертвого, бездушного, слепого подражания и передразнивания чужих мыслей и чужих
форм? А между тем мы гордимся именами (конечно, еще немногими) национальных и
самостоятельных поэтов – Крылова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Лермонтова… А
между тем наша литература имела на общество великое и благодетельное влияние, как
живой источник гуманического, человечественного образования… Странное дело! как
же такие живые следствия могли выйти из такой мертвой, чисто внешней, отвлеченноформальной реформы?» – Итак, для него это странно! Ибо невдомёк то, что Дух дышит
где хочет, – и форма всегда находится соответствующая. Никакая форма сама по себе
плохой не бывает, хорошей или плохой её делают реализация и наполнение: не выдержал
параметров – и форма кривобока, не вдохнул в неё достойную живую мысль – и форма
мертва. Что же до якобы «мертвого, бездушного, слепого подражания и передразнивания
чужих мыслей и чужих форм», то здесь Белинский явно преувеличивает, ибо ни один
мало-мальски способный художник не является слепым подражателем, но оплодотворяет
собственное творение духом, пропущенным через лабиринт оригинального и
неповторимого микрокосма. Поэтому сколько бы ни следовали жёстким канонам
классицизма, и Тредиаковский, и Ломоносов, и Сумароков, и Петров, и Херасков
являются вовсе не слепыми подражателями, а весьма самобытными поэтами.
Но у Белинского – острое требование ГЕНИЯ БЕЗОГОВОРОЧНОГО – вот в чём его идея
фикс! Вот и ищет он точку опоры, от которой можно оттолкнуться. Но даже титанической
фигуры Михайлы Ломоносова ему оказывается недостаточно, и он находит Петра:
«Говоря о Петре, многие видят в нем больше реформатора и забывают колоссальнонравственный и религиозный дух, которого вся жизнь есть живой источник, из которого
не могут не вытекать живые результаты. Если б Петр был только необыкновенно
умный человек, только политический, а не религиозно-нравственный действователь, его
реформа не имела бы таких великих следствий». – Весьма далёк «неистовый Виссарион»
даже от элементарных понятий теологии и метафизики. Ведь с таким же успехом
религиозно-нравственной можно назвать деятельность Юлия Цезаря, Чингисхана,
Тамерлана, Наполеона, а из деятелей после-белинского времени – Бисмарка, Сталина,
Гитлера. Здесь налицо грубое смешение антагонистичных метафизических пространств и
энергий, того, что составляет противоположность понятий «культура» и «цивилизация».
Государственный патриотизм сам по себе еще не признак религиозно-нравственного
начала.
Что же до собственно русской литературы и поэзии, то на этот счёт находим два
утверждения: «Русская литература началась так же, как и русская цивилизация, –
подражанием, слепым усвоением форм», то есть краткая формулировка приведённого
выше совершенно неосновательного утверждения, – и:
«Русская поэзия началась, собственно, с Пушкина». – А это и есть тот центр, к которому,
оттолкнувшись от Петра, устремляется Белинский – центр, вокруг которого должна
вращаться вся звёздная система русской литературы, и – ориентируясь на который –
совершается подгонка всего остального:
«…в его время язык русский был крайне необработан, вращался в тяжелых славянолатинских формах, в которые заковал его Ломоносов; о гармонии и пластике – словом,
виртуозности стиха, никто тогда не имел и малейшего понятия; усечения
прилагательных, коверкание слов, какофония речений были узаконены самою пиитикою
того времени под именем «пиитических вольностей». И вот почему Державин, будучи
столь великим явлением в истории русской поэзии и литературы, мертв для современного
общества; поэзия же его стала теперь предметом изучения записных литераторов, а не
предметом наслаждения для общества…» – и далее: «Державин – великий талант для
всякого времени; но великий поэт он – только для своего времени; а для нашего – едва ли
он какой-нибудь поэт, потому что для нас мертвы и идеальные мотивы и самая форма
его поэзии». – Нужно ли доказывать, что поэзия Державина и сегодня – спустя почти два
столетия после Белинского – может быть предметом наслаждения? Но таким же
предметом наслаждения может быть поэзия Хераскова, Боброва, Кострова, Петрова,
Сумарокова, Ломоносова – и так же как древние города и эпохи оживают под
пристальным взглядом археолога и историка, так же стихи старых наших поэтов,
облечённые в свойственные их времени формы, не могут быть мертвы для того, чей взор
проникает сквозь века. А путаться во временах, в хвостах времени – как ребёнок путается
в одеждах взрослого – как-то недостойно зрелых мужей! Почему и приходится называть
его не иначе как «недоучившимся чахоточным юнцом», в ком болезненная
неустойчивость соединилась с недостаточным образованием, с обрывочными знаниями, –
и по положительной бездарности своей, оказал больше вреда, чем пользы
зарождавшейся литературе.
Продолжая продвижение к центру, всё в той же «Речи о критике» (статья 2), Белинский
пишет: «Жуковский внес в русскую поэзию именно тот самый элемент, которого
недоставало поэзии Державина: мечтательная грусть, унылая мелодия, задушевность и
сердечность, фантастическая настроенность духа, безвыходно погруженного в самом
себе… Батюшков внес в русскую поэзию совершенно новый для нее элемент: античную
художественность, которой, кроме его, были чужды все наши поэты – до Пушкина…
Преобладающий пафос его поэзии – артистическая жажда наслаждения прекрасным,
идеальный эпикуреизм; но эта жажда часто растворяется у него кроткою меланхолиею,
легкою и светлою грустию».
Жуковский внёс, Батюшков внёс – и что же? Этим они отменили поэзию Державина? Или
просто расширили поэтические горизонты? Вот два ответа, первого из которых усердно
придерживался Белинский, второму следуем мы. Каждый более-менее значимый поэт
привносит что-то своё в общий поэтический космос. Так было и в рассматриваемое нами
время. Но привнесение чего-то нового вовсе не отменяет и тем более не убивает старого.
И если кому-то по сердцу мечтательная грусть Жуковского или античная
художественность Батюшкова, которых недоставало Державину, то это отнюдь не значит
что Державин как поэт ниже Батюшкова и Жуковского. Потому что у него своя
поэтическая система, свой поэтический космос, который его почитатели любят именно
таким как он есть, и им – почитателям Державина – вовсе не к чему ни мечтательная
грусть Жуковского, ни античная художественность Батюшкова.
«По той или другой причине… – продолжает Белинский, – но в Батюшкове есть что-то
неполное, недоконченное; идеи его не глубоки, содержание его поэзии вообще бедно;
самый язык обилует усечениями и вольностями, а художественность часто борется с
риторикою. Батюшкову действительно недоставало гениальности, чтоб освободиться
из-под влияния своей эпохи. Несчастная болезнь парализовала его талант и деятельность
именно перед тем временем, когда на небосклоне русской поэзии взошло ее великое
светило, которое не могло бы не иметь на него сильного и благодетельного влияния… Мы
говорим о Пушкине, поэзия которого была повершением всех усилий, достижением всех
стремлений, плодом и результатом всего искусственного развития русской поэзии. Да,
Пушкин – первый, даже и по времени, поэт русский: ибо все, что в предшествовавших
ему поэтах было или отдельными силами, или односторонними элементами, или только
усилием, или стремлением, – в нем явилось как разрешенная загадка, как уже обретенное
слово, как исполнение, как единство, полнота и целость разнообразного и
многостороннего». – Ну вот мы и добрались до цели, которая оправдывает все средства!
И сходу – славословие, фимиам божеству! Он – и Аполлон (великое светило), и Христос
(воплощенное слово)! Всё это в некотором роде так, но… и на Солнце есть пятна, и один
только Бог безгрешен… и в этом смысле слова, сказанные применительно к Батюшкову,
что идеи его не глубоки, содержание его поэзии вообще бедно – в немалой степени
применимы и к Пушкину. Но – как мы уже говорили – ввиду крайней важности этого
момента мы к нему ещё вернёмся.
А пока отметим, что Белинский необходим до настоящего времени, прежде всего, в
качестве подпорки для главных мифов русского литературоведения, каковыми являются
миф о Пушкине и миф о Гоголе. Ибо там, где заканчивается белинский миф о Пушкине,
начинается белинский миф о Гоголе, что полностью соответствует идее линейного
поступательного развития – прогресса. И поживи Пушкин дольше, наверняка пришлось
бы нам читать «Письмо Белинского к Пушкину»! Но в любом случае: убери эти белинские
подпорки – и всё мифологическое здание рухнет.
А что касается изменений языка, то самому Белинскому можно предъявить его же
претензии – разве не грешит он против сегодняшнего стиля: кто нынче употребляет такие
слова как опереживая, повершение, гуманическое, человечественное? На этом основании
не оставить ли за ним чисто историческое значение?
В статье 1842 года «Стихотворения Баратынского»
(которого кстати «великий критик» также не считал за поэта) Белинский констатирует: «И
теперь еще на Руси есть целая публика, хотя и небольшая, которая от всей души
убеждена, что Ломоносов «наших стран Малерб и Пиндару подобен», что Херасков –
«наш Гомер, воспевший древни брани, России торжество, падение Казани», что
Сумароков в притчах победил Лафонтена, а в трагедиях далеко оставил за собою и
Корнеля, и Расина, и господина Вольтера, и что с этими тремя поэтами кончился
цветущий век российской словесности. Поклонники Державина уже холоднее к ним, хотя
все еще высоко ставят их в своем понятии: известно, что Державин с горестью
признавался, «сколь трудно соединить плавность Хераскова с силою стихов Петрова»…»
– И далее: «Еще и теперь есть люди, которые с восторгом повторяют монологи из
«Димитрия самозванца» и «Хорева» и даже печатают восторженные книжки о
поэтическом гении Сумарокова: эти люди – утлые остатки некогда юного, живого и
многочисленного поколения: в их хриплом старческом голосе, в их запоздалых восторгах
слышится голос невозвратно прошедшего для нас времени». – Но, читая эти строки ныне,
я не только не спешу вслед за Белинским радоваться о том, что время прошло
невозвратно, – на ум мне приходят слова старого солдата из известного с детства
стихотворения Лермонтова:
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри – не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!
И главной задачей современного литературоведения видится мне восстановление здания
русской литературы во всём её многообразии, начиная с восстановления доброго имени
всех выдающихся русских поэтов XVIII века. Но это невозможно без преодоления всего,
что «натворил» Неистовый – этот Робеспьер русской литературы!
VII
СЛОВО О СУМАРОКОВЕ
Пиит и русския трагедии отец,
Прекраснейших стихов разумнейший творец,
Он первый чистоты во оных был примером,
Расин, де Лафонтен, Кино со Молиером
Блистали во его душе съединены.
Он был Вольтеру друг, честь Росския страны,
Поборник истины, гонитель злых пороков,
Под камнем сим сокрыт муж славный Сумароков.
(Василий Майков)
Разговор непосредственно о Сумарокове, о его значении и месте в русской литературе
начнём опять-таки с Виссариона Белинского – с цитаты из первой статьи его книги
«Сочинения Александра Пушкина», где он по поводу Сумарокова полемизирует с
Николаем Карамзиным. Итак:
«В 1802 году Карамзин написал статью «Пантеон российских авторов». Суждение
Карамзина о Сумарокове мягче и уклончивее, нежели о Тредьяковском, но тем не менее
оно было страшным приговором колоссальной славе этого пигмея. «Сумароков еще
сильнее Ломоносова действовал на публику, избрав для себя сферу обширнейшую.
Подобно Вольтеру, он хотел блистать во многих родах – и современники называли
его нашим Расином, Мольером, Лафонтеном, Буало. Потомство не так думает; но,
зная трудность первых опытов и невозможность достигнуть вдруг совершенства,
оно с удовольствием находит многие красоты в творениях Сумарокова и не хочет
быть строгим критиком его недостатков. Уже фимиам не курится перед кумиром;
но не тронем мраморного подножия; оставим в целости и надпись: Великий
Сумароков!.. Соорудим новые статуи, если надобно; не будем разрушать тех,
которые воздвигнуты благородною ревностью отцов наших!» Замечательно, что
Карамзин ставил в недостаток трагедиям Сумарокова то, что «он старался более
описывать чувства, нежели представлять характеры в их эстетической и
нравственной истине», и что, «называя героев своих именами древних князей русских,
не думал соображать свойства, дела и язык их с характером времени». Нельзя не
увидеть в таких замечаниях суждения необыкновенно умного человека – и великого шага
вперед со стороны литературы и общества. Правда, Карамзин находит многие стихи в
трагедиях Сумарокова «нежными и милыми», а иные даже «сильными и
разительными»; но не забудем, что всякое сознание развивается постепенно, а не
родится вдруг, что Карамзин и так уже видел неизмеримо дальше литераторов старой
школы, и, сверх того, он, может быть, боялся, что ему совсем не поверят, если он
скажет истину вполне или не смягчит ее незначительными в сущности уступками».
Здесь видим два по сути диаметрально противоположных взгляда. Вдумчивый,
стремящийся к объективности – Карамзина, и агрессивно-субъективный – Белинского.
Причём «Неистовый» в силу своей субъективности пытается увидеть у Карамзина то, чего
там нет – например, «страшный приговор».
(И уж если Сумароков «…называя героев своих именами древних князей русских, не думал
соображать свойства, дела и язык их с характером времени», – то не нужно забывать,
что точно так же поступали и французские классицисты, вообще все исторические
писатели вплоть до Вальтера Скотта; те же Корнель, Расин, выводя на сцену проблемы
французской аристократии своего времени под именами героев средневекового
испанского романсеро, греческого мифа).
Стихи слагать не так легко, как многим мнится...
Но давайте задумаемся, о чём в сущности спор? О том, что Сумароков – безоговорочный
гений? Но так никогда и не считали – просто в своё время этот литератор обладал – и
вполне заслуженно – большим авторитетом. Время прошло – изменились обстоятельства
и, в первую очередь, значительно расширился литературный горизонт. И для новых
поколений поэтов – первое из которых как раз и представляет Карамзин – Сумароков уже
не мог быть живым авторитетом по той причине, что творили они по новым правилам. Но
вправе ли на основании этого всячески поносить его и называть «пигмеем» и
«бездарностью»? Нужно ли объяснять, что ежели в своё время авторитет был не
искусственно раздутым, а вполне заслуженным, то он таким же остаётся во вневременном
пространстве? Потому что он – настоящий. Но у Белинского при его линейновзаимозаменяемом мышлении в то же время наблюдается неизбывная тяга к абсолютным
понятиям – и потому он постоянно норовит абсолютизировать относительные понятия.
Вот и в данном случае авторитетного и весьма талантливого Сумарокова – в силу того,
что он не безоговорочный гений и не сделал больше, чем мог, – Белинский норовит
втоптать в грязь. Раз не гений – значит «пигмей».
Но то, что Сумароков – талант недюжинный, невооружённым глазом видно даже сегодня.
Пускай большая часть его наследия звучит уже неактуально, но… осталось и такое что
сохранило свою литературную прелесть спустя века.
И такого оказалось немало. Начнём с вклада в русскую поэзию – с «Эпистолы о
стихотворстве». Здесь, кстати, можно найти и ответ тому же Белинскому, утверждавшему
буквально следующее: «…чтоб и теперь писать так, как писали в свое время Корнель и
Расин, надо иметь большой талант; писать же так, как писал Сумароков, не нужно
было никакого таланта и в его время, а нужна была только охота и страсть к писанию».
– И вот что на это отвечает сам Александр Петрович:
Стихи слагать не так легко, как многим мнится.
Незнающий одной и рифмой утомится.
Не должно, чтоб она в плен нашу мысль брала,
Но чтобы нашею невольницей была.
Не надобно за ней без памяти гоняться:
Она должна сама нам в разуме встречаться
И, кстати приходив, ложиться, где велят.
Невольные стихи чтеца не веселят.
А оное не плод единыя охоты,
Но прилежания и тяжкия работы.
Однако тщетно все, когда искусства нет,
Хотя творец, трудясь, струями пот прольет,
А паче если кто на Геликон дерзает
Противу сил своих и грамоте не знает.
Написанная в 1847 году «Эпистола о стихотворстве» Сумарокова – даже при том, что
образцом для неё послужили аналогичные «поэтические руководства» Горация и Буало, –
является весьма своеобразным путеводителем по стилям и жанрам, написанным к тому же
живым и блестящим стихом. Вот как определяется здесь, к примеру, одический жанр:
Гремящий в оде звук, как вихорь, слух пронзает,
Хребет Рифейских гор далеко превышает,
В ней молния делит наполы горизонт,
То верх высоких гор скрывает бурный понт,
Эдип гаданьем град от Сфинкса избавляет,
И сильный Геркулес злу Гидру низлагает,
Скамандрины брега богов зовут на брань,
Великий Александр кладет на персов дань,
Великий Петр свой гром с брегов Балтийских мещет,
Российский меч во всех концах вселенной блещет.
Творец таких стихов вскидает всюду взгляд,
Взлетает к небесам, свергается во ад,
И, мчася в быстроте во все края вселенны,
Врата и путь везде имеет отворенны.
Вдохновение, талант, умение версификации, образность мышления, ясность мысли – все
необходимые для создания шедевра составляющие – в данном творении Сумарокова –
налицо. А вот, написанный много позже (1776) ещё один образец сумароковского стиха:
ОТВЕТ НА ОДУ ВАСИЛЬЮ ИВАНОВИЧУ МАЙКОВУ
Витийство лишнее – природе злейший враг;
Брегися сколько можно
Ты, Майков, оного; витийствуй осторожно.
Тебе на верх горы один остался шаг;
Ты будешь на верхах Парнаса неотложно;
Благоуханные рви там себе цветы
И украшай одними
Ими
Свои поэмы ты!
Труды без сих цветов – едины суеты;
Ум здравый завсегда гнушается мечты;
Коль нет во чьих стихах приличной простоты,
Ни ясности, ни чистоты,
Так те стихи лишенны красоты
И полны пустоты.
Когда булавочка в пузырь надутый резнет,
Вся пышность пузыря в единый миг исчезнет.
Весь воздух выйдет вон из пузыря до дна,
И только кожица останется одна.
Чёткость и ясность мысли с одной стороны, свободное – весьма необычное для своего
времени – владение стихотворной техникой – с другой. Неужели могут быть сомнения в
поэтическом даре автора? Другое дело, что это за дар? Какова его специфика и сущность?
В изданной в 1968 году в издательстве «Советский писатель» художественной биографии
Сумарокова – исторической повести «Забытая слава» авторства видного специалиста по
XVIII веку профессора А. Западова – находим весьма точное и ёмкое определение:
«Сумароков не интересовался земными недрами, подобно Ломоносову, и не исчислял хода
планет. Его занимала только литература, но ее он ощущал как самое кровное свое дело и
по личной склонности и по нуждам государственным. Он был уверен в могуществе слова,
в силе призыва, укора, критики, наставления и желал расположить это слово в порядке,
определить его лучшие качества, дать образцы, которым нужно следовать».
Пожалуй, что именно приверженность литературе, беззаветное ей служение объясняет и
ту придирчивость, с которой Александр Петрович относился к своим собратьям по цеху.
И, прежде всего, к своим предшественникам-учителям-соперникам – Тредиаковскому и
Ломоносову. Интересно, что если в «Эпистоле о стихотворстве» читаем:
Когда имеешь ты дух гордый, ум летущ
И вдруг из мысли в мысль стремительно бегущ,
Оставь идиллию, элегию, сатиру
И драмы для других: возьми гремящу лиру
И с пышным Пиндаром взлетай до небеси,
Иль с Ломоносовым глас громкий вознеси:
Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен;
А ты, Штивелиус, лишь только врать способен.
Уже тогда – в 1747-м – видим крайне скептическое отношение к Тредиаковскому
(Штивелиус – это именно он) и в то же время – восторженное признание таланта
Ломоносова. Но почти в то же самое время под прицел критики Сумарокова попадает и
сам Михайло Васильевич – в книге «Библиотека русской критики. Критика XVIII века»
(М. Олимп, АСТ. 2002) находим сумароковский критический разбор «Оды на день
восшествия на Всероссийский престол Ея Государыни Императрицы 1747 года»
Ломоносова. Некоторые фрагменты этого «разбора» ввёл в текст своей повести Александр
Западов – в эпизоде, где граф Шувалов говорит:
«– …Стопосложению надо учиться у Михайлы Васильевича Ломоносова. «Ее
великолепной славой Вселенной преисполнен слух…» Музыка!
– Музыка, не спорю, – подхватил Сумароков. – Господина Ломоносова слава состоит в
одах, а прочие стихотворные сочинения и посредственного пиита в нем не показывают.
Да если взять и оды – в них, кроме красот, многие отвратительные пороки сыщутся. Вы,
– он ткнул рукою в сторону Ломоносова, – пишете: «Возлюбленная тишина, Блаженство
сел, градов ограда». А ведь «градов ограда» сказать не можно. Град оттого и свое имя
получил, что огражден. Тишина ему оградой не бывает. Для этого нужно войско и
оружие, а не тишина. В другой строфе писано: «Летит корма меж водных недр». Разве
ж одна только корма летит? А весь корабль не движется?! «И токмо шествовать
желали». «Токмо» – слово приказное, а не стихотворное, такое ж, как «якобы»,
«имеется», «понеже». Поэт не подьячий».
И совершенно справедливыми, на первый взгляд, видятся слова графа Шувалова из той же
повести: «А собственно, зачем ему эти ссоры? Очень мало в России людей, владеющих
словесным искусством, – их можно перечесть на пальцах, – и первыми идут Ломоносов и
Сумароков. Беда, что не понимают они шуток. Один голову положит за грамматические
правила, другой – за свои опыты и проекты введения наук в отечестве. Неужели же
нельзя жить мирно, ведь служат-то они общему делу?!»
Но если прочесть критику Сумарокова на оду Ломоносова полностью, то немудрено
прийти к выводу, что наряду с тем же Тредиаковским Сумароков является ещё и
зачинателем русской литературной критики. То есть по сути своей он был не только
поэтом, но и критиком. Причём, критиком природным. Что это значит? То, что критика –
это закваска, дрожжи, движущая сила, возникающая от вечной неудовлетворенности.
Критика не может быть только по шерсти – но даже если и против, то всё дело – как мы в
этом убедились на примере уж очень неистового Виссариона – в КАЧЕСТВЕ критики, в
её основательности.
Таким образом, заключительная фраза графа Шувалова: Неужели же нельзя жить мирно,
ведь служат-то они общему делу?! – распадается на две части: жить мирно таки нельзя!
– именно в этом суть неуживчивости Сумарокова, – хотя и служат они общему делу.
А дело это – через служение науке и литературе – в служении отечеству. В этой связи – с
целью проникновения в невидимую сущность вещей – приведём выдержку из
опубликованного в 1791 году «Нравоучительного катихизиса истинных Ф-к М-в»
авторства Ивана Владимировича Лопухина:
- Какое должно быть правило истинного Ф. М. в исправлении долга своего к Отечеству?
- Зная, что не только каждое действие, но даже каждая мысль, каждый взгляд, каждый
вздох служат к распространению Царствия Божия или к сопротивлению оному, и имея
непрестанно сие в виду, должен он помнить при всем, чтоб он ни делал, что чрез оное
могут открываться Правда или Благость Господня, Котораго Воля должна ему быть
драгоценнее всего.
На место Царствия Божия – как его отображение – поставим литературное пространство,
и спроецируем на него сказанное Лопухиным: не только каждое действие, но даже
каждая мысль, каждый взгляд, каждый вздох служат к расширению или сужению
горизонтов литературного пространства.
И вернёмся к тому, с чего начали – к цитате Белинского – ибо в данной завязке находим
узловой конфликт, который сказался на всём последующем построении здания русской
литературы. Всё дело в том – кто на что работает. И если Сумароков всей своей
деятельностью способствовал расширению горизонтов русской литературы, то Белинский
своей критикой весьма успешно поработал на их сужение.
В каждом из них – и, следовательно, в их деятельности – заложена некая изначальная
величина, сущность. Оба они – энтузиасты-труженики, но если один со знаком плюс,
другой со знаком минус. Сущность Сумарокова – в позитиве, Белинского же – в негативе,
в создании ограниченного пространства, поэтому он и перечёркивает всё или почти всё,
что было до него.
И мы вновь возвращаемся к вопросу: неужели этого не понимали? В статье Юрия
Тынянова (1924) «Промежуток» читаем:
«У нас есть богатая культура стиха (неизмеримо более богатая, чем культура прозы).
Мы помним глубже XIX век, чем люди XIX века помнили XVIII век. В 1834 г. Белинский
отважно написал вздор о XVIII веке в «Литературных мечтаниях»; он с гордостью,
даже энтузиазмом заявил о своем невежестве – и все с одной целью добраться до
нужного (пусть и вполне неверного тогда, так же как и теперь): «У нас нет
литературы»». (Тынянов Ю. Н. История литературы. Критика. – СПб.: Азбука-классика,
2001. – С. 405)
Оказывается, понимали… но не могли заявить об этом в полный голос, ибо
вышеприведённое высказывание Тынянова проскальзывает как бы мимоходом в статье,
посвящённой другому.
Реальные же достоинства, равно как и значение Сумарокова, естественным образом
вытекают из его сущности поэта-труженика, критика и первого дифференциатора и
отдельщика русской литературы. Если Тредиаковский (а в некоторой степени даже
Антиох Кантемир, умерший молодым) это предтеча, а Ломоносов – тот, кто явил высокий
образец, то Сумароков – это тот, кто первым взялся за дифференцированную отделку
разнообразных пород. Можно сказать, что он – первый ювелир русской поэзии. Это самое
сложное – начать – на пустом, по сути, месте, исходя из собственного мировоззрения, из
заветов классицизма, из идей просветительства.
Но он бы не выполнил своей миссии, если бы не был ещё и тружеником, таким как на
рубеже XIX и XX столетий был Валерий Яковлевич Брюсов, который писал:
Вперед, мечта, мой верный вол!
Неволей, если не охотой!
Я близ тебя, мой кнут тяжел,
Я сам тружусь, и ты работай!
Кстати, это ещё один повод питать неприязнь к Сумарокову (равно как и к Брюсову) для
тех, кто словосочетание «поэт-труженик» считает чем-то противоестественным. Однако
ничего противоестественного в этом нет, ибо поэтическое вдохновение и труд – понятия
вовсе не взаимоисключающие, а напротив – взаимодополняющие.
Но не только с Брюсовым – весьма интересную и неожиданную параллель можно
провести и с видным поэтом 2-й половины ХХ века Иосифом Бродским: подобно тому,
как Сумароков преклонялся пред Литературой, Бродский преклонялся пред Языком. А
основанная на тонической системе просодия, которой пользовался Бродский в свой
«неоклассический» период (дольник, тактовик, акцентный стих), выработалась благодаря
изучению различных систем стихосложения, в том числе и русского классицизма.
Интересные мысли на сей счёт находим в интервью, посвященном Пушкину (Анни
Эпельбуан. Из интервью с Иосифом Бродским. «Это был человек...»):
«А. Э. …Является ли он (Пушкин) действительно основоположником русской поэзии или
Пушкин – лишь миф? Кем он был для вас?
И. Б. Русская поэзия началась задолго до Пушкина. Она началась с Симеона Полоцкого,
Ломоносова, Кантемира, Хераскова, Сумарокова, Державина, Батюшкова, Жуковского.
Так что к тому времени, когда Пушкин появился на сцене, русская поэзия существовала
уже на протяжении полутораста лет. Это уже была разработанная система,
структура и т. д. Тем не менее поэтика или стилистика (я никогда не знаю, какое из
этих слов употреблять), видимо, нуждалась в некоторой модернизации, в улучшении.
Русская поэзия ко времени Пушкина уже была достаточно гармонизирована, она уже
отошла от силлабической поэтики, то есть от силлабического стиха, который имел
место в конце XVII – начале XVIII века. Уже господствовал силлабо-тонический стих,
который тем не менее нес на себе нагрузку, какой-то силлабический мусор. Сам Пушкин
и гармоническая школа, возникшая с ним, как бы очистили стих от этих метрическиархаических элементов и создали чрезвычайно динамический, чрезвычайно гибкий русский
стих, тот стих, которым мы пользуемся и сегодня. Разумеется, с этим процессом
очищения, с этой водой было выплеснуто и изрядное количество младенца. Дело в том,
что в этой шероховатости, неуклюжести таились свои собственные преимущества,
потому что у читателя мысль задерживалась на сказанном. В то время как
гармоническая школа настолько убыстрила или гармонизировала стих, что все в нем,
любое слово, любая мысль, получает одинаковую окраску, всему уделяется одинаковое
внимание, потому что метр чрезвычайно регулярный».
Ключевым моментом этих рассуждений является мысль о том, что «с этим процессом
очищения, с этой водой было выплеснуто и изрядное количество младенца». То есть,
исходя из данного образа, в новой гармонической поэзии стало меньше воды, но и меньше
младенца. Хотя если с младенцем это действительно так – что знаменует собой переход от
поэзии мысли к поэзии чувства (от классицизма к сентиментализму и предромантизму), то
насчёт воды – трудно согласиться. Дело в том, что вместо силлабической воды в новой
поэзии бурным потоком потекла гармоническая вода. Но это относится уже не к
Сумарокову…
Театр был школою жизни
В предисловии к «Драматическим сочинениям» Сумарокова (Ленинград, «Искусство»,
1990) Юрий Стенник, перечислив заслуги Александра Петровича перед русским театром,
подытоживает: «Вот почему мы с полным правом можем повторить слова В. Г.
Белинского, назвавшего Сумарокова «отцом российского театра»».
Оказывается, что и здесь без ссылки на Белинского обойтись никак нельзя! Но мы-то
знаем, в каком контексте это было сказано: «Сумароков имел большое влияние на
распространение в полуграмотном обществе охоты к чтению, и его столь же
справедливо называют отцом русского театра, как Ломоносова – отцом русской
литературы. Сумароков, по положительной бездарности своей, оказал больше вреда, чем
пользы зарождавшейся литературе; но нельзя отрицать, что он не оказал некоторых
услуг общественной образованности».
То есть в системе Белинского Сумароков не просто «отец русского театра» – как это
утверждает Сенник, – а бездарный отец русского театра, который в силу своей
бездарности оказал больше вреда! Вот и оказывается незадачливый автор предисловия
сидящим на двух стульях – точнее, между двумя стульями.
Посему, говоря о Сумарокове как «отце русского театра», совершенно излишне и
противоестественно подкреплять эту мысль мнением злостного его гонителя. А то, что
Сумароков – действительно создатель и зачинатель профессионального русского театра –
факт неподлежащий сомнению. Так же как и то, что театральный аспект был
определяющим не только в творчестве Сумарокова, но и во всей тогдашней культурной
жизни. Как пишет профессор Западов в книге «Забытая слава»: «Театр был школою
жизни. Корнель, Расин, Мольер учились у греков и римлян и сами стали преславными
стихотворцами, кому теперь надлежало последовать. В России нет еще своих трагиков
и комиков, никто со сцены не поражает пороков и не возносит добродетель. Нет пока и
самой сцены. Но можно ли медлить долее? <…> Писатель должен влиять на умы
сограждан, и театральное действие удобно к тому, чтобы в лицах представить мораль
и толкнуть зрителей к подражанию образцам. Свою первую трагедию «Хорев»
Сумароков сочинил в 1747 году на сюжет из русской истории. Там он прежде всего искал
назидательных страниц для своих современников».
Театр – явление, живущее по своим весьма специфическим законам. Гораздо больше, чем
чистая словесность оно подвержено требованиям и установкам времени – по той причине,
что сценическое представление неотрывно от публики с её сиюминутными запросами.
Поэтому и драматургия Сумарокова предполагает сегодня особое к себе отношение – с
учётом всех особенностей соответствующей эпохи. Главное в этом наследии – девять
трагедий, созданных с 1747-го по 1774 годы. Семь из них – а именно: «Хорев» (1747),
«Синав и Трувор» (1750), «Артистона» (1750), «Семира» (1751), «Ярополк и Димиза»
(1758), «Вышеслав» (1768) и «Мстислав» (1774) – собственно и представляют собой
русский театральный классицизм, детище Александра Петровича Сумарокова.
Назвать эти пьесы историческими, конечно же, нельзя. Хоть действие в них, как правило,
помещено во времена Киевской Руси (кроме «персидской» «Артистоны»), но по сути это
некое условно-историческое, идеальное пространство, в котором автор решает главные, на
его взгляд, задачи театрального («позорищного») искусства. Для него: искусство – идеал
жизни, и ежели разрешить конфликт в идеале, то это может стать прообразом разрешения
его в реальной жизни. И потому видим здесь традицию куртуазную, создание идеала,
ориентира, пронизанный морально-политическим дидактизмом посыл в адрес сильных
мира сего, утверждающий образец идеального монарха на троне и направленный, прежде
всего, на разрешение конфликта между монаршим долгом и личными интересами и
страстями.
Бесспорно, что это – важнейшая веха в становлении российского театра, но также
очевидно и то, что ныне эти пьесы представляют интерес не столько для любителей
изящной словесности (тем более, не для нынешних театралов), сколько для
исследователей и просто любителей старины. И главная тому причина, на мой взгляд, в их
рациональной сухости, недостаточной перспективе, в тех схематических узах, что в
результате строгого соблюдения установок классицизма накинуты на буйство жизни.
Но недостатки эти тут же преодолеваются самим Сумароковым, как только на авансцену
выходит тень отца Гамлета, то бишь дух великого Шекспира. В «Эпистоле о
стихотворстве» между прочим говорится:
Взойдем на Геликон, взойдем, увидим тамо
Творцов, которые достойны славы прямо…
И среди многих имён:
Мальгерб, Руссо, Кино, французов хор реченный,
Мильтон и Шекеспир, хотя непросвещенный…
В среде классицистов Шекспир, как известно, вызывал нарекания за то, что не
придерживался правила триединства – и Сумароков как классицист до мозга костей не
мог на это не указывать, но… именно те его пьесы и сегодня сохраняют жизненную
энергию, где он сам подобно Шекспиру вышел за рамки. Речь идёи о тех двух оставшихся
его трагедиях, которые мы ещё не упомянули.
Во-первых, это его «Гамлет» (1748) – точнее, вольная переработка пьесы Шекспира. Это
примерно так же как «Золотой ключик» Алексея Толстого является даже не переработкой,
а свободной фантазией на заданную тему сказки Карло Коллоди «Приключения
Пиноккио». Сумароков не настолько далеко отклонился от оригинала, но его «Гамлет», в
сравнении с шекспировской первоосновой, это по сути совершенно другое – и весьма
интересное – произведение – с иной развязкой, с иным смыслом. И сегодня, изучая
Шекспириаду российскую – прежде всего, адаптацию на русской почве «Гамлета» –
отметим, что в ряду различных переводов (Полевого, Лозинского, Пастернака) и
постановок – от многочисленных театральных – через классическую кинопостановку
Козинцева – и вплоть до «молодёжной версии» Юрия Кара «Гамлет. XXI век» – первым в
этом ряду стоит «Гамлет» (свой Гамлет) Сумарокова.
Во-вторых, это «Димитрий Самозванец» (1771), в период работы над которым Сумароков
писал из Москвы Г. В. Козицкому: «Эта трагедия покажет России Шекспира» (письмо от
25 февраля 1770 г.) {Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980, с. 133.}. Речь идёт о
создании на основе русской истории драматического произведения, имея за образец уже
не условно-исторические – идеальные – произведения Корнеля и Расина, а брызжущие
реальной жизненной энергией знаменитые шекспировские исторические хроники. И у
Сумарокова это получилось.
Нетвердо на главе моей лежит венец,
И близок моего величия конец.
Повсеминутно жду незапныя премены.
О устрашающи меня Кремлевы стены!
Мне мнится, что всяк час вещаете вы мне:
«Злодей, ты – враг, ты – враг и нам, и всей стране!»
Гласят гражданя: «Мы тобою разоренны!»
А храмы вопиют: «Мы кровью обагренны!»
Уныли вкруг Москвы прекрасные места,
И ад из пропастей разверз на мя уста.
Во преисподнюю зрю мрачные степени
И вижу в тартаре мучительские тени.
Уже в геенне я и в пламени горю.
Воззрю на небеса: селенье райско зрю,
Там добрые цари природы всей красою,
И ангели кропят их райскою росою.
А мне, отчаянну, на что надежда днесь!
Ввек буду мучиться, как мучуся я здесь.
Не венценосец я в великолепном граде,
Но беззаконник злой, терзаемый во аде.
Я гибну, множество народа погубя.
Беги, тиран, беги!.. Кого бежать?.. Себя?
Не вижу никого другого пред собою.
Беги!.. Куда бежать?.. Твой ад везде с тобою.
Отметим, что вокруг фигуры Димитрия Самозванца – исторического проходимца, волею
судеб оказавшегося на престоле московских царей – равно как и сопутствующих ему
событий так называемого Смутного времени, в русской литературе и драматургии
сформировалась целая традиция: помимо пушкинского «Бориса Годунова», это роман
«Димитрий Самозванец» Фаддея Булгарина; «Драматическая трилогия» А. К. Толстого:
«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис»; исторические
хроники А. Н. Островского «Козьма Захарьич Минин, Сухорук», «Дмитрий Самозванец и
Василий Шуйский», «Тушино»; и популярная некогда историческая беллетристика
наподобие «Маринки-безбожницы» Петра Полевого. В самом же начале – Сумароков. А
насколько он здесь на уровне – говорит как приведённый выше монолог Димитрия
Самозванца, так и стихотворение, которое в силу его достоинств можно рассматривать как
квинтэссенцию всего сумароковского таланта, где в поэтическом фокусе сосредоточены
главные действующие лица тогдашнего театра: Фёдор Григорьевич Волков – основатель
первой русской драматической труппы; Иван Афанасьевич Дмитревский – преемник
Волкова в качестве ведущего актёра труппы; и сам Сумароков – директор российского
театра в Петербурге. Итак…
К г. ДМИТРЕВСКОМУ НА СМЕРТЬ Ф. Г. ВОЛКОВА,
Котурна Волкова пресеклися часы.
Прости, мой друг, навек, прости, мой друг любезный!
Пролей со мной поток, о Мельпомена, слезный,
Восплачь и возрыдай и растрепли власы!
Мой весь мятется дух, тоска меня терзает,
Пегасов предо мной источник замерзает.
Расинов я театр явил, о россы, вам;
Богиня, а тебе поставил пышный храм;
В небытие теперь сей храм перенесется,
И основание его уже трясется.
Се смысла моего и тщания плоды,
Се века целого прилежность и труды!
Что, Дмитревский, зачнем мы с сей теперь судьбою?!
Расстался Волков наш со мною и с тобою,
И с музами навек. Воззри на гроб его,
Оплачь, оплачь со мной ты друга своего,
Которого, как нас, потомство не забудет!
Переломи кинжал; театра уж не будет.
Простись с отторженным от драмы и от нас,
Простися с Волковым уже в последний раз,
В последнем как ты с ним игрании прощался,
И молви, как тогда Оскольду извещался,
Пустив днесь горькие струи из смутных глаз:
«Коликим горестям подвластны человеки!
Прости, любезный друг, прости, мой друг, навеки!»*
<1763>
(*Последнее выступление Волкова (роль Оскольда) вместе с Дмитревским (роль
Ростислава) состоялось в трагедии Сумарокова «Семира» 29 января 1763 г.;
заключительные два стиха являются автоцитатой из «Семиры» (слова Ростислава,
обращённые к Оскольду)).
VIII
ВОКРУГ ХЕРАСКОВА:
ПОД ЗНАКОМ ИНТЕГРАЛА
Впервые на это имя я обратил внимание при чтении повести Владимира Одоевского
«Косморама», где тётушка главного героя произносит весьма забавную реплику: «Чудное
дело! Вот я дожила до 60 лет, а не могу понять, что утешного находят в книгах. В
молодости я спросила однажды, какая лучшая в свете книга? Мне отвечали: «Россияда»
сенатора Хераскова. Вот я и принялась её читать; только такая, батюшка, скука взяла,
что я и десяти страниц не прочла; тут я подумала, что ж, если лучшая в свете книга
так скучна, что ж должны быть другие? И уж не знаю, я ли глупа, или что другое,
только с тех пор, кроме газет, ничего не читаю, да и там только о приезжающих».
Фраза эта, на мой взгляд, представляет собой не что иное как интеллектуальный лабиринт:
некая книга кем-то определяется как лучшая, но кому-то она скучна – при этом человек
больше доверяет не собственному вкусу, а авторитетному источнику. Правильно ли это?
Что вернее: собственный вкус или авторитетный источник? Тётушка больше доверяет
второму и потому вполне логично формирует собственное представление о других книгах,
предпочитая им газеты – и даже не целиком и полностью, а лишь определённые в них
места. А что было бы, если бы она пошла другим путём и полагалась больше не на
авторитетный источник, а на собственный вкус? Она пришла бы к выводу, что в силу
непроходимой скуки данная книга вовсе не лучшая, а в качестве таковой определила бы
что-нибудь на уровне газетной информации о приезжающих. С одной стороны, лабиринт
может показаться непроходимым, но вся его сложность – в относительности таких
понятий как «лучшее» и «скучное».
В чём причина забвения?
Именно такой лабиринт представляет собой русская литература в устоявшихся о ней
понятиях и представлениях, а упомянутый в данном контексте Михаил Матвеевич
Херасков – пожалуй, наиболее загадочная её фигура конца XVIII века. Загадка заключена,
прежде всего, в очевидном несоответствии общепризнанной значимости при жизни с
почти полным забвением в посмертии. Особенно это характерно для нашего –
«просвещённого»! – времени, когда произведения столь знакового поэта лишь
небольшими фрагментами попадают в специализированные антологии и хрестоматии и
также фрагментарно (не изучаются, а лишь) проходятся на филологических факультетах.
Правда, в 1961 году в большой серии «Библиотеки поэта» была издана ставшая ныне
библиографической редкостью книга «Избранных произведений», но даже и она в силу
своей купированности не даёт полного представления о творчестве Хераскова. Зато
открывается вступительной статьёй профессора А. Западова, где отмеченное нами
несоответствие уже в первых строках вроде бы полностью разъясняется:
«Свыше полувека продолжалась литературная деятельность Хераскова. Современники
почитали его чрезвычайно. И.И. Дмитриев писал:
Пускай от зависти сердца зоилов ноют,
Хераскову они вреда не нанесут:
Владимир, Иоанн щитом его покроют
И в храм бессмертья приведут.
Поэмы Хераскова «Россиада», где главным действующим лицом был Иван Грозный, и
«Владимир» при жизни автора несколько раз переиздавались; кроме них Херасков написал
множество других поэм, пьес, романов, стихотворений – однако двери «храма
бессмертья» для него так и не отворились. Труженик-поэт оказался скоро и прочно
забытым, сочинения его не печатались, за исключением «Россиады», которую еще
переиздавали, но уже в порядке учебно-хрестоматийном. Херасков устарел с
поразительной быстротой, и главной причиной этого было бурное развитие русской
литературы в последней трети XVIII – начале XIX столетия. Державин, Карамзин,
Жуковский, Батюшков, Пушкин – в свете этих имен сразу поблекла литературная слава
Хераскова».
Казалось бы, всё очень просто – но так ли это в реальности? Действительно ли так
безнадёжно устарел Херасков? И чтобы не ходить вокруг да около, давайте возьмём эту
самую «Россиаду», да и посмотрим что же она такое? Что собой представляет и как звучит
именно сегодня? Итак…
О ты, витающий превыше светлых звезд,
Стихотворенья дух! приди от горних мест,
На слабое мое и темное творенье
Пролей твои лучи, искусство, озаренье!
Отверзи, вечность! мне селений тех врата,
Где вся отвержена земная суета,
Где души праведных награду обретают,
Где славу, где венцы тщетою почитают;
Перед усыпанным звездами алтарем,
Где рядом предстоит последний раб с царем;
Где бедный нищету, несчастный скорбь забудет,
Где каждый человек другому равен будет.
Откройся, вечность, мне, да лирою моей
Вниманье привлеку народов и царей.
Прочтя эти стихи, я сказал себе: «Ого! Да здесь из сферы изящной словесности мы
органично переходим в пространство религиозной метафизики, в связи с чем вновь
возникают совершенно специфические критерии с ориентирами – и дело в корне
меняется!» Подтверждение своей мысли я тут же нахожу у Западова. Говоря об издании
Херасковым своих «Анакреонтических од», профессор пишет:
«В книжке были оды «О силе разума», «О вреде, происшедшем от разума», «О
воспитании», «О суетных желаниях», «О силе добродетели» и т.д. К общей тематике
анакреонтической поэзии примыкает, пожалуй, лишь ода «Сила любви». В ней говорится
об Эроте, сыне цитерской богини, о стрелах, которыми он поражает сердце, после чего
Тотчас сердце распалится,
Важность мысли удалится.
Это очень характерное для Хераскова выражение. Любовь изгоняет «важные мысли»,
вносит иррациональное начало в разумную человеческую жизнь, и, вероятно, благом ее
считать нельзя.
Только в сердце, богу верном,
Только в мыслях просвещенных
Он не смеет воцариться;
И, владея всех сердцами,
Сих сердец Эрот боится».
Но что это за иррациональное начало и почему его нельзя считать благом? Расшифровку
этой мысли находим в… «Бхагавад-Гите»:
«Воистину, разум человека прочно укрепился в божественном сознании, если он не
радуется и не впадает в уныние перед лицом мирского счастья или горя и свободен от
ложной мирской любви.
И когда он становится способен контролировать чувства, полностью уводя их от
объектов чувств силой воли, подобно тому, как черепаха втягивает конечности в
панцирь, тогда его разум обретает твердую и совершенную основу.
Хотя обладающий грубым телесным сознанием может избегать объектов чувств
внешним отречением, стремление к чувственному наслаждению остается жить в нем.
Но тот, кто обрел богосознающий разум, сам по себе осуждает внутреннюю
привязанность к объектам чувств благодаря тому, что ему посчастливилось лицезреть
проблеск всепривлекающей красоты Высшей Истины.
О сын Кунти, ум даже здравомыслящего человека, стремящегося к освобождению, с
силой уносится неконтролируемыми чувствами (но это невозможно для того, чье сердце
привлечено Мной)».
(Бхагавад-Гита. Великое Сокровище Сладчайшего Абсолюта / С комментариями Свами
Б.Р. Шридхара. – М.: Амрита-Русь; СПб.: Шри Чайтанья Сарасват Матх, 2008. – Сс.
67-69)
Таким образом, в наши руки попадает две путеводных нити, способствующие выходу из
лабиринта. Во-первых, это мысль о том, что главной причиной быстрого забвения
Хераскова является бурное развитие русской литературы в последней трети XVIII –
начале XIX столетия. Сегодня это – общее место отечественного литературоведения, и не
признавать его в общем-то нет оснований: действительно, новые веяния постепенно
вытеснили господствовавшие ранее формы и идеи. Факт налицо. Однако есть здесь и
совершенно иная грань, как правило, остающаяся вне филологического поля зрения.
Грань эта открывается, когда задаёшься вопросом: а что именно представляло собой это
«бурное развитие»? В чём оно состояло? И приходишь к выводу, что, прежде всего, в
дальнейшей дифференциации, дальнейшем расщеплении целого на составляющие,
дальнейшей секуляризации – и не в примитивной форме со слоганом «поэзия – не
служанка богословия», а в смысле метафизического снижения, обмирщения и
одомашнивания поэзии, опускания слова с неба на землю.
Второй же путеводной нитью является осознание того, что литературное наследие
Хераскова это не просто образец тогдашней изящной словесности, а нечто гораздо более
цельное, ибо в основе его творчества лежит не слово как неуловимый дух чистой поэзии, а
воплощённая в слове религиозная метафизическая концепция. Поэтому и подход к
наследию Хераскова, оценка его наследия будут верными лишь в случае правильно
выбранных критериев и ориентиров – в совмещении филологии с метафизикой.
Впрочем, то что поэзия Хераскова насквозь метафизична в силу очевидности было
понятно даже и советским исследователям – вот только оценки и выводы были чересчур
произвольными, вернее, подогнанными под канон «единственно правильного учения».
Так, во вступительном слове Западова читаем:
«В 1769 году Херасков напечатал «Нравоучительные оды» – сборник стихотворений,
посвященных этическим проблемам, людским отношениям, вопросам элементарной
морали общежития. Ровные, спокойные стихи, лишенные ораторской интонации, были
построены в форме задушевной беседы с читателем.
В этой книжке Херасков собрал тридцать две «нравоучительные оды», и, если
посмотреть на заглавия их, смысл титульного листа получит полное объяснение:
«Благополучие», «Суета», «Тишина», «Богатство», «Злато», «Честь», «Терпение»,
«Гордость», «Родство», «Умеренность», «Наказание», «Беспечность» и т.д. Херасков
учит тому, что все земные блага ничтожны по сравнению с небесными и что только
добродетельные люди живут в душевном покое, мирно готовясь к переходу в лучший мир:
Так знать, что счастье наше
В сем свете только сон.
Есть мир земного краше;
Какой? – на небе он.
Человек жалок и ничтожен перед лицом вселенной, его бессилие что-либо исправить в
земной жизни – очевидно. Да и нужно ли думать об этом, если известно, что смерть все
равно неизбежно наступит?
Хоть зришься счастья в полном цвете,
Хоть славишься во свете сем,
Пылинка ты едина в свете,
Невидимая точка в нем.
Ты прежде был и будешь прахом,
Ничто тебя не подкрепит;
Хоть кажешься вселенной страхом,
Тебя со всеми смерть сравнит».
Но также очевидно и то, что такие идеи не могли быть востребованы ни в советское
время, ни в предшествовавший ему рационалистический век. Таким образом, выходим на
истинную подоплёку «забвения» Хераскова. Идеи, пронизывающие его творчество (а это,
прежде всего, традиция мистического христианства, «внутренней церкви») вступали в
противоречие с идеями, доминирующими в общественном сознании XIX-XX столетий, и
потому виделись крайне нежелательными в смысле их распространения и обсуждения.
Удобнее всего было объявить их устаревшими и не имеющими больше ценности – и
напрочь забыть, сохранив лишь в виде реликта для хрестоматий по истории литературы.
Интегральная литература
Вернёмся, однако, к первой нити – к «бурному развитию» русской литературы в начале
XIX века. Плывущие в мейнстриме литературоведы, как правило, упускают из вида, что
процесс дифференциации заключает в себе изменения не только положительные – как
усовершенствование внешних форм и утончение внутренних нюансов – но и
отрицательные. К последним, прежде всего, относится дезинтеграция – утрата цельности.
И хотя в дальнейшем развитии русской литературы можно увидеть оба противоположных
вектора – как дифференциальный, так и интегральный – но на поверхность литературного
процесса выносится продукт почти исключительно первого, в то время как результат
второго остаётся в глубинах. Если именно с этой точки зрения посмотреть на процесс
развития русской литературы, то откроется весьма неожиданная картина.
В 1835 году вышла статья Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя», с
которой начинается утверждение приоритета Гоголя в русской литературе. В статье он
рассматривается – с последующим вручением ему лаврового венца лучшего нашего
писателя – в общем контексте тогдашней отечественной беллетристики. Читаем: «Одно из
главнейших, из самых видных мест между нашими повествователями (которых, впрочем,
очень немного) занимает г. Полевой. Отличительный характер его произведений
составляет удивительная многосторонность, так что трудно подвести их под общий
взгляд, ибо каждая его повесть представляет совершенно отдельный мир. Что есть
общего или сходного между «Симеоном Кирдяпою» и «Живописцем», между «Рассказами
русского солдата» и «Эммою», между «Мешком с золотом» и «Блаженством безумия»?
Правда, этих повестей немного и они не все одинакового достоинства, но можно
сказать утвердительно, что каждая из них ознаменована печатию истинного таланта,
а некоторые останутся навсегда украшением русской литературы. В «Симеоне
Кирдяпе», этой живой картине прошедшего, начертанной могучею и широкою кистью,
поэзия русской древней жизни еще в первый раз была постигнута во всей ее истине, и в
этом создании историк-философ слился с поэтом…»
На что здесь указывает Белинский? Во-первых, на многосторонность творчества Николая
Полевого, на то что каждая его повесть это новая грань – и в то же время часть единого
целого. Совершенно отдельный мир – отдельный, но всё же мир, то есть нечто цельное,
целое. Капля воды, содержащая в себе свойство океана. Отдельная грань бриллианта, в
которой видна сущность всего бриллианта. Как это удалось Полевому? Историк-философ
слился с поэтом – и поэзия русской древней жизни была постигнута во всей ее истине.
Белинский таким образом отмечает не что иное как именно ИНТЕГРАЛЬНУЮ сущность
творчества данного писателя.
Но что же дальше? Куда идёт мысль критика после столь знаменательного открытия?
Логично было бы ожидать, что к всяческому продвижению воспринятой интегральной
идеи. Но… через несколько страниц – после того как отдал должное достоинствам –
Белинский идёт прямо противоположным путём – и усматривает в этом «существенный»
недостаток! Читаем: «Но в его повестях или, справедливее, в большей части его повестей
есть один важный недостаток, о котором я с намерением умолчал в своем месте. Этот
недостаток состоит в том, что в них, как и в его романах, при многих очевидных
признаках истинного творчества, истинной художественности, заметно и большое
участие ума, этого ума пытливого, светлого и многостороннего, который в
художнической деятельности ищет отдохновения и для которого и самая фантазия
есть как бы средство изучать природу и жизнь человека. Это, по большей части,
синтетические поверки аналитических наблюдений над жизнию. Посмотрим, нет ли
между нашими такого поэта-повествователя, для которого поэзия составляла бы цель
жизни, а наука была бы ее отдохновением, для которого повесть была бы родом, а не
формою, родом столько же необходимым и безотносительным, как повесть для
Бальзака, песня для Беранже, драма для Шекспира, который был бы только поэт, а не
другое что-нибудь, поэт по призванию, поэт по невозможности не быть поэтом. Мне
кажется, что под этими условиями из современных писателей никого не можно назвать
поэтом, с большею уверенностию и нимало не задумываясь, как г. Гоголя».
Смысл данного пассажа состоит в том, чтобы с утверждением самодостаточности и
безотносительности поэзии лишить её интегральной встроенности в единый духовный
космос, чтобы поэзия составляла бы цель жизни – а точнее сказать: САМОЦЕЛЬ. Ум
противопоставляется фантазии, вдохновению ЧИСТО поэтическому, суггестивному,
иррациональному, – безотносительному, то есть отдельному в смысле самодостаточности.
Организм лишается сердца и головы и в таком виде стремится к полноценному и
полновластному существованию.
Впрочем, мы отдаём себе отчёт в том, что критик не мог думать иначе вследствие
ограниченности собственных ресурсов. Его мысль заключалась в охвате того
ограниченного пространства, которое могло вместить его сознание: сердце и голова
воспринимались им где-то в другом месте – жизнь исключительно земная представлялась
абсолютной, полной, безотносительной и самодостаточной – и таким образом была
запрограммирована т. н. «натуральная школа».
Полное отделение поэзии от философии – зло это или благо? Совершенствование поэзии в
самой себе? Но что такое поэзия сама в себе? Кто сказал, что в самой себе она не может
содержать философии? Не просто философской стихии, а упорядоченной концепции. А
упорядоченность обязательно предполагает работу ума. Следовательно, столь жёсткое
разделение и противопоставление поэзии и философии оказывается изначально
ущербным.
Другое дело, насколько органичен такой – философско-поэтический – синтез, то есть
насколько это ХУДОЖЕСТВЕННО? В этой связи ещё 10 лет назад в статье, посвящённой
юбилею Владимира Фёдоровича Одоевского, мы отмечали, что в художественном
творчестве В.Ф. остается больше философом, чем художником. Главным для него в
любом случае является идейное содержание, порой его повести напоминают
философские, а то и откровенно дидактические, трактаты. С одной стороны это
несколько снижает художественный уровень, но с другой – подчеркивает стремление
создать четкую философскую систему.
Но даже и в творчестве Одоевского, который сначала всё же философ, а уж затем поэт,
различные произведения являют собой также и различный уровень синтеза. Если цикл
«Русские ночи» – это, прежде всего, философия – и не только по содержанию, но и по
форме это нечто среднее между художественным произведением и философским
трактатом. И совсем другое дело такие новеллы как «Косморама», «Сильфида»,
«Саламандра», «Живописец» – шедевры, выполненные с высочайшим художественным
как мастерством, так и чувствованием. В отличие от философичности «Русских ночей»,
где приоритет однозначно отдавался интеллекту, здесь – в первых трёх вещах (т. н.
фантастических новеллах) – во главу угла была поставлена имагинация, фантазия,
алхимический символизм, в реалистическом же «Живописце» эффект достигнут путём
чёткого фиксирования основополагающей идеи искусства.
Что же до Полевого, то философский аспект в чистом, художественно не в полной мере
растворенном виде свойствен лишь его исторической прозе: «Повесть о Симеоне, князе
Суздальском» (первое название – «Симеон Кирдяпа»), романы «Клятва при гробе
Господнем», «Иоанн Цимисхий». А вот новеллы из цикла «Мечты и жизнь» при всём
жанровом разнообразии художественно безукоризненны – синтез проведён здесь на
высшем качественном уровне. И совершенно прав Белинский, утверждая, что эти повести
останутся навсегда украшением русской литературы. Вот только об этом мало кто знает.
Писатель Полевой сегодня менее известен даже чем писатель Одоевский. И мало кому
достанет храбрости, чтобы поставить их в один ряд с Пушкиным, Гоголем, Лермонтовым.
Причина же забвения не в величине таланта, а в том что это писатели другого –
ИНТЕГРАЛЬНОГО – ряда! Мало кто способен вместить целое и не подавиться. И потому
вследствие невосприятия ИНТЕГРАЛА, сознательному либо подсознательному
противоборству, интегральная литература, в русле которой творили Полевой и Одоевский,
всегда была и остаётся литературой нежелательной. «Блаженство безумия», «Живописец»,
«Аббаддонна» Полевого, «Фрегат «Надежда»» Бестужева-Марлинского, «Ижорский»
Кюхельбекера – кто сегодня знает эти произведения, кто их изучает? Они – в глубине…
Исходя из идеи интеграла, становится вполне понятным негативное отношение Николая
Полевого к творчеству Гоголя и Лермонтова. В статье «Похождения Чичикова, или
Мертвые души. Поэма Н. Гоголя» (1842) он пишет: «Изобразить человека с его добром и
злом, мыслью неба и жизнью земли, примирить для нас видимый раздор
действительности изящною идеею искусства, постигшего тайну жизни, – вот цель
художника, но к ней ли устремлены «Герои нашего времени» и «Мертвые души»?
Напрасно будете вы ссылаться на Шекспира, на В. Гюго, на Гете. Кроме того, что худое
и у Шекспира худо, Шекспир не тем велик, что Офелия поет у него неблагопристойную
песню, Фальстаф ругается и нянька Юлии говорит двусмысленности, но похожи ли ваши
грязные карикатуры на создания высокого гумора Шекспирова, на исполинские образы В.
Гюго (мы говорим об его «Notre-Dame de Paris»), на многосторонние творения Гете!»
Ныне нам здорово мешает тот шлейф, что тянется за именами Гоголя и Лермонтова,
шлейф, за которым не различима истинная их суть. На шлейфе написано: Ах, великие! – и
больше ничего не видно. Для Полевого же и Гоголь, и Лермонтов являются не
авторитетами незыблемыми, а коллегами по цеху – к тому же, младшими коллегами. И
неприятие их проходит на сущностном уровне, а именно – в противоположности
устремлений. Идея искусства по Полевому – идея интеграла, в то время как его оппоненты
пускай и весьма своеобразные и значительные, но продукты дифференциации.
Именно в Гоголе Белинский увидел поэта в чистом виде. Но как всегда ошибся. Да,
Гоголь, пройдя чисто поэтический малороссийский цикл, устремился в пространство
сатиры, гротеска, что в своей дифференциальной самодостаточности приводило в восторг
партию Белинского и вызывало негодование т. н. «реакционного лагеря». Но это – до
поры до времени. Природа Гоголя также была устремлена к интегралу и по этой причине
он начал переосмысливать собственное творчество, аллегорически трактовать «Ревизора»,
стремиться превратить горизонтальную сатиру «Мертвых душ» в некое подобие
«Божественной комедии» с адом, чистилищем и раем. И первый том в этом плане виделся
ему лишь низшей составляющей грандиозного здания. А дальше… а дальше – в силу
несоответствия сатирического дара с религиозными устремлениями – вместо второго (не
говоря уж про третий!) тома «Мёртвых – надо полагать, воскресших и преображённых –
душ» явились «Выбранные места из переписки с друзьями» – образец мысли
интегральной, принятый в штыки всей тогдашней «прогрессивной общественностью», о
чём через полстолетия Константин Случевский скажет так:
Смеялся много он! но понял, что смешки,
Как отрицание, – печальное явленье!
Кагалом яростным он принят был в свистки
И на себе познал великое глумленье!
Второй упомянутый «гений» – Михаил Лермонтов при всей своей несомненной
одарённости был проводником литературы однозначно дифференциальной, первым
представителем на русской почве течения под названием декаданс. Термин этот в
приложении к литературе стал применяться во Франции в 1880-х, в России – в 1890-х,
однако тотальное разочарование, бессмысленность существования и полная утрата
ориентиров – доминанта как «Героя нашего времени», так и всего творчества Лермонтова
– да, пожалуй, не только творчества, а и непосредственно самой жизни (и смерти!)
И скучно и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..
А годы проходят – все лучшие годы!
Любить... но кого же?.. на время – не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь? – там прошлого нет и следа:
И радость, и муки, и всё там ничтожно...
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг –
Такая пустая и глупая шутка...
Что это если не декаданс? Но «демократическая партия» увидела в нём нечто другое –
трагизм гения в условиях «тюрьмы народов» – сведя всё к социальному аспекту. Прелесть
же стихов Лермонтова, прелесть его «Героя» – это прелесть увядания, прелесть декаданса.
Отсюда и популярность.
Причина же крайне негативной критики Полевого в адрес «Героя нашего времени»
очевидна – она заключалась в изначальном противоречии интегральной идеи искусства с
тем, что составляет основу декаданса – то есть полной утратой ориентиров. Но
закономерно, что голос его канул в Лету (а вернее – ушёл в глубины), в то время как
Лермонтов наряду с Пушкиным и Гоголем стал третьим общепризнанным столпом
русской словесности первой половины XIX века. По сути же – дифференциальное
возобладало над интегральным, на пьедестал же ненароком возвели три сущности –
пустоту, антипространство и декаданс – негатив творчества трёх главных русских поэтов.
И потому столь зыбко-уязвима позиция нынешних ура-патриотов, что строится она не на
прочной основе, а всего лишь на производном шлейфе. На усвоенных с детства
установках, на учебниках, на школьной программе, на памятниках, на постоянно
повторяемых формулировках, не учитывающих истинной природы, не учитывающих
законов мироздания. Спору нет, и Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов – замечательные,
интереснейшие, прекрасные поэты – но по природе своей это не столпы в полном смысле
этого слова, ибо столпы не могут состоять из пустоты, антивещества и упадочных
настроений.
А прелесть исчезает очень просто. Как в романе «Невидимые волны» Митрофана
Лодыженского: «Да, действительно, – сказал себе Сухоруков, – жизнь есть глупая
шутка, но только для тех, кто живет во тьме своего неведения, отдаваясь своей злой
воле… Кто живет рассудочным умом язычника, кто не знает иной жизни, не знает, что
есть мудрость иная, высшая над нами, пришедшая к людям из иного, высшего мира…»
Уйдя с литературной авансцены интеграл вовсе не сошёл на нет, а действовал de profundis
– из глубины, проявляясь с самых неожиданных сторон – как правило, где-то на
периферии – в стороне от литературного мейнстрима. Например, через Константина
Случевского:
Спит океан, в час зари убаюканный;
Вижу я, волны блестят сквозь туман!
Видны мне шара земного покатости…
Как ты безмерно велик, океан!
Сколько в нем волн! многим больше являлось их,
Чем созерцавших их в мире очей!
Больше безмерно от солнца далекого
Пало на них и погасло лучей!
Страшные цифры! но дело не в точности;
Что тут итоги, сравненья, подсчет?
Дело в могуществе духа бессмертного,
В том, что вопросы те дух задает!
Мысль тут важна, беспредельность вместимости,
Дерзостность мысли! что мысль та – титан!!
Как вы ничтожны, земные покатости!
Как ты беспомощно мал, океан!
Здесь необходимо сделать следующее уточнение: проводимое нами выявление
интегрального и дифференциального в литературе вовсе не означает однозначного их
противопоставления. Не жёсткий дуализм в смысле «дифференциальное – зло,
интегральное – благо», а взаимодополнение – анализ и синтез как две стороны одного
процесса – только такое прочтение мы имеем в виду. Но беда нашей литературы – именно
в отторжении интегрального, произошедшего в связи с ограниченностью господствующих
мировоззрений.
Благая сторона дифференциации – разработка парадоксов, способность вмещать их в
сознание, видеть одновременно разные грани одного явления, включая отрицание в нём
самого себя. И, например, выявление в Пушкине сущностной пустоты заключает в себе не
только отрицательное значение бессодержательности, но и буддийское понятие
«шуньята», о котором в книге парадоксов «Дао дэ цзин» (основе уже не буддизма, а
даосизма) говорится: «Тридцать спиц соединяются в одной ступице, образуя колесо, но
употребление колеса зависит от пустоты между спицами. Из глины делают сосуды, но
употребление сосудов зависит от пустоты в них. Пробивают двери и окна, чтобы
сделать дом, но пользование домом зависит от пустоты в нем. Вот почему полезность
чего-либо имеющегося зависит от пустоты».
Но пустоты пушкинской коснёмся ниже, а пока вернёмся к Случевскому и обратим
внимание на умение избегать однозначности и воспринимать парадоксальную сущность
поэзии на примере следующего свидетельства Валерия Брюсова, написанного на смерть
поэта в 1904 году: «Менее всего Случевский был художник. Он писал свои стихи как-то
по-детски, каракулями, – не почерка, а выражений. В поэзии он был косноязычен, но как
Моисей. Ему был нужен свой Аарон, чтобы передавать другим божеские глаголы; он
любил выступать под чужой маской: Мефистофеля, «одностороннего человека», духа
(«Посмернтные песни»), любил заимствовать чужую форму, хотя бы пушкинской поэмы.
Когда же, в «Песнях из уголка» например, он говорил прямо от себя, все у него выходило
как-то нескладно, почти смешно, и вместе с тем часто пророчески сильно, огненно ярко.
В самых увлекательных местах своих стихотворений он вдруг сбивался на прозу,
неуместно вставленным словцом разбивал все очарование и, может быть, именно этим
достигал совершенно особого, ему одному свойственного, впечатления. Стихи
Случевского часто безобразны, но это то же безобразие, как у искривленных кактусов
или у чудовищных рыб-телескопов. Это – безобразие, в котором нет ничего пошлого,
ничего низкого, скорее своеобразие, хотя и чуждое красивости. <…> Он не мог, не умел
соединить, слить в одно – художественное созерцание и отвлеченную мысль. Он был то
мыслителем, то поэтом. Его сознание, как тяжесть, лежало на крыльях его фантазии,
пригнетало ее к земле, лишало полета, но едва его мысль, став твердой ногой, пыталась
идти самостоятельным путем, как та же фантазия, взлетая опять, останавливала ее,
отрывала от земли, влекла за собой. Разрываемое между этими двумя волями,
творчество Случевского, как «Недоносок» Баратынского, носится «крылатый вздох
меж землей и небесами».
О каких особенностях свидетельствует данный фрагмент? Обратим внимание, прежде
всего, на умение совмещать, складывать, суммировать. При этом ни от чего не
отказываться, ибо если какое-либо явление имеет место в подлунном мире, значит оно
имеет и свой смысл. И прежде чем решить, как с ним поступить – принять его или
отбросить за ненадобностью, – необходимо постичь его во всей присущей ему НЕоднозначности.
Тогда откроется и бессмысленность литературной табели о рангах – всевозможных
ранжиров и канонов. Потому что каждое явление так или иначе это и часть целого, и – в
потенции – само целое. Потенция же реализуется в разнообразных неуловимых
проявлениях, и потому любой канон как нечто застывше-неизменное изначально ложен. И
если придерживаться какого-то канона, то исключительно… подвижного.
Упоминание косноязычного Моисея в привязке к красноречивому Аарону говорит о
стремлении к совмещению внутреннего смысла и внешнего воплощения, мысли и поэзии,
но в то же время об умении признавать не только синтез совершенный, но и скольконибудь частичный – отдавать должное уже самому стремлению к нему. По аналогии –
взгляд на красоту. Безобразие без пошлости – внешне, а не внутренне, и потому оно по
сути и не безобразие. Точно так же и красивость, которая является красотой внешней, а не
внутренней, и по сути вовсе не красотой.
Таким образом, мы видим множество взаимосвязанных и взаимно перетекающих граней и
явлений, не предполагающих жёстких и однозначных оценок. Дифференцирование
устремлено в бесконечность, и отсюда – постоянное обращение к образу Мефистофеля, к
этому хранителю тайны дифференциала…
Согласно системе Владимира Шмакова: «Божественный аспект – это высшее развитие
полной гармонии, это одновременное существование всей бесконечной множественности
частностей, живущих каждая своей собственной жизнью, и, вместе с тем, в целом
выливающихся в единую целостную гармонию. Все живет, все развивается, но ничто не
мешает другому; у каждой отдельности своя цель, свои средства, свой путь; все
свободно, но и все связано между собою высшим разумным законом.
Демонический аспект – это высшая степень развития разрозненности. Каждая
отдельность стремится к достижению своего максимального развития, не считаясь с
другими, и высшее развитие отдельности – это полный разрыв со всеми другими, это
достигнутое желание доминирования над всем».
(«Священная Книга Тота. Великие Арканы Таро». Абсолютные начала синтетической
философии эзотеризма. Аркан XV. Дьявол)
Всё это вместе взятое и легло в основу русского символизма. С одной стороны в нём
отчётливо проявилась интегральная тенденция, так как суть его – в восстановлении –
посредством символа – вертикали. Но в то же время, органически вытекая из
декадентства, по природе своей это был интеграл без ориентиров – как в упомянутом
«Недоноске» Баратынского, носится «крылатый вздох меж землей и небесами». Так что
вполне понятно почему Константин Случевский был признан одним из его предтеч, и
также предельно проясняется смысл скандальных стихов вождя русских символистов:
Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно.
Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа и Дьявола
Хочу прославить я.
Когда же в белом саване
Усну, пускай во сне
Все бездны и все гавани
Чредою снятся мне.
Итак, символизм органично включил в себя как плюс- так и минус-бесконечность –
бесконечность по модулю. Но с той особенностью, что – в связи с их постоянным
дифференциально-декадентским перетеканием – не было чёткого осознания где плюс, а
где минус. Взамен чётких ориентиров предполагалось нечто туманно-заоблачное, как,
например, звезда Маир у Фёдора Сологуба
Звезда Маир сияет надо мною,
Звезда Маир,
И озарен прекрасною звездою
Далекий мир.
Земля Ойле плывет в волнах эфира,
Земля Ойле,
И ясен свет блистающий Маира
На той земле.
Река Лигой в стране любви и мира,
Река Лигой
Колеблет тихо ясный лик Маира
Своей волной.
Бряцанье лир, цветов благоуханье,
Бряцанье лир
И песни жен слились в одно дыханье,
Хваля Маир.
Или неуловимая любовная субстанция (инь-ян) в эропоэтическом взаимодействии
Константина Бальмонта и Мирры Лохвицкой.
Но уже т. н. младшие символисты – Александр Блок и Андрей Белый были не
декадентами, предприняв попытку к восстановлению ориентиров. В основу интегральной
идеи Блока легло учение Владимира Соловьёва о Софии и Вечной Женственности, для
Белого же таковой стала антропософия Рудольфа Штайнера. Но это была как бы
информация из вторых рук, вторичный заряд энергии, для полноценного же
интегрального синтеза Блоку самому необходимо было быть Соловьёвым, а Белому –
Штайнером. И потому при всех несомненных достоинствах дифференциальных (Блок как
«образцовый поэт», Белый как новатор и оригинальный мыслитель) в интегральном плане
оба оказались маломощны.
Таким – интегральным в самом что ни есть показательном проявлении – стал поэтдуховидец Даниил Андреев, автор «Розы мира», «Железной мистерии» и поэтического
ансамбля «Русские боги».
Но это опять-таки не могло быть востребовано, по той причине, что прозрения подобной
силы не могут стать достоянием широкой публики. Мало кто способен вместить целое и
не подавиться. Посему интеграл РОЗЫ МИРА остался в глубинах, на поверхности же, как
водится, шёл процесс дальнейшей дифференциации, при котором каждая отдельность
стремится к достижению своего максимального развития. Показательными
результатами процесса являются и самодостаточность формы – важно не ЧТО, а КАК (В.
Набоков), и самодостаточность языка (И. Бродский), и, наконец, антилитература
постмодернизма – где под видом свободы самовыражения происходит полное погружение
в негатив, в антипространство – процесс бесконечной дифференциации с полной утратой
и отрицанием всех маяков, критериев и ориентиров. Не что иное как абсолютизация
относительности!
О сущности данного процесса читаем у Шмакова: «Критерий есть совокупность данных
опыта, вот почему развитие Божественнаго аспекта есть ясное сознание критерия.
Идеал твердо ставится сознанием, он ясно сознается им, имеется общее мерило,
ведается общий закон. Наоборот – развитие демонического аспекта есть полное
уничтожение чувства критерия, есть потеря мерила, есть потеря цели». – И далее:
«Правильное понимание природы зла и его генезиса мы встречаем и у христианских
мистиков. Так, по учению Дионисия Ареопагита, зло демонов есть лишь ниспадение их из
первоначального состояния, несовершенство, слабость, удаление от Божественной
Силы. Ближайшим следствием отсюда является невозможность в принципе определить
природу зла, как такового. Если категории добра при синтезировании друг друга
расцвечивают все новыми и новыми тональностями, слагающимися в стройное
гармоничное целое, то, наоборот, отдельные элементы зла в синтезировании отрицают
друг друга и в конечном пределе дают лишь голое отрицание какого бы то ни было
утверждения, т. е. и самого себя. Таким образом, в зле нет и не может быть a priori ни
конечного принципа, ни догмы, ни собственной воли, ни даже какой-либо определенности;
зло всегда конкретно, оно есть лишь отрицание добра и существует только как модус
отрицательного самосознания добра. Дионисий Ареопагит резюмирует сказанное говоря,
что зло есть нечто несуществующее… Зло есть все множественное, случайное,
частичное, дробное, безцельное, неоконченное, несовершенное, словом, то же бытие,
только взятое не в первоначальном его единстве и совершенстве, а в его выходе из себя, в
его разнообразии и снисхождениях, в его, так сказать, инобытии; оно есть как бы
убывающее и дробящееся благо».
IX
ВОКРУГ ХЕРАСКОВА:
КТО ТАКИЕ МАСОНЫ?
От любви земной к небесной
Возвращаясь к Хераскову, отметим, что его творчество это вершина интегральной русской
литературы, но – в отличие от Даниила Андреева или, к примеру, «Цитадели» СентЭкзюпери, – ещё не прошедшей сквозь горнило дифференциации. Доказательством этого
тезиса и займёмся.
И начнём с темы любви. Профессор Западов пишет: «Херасков очень строго относится к
чувству любви, считает его недозволенным и греховным. Он признает только
возвышенное духовное общение людей между собою в их порыве к познанию бога. За два с
половиной десятилетия, прошедшие со времени «Венецианской монахини», поэт
коренным образом переменил свои взгляды и стал проповедовать аскетизм, суровую
христианскую мораль взамен утверждения свободы человеческого чувства.
Но сладостей мирских доколе не забудешь,
Игралищем страстей и умственности будешь.
«Умственность» – страшный грех, разъясняет Херасков, человек должен надеяться не
на свой разум, а на бога. Но с официальной церковью поэт-масон не ладит по-прежнему».
И вновь профессор Западов даёт нам сразу несколько путеводных нитей. Его вклад в
изучение русской литературы XVIII века трудно переоценить: книги о Сумарокове и
Новикове, подготовка «Избранного» Хераскова… Но мало кому под силу преодолеть
основные стереотипы своего времени. Поэтому трактовки уважаемого профессора
заключают в себе всю ограниченность эпохи.
Так, нельзя отождествлять умственность и разум: ум, хитрость, изворотливость – это
одно, а разум и совесть – принципиально другое, первое – чисто земное, горизонтальное,
второе – связь земного и небесного, следующая ступенька на пути постижения высших
истин, вертикальное (и разуму свойственна как раз не умственность (умствования), а
глубинная мудрость, в которой, впрочем, заключается и сократовское «я знаю, что я
ничего не знаю»). Но понятно, что в атеистической марксистко-ленинской трактовке, раз
нет Бога, то не может быть и никакой связи с ним. Поэтому смысл и сущность идеи
Хераскова просто не улавливаются.
Для пояснения мысли о градации интеллектуально-духовной сферы человека обратимся к
источнику, на первый взгляд, несколько неожиданному в данном контексте. Но это только
на первый… Речь идёт о «Бхагавад-Гите»:
«Мудрецы провозгласили, что чувства выше безжизненных объектов, ум выше чувств, а
непоколебимый разум выше ума. А то, что выше такого разума, – сама душа. О
могущественный Арджуна! Зная, что душа полностью отлична от разума, укрепи ум с
помощью духовного интеллекта и уничтожь этого неукротимого врага – вожделение».
То же – в переводе с санскрита Б. Л. Смирнова:
Считают великими чувства, но выше их – манас;
Выше манаса – буддхи, Он – выше буддхи.
Постигнув, что Он выше буддхи, утвердив себя в Атмане, долгорукий,
Труднооборного рази супостата, принявшего образ Камы.
Таким образом, от разума переходим к любви. Нельзя согласиться с утверждением, что в
отношении чувственной любви взгляды Хераскова со временем в корне изменились. Здесь
нет ни противоречия, ни отказа от былых взглядов, напротив – налицо их развитие. И в
ранней пьесе «Венецианская монахиня» прочитывается вовсе не утверждение свободы
человеческого чувства (как то утверждает А. Западов), а изначальный трагизм любви
земной, абсолютно неподвластный человеческой воле и желанию, чего можно избежать
лишь следуя Высшим божественным установкам.
В результате акценты перемещаются – и открывается совершенно иная картина. Херасков
вовсе не считает чувство любви недозволенным и греховным. Он ничем не похож на того
горе-монаха, что из кельи своей шлёт проклятия на головы погрязших в чувственных
грехах мирян. Дело в том, что истинный христианин никогда таким заниматься не будет: и
лишь собственным примером и наставлением для тех, кто обращается к нему, он может
воздействовать на окружающий мир. Не проклятиями и осуждениями кого-то, а только
собственным примером и любовью. И для Хераскова возвышенное духовное общение
людей между собою в их порыве к познанию Бога – это не жёсткое навязывание
аскетических установок всему миру, это – его собственный духовный итог, то к чему он
пришёл. О том же, что это значит, говорится опять-таки в «Бхагавад-Гите»:
«Практикуя совершенную преданность Мне, бхакти-йог полностью подчиняет себе
чувства. Воистину разумен тот, чьи чувства подвластны ему.
С другой стороны, тот, кто следует по пути отречения, не предавшись Мне, мысленно
созерцает объекты чувств. Постепенно он привязывается к ним и у него рождается
страстное желание. Такое желание проистекает из привязанности, и, когда оно
насильственно сдерживается, возникает гнев.
Из гнева рождается заблуждение, которое приводит к полному беспамятству. Такое
забвение разрушает благой разум, а когда этот разум утерян, человек лишается всего.
Однако Мой преданный на пути отречения в любви (юкта-вайрагья) действует
исключительно ради Моего духовного удовлетворения, будучи свободным от
пристрастия и зависти. Так он обретает полное удовлетворение сердца, даже несмотря
на то, что его чувства соприкасаются с внешним миром.
Когда же человек обретает удовлетворение в своем сердце, все несчастья исчезают.
Затем разум естественным образом концентрируется на желанной цели. Поэтому
сердечная удовлетворенность приходит лишь благодаря бхакти, или преданности Мне».
Говоря о любви земной и небесной, мы естественно приходим к теме религии вообще и
христианства в частности. А ключевой в данном случае оказывается реплика Западова о
том-де, что по мнению Хераскова «человек должен надеяться не на свой разум, а на бога.
Но с официальной церковью поэт-масон не ладит по-прежнему». – И дело оказывается в
том, что Херасков – МАСОН!!!
Это наталкивает на мысль о двух чудовищах, поглощавших мореплавателей в
гомеровской «Одиссее». В случае же с наследием Хераскова Сциллой явилось
атеистическое, антихристианское мировосприятие, а Харибдой – уже на новом
историческом этапе – выступает весьма специфическая публика, которую – согласно
присущей ей доминанте – следует озаглавить псевдоправославным (сами они называют
себя православными, но называть и быть суть разные состояния) анти-«масонством».
Действие Сциллы сказалось в том, что трактовка идей Хераскова, равно как и всего его
творчества, на выходе получалась напрочь недостоверной, перекрученной в своей основе,
– и потому вместо того чтобы всячески изощряться в трактовках, гораздо удобнее было
просто забыть и не вспоминать, оставив для исторической видимости небольшой
фрагмент. Автор, в основе творчества которого лежала теистическая христианская
концепция, не мог быть принят в атеистическую систему. И потому – оставление
рудимента, но забвение по существу.
А что же предполагает, на что направлена Харибда? Для того чтобы разобраться с этим
необходимо уразуметь смысл взаимоотношений масонства и христианства, а также хоть
мало-мальски удовлетворительно ответить на вопрос: а что такое, в сущности, масонство?
В книге Александра Западова «Новиков» (М.: 1968, ЖЗЛ), в главе, посвящённой
заточению главного героя в Шлиссельбургскую крепость, фантазией автора
воспроизводится весьма забавный диалог между московским генерал-губернатором
князем Прозоровским и дежурным офицером Жеваховым, которому был поручен арест
Новикова:
«– Здравствуйте, князь Жевахов, – сказал ему Прозоровский. – И простите, что
потревожил в неуказное время. Но дело самонужнейшее, государственное и
отлагательства не терпит. Ведомо ли вам, кто есть розенкрейцеры?
– Никак нет, ваше сиятельство, – зычно, как на смотру, рявкнул Жевахов.
– А кто такие масоны, знаете?
– Такие в гусарских эскадронах не служат, ваше сиятельство. Это кто мяса не ест,
книги читает и баб не щупает, – отрапортовал Жевахов.
Прозоровский осклабился.
– Не то вы говорите, да, впрочем, оно даже и лучше, что так. А масоны, сударь, хуже
раскольников, и в Москве они печатают книги, наполненные дерзкими искажениями,
благочестивой нашей церкви противными и государственному правлению
поносительными. Государыня императрица их трактовать изволит злодеями» (сс. 161162).
Однако, при всей реалистической убедительности данного диалога, прочитывается в нём и
тонкая ироничность, острие которой направлено не иначе как на «благочестивую нашу
церковь» да на «государыню императрицу». Оно и не удивительно, ведь книга Западова –
продукт прошлой эпохи, когда отношение к монархам – особенно российским – и к
церкви – прежде всего, православной – было заведомо негативным. А что же сегодня,
когда отношение к этим институтам в корне изменилось? Как распутывается этот клубок
сегодня и распутывается ли вообще?
В поисках ускользающего «масонства»
За помощью в решении данной проблемы обратимся к Юрию Воробьевскому – его книге
«Пятый ангел вострубил», изданной – «по благословению святейшего патриарха
Московского и всея Руси Алексия II» – Украинской православной церковью, Полтавской
епархией, Спасо-Преображенским Мгарским монастырём (год издания не указан). В
качестве соавтора значится также некая Елена Соболева – как это станет понятным из
текста, «раскаявшаяся масонка». Таким образом, обращаясь к данному изданию мы
можем получить информацию, что называется, из первых рук – и от церкви, и от самих
масонов (не беда, что бывших) и от автора давно и успешно подвизавшегося на анти«масонской» тематике.
Чем ценна эта книга? – Тем, что отображает позицию весьма многочисленной публики –
книга продаётся в церковных книжных лавках и на околоцерковных раскладках и, судя по
отзывам, так же как и другие опусы того же автора (напр., «Русский голем. Дьяволиада
мировой культуры»), пользуется немалой популярностью.
Что она даёт для уяснения вопроса? – Книга показывает образ мышления этой публики, то
есть Воробьевский является общим его выразителем. Она также наглядно демонстрирует
причины, по которым тема, связанная с масонством и сатанизмом, настолько темна и
неосмысленна. Потому что такой образ мышления не направлен на прояснение, на
осмысление, а напротив – это некая куча мала, куда стаскивается всё на свете,
перемешивается так, что и сам чёрт голову сломает, и затем трактуется в духе крайне
примитивного дуализма. Не иначе что именно такую кучу обозначает то и дело
встречающееся словцо – ЖИДОМАСОНЫ.
В подтверждение сказанного обратимся к самому источнику – книге Ю. Воробьевского. И
начнём с главного нашего героя, ибо есть здесь и несколько упоминаний непосредственно
о Хераскове. В частности:
С. 79: «Меж тем в Авдотьино шла братская трапеза. Знаменитый Херасков сочинил к
такому случаю гимн: «Коль славен наш Господь в Сионе»».
С. 120: «Именно масоны превратили перевод в особое искусство. Херасков, Жуковский и
многие другие начинали как переводчики».
С. 258: «Приступая к изданию журнала «Полезное увеселение», известный масон
Херасков всерьез считал, что исправит нравы и заставит забыть пороки – словом.
Нарождающаяся интеллигенция не знала монашеской мудрости: слова опровергаются
словами, а кто опровергнет жизнь? И затевая свой любительский театр, не замечала,
кто суфлирует снизу».
Даже в столь, казалось бы, незначительных и нейтральных высказываниях сосредоточен
весь Воробьевский со всем своим анти-«масонством». Как в капле воды заключается
океан, так и в двух-трёх фразах человека – вся его сущность, и в вышеприведённых
умствованиях видим нагромождение различных мыслей и фактов вне каких-либо
логических и причинно-следственных связей.
«Всерьез считал, что исправит нравы и заставит забыть пороки – словом» – весьма
непродуманная формулировка. Поправим же незадачливого автора: Херасков всерьёз
считал, что как природный поэт обязан словом СПОСОБСТВОВАТЬ исправлению
нравов, а также – почему забвению?! – искоренению пороков. Трудно сказать что
означает приведённая «монашеская мудрость» – какие слова опровергаются, и зачем
опровергать жизнь? Что в жизни хочет опровергнуть автор? И что самое интересное –
сам-то Воробьевский чем оперирует? – словами, словами, словами.
И вот, согласно его словам, на сцену выходит Сам – тот, кто суфлирует снизу. И –
знаменитый Херасков сочинил к такому случаю гимн:
Коль славен наш Господь в Сионе,
Не может изъяснить язык:
Велик Он в небесах на троне!
В былинках на земли велик!
Везде, Господь, везде ты славен!
В нощи, во дни сияньем равен!
Тебя Твой агнец златорунный
Тебя изображает нам!
Псалтирями десятострунны
Тебе приносим фимиам!
Прими от нас благодаренье
Как благовонное куренье!
Ты солнцем смертных освещаешь;
Ты любишь, Боже, нас, как чад;
Ты трапезою насыщаешь
И зиждешь нам в Сионе град.
Ты смертных, Боже, посещаешь,
И плотию своей питаешь.
О Боже! Во Твое селенье
Да взыдут наши голоса!
И наше взыдет умиленье
К Тебе, как утрення роса!
Тебе в сердцах алтарь поставим;
Тебя, Господь, поем и славим!
Согласно наведённым интернет-справкам, этот переложенный стихами 64-й псалом
Давидов, положенный на музыку Дмитрием Бортнянским стал своеобразным «русским
«духовным» гимном, приобретя огромную популярность. Он исполнялся на вечерних
службах в армии, во время крестных ходов и церковных праздников. Примечателен такой
факт: колокола на Спасской башне Московского Кремля дважды в сутки вызванивали
«Преображенский марш» и дважды – «Коль славен наш Господь в Сионе...». Подобно
«Преображенскому маршу», этот гимн оставался популярным в Белой армии (армии А.
В. Колчака), а затем у русских эмигрантов».
Таким образом, мы фиксируем первое ключевое несоответствие: те, кого Воробьевский
изначально определяет служителями «диавола», то есть «жидомасоны», почему-то
слагают гимны Господу.
А вот ещё одно весьма любопытное место из книги Воробьевского. Говоря о результатах
назначенного Екатериной дознания относительно издаваемых Новиковым книг, автор
пишет: «Митрополит Платон в донесении царице оговорился: в содержании некоторых
трудов я, дескать, ничего не понял… Хоть и не понял, но беседы с «братом Коловионом»
(так запанибрата – «по-масонски» – называет Новикова Воробьевский. – О. К.) привели
иерарха к такому выводу: «Я одолжаюсь по совести и сану моему донести Тебе, что
молю всещедрого Бога, чтобы не только в словесной пастве, Богом и Тобою мне
вверенной, но и во всем мире были христиане таковые, как Новиков». Так Коловион
получил еще полтора года для своей деятельности» (с. 81). – То есть церковный иерарх
признаёт Новикова истинным христианином, но Воробьевского сей факт совершенно не
интересует, а беспокоит лишь, что Новикова не упекли сразу, а предоставили ещё полтора
года для его якобы богопротивной деятельности.
В другом месте он пишет: «…Герцен называл Новикова и Радищева сеятелями. Сеятели…
вирусных штаммов – это определение им действительно подходит. Чистая культура
микроорганизмов-идей, выделенная из больного тела Запада, гуляет по России. Таким же
сеятелем безумия был и Вольтер…» (с. 359). – Но в чём же состоит это «безумие», в чём
богопротивны взгляды Новикова и Радищева? Ведь парадокс: из книг Воробьевского, где
обличением «масонства» дышит буквально каждая страница, понять это очень сложно. По
той причине, что нет ни одной ссылки на тексты первоисточников – работы тех же
Новикова или Радищева – и мы не можем уяснить, с чем именно, с каким конкретно
«масонским» пунктом не согласен автор. В результате ускользает и сам предмет, а ясно
оказывается только одно – то, что конкретика для автора неважна, главное для него – само
слово «масон». Эдакое клеймо, по которому он определяет принадлежность к добру или
злу! Конкретное же наполнение остаётся побоку и – как следствие – тёмным и
неосмысленным, – читатель должен поверить на слово, что это какие-то страшные и
ужасные люди.
В таком случае попробуем прояснить суть вопроса с помощью других источников.
Например, «Истории масонства» (Смоленск. Русич. 2002) – книги, составленной на основе
вышедшего в 1914-1915 гг. двухтомника «Масонство в его прошлом и настоящем» (под
редакцией С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова). Читаем:
«Прекратив в 1777 г. издание «Ведомостей», Новиков в 1778 г. начал издавать журнал
«Утренний свет». Как видим, само название журнала соответствует тому стремлению
Новикова, с которым он так жаждал приблизиться к свету истины. На страницах
журнала мы не найдем разгадки тайн масонства, авторы ставят другие вопросы –
вопросы мироздания. Печатая переводы и переделки из Платона, Сократа, Сенеки,
Вергилия, Плутарха и других философов, журнал говорит о Боге, о душе, об отношении
человека к миру видимому и невидимому, о том, что такое человеческая личность и
каким должно быть ее назначение в жизни». – Для человека разумного что может быть
естественней поиска истины?! Но, быть может, камень преткновения в том, каким путём
эта истина постигается, что берётся за основу? И вот через несколько страниц находим
ключевую фразу: ««О заблуждениях и истине» – так называлась книга «неизвестного
философа», которой пришлось сыграть большую роль не только в масонстве вообще, но
и в русском масонстве в частности. Автором ее был Клод де Сен-Мартен». – Это именно
тот момент, который позволит нам прояснить в корне запутанный вопрос о том, кто такие
масоны и с чем их едят? Потому как учение именно Сен-Мартена и учителя его дома
Мартинеса де Паскуалиса легло в основу течения в масонстве получившего название
«мартинизма». В чём же суть данного учения?
«Правда, и у Сен-Мартена много неясностей, – пишет автор очерка «Н. И. Новиков и И.
Г. Шварц» из «Истории масонства», – и у Сен-Мартена есть противоречия и смешение
мистики Якоба Бёме с материалистическими теориями Виллермоза, Сведенборга и
Парацельса. Но все это искупалось главным. Все положения Сен-Мартена были
объединены одной идеей, и это – идея добра». – Трудно, конечно, согласиться что
Сведенборг и Парацельс были материалистами, но вовсе не это нас сейчас интересует. А
то, что определяющей оказывается ИДЕЯ ДОБРА: «Как выйти из заблуждения среди
неведомого, как отвратиться от заблуждения? И Сен-Мартен отвечает: надо
вернуться к добру. Как же это сделать? Нужен практический путь. Этот путь
указывали идеи, которые были положены в основу книги Арндта «Об истинном
христианстве»».
Таким образом, находим ещё один источник – отправную точку – на основании чего
можно уяснить природу русского масонства конца XVIII века – те идеи, на которые оно
ориентировалось: «Существуют также свидетельства о том влиянии, которое
оказывали Арндт и Сен-Мартен на отдельных последователей масонства. Так, видный
масон Лопухин сообщает в своих записках, что, прочитав Сен-Мартена и Арндта, он
отрекся от вольтерианства и написал (изданную Новиковым в 1780 г.) книгу «О
заблуждениях разума»». – Как видим, это был отказ от взглядов того самого Вольтера –
по Воробьевскому, «сеятеля безумия» (а также – по совместительству – проводника
масонства и ненавистника христианства). На что же променяли его русские мартинисты?
Читаем в той же книге: «К чему же призывал Арндт? Христос, говорил Арндт, указал
путь истинной жизни. Надо идти на помощь ближнему, надо идти к слабым и больным,
надо помогать своим братьям-людям, ибо в этом истинная вера, истинное служение
Богу. Житие современных людей, говорит Арндт, совершенно нехристианское, как будто
они живут в язычестве. Через веру, через покаяние люди смогут стать истинными
христианами – новыми людьми, и это будет их второе рождение. Но трудно быть
христианином, ибо учение мира противно учению Христа. Люди забыли Христа. Они
заменили его Христом из золота, камней и драгоценных металлов. Надо вернуться к
Христу… и тогда, через любовь, истинный христианин обретет царствие Божие внутри
самого себя. Надо отметить еще одну черту в учении Арндта – его отрицательное
отношение к современному духовенству и в некоторых случаях к обрядам современной
ему церкви».
И что же получается? Что масоны направлены на поиск «истинной жизни», «истинной
веры», «истинного служения Богу» – одним словом, «истинного христианства»? Но это же
в корне противоречит утверждению, ставшему сегодня общим местом – об
антихристианской, дьявольской сущности масонства (жидомасонства), о чём на каждой
странице своих трудов твердят Воробьевский и ему подобные!
Стоит, однако, присмотреться к последней фразе из приведённой цитаты – об
отрицательном отношении Арндта к современному духовенству. Вспомним также о
замечании Западова о Хераскове: «Но с официальной церковью поэт-масон не ладит попрежнему». Но в то же время – митрополит Платон желал чтобы побольше было христиан
таких как Новиков, а созданная на слова Хераскова песня (переложение псалма 64) стала
неофициальным духовным гимном России. То есть налицо конфликт именно внутрихристианский – отличие в разумении того, что есть «истинное христианство», – иными
словами, покушение на авторитет официальной церкви. Не в этом ли состоит одна из
главных причин тотальной демонизации масонства у авторов антимасонской
направленности?
Но дело в том, что говорить о масонстве в общем и целом – значит говорить ни о чём. Так
же, как и о христианстве в целом. Чтобы разобраться в этих вопросах, крайне необходима
КОНКРЕТИКА везде и во всём – в каждом случае, в каждой мысли, в каждом
утверждении. Иначе как поймёшь, что стоит за словами «истинное христианство»? И не
случится ли так, что там, где «истинное христианство», мы наверняка отыщем и
«истинное масонство»?
Интересное свидетельство на этот счёт находим в книге А. Западова «Новиков» (М.: 1968,
ЖЗЛ): «Однажды, приехав к Рейхелю, Новиков расспросил его о системах масонства –
тамплиерской, французской, строгого наблюдения. Рейхель в кратких словах отвечал.
Беседа велась через переводчика. Новиков понял, что различия носят внешний характер.
Истина опять ускользала. Кому верить, с кем общаться на трудном пути исправления?
– Барон, – сказал Новиков, – я не прошу вас, чтобы вы мне открыли тайны высших
масонских градусов. Я буду терпеливо ждать, пока мне станут доступны их тайны,
упражняясь в самопознании. Но дайте мне такой признак, по которому я мог бы
отличить истинное масонство от ложного?
На глазах его выступила влага. Рейхель также прослезился.
– Я охотно выполню желание ваше, – ответил он, – и скажу верные признаки. Всякое
масонство, имеющее политические виды, есть ложное. Если вы услышите слова о
равенстве и вольности – вы говорите с ложным масоном. Наша вольность – не быть
покоренным страстями и пороками, равенство же достигается орденским братством.
Никаких политических союзов, пьяных пиршеств, развратности нравов. Только
самопознание, строгое исправление самого себя по стезям христианского нравоучения.
Это масонство истинное, или ведет к его отысканию. Правда, оно малочисленно и
пребывает в тишине» (сс. 116-117).
Но уточним цель нашего исследования. Для чего мы это делаем? Чтобы в противовес
Воробьевскому и ему подобным авторам доказать, что масоны хорошие, а не плохие?
Вовсе нет! Единственная наша цель – прояснить вопрос, а это значит –
КОНКРЕТИЗИРОВАТЬ.
Итак, Рейхель утверждает, что «истинное масонство» вне политики. На что Воробьевский
отвечает: «Если масоны и не занимаются политикой, то политика занимается масонами.
Имя этой «политики» – диавол. Он лично руководит действиями лож. Но именно
потому, что здесь видны следы рогатого, он и заметает их кисточкой хвоста». (335)
На чём же зиждется столь лобовое – ни мало ни много лично сам дьявол! – обвинение
масонов в сатанизме? Откуда информация? Не иначе как из первых рук? И действительно:
соавтором Ю. Воробьевского, как мы говорили, является некая Е. Соболева –
раскаявшаяся масонка, экс-супруга главного российского масона. В предисловии читаем:
«Мы встречались с Н. Н. неоднократно. Не только с ним самим, но и с его энергичной
супругой. Как оказалось, в парижской женской ложе «Роза ветров» Елена Сергеевна
тоже посвящена в подмастерья. Уже получила на свой ритуальный фартук
пламенеющую пентаграмму с буквой G – Геометр… Скромный второй градус… Однако,
роль Елены Сергеевны в воссоздании российского Ордена трудно переоценить. Недаром в
масонских кулуарах Парижа говаривали: у русских нет Гранд-Мэтра, есть ГрандМэтресс… Кто бы мог подумать: пройдет немало времени, и она позвонит мне, и
скажет изменившимся голосом: «Юрий Юрьевич, у меня – страшное несчастье… Мне
надо с вами встретиться». А потом передаст рукопись, с которой начнется создание
этой книги. (В целях безопасности имя и фамилия моего соавтора изменены)».
По ходу вопрос: чьей безопасности и от кого? Ежели это действительно супруга главного
масона (а именно: Великого Мастера Великой ложи России Георгия Борисовича
Дергачёва), то все, кому надо, узнают её и под изменённой фамилией! Получается какаято игра в «казаки-разбойники». Момент этот хоть и не относится непосредственно к
нашему
предмету,
зато
свидетельствует
о
чрезмерной
эмоциональности,
экзальтированности автора, а также говорит о полном отсутствии у него способности к
анализу-синтезу.
Итак, она рассказывает свою историю: от знакомства со своим будущим мужем – через
воссоздание российского масонства – и до разрыва – как с мужем, так и с масонством.
Каким же предстаёт в её исповеди современное масонство, какие его тайны она
раскрывает? Читаем: «Откуда была у меня в непробиваемые, глухие 70-е годы эта
безумная уверенность в том, что я тебе сделаю какую-то неслыханную, великолепную
карьеру? Я знала, что мы будем гулять по Елисейским полям и Бродвею, я уже видела
тебя не в провинциальном нелепом костюме, а в смокинге… Я уже мчалась с тобой на
иномарке… Господи! Прости мою глупость! Тогда вся эта мишура представлялась
какой-то ценностью и даже «великой целью». (52)
Но вот мечты начинают сбываться: «Жан подкупил тебя сразу, прямо на месте: он
устроил тебе этот праздник живота в Москве. Впервые позвонив, он пригласил сразу же
на ужин в ресторан французского отеля, и ты потом долго и подробно описывал мне
меню и особенно «шведский стол» десертов. Вспоминая ртом сливочную нежность
шоколадного мусса, я догрызала каменный пряник с запахом мыла и заочно влюблялась в
нашего нового «брата»». (152)
«Потом мне было не до того. Начиналась светская жизнь! Начиналось наше
победоносное и головокружительное шествие по салонам и приемам». (183)
«Мы упивались своим успехом. Сверкали бриллианты трухлявых леди, хрусталь и
позолота аристократических залов… все подползали к нам, все хотели с нами
сфотографироваться! Слепящая белизна салфеток и горячих фарфоровых старинных
сервизов, потрескивающие свечи, непередаваемый букет и вкус французских вин из
толстых запыленных бутылок… Живые розы и полумертвые носители неперечислимых
громоздких титулов. Музыка оркестра и изящных комплиментов…» (185)
Для чего мы приводим всю это малоинтересную галиматью? Чтобы из первых рук
убедиться в том, что речь идёт об АБСОЛЮТНО разных предметах! И действительно: что
общего у русских мартинистов со взятыми за основу учениями Сен-Мартена и Арндта и
изначальным банальным карьеризмом представленных в книге Воробьевского «мадам» и
«месье»?
О том, чем они занимались по существу своего «масонского» предназначения – кроме
организаторских хлопот и встреч по этому поводу с зарубежными коллегами – в исповеди
нет ни слова. Лишь под конец – не в основном даже тексте, а в сноске – находим: «В
«Аврору» входят многие богатые люди, представляющие в России интересы крупнейших
фирм, в том числе – принадлежащей семейству Оппенгеймеров алмазно-бриллиантовой
корпорации «Де Бирс»» (363). – И, несмотря на фрагментарность данного свидетельства, –
вот и вся разгадка таинственных «масонов» – бизнес-интересы!
Очевидно, что общим у одних «масонов» с другими является одно только название. Как
же тогда их можно отождествлять, подводить под общий знаменатель?
Могущество нуля, или «Мчатся бесы…»
Но это вовсе не смущает Воробьевского. Он действует по принципу: если факты против –
тем хуже для фактов. Вернее, он просто не считает нужным уделять им внимание,
вдаваться в подробности – почему и отсутствует всякая конкретика.
Это такая особая манера мыслить – говорить о главном предмете косвенно,
исключительно сквозь призму собственного мировоззрения, то есть говорить не о
предмете, а о своём представлении о предмете. Как, например, в следующем фрагменте,
где комментируется высказывание некого чиновника из администрации президента
Путина:
«По Игнатьеву, «Россия может и должна стать первым государством, где будет
реализована политика интеграции мировых религий». Такое – по сути
дьяволократическое, основанное на каббале – государство хотели создать еще
московские розенкрейцеры. Не этому ли были посвящены секретные документы по делу
Новикова, которые загадочным образом сгорели в царском дворце? Однако рукописи,
продиктованные диаволом, не горят» (с. 394). – Но что же – приводит эти несгоревшие
документы Воробьевский? Ничуть не бывало! На чём же основаны столь громкие
заявления? Исключительно на собственных представлениях и фантазиях! Разве разобрал,
проанализировал автор каббалистическое учение, доказал дьявольскую его сущность?
Нет, ибо для него эти положения не требуют доказательств, и само слово «каббала» имеет
изначально ругательный смысл, для него это то, что инспирировано «дьяволом»,
«сатаной», то есть – в представлении Воробьевского – личным противником Бога, а
значит и самого Воробьевского. И что за беда, если нет доказательных фактов? Зачем себя
утруждать? Разве недостаточно одного предположения, что такие документы могли быть
в архиве Новикова? А то чем ещё могли заниматься «масоны», эти носители
«дьявольского клейма», о которых читаем:
«Они могут перекреститься, могут почти правильные слова сказать. Поминают
Господа…» – а дальше следует один из немногих воробьевских заходов в сферу
собственно богословия: «А все-таки, когда знаешь подоплеку их духовности, от которой
они и не отрекаются, понимаешь: каббалистические-то их учителя, говоря «Христос»
имеют в виду не Спасителя. Для них Христос, то есть «помазанник» – это ожидаемый
мессия, машиах! Осознавая это или нет, но, попав в сети неоиудаизма, русские масоны
еще со времен Новикова полностью обесценили свои якобы православные пассажи. Ведь у
каббалиста каждое слово может иметь множество значений» (с. 380). – И опять-таки
без каких-либо фактических подтверждений, без подробного анализа столь сложных
понятий как христианство, иудаизм, каббала. Профанация, одним словом. Сфера
богословия, сводимая на примитивнейший (профанный) уровень. Результатом чего и
является общий знаменатель для Воробьевского – под него он подгоняет всё не
вписывающееся в его представление о мире. Итак:
«Сонмы неверующих (уточним: неверующих в то, во что верует Воробьевский. – О. К.)
смотрят и не видят, мыслят и не понимают. Не осознают страшной вещи: именно онито, в сумме, и составляют «мистическое тело» диавола. Впрочем, Господь и Сам
показывает слепцам следы рогатого. Следы эти раздвоенные – ложь и смерть» (с. 336).
Согласно этой «вере», в мире действуют две силы: дьявольская – посредством иудеев и
масонов (то бишь жидомасонов) – и божественная – через официальную церковь (прежде
всего, православную и, местами, католическую) – в том числе посредством таких её
рупоров как Воробьевский. И невдомёк ему, что сам по себе такой подход – клевета на
Мир Божий – великолепный в своём многообразии – единый и гармоничный, но в то же
время расцвеченный бесчисленным количеством красок, цветов и оттенков, мир, в
котором действует бессчётное множество сил и энергий – как правило, не в чистом, а в
смешанном виде. Но сводимый – то есть принижаемый – Воробьевским до
примитивнейшего дуализма – до противоборства двух – по сути равнозначных – сил. И –
исходя из того же Воробьевского – даже не совсем равнозначных: в его писаниях
дьявольская сила выглядит гораздо мощнее, интересней и многообразней. И этот
знаменатель буквально преследует автора:
«Но вдруг рогатый «исчезает» совсем. Новая шутка диавола состоит в том, чтобы
доказать, будто его не существует. Он может прикинуться «информацией», которую
закачивает в адепта на пятом уровне курсов НЛП. А может – плюхнуться в озеро и
обернуться неуловимым зоологическим феноменом. Он растекается «тонкой энергией».
Вихреобразно закручивается в торсионные поля пси-генераторов. Становится
всепроникающим микролептоном или любой другой «недавно открытой» частицей. Он
может плавать в подводной стихии «бессознательного», поджидая, кто забросит
удочку. И быть пойманным в качестве «архетипа»» (с. 99).
Дьявол повсюду – ему подчинено буквально всё – как сама жизнь, так и все попытки её
постижения и отображения – театр, литература, искусство, наука: «…Символично – пишет
Воробьевский: один из первых основателей масонства в России Елагин был смотрителем
императорских театров. А первый отечественный театр Федора Волкова в Ярославле
одновременно являл собой и масонскую ложу» (с. 259).
Но если театральное искусство, смысл которого состоит в переносе на сцену главных
жизненных коллизий, – если театр изначально является «масонской ложей», то немудрено
с той же ложей отождествить и всю жизнь как таковую: «Весь мир – театр, а люди в нем –
актеры»! Именно этим Воробьевский и занимается – отождествлением искусств и наук с
масонством и сатанизмом – в чём состоит главная идея ещё одной его книги – «Русский
голем. Дьяволиада мировой культуры»:
«Вошел изящный кавалер. Он бледен. В бархатном колете и шелковом плаще, со шпагой.
На берете колеблется тонкое петушиное перо… Узнали? Да, это он – Мефистофель.
Говорят, столь известным его сделал Гете… А, может быть, наоборот? Может быть,
это великий классик стал таковым благодаря демону?»
««…дерзновенный ум Ди устремлялся далее звезд, жаждал овладеть занебесной
математической магией, магией заклятия ангелов. Ди твердо верил, что добился
контакта с благими ангелами, и что именно они раскрыли перед ним перспективу
научного прогресса…» так возвышенно описывают современные масоны всю эту
бесовщину».
«Наука забыла, какой дух породил ее. А ведь когда демон шепчет рецепт безсмертия (так
в тексте. – О. К.) человеку на ухо – это и есть зачатие науки».
А вот что находим в книге «Пятый ангел вострубил»: «Это, кстати, талмуд
сформулировал горизонтальный, никак не связанный с Богом, морально-этический
постулат кагала: «Один за всех и все за одного!» Масон Александр Дюма – подхватил
лозунг. Адольф Кремье, основывая «Всемирный еврейский союз», взял его девизом. Это
потом уже советские пионеры в горн протрубили, проскандировав бодрую кричалочку.
Не понимали, что она – на самом деле – означает. И к чему надо быть «всегда
готовым»… Просто отдали салют (изобретение опять же – масонское). Сверкнули
красными звездочками на груди. С язычком пламени… Тоже «интелегио» – в честь
главного поджигателя, демона Прометея… Ох, не надо бы со спичками баловаться! Мы,
бывшие пионеры, это понимаем теперь уже, задним числом» (42). – Три мушкетёра,
пионеры, Прометей – то бишь романтика приключений, благие порывы незамутнённого
детства и романтической юности, глубинная символика античной мифологии – всё летит в
тартарары:
«Ницше и Гете, Пайк и Кроули, Блаватская и Юнг, Лютер и Маркс, Ванга и Брюсов,
Ленон (так в тексте. – О. К.) и Ленин – такова лишь крошечная часть «иконостаса»
религии «эпохи Водолея». Легион – имя тех «великих», которые оставили в истории
след… копыта. Которые были одержимы бесом». – И сноска: «Смотри внимательно их
жизнеописания. Хотя бы биографию Даниила Андреева. «Роза мира» была продиктована
«четырьмя друзьями его сердца», которые являлись в «золотых» снах» (204). – А стоит ли
смотреть – тем более внимательно – когда и так понятно, что мы там увидим?! На каждой
странице – бесы, бесы, бесы – вездесущие бесы – совсем по Пушкину:
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...
«Когда интеллигент по гордыне своей забредает в ложу, – утверждает Воробьевский, –
Дух Святый отходит от него – и вместе с ним – умение различать духов. Так он
принимает за «божественные» – творения различных бесноватых сведенборгов. В итоге
прилог «духовного образования» перерастает в страшный грех масонского соблазна»
(46).
Достаётся на орехи всем и каждому:
«Симптом «внутреннего голоса» выдает в Толстом бесноватого. Не случайно
Победоносцев писал о его богоборчестве так: словно бес овладел им. Богохульник скакал
по яснополянским окрестностям на гнедом жеребце, которого назвал Бесом. А
невидимый бес сидел за спиной графа. Как на древней печати рыцарей-храмовников – два
всадника на одном коне. Что ж, давний предок писателя и принадлежал к
тамплиерскому роду. Шарахнувшись от костра инквизиции, он в XIV веке прибыл на Русь.
И страшный крик Жака де Моле, его вопль из пламени: «Отмщение, Адонаи, отмщение!»
– через столетия зазвучал в душе тамплиерского потомка» (71).
Соорудив столь грандиозную кучу, доведя себя до необходимой степени возбуждения,
автор не может не возмутиться столь неподобающим поведением знаменитого писателя:
«Страшные слова о Боге писал граф. Но каковы были интонации! Каково раздражение, с
которым все это говорилось! Каковы были глаза! В воспоминаниях современников перед
нами предстает поистине нечеловеческая злоба» (73). – А может оставить Толстому
самому разбираться в своих отношениях с Богом и обратить внимание на себя?! Кто тебя
самого движет, кто питает? Дух любви или же злобы поднебесной? О Вольтере, хулящем
христианскую веру, он пишет: «Каждая запятая, разделяющая на паузы поток безумной
злобы – это капля разбрызганной в бешенстве слюны…» (34) – А разве не то же самое
находим у Воробьевского? С той лишь разницей, что Вольтер в своём неприятии
руководствуется рациональной логикой, Воробьевский же – некой вселившейся в него –
отнюдь не божественной – силой. Но с логикой он явно не дружит. И даже по главному
пункту – с ненавистными масонами – а может любимыми, ведь любовь и ненависть две
стороны одной медали?! – не может определиться. С одной стороны, масоны – тотальная
злая сила, лично руководимая самим дьяволом, они повсюду: «Роль масонов в
«революционном» забесовлении масс, – очевидна» (351). «…Переход к революционному
качеству масонов является переходом к более высоким степеням посвящения. То есть к
получению более крупного беса» (352).
Но: «А взаимокодирование, происходящее в ложах! Ты – досточтимый, ты – великий. А
ты – святой рыцарь. Есть даже Патриарх Ной (21-й градус). Как в сумасшедшем доме:
в одной палате – Наполеон, а в другой – Персифаль…» (348) – Что ж уделять столько
внимания сумасшедшим?! «Чем ближе лжец от адского пламени, тем больше тень от
его лжи. Не надо бояться его трепетания. Не стоит вздрагивать от слова «масон». Еще
прусский король Фридрих II, вышедший из ложи, сказал о ее велиаровой сути: масонство
– это великое ничто!» (409) – Отчего же тогда столько шума из ничего?!
И всё же в книге Воробьевского заложена весьма ценная информация, ибо она наглядно
демонстрирует состояние хаоса, полное разрушение всех взаимосвязей – но не во
внешнем мире, а в сознании самого автора. Позиционируя себя как истового
православного христианина и со всем пылом борясь с дьяволом, автор оказывается
проводником самого откровенного сатанизма. Не в смысле, конечно, «рогатого и
хвостатого», как его представляет себе сам Воробьевский, – а проводником сатанизма в
смысле дисгармонии. В очерке Бориса Лемана, посвящённом разбору учения СенМартена, читаем: «Двойственность есть результат падения человека. Не добро, как
начало, последовательно создает зло, но идею зла создает сам человек. Отпав от
гармонии действующих в мире сил, он потерял способность понимать эту гармонию и
пришел к созданию идеи дисгармонии и зла».
В книгах Воробьевского мы видим множество фрагментов, лишённых органичной
взаимосвязи и соединённых одним лишь авторским произволом. Вместо единого
гармонизирующего начала, на котором зиждется мироздание, всё подчиняется навязчивой
идее поиска внешнего зла и его личностного воплощения. И начинается сражение с
химерами – только в отличие от Дон Кихота не во имя Вселенской Любви, а во имя столь
же нереальных химер.
В результате получается замкнутый круг: автор не в состоянии воспринимать мир
гармонично, потому что все его действия основаны не на принципе созидания – любви и
добра, а напротив – содержат в себе семена зла и разъединения. И наоборот: все его
действия несут в себе эти семена, потому что автор не в состоянии воспринимать мир в
органичном единстве. Для того же, чтобы перестать ходить по кругу, нужно не искать
иллюзорного внешнего врага – с целью сделать из него козла отпущения, – а обратить
взор внутрь самого себя. Только таким образом можно установить связь с Единым
Центром.
Отсечение ненужного
Для того чтобы идти дальше, необходимо раз навсегда уяснить смысл тех слов, которые
стоят у нас на пути и которые невозможно обойти. А уяснив, отсечь всё ненужное – то
есть не относящееся к предмету нашего исследования.
Чтобы прекратить путаницу с масонством разберём следующий момент. Часто
приходится слышать, что ВСЁ ЗЛО – ОТ МАСОНОВ. Они повсюду – в политике, в
искусстве. Но давайте подумаем: если убрать этих масонов – что останется? В искусстве –
ровном счётом ничего. Потому что за редким исключением все известные и неизвестные
деятели науки и культуры, по Воробьевскому – «масоны» и «дьяволопоклонники». Даже
«Владимир Соловьёв, сидящий в первом ряду диавольской «латерна магики»» («Русский
голем», с. 265) И если их умозрительно убрать, то искусство, равно как и наука, в
одночасье превратятся в tabula rasa.
А вот в политике… сохранится status quo. Потому что суть политики не меняется оттого
кто ей заправляет – масоны или немасоны. Так ли уж важно состоит ли в какой-нибудь
ложе банкир Ротшильд? Главное не в том, что он масон, а в том, что он – банкир и
политик! Из чего следует различие проявлений масонства в сфере духовной культуры и в
сфере политики.
Для доказательства нашего тезиса обратимся к книге Лоллия Замойского «Масонство и
глобализм. Невидимая империя» (М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001). В отличие от Воробьевского
этот автор пытается раскрыть тему без излишних эмоций, произвола и передергивания. И
начинает с нашумевшего в начале 80-х годов прошлого века дела с масонской ложей «П2», оказавшейся, по сути, теневым правительством Италии: «В списке были представлены
банкиры, крупные промышленники, руководители государственных предприятий –
экономическая элита Италии. Экономические министерства страны были представлены
в «П-2» на редкость мощными отрядами: 67 человек от министерства казначейства, 52
– от министерства финансов, 21 – от министерства по делам государственного
участия в предприятиях, 13 – от министерства промышленности и торговли… МИД
тоже фигурировал на весьма высоком уровне… Но все рекорды били военные.
Министерство обороны дало ложе 152 высших чиновника. К ним следует добавить 195
военных чинов…» (31) – И далее, на тему той же ложи: «Вот как ее характеризует член
«П-2» Пьер Карпи в своей книге «Дело Джелли»: «Ложа «П-2» объединяет масонов
Италии, а также и других стран, которые благодаря занимаемым общественным
постам, ввиду известности своих имен, важности и деликатности своих «светских»
функций, образуют элиту как среди собственно масонства, так и в целом в масштабе
своих государств». Карпи обходит вопрос о ее назначении, но вряд ли здесь возникает
неясность. Такие ложи (а они есть и в других странах) являются ведущими, они –
«зеница ока», если употребить термин Карпи. Их цель – подчинять своему контролю
политику этих стран, влиять на их важнейшие решения. Если они достигают таких
высот, как в Италии, то способны и на фактическую узурпацию власти» (32-33).
Но возникает вопрос: что значит узурпация – если они и так при власти: самый наглядный
пример – президенты США – все как один масоны?! Так что же в данном случае
первично? И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: доминантой оказывается
природа не масонства, а политики как таковой. Как мы уже говорили: главное не в том,
что он масон, а в том, что он – банкир и политик! А масонство таким образом оказывается
не чем иным как ТЕНЕВОЙ ПОЛИТИКОЙ, подводной частью айсберга всей
политической системы. Сформированная веками и скрытая от глаз людских система лож
оказалась очень удобной для решения насущных политических задач. В конце концов
превратившись в оболочку, форму, которая наполнялась содержанием, не имеющим
ничего общего с провозглашёнными когда-то духовно-нравственными идеями.
И вся путаница – обманка – заключается именно в оболочке: пытаются с разных сторон
подойти к масонству, проникнуть в его пресловутые тайны и идеи, а в результате –
сплошные противоречия, как в следующем эпизоде из той же книги Лоллия Замойского:
«В период Второй мировой войны, например, немало представителей масонства из среды
ученых, левой интеллигенции симпатизировало Советскому Союзу и его народу,
боровшемуся с фашизмом, не подозревая о связях автомобильного магната Форда и
других богатых масонов США с фашистской верхушкой. Равно как левонастроенные
масоны, такие как покойный президент Чили Альенде, никогда не согласились бы с тем,
что связанный с высшим масонством США Пиночет выражает их идеалы» (20).
А, углубившись в российскую историю, узнаём что: «Из 121 декабриста, которых судили
после восстания, масонами были 27. Судили их свои же масоны, такие, как Бенкендорф и
другие руководители карательных органов. Здесь вновь подтвердилось правило, что не
столько принадлежность к масонству, сколько личные взгляды, гражданская позиция
отличают одних членов лож от других. Ведь указ о закрытии всех масонских лож в
России подписал Александр I, тогда еще сам масон, по предложению заместителя
Великого мастера Великой ложи «Астрея» генерал-лейтенанта Егора Кушелева» (181).
И с подобными примерами сталкиваешься практически на каждом шагу – касательно и
Французской революции, и Русской, и других ключевых эпизодов всемирной истории.
Повсюду масоны – но как ни странно – они по обе стороны баррикад. А нужно просто
смотреть не на обманную оболочку, а на реальное наполнение, которое заключается в том,
что масонство – это грандиозный всемирный КЛУБ, в который входят представители всех
без исключения политических партий и бизнес-структур. Применяемый для кулуарного
решения проблем.
Таким образом, когда все беды валят на масонов это одновременно и правда и
бессмыслица. Правда, потому что главные зачинщики и исполнители всех политических
событий – масоны. Но их политические противники – тоже масоны – и в результате…
бессмыслица – если рассматривать события сквозь призму масонской оболочки,
пресловутого масонского заговора. Ибо «заговор» этот представляет собой не что иное
как естественный ход истории, развития человеческого общества, определяемый
столкновением интересов, борьбой идей. Ныне наблюдается упадок нравов, нравственное
вырождение – виноваты масоны? Но кто разрушил, например, Римскую империю?
Масонов тогда, как известно, не было…
Как ни странно, но столь очевидные выводы оказываются недоступными многим авторам,
пишущим на масонскую тематику. В том числе и Лоллию Замойскому. Приведя
множество говорящих за себя – как в случае с ложей «П-2» – фактов из политической
истории, он всё же настойчиво пытается увязать политическое масонство с древним, в
частности, «теоретическим» масонством. Например, Личо Джелли с Сен-Мартеном. Что
называется: связать несвязуемое, впихнуть невпихуемое.
В результате вступает на очень скользкую для него территорию теологии и метафизики. И
то и дело попадает впросак, как, например, в следующих эпизодах:
«Направление Павлу I масонских книг и воспитательные беседы с ним архитектора В.
Баженова продолжались. С депутацией от московских «розенкрейцеров» Баженов
пожаловал в Петербург с набором переводных книг, среди которых «О подражании
Иисусу Христу», и подборкой текстов – «Краткое извлечение» о том, каким надлежит
быть «Богу живому». Павел, не мешкая, наметил особую политику, внушая в Берлине
после (возможно, послу? – О. К.) Румянцеву действовать в пользу Пруссии и обещая его
наградить, вступив на престол» (170). – Мысль автора инспирирована прямолинейной
трактовкой тогдашних политических реалий. В Екатерине, мол, сосредоточены
государственные интересы, а масоны не что иное как иностранная агентура, пытающаяся
действовать через наследника престола в антироссийских интересах. Однако недоумение
вызывают перечисленные книги, с помощью которых масоны осуществляют свою
шпионскую деятельность. В частности, трактат «О подражании Христу» Фомы
Кемпийского – неужели именно эта книга подвигла Павла действовать в пользу Пруссии?
Через несколько страниц читаем: «Около 1766 года в Авиньоне и Монпелье образовали с
участием немцев и шведов «Академию истинных масонов». Затем ее окрестили «Русскошведской академией». Ее наставниками стали шведский мистик Сведенборг, бывший
советник шведского короля Карла XII, французы Виллермоз и Сен-Мартен,
высокопоставленные руководители французского масонства. Причем интриги плелись
ими согласованно с Берлином» (172). – Для тех, кто имеет хотя бы первичное – но
основанное на собственном опыте – представление о Сведенборге и Сен-Мартене, подача
их в таком контексте воспринимается не иначе как пошлость. Это всё равно как если бы
Гёте, Жуковский, Пушкин рассматривались не как поэты, а как мелкие политические
интриганы. Сведенборг – выдающийся шведский учёный, специалист в области
минералогии, металлургии, математики, физики, химии и многих других естественных и
общественно-политических наук. В 1716 году в возрасте 28 лет за научные заслуги был
назначен Карлом XII чрезвычайным асессором королевской горной коллегии. После
опубликования в 1734 году трёхтомного сочинения под названием «Opera philosophica et
mineralia» («Философские и минералогические труды») был удостоен членства
Стокгольмской академии наук и других ученых обществ Европы, в том числе С.Петербургской академии наук. Но, прежде всего, Сведенборг – после коренного перелома
в сознании в 1745 году (по собственным словам его, ему дано было прозреть в мир
духовный, и он вошел в сообщение с духами и ангелами) и до конца дней своих (1772) –
это теософ-духовидец, автор таких трактатов как «Тайны Небесные» (оригинальная
трактовка Книги Бытия), «Апокалипсис открытый», «Супружеская любовь», «Учение о
Милосердии и Вере», «О небесах, о мире духов и об аде»… Поэтому крайне странно
читать о нём как об интригане в пользу Берлина. Также и об Луи Клоде де Сен-Мартене, о
котором мы уже говорили и к которому ещё вернёмся, как к одному из главных
авторитетов в среде русских мартинистов конца XVIII – начала XIX столетий.
Их влияние сказалось вовсе не в политической сфере, а в духовно-нравственной, потому
соответствующей должна быть и увязка с реалиями своего времени. Как то находим в
книге Александра Западова «Новиков» (М.: 1968, ЖЗЛ):
«Конечно, в атмосфере упадка нравов, пример которого подавала сама императрица, в
угаре административного произвола, на фоне общего стремления к власти, богатству,
чинам серьезные, углубленные в себя масоны производили странное и неприятное
впечатление, возбуждали боязнь: не замышляют ли они что-то вредное для царицы и ее
приближенных? Почему они живут не так, как их собратья по службе, зачем много
читают и о чем говорят, собираясь в таинственных ложах?» (158-159)
Однако каждое время – в силу господствующих идей, общественно-политической
конъюнктуры – требует и вполне определённых выводов. Во времена Западова русские
масоны, в частности, Новиков, были востребованы, конечно, не благодаря религиозным
исканиям, но как находящиеся в оппозиции к Екатерине (хотя в реальности это было
вовсе не так) и к официальной церкви. Ныне во главу угла ставится как раз идея
государственности и церковности и потому бывшие советские авторы – и Замойский, и
Воробьевский – выполняют именно этот социальный заказ. И ничтоже сумняшеся
вступают в область совершенно недоступную их пониманию. Вот и бывший
корреспондент «Известий» и «Литературной газеты» Лоллий Замойский пишет: «Имя
Христа используется масонами для подмены одного другим. На деле имеется в виду
завоевать доверие людей, чтобы заставить их поклоняться дьяволу» (197).
Таким образом, начав с вполне конкретных проявлений масонства политического, автор в
конце концов скатывается к обсуждению масонства в общем и целом – с обязательным его
осуждением: и вновь перед нами те же что и у Воробьевского плохие масоны, которые
издревле объединяются, чтобы всячески вредить и управлять миром. По ходу вопрос: а
кто мешает объединяться анти-масонам, чтобы всячески приносить пользу? И
собственный вариант ответа: да никто не мешает – и они объединяются, но их называют…
тоже масонами. Ибо теологические тонкости не видны бывшим пропагандистам научного
атеизма.
Для того чтобы впредь не разбирать подобную ахинею, из проделанного нами анализа
сделаем два вывода. Прежде всего, для нас было важно понять, чем одни масоны
отличаются от других – для чего мы проанализировали «магнум опус» Воробьевского и
«откровения» его соавтора, в книге же Замойского нашли объясняющие суть дела факты.
Посему вывод первый: нельзя всех валить в одну кучу, то бишь смешивать внешнее
политическое масонство с теми, для кого главной и единственной целью является
духовно-нравственное совершенствование – в частности, с мартинистами. Вывод второй:
тотальная демонизация масонов, обвинение их в дьяволопоклонстве инспирированы
конфликтом именно «теоретического масонства», то бишь мартинизма, с официальной
церковью. Чёткое и ясное изложение сего пункта находим в очерке Н. К. Антошевского
«Орден Мартинистов. Его происхождение, цели, значение…»:
«Как было упомянуто в исторической части этой записки, еще Мартинес да Паскуалли
всячески старался чуждаться влияния римско-католического клерикализма. Клод де СенМартен еще определеннее высказывался по этому вопросу, приписывая большинство
бедствий, испытанных Европой за несколько столетий, главным образом, невежеству и
лицемерию представителей клерикализма, ярко отразившихся в его политике. Он даже
утверждал, что не верит в преемственность передачи благодати Священства в лоне
Католической Церкви, и считал эту якобы передачу чисто формальной, хотя, конечно,
допускал отдельные случаи положительного характера, в зависимости от личных
добродетелей священников и степени доверия к ним их паствы.
После де Сен-Мартена Мартинизму пришлось часто и помногу страдать от нападок
клерикализма, не стеснявшегося действовать клеветой на словах и в печати, обвиняя
Мартинистов в занятиях черной магией, сатанизме, кощунственном символизме и т. п.
Рыцари Христа, конечно, признают и глубоко чтут всякую Церковь и всякое
Духовенство, исполняющее свое прямое назначение, но не могут не высказывать
открыто недоверие духовным лицам, желающим себе присвоить чисто светскую власть
лицемерием и интригой, и этим прямо тормозящим просветительную и спасительную
деятельность Христианства в истории Человечества, подрывая авторитет
представителей Церкви».
Итого, выяснив ряд причин внутреннего противоречия в теме и отсекши ненужное,
приступим к разбору главных положений не расплывчато-неопределенного масонства, а
вполне конкретного мартинизма, к которому принадлежали и «главный русский масон»
Николай Новиков, и «главный масонский поэт» Михаил Херасков, и главный идеолог
русского мартинизма Иван Лопухин.
Х
ВОКРУГ ХЕРАСКОВА:
ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ
По ходу написания данного текста в общении с первыми его читателями, прежде всего,
всплывал вопрос: а имеет ли смысл вообще разбирать продукцию подобную книгам
Воробьевского? Слишком уж большое сомнение вызывает их уровень! Но… это ведь
уровень не одного лишь Воробьевского – а всей той среды, которую он отображает. И в
подтверждение – на стене ФБ, словно подсказка свыше, проплыла ссылка на книгу
«Тайная архитектура. Христианский взгляд на масонство» (Одесса. Издательство ХГЕУ.
2009). Её автор – Павлюк Петро Аркадійович – доктор служіння (Dr. Min), професор, в
своем творчестве также много внимания уделяет масонской тематике. Из его монографии
узнаём, в частности, что:
- «Распространению этого зла (то бишь масонства. – О. К.) способствуют многие
талантливые писатели и журналисты, всевозможные СМИ умело пропагандируют
антибиблейский способ жизни, моральную распущенность и прямые извращения. Совсем
недавно люди с психическими заболеваниями находились в специальных лечебницах.
Похоже, что сегодня весь мир превращается в сумасшедший дом. Этому способствуют
опять-таки масоны. Они выбраковывают лишних людей и способствуют уменьшению
человеческой популяции, что и является основной задачей этой глубоко эшелонированной
организации»;
- «В смысле популяризации масонства книга Л. Н. Толстого «Война и мир» сделала не
меньше, чем вся историческая литература. В письме Верксхагену Лев Николаевич писал:
«Меня очень радует, что я, сам того не зная, был и есть масон по своим убеждениям. Я
всегда, с самого детства, питал глубокое уважение к этой организации и думаю, что
масонство сделало много добра человечеству»;
- «Большой вред человечеству принесла поэтизация демонизма и зла как такового
известных писателей К. Случевского, Ф. Сологуба, В. Брюсова, К. Бальмонта, Д.
Мережковского, Л. Андреева, М. Булгакова, В. Орлова и других. Большинство из них были
масонами»;
- «Когда-то масон Виктор Гюго в своем романе о Французской революции «Девяносто
третий год», романе очень жестоком и антирелигиозном, изрек: «In daemone deus» – «в
дьяволе Бог». И это основная формула сатанистов – (дьявол есть бог). И это же
масонский трюк – подменить Бога дьяволом»;
- «Масонство – непримиримый враг христианства. Оно ставит своей целью разрушение
Церкви, войну со всеми религиями, потрясение основ национальной христианской
государственности и организацию революций во всем мире».
Таким образом, видим, что дело вовсе не в Воробьевском, равно как и ни в каком другом
авторе лично, – а в стереотипе общественного сознания, свойственном – что интересно –
не только тем, кто считает себя глубоко-православным (повторим: считать и быть суть
разные состояния), но и самому широкому обывательскому кругу. Не замечать это было
бы попросту неразумно – и потому столь большое внимание уделяем мы разбору
различных инсинуаций. Тем более что всё это имеет непосредственное отношение к
основному предмету нашего исследования.
Личное дело сенатора Лопухина
Так что же на самом деле представляет собой учение мартинизма вообще и моральный
облик русских мартинистов в частности? Пойдём опять-таки от обратного – от случая той
самой клеветы, о которой писал Антошевский. В книге Воробьевского «Пятый ангел
вострубил» находим следующий пассаж об интересующей нас личности:
«Характерен пример Лопухина, автора «возвышенных» масонских трудов «Духовный
рыцарь» и «Некоторые черты о внутренней церкви». По свидетельству его современника
графа Ф.В.Растопчина, Лопухин «человек безнравственный, пьяница, преданный
разврату и противоестественным порокам», соглашался пойти на какие угодно дела…»
Любопытная сцена. Однажды Лопухин был приглашен на обед императором
Александром с целью назначить его министром просвещения. Даже в этой ситуации
масон так налег на выставленные напитки, что решение о назначении отпало само
собой… (См. Русский биографический словарь, С.-Пб., 1914 г.)» (164).
На что обратим внимание? Во-первых, что данная книга издана «по благословению…» –
что сие значит? Надо думать, что за всё написанное в ней непосредственно отвечает
благословивший и вся подведомственная ему организация? Во-вторых, что дело касается
чести и достоинства конкретного человека. В-третьих, что приводятся названия его работ,
добросовестность которых не просто ставится под сомнение, а опровергается – кавычками
в слове «возвышенных». В-четвертых, что на основании двух – не совсем внятных –
«свидетельств» человек обвиняется во многих грехах – и заметим, что всё это
сосредоточено в небольшом абзаце – производится, так сказать, одним росчерком пера. И
раз это дело чести – оно и решено должно быть по чести. Абсолютно ничего не меняет,
что человек давно умер – напротив, к чести тех, кто сам уже ответить не может, нужно
относиться ещё более ответственно.
Итак, кто же такой Лопухин? В недрах интернета находим его биографию, которую –
ввиду краткости её и ясности, а также несомненной ценности как для нашей темы, так и
для всех, кто всерьез интересуется российской историей – имеет смысл привести почти
целиком:
«Иван Владимирович Лопухин (24 февраля 1756 года, село Воскресенское, Орловская
губерния (ныне Кромский район Орловской области) – 22 июня 1816 года, село
Воскресенское, Орловская губерния) – государственный и общественный деятель,
философ, публицист, мемуарист; издатель, сенатор. Один из видных представителей
русского масонства. Действительный тайный советник (1807 год).
Происходил из старинного дворянского рода Лопухиных. Его отец был обер-комендантом
Киева. В начале 1780-х вступил в орден розенкрейцеров. Записан в гвардию в
младенчестве (в 1756 году), в 1782 году произведен в полковники и перешел на статскую
службу – советником, а затем председателем Московской губернской уголовной палаты.
В 1785 году в чине статского советника уходит в отставку. В судейскую практику внес
новый взгляд на исправительное значение наказаний и боролся за их умеренное
применение. Выступал за смягчение закона о религиозных преследованиях.
В 1792 году начались преследования масонов со стороны правительства. Были закрыты
типография и магазины, лидеры были частью арестованы и заключены в крепость,
частью сосланы в деревни. Лопухину, памятуя о заслугах его больного девяностолетнего
отца, в качестве наказания определили ссылку, конфисковав значительную часть
имущества, и все-таки затем оставили в Москве под строгим гласным и негласным
наблюдением. С воцарением императора Павла I, покровительствовавшего масонам,
положение радикально изменилось. И. В. Лопухина вызывают в Петербург, назначают
статс-секретарем при императоре, производят в тайные советники. Но и в отношениях
с императором Лопухин проявлял свою независимость и твердость в суждениях,
осмеливался даже возражать. Придворная служба тяготила его, и вскоре он был
назначен сенатором в Москву.
В своей деятельности в Сенате И. В. Лопухин продолжал придерживаться прежних
гуманных взглядов. Неоднократно ему приходилось ревизовать многие губернии, оставляя
своей справедливостью добрую память. Известный в свое время литератор А. Ф.
Воейков говорил о нем: «И. В. Л. принадлежит к тем людям, коих память воскрешает в
душе сладкое и тихое чувство умиления любви, а не удивление страха. Имя его
произносится с благоговением, с признательностью, со слезами. Он всему на свете
предпочитал добродетель; его жизнь – непрерывная цепь благотворений». Особо следует
отметить его деятельность по защите духоборов на Украине и работу в Крымской
комиссии, за что в 1807 году был произведён в действительные тайные советники.
Во время Отечественной войны 1812 года, он, по поручению Александра I, занимается
организацией земского войска и ополчения, упоминается на памятной плите в храме
Христа Спасителя в Москве. После завершения войны окончательно уходит в отставку.
Оставил прекрасные мемуары, являющиеся одним из выдающихся памятников русской
словесности и философии XVIII века, а также целый ряд уникальных архитектурных
ансамблей в своих имениях. Наиболее знаменито из них село Савинское Богородского
уезда близ Москвы, где по его проекту был создан знаменитый медитационный
философский парк. Известный историк В. В. Ключевский так охарактеризовал И. В.
Лопухина: «С умом прямым, немного жестким и даже строптивым, но мягкосердечный
и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечающим мягкому и тонкому
складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он
упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать
в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца».
Итак, во всём тексте биографической справки, изложенном весьма логично –
последовательно и убедительно – видим нечто противоположное тому, что заявил
Воробьевский. А свидетельства Воейкова и Ключевского – современника и потомкаисследователя – вносят в сказанное необходимые объёмные измерения. Но не будем
торопиться с выводами, ведь у каждого человека есть друзья и недруги, почитатели и
противники, и потому косвенные свидетельства – ввиду их субъективности – не могут
быть сходу приняты в качестве веских доказательств. Необходимо подтверждение из
первых рук – для чего вводим в оперативное пространство два раритета – две книги
собственноручных сочинений нашего героя: «Записки сенатора И. В. Лопухина» (М.:
Наука, 1990) и «Масонские труды: Духовный рыцарь. Некоторые черты о
Внутренней Церкви» (М.: Алетейа, 1997).
Прочтя первую из них, убеждаешься, что биографическая интернет-справка составлена
правдиво. Полностью подтверждается моральная заострённость деятельности Лопухина в
судебной сфере. Не иначе как профессиональным кредо можно считать следующие его
высказывания:
«Я думаю, что предмет наказаний должен быть исправление наказуемых, и удержание
от преступлений. Жестокость в наказаниях есть только плод злобного презрения
человечества и одно, всегда бесполезное, тиранство» (5).
«Желание показать свой разум в открытии виноватого, весьма легко, и нечувствительно
может заставить найти его в невинном. Те только судьи не будут подвержены таким
ошибкам, которые стараются делать правду для самой правды, всем сердцем любя ее, а
не для того, чтоб ему прославиться: или которые во всяком ими судимом сердечно видят
прямо ближнего своего» (6).
«Что касается до смертной казни, то она по мнению моему и бесполезна, кроме того,
что одному только Творцу жизни известна та минута, в которую можно ее пресечь, не
возмущая порядка его божественного строения» (11).
Думаю, никто не будет спорить, что высказывания эти обозначают позицию истинного
христианина. И это – не просто декларация, не просто красивые слова и благие
пожелания, – это обращение вглубь – к первопричинам, как то видно из последующих
рассуждений:
«В школах и на кафедрах твердят: люби Бога, люби ближнего; но не воспитывают той
натуры, коей любовь сия свойственна; как бы расслабленного, больного, не вылечив и не
укрепив, заставляли ходить и работать. Надобно человеку, так сказать, морально
переродиться. Тогда Евангельская нравственность будет ему природна, тогда он будет
любовию к Богу любить ближнего, и очень возможно будет ему исполнение заповеди,
обращать другую щеку, ударившему по одной; заповеди, которой смысл есть конечно
тот, чтоб в самом глубоком смирении и без гнева сносить обиды» (21).
Ещё – из сферы законодательства – высказывание, никак не утратившее актуальности и
поныне: «Я думаю, что чем труднее обязательства закона, тем осторожнее издавать
его должно. Ничто столько не ослабляет силу законов, как их неисполнение. А требовать
исполнения невозможного, или крайне трудного, есть только умножать виноватых»
(110).
А вот – также сохранивший всю свою актуальность – ответ на вопрос: «Что же сказать о
жизни придворной? – Картина ее весьма известна – и всегда та же, только с некоторою
переменою в тенях. Корысть идол и душа всех ее действий. Угодничество и
притворство, составляют в ней весь разум: – а острое слово – в толчок ближнему – верх
его» (87).
Итак, пред нами предстаёт в высшей степени высоконравственная личность. В
правдивости же самого автора – в том, что он фиксирует в своих записках – сомневаться
нет никаких оснований. А посему встаёт вопрос о том, как же тогда классифицировать
направленный против него выпад нашего современника Воробьевского?
По этому поводу на ум приходят строчки из песни Владимира Высоцкого:
Некий чудак и поныне за правду воюет,
Правда, в речах его правды на ломаный грош,
Чистая правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что явная ложь.
Очевидно, что Воробьевский в усердии своём стремится быть, что называется, святее
папы римского, – на поверку же вся его борьба за «высшую правду» оказывается
скроенной из самой что ни на есть разнузданной лжи. Таким образом, обличитель дьявола
сам попадает в его когти. Ведь что такое дьявол? В нашем понимании – это отсутствие
Бога, следовательно, отсутствие любви, отсутствие правды, то есть ЛОЖЬ. Недаром ведь
говорят что дьявол – отец лжи.
К сожалению, ситуация усугубляется тем, что автор вещает не от себя лично, а «по
благословению» – оказывая, таким образом, медвежью услугу всему православию,
подрывая, как писал Антошевский, авторитет представителей Церкви. А ведь
резолюция эта – «по благословению» – наверняка ставится чисто механически, а также – в
силу невежества тех церковных чиновников, задача которых – фильтровать поток
проходящей по их каналам печатной продукции – отделять зёрна от плевел, овец от
козлищ.
Впрочем, то же невежество наблюдалось и во времена Лопухина, что хорошо видно на
примере т. н. духоборов. В чём там было дело? Высочайшим императорским повелением
сенатору Лопухину было поручено разобраться на месте (в Слободско-Украинской
губернии, г. Харьков) с ситуацией вокруг названной секты. Духоборы (или духоборцы) –
секта, отвергавшая все внешние стороны христианского культа и признававшая
исключительно внутреннюю его суть. За что её представители были нещадно
преследуемы, по словам Лопухина: «Разными образами истязывали их, заключали в
самые жестокие темницы. Некоторые из них сидели в таких, где ни стоять во весь
рост, ни лежать протянувшись нельзя было. Это мне сказывал, хвалясь своим
распоряжением, один из начальников тех мест, в коих они содержались» (138).
Комиссия Лопухина прежде всего восстановила законность, отменив несправедливые
решения – то есть по сути взяла сектантов под защиту закона. Но это вовсе не значит, что
сам Лопухин разделял взгляды духоборов – этот момент он подробно объясняет в своих
записках. А значит это, что во главу угла он ставит закон, который для него являлся
синонимом справедливости. Вывод же его по данному делу выходит далеко за пределы
гражданской законности – в сферу богословия:
«Не постигающий силы духа и внутреннего качества Христианского, и заключающий все
в одной внешности, боготворит ее, и ею соблазняется. Разница в литерах, в каком
нибудь обряде, соблазняет и совращает его. <…> На сем совратившихся самое большое
число. В подвиге усердия непросвещенного, при суеверном обожании внешности, гораздо
удобнее слабостям человеческим удовлетворять ее исполнениями, нежели сражаться со
страстьми и отрицаться самолюбия» (136). – Исходя из этого вывода можно судить как
о взглядах и особенностях мышления самого Лопухина, заключавшихся в поиске
глубинных причин, так и о том, что между взглядами Лопухина сотоварищи и основами,
на которых стоит православие, антагонизма по сути нет. В этой связи можно вспомнить и
митрополита Платона, желавшего чтобы побольше было христиан таких как Николай
Новиков, или же следующее место из «Записок Лопухина»:
«В сии истинно мирные дни моей жизни (1804 г. – О. К.) составил я книжку,
напечатанную под именем: «Отрывки для Чтения Верующим», которую посвятил другу
моему Архиерею Черниговскому Михаилу» (161).
Именно благодаря своей кристальной честности – а также профессиональным качествам –
Лопухин достиг высоких служебных постов при Павле и Александре. Но в чём же тогда
камень преткновения? Чем объясняются нападки на него при Екатерине, а также
теперешняя напраслина в его адрес? И здесь опять-таки масонский след. И у нас
появляется возможность сказать: ВОТ КОНКРЕТНЫЙ МАСОН! Что же он КОНКРЕТНО
из себя представляет?
Весьма основательное объяснение тогдашних событий можно найти в его «Записках»:
«И так в конце 1784 года, открылись давно уже продолжавшиеся негодования и
подозрения двора против нашего общества. Коварство, клевета, злоба, невежество и
болтовство самое публики, питали их и подкрепляли. Одни представляли нас
совершенными святошами, другие уверяли, что у нас в системе заводить вольность; а
это делалось около времени Французской Революции. <…> У страха, говорят, глаза
велики. Вот от чего прямо родились и возросли негодования оные и подозрения. <…>
Много также действовали предубеждение и ненависть, которыми с невежеством
исполнены люди, против строгой морали и всякой духовности, коими отличались
издаваемые нами книги. Все сие усилилось началом революции в Париже в 1789 г.,
которой произведение тогда приписывали тайным обществам и системе философов;
только ошибка в этом заключении была та, что и общества оные и система были совсем
не похожи на наши. Нашего общества предмет был добродетель, и старание, исправляя
себя, достигать ее совершенства, при сердечном убеждении о совершенном в нас
недостатке – а система наша, что Христос начало и конец всякого блаженства и добра
в здешней жизни и будущей. Той же философии система отвергать Христа,
сомневаться в бессмертии души, едва верить что есть Бог, и надуваться гордостью
самолюбия. А обществ оных предмет был заговор буйства, побуждаемого глупым
стремлением к необузданности и неестественному равенству» (26-27).
Из чего следует два заключения. Первое: каждое действие рождает противодействие, – о
чём говорит Папюс: «Но каждое действие вызывает одинаковую реакцию в смысле
противоположном, всякая попытка пропагандировать новую истину возбуждает
негодование не только в мире видимом, но и в невидимом». И потому самым естественным
объяснением реакции Екатерины является не какая-либо масонская вина и даже не их
помыслы, а элементарная мысль: как бы чего не вышло! Тем более что любая
законспирированная форма сама по себе вызывает подозрения в тайных – и, конечно же,
нехороших! – замыслах, – а для чего ещё нужна конспирация? Если же там что-то
глубинное, недоступное для понимания окружающих, то это вызывает раздражение,
злобу, зависть, клевету и т. д.
Второе заключение связано со взглядами самого Лопухина. И здесь мы видим, что
обвинения его справа – в чём всячески обвиняют масонов, то есть в подготовке
революций, – не просто не имеют никаких оснований, а находятся в прямом противоречии
с истинным положением дел. Ведь – в отличие, скажем, от Радищева с его осуждением
крепостничества в «Путешествии», с его свободолюбивой одой «Вольность» – масон
Лопухин стоял на позициях самого что ни есть консервативного монархизма, о чём
однозначно говорится в «Записках»:
«В России ослабление связей подчиненности крестьян помещикам опаснее самого
нашествия неприятельского, и не в настоящем положении вещей. Я могу о сем говорить
беспристрастно, никогда истинно не дорожив правами господства, стыдясь даже
выговаривать слово: – холоп, до слабости, может быть, снисходителен будучи к слугам
своим и крестьянам. Первый, может быть, желаю, чтоб не было на Русской земле ни
одного несвободного человека, если б только то без вреда для неё возможно было. <…>
И в сих-то чувствах я уверен, что ничего не может быть пагубнее для внутренней
твердости и общего спокойства России, как расслабление оных связей, внушения никакие
не помогут, ежели действия соответствовать не будут!» (171)
Возникает вполне резонный вопрос: как такое отношение к человеческой личности может
вязаться с нравственностью? На это противоречие обращает внимание Герцен, в 1859 году
напечатавший «Записки» в лондонской своей типографии: «Странно встретить, – пишет
он в предисловии, – при столь хорошем развитии и гуманном, закоснелое упорство
Лопухина в поддержании помещичьей власти».
Можно, конечно, списать всё на особенности времени – но перед нами живой пример
Радищева! – и потому дело вовсе не в этом. Тогда в чём же? При всей своей
неоднозначности загадка эта вполне разрешима.
Самую неожиданную параллель находим в религиозной традиции Индии – в «БхагавадГите». Критикуя разбираемое положение с христианских позиций Александр Мень в
книге «У врат молчания» (М.: Фонд Александра Меня, 2002) пишет:
«Гита не просто видит в человеке сына своей среды и эпохи, она требует, чтобы он был
таковым. Кшатрий должен сражаться, шудра должен оставаться отверженным
низшим существом. Долг человека – это не борьба со злом во имя правды, а слепое
повиновение традиционной этике. Лучше плохо исполнять свою «дхарму», чем хорошо
чужую. Разделения людей извечны, они коренятся в самом порядке вещей» (112).
Исходя из этой мысли, можно сказать, что Лопухин является убеждённым монархистом,
защитником существующего порядка вещей и противником революций по той причине,
что в основе его взглядов лежит ТРАДИЦИОНАЛИЗМ. И потому вся его натура – против
поспешных решений и действий. Он пишет:
«Что ж принадлежит до скорости, то она по мнению моему гораздо вреднее
медленности в судопроизводстве. Лучше истцу подождать, но получить принадлежащее
ему, нежели оного лишиться чрез необдуманное по скоропостижности решение. Лучше
просидеть год лишний в тюрьме невинному, нежели от незрелости уважения поспешного
суда отправиться на каторгу. <…> Спешить и хорошо делать естественно разве на
пожарах; но и на них часто ломают лишнее в напрасный убыток людям» (201).
И далее: «Могут, конечно, и законы быть хуже и лучше; и нужно переменять их иногда,
так сказать, по времени и возрастам народов. Перемену сию удобнее, думаю, делать
частно, ознакомывая людей постепенно с каждым новым узаконением. Перемена же
вдруг целого круга законодательства в Государстве, самым уже тем громом, который
сопровождать ее должен, может произвести в умах колебание, коего последствий вред
или пользу трудно прежде угадать» (202).
Единственной же истинной опорой, а также действительным двигателем как личностночеловеческого, так и общественного развития признаётся никак не внешняя законность – и
уж, конечно, не революционные преобразования – а благая субстанция – животворящий
Дух. И надо сказать, что суждение это в изложении сенатора Лопухина звучит не просто
конкретно и однозначно, но и весьма убедительно:
«Злоупотребление власти, ненасытность страстей в управляющих, презрение к
человечеству, угнетение народа, безверие и развратность нравов – вот прямые и одни
источники революции. Все законодательства, все училища, все устройства без
истинного живого духа веры – без духа Христова – без света премудрости Божией, суть
то для тела политического, что без кровоочистительных, лекарства и пластыря,
могущие залечивать наружные болячки – для больного, у которого кровь нечистотами
испорчена» (28).
Издательская деятельность Н. Новикова
Эдак углубившись в тему масонства, создается впечатление, что очень уж мы ушли в
сторону. Действительно, что мы рассматриваем? предмет литературы? философии?
публицистики и движений общественной мысли? Однако этот уход в сторону только
кажущийся, ибо предмет пристального нашего внимание есть РУССКАЯ КУЛЬТУРА,
которая и сейчас – а в конце XVIII века и подавно! – является, прежде всего,
интегральным целым, включающим в себя и литературу, и философию, и публицистику.
Поэтому уяснить смысл, содержание и значение русской литературы конца XVIII – начала
XIX века не представляется возможным без углубления в сопряженные с ней
пространства.
Для отечественного же исследовательского процесса до сих пор было характерно
фиксирование на отдельных разрозненных фрагментах, что не давало целостной и
органичной картины. К личности Новикова, например, в советское время отношение было
весьма благосклонное – но только лишь как к просветителю и диссиденту. В списке
изданных в советское время сочинений Новикова видим несколько переизданий (1951,
1959, 1961, 1985), плюс к этому – различные антологии, как то: «Русская проза XVIII
века» (в серии «Библиотека всемирной литературы»), «Избранные произведения русских
мыслителей второй половины XVIII века», «Русская сатирическая проза XVIII века»,
«Антология педагогической мысли России XVIII века». Но во всех этих сборниках
находим лишь статьи периода «Трутня» и «Живописца» (1769–1774), и полное отсутствие
какого-либо следа позднего (масонского) периода (1778–1784) – когда Новиков издавал
журналы «Утренний свет», «Московское издание» и «Прибавление к Московским
ведомостям». То же самое наблюдается и в вышедшей в серии «Библиотека русской
художественной публицистики» книге «Смеющийся Демокрит» (Советская Россия, 1985):
«В сборник включены статьи известного русского просветителя, писателя и
журналиста XVIII века – тексты сатирических журналов "Живописец", "Пустомеля",
"Кошелек", а также "Опыт исторического словаря о российских писателях" и
"Пословицы российские"».
Искомое – то есть несколько статей масонского периода – можно найти в «Избранных
сочинениях» Новикова 1951 года издания, а также в книге «Н. И. Новиков и его
современники» (М.: Изд-во АН СССР, 1963) и в содержащей перепечатки и ссылки на неё
хрестоматии «Русская философия второй половины XVIII века» (составитель Б. В.
Емельянов, Свердловск, Изд-во Уральского университета, 1990). Но что характерно: хотя
в сборнике представлен ряд фрагментов из статей именно масонского периода –
«Предуведомление» к первому выпуску журнала «Утренний свет», «О достоинстве
человека в отношениях к Богу и миру», «Заключение журнала под названием «Утреннего
света»», «Предисловие» к первому номеру «Московского ежемесячного издания» и «О
главных причинах, относящихся к приращению художеств и наук» – но при этом их автор
попадает не в «Раздел IV. Идеалистическо-мистическая философия. Масонство», а в
«Раздел I. Просветительная философия». Объяснение такой классификации можно найти в
справке об авторе: «После Пугачевского восстания Н. И. Новиков вступил в масонский
орден. Хотя он и сочувствовал многим положениям масонского учения, своим
просветительским идеям остался верен». – Иными словами, остался всё же
просветителем, а масонам лишь сочувствовал.
Казалось бы, что за беда? В разные эпохи интерес, прежде всего, фокусируется на тех
аспектах, которые соответствуют доминирующему мировоззрению. И если в советское
время во главу угла ставился материализм и атеизм, то идеи просветительства, конечно
же, почитались неизмеримо больше туманного масонского мистицизма. Однако в подходе
таком прослеживаются причины, ведущие к фрагментации исследовательского процесса:
это, во-первых, противопоставление и разделение – вместо синтеза; во-вторых,
неспособность различать внешнее и внутреннее. Конечно, он остался просветителем, но
изменилась внутренняя суть его просветительства. Потому что просветительство в данном
случае это внешнее, а внутреннее – как раз масонство. Новиков не просто сочувствовал
многим положениям масонского учения, а был – наряду с Иваном Григорьевичем
(Иоганном Георгом) Шварцем – ЛИДЕРОМ русского масонства своего времени. Недаром
ведь именно он, а не кто другой (Шварц умер в 1784 году) больше всех пострадал в
результате екатерининского погрома масонов. 15 (!) лет заточения в крепости – таков был
приговор. К счастью, отсидеть пришлось лишь 4 года – в связи со смертью Екатерины и
воцарением Павла.
Так в чём же состояло его просветительство и в чём – масонство? Просветительство – это
деятельность, направленная вовне, на расширение оперативного пространства, масонство
же – взгляд вовнутрь самого себя, поиск первоначальной причины, стремление установить
связь с единым центром – не в смысле всемирной масонской организации, а в смысле
единого интегрального источника мироздания. То есть масонство в данном случае – это
прежде всего определяющая идеология.
Поэтому и подход, когда Новикова признают лишь просветителем, – крайне
поверхностен, направлен на обмеление исследовательского процесса и – в конечном
результате – на фрагментацию и преуменьшение предмета русской литературы XVIII
века, ведёт к непониманию её интегральной сущности.
Но и просветительская деятельность подаётся весьма выборочно и фрагментарно. В той
же хрестоматии говорится: «В 1784 г. он создал «Компанию типографическую» и начал
издавать (перечисляется периодика. – О. К.), а также сотни наименований
разнообразных книг по всем отраслям науки и культуры, в том числе по философии,
переводы Руссо, Вольтера, Монтескье, Локка, французских энциклопедистов,
оригинальные работы русских писателей».
Характерно, что из «сотен наименований» приводятся всего лишь несколько имен
французских просветителей, а также их предшественника в идеях Просвещения
английского философа Локка. Таким образом, делается вводящая в заблуждение
совершенно произвольная фокусировка. Конечно же, дать представление о том, что такое
русское масонство XVIII века, такой подход не может. Напротив, он парадоксальным
образом упрощает и в то же время запутывает вопрос.
О размахе книгоиздательской деятельности Новикова, а также о том, что такое
интересующее нас «просветительное масонство», представление может дать «Роспись
книгам, печатанным в университетской типографии у поручика Новикова»,
составленная по приказу Екатерины с целью выявить незаконно напечатанное. Документ
приводится в книге М. Лонгинова «Н. Новиков и московские мартинисты», изданной
ещё в 1867 году и в первозданном своём виде выложенной на сайте ImWerden
(переиздания этой полезной книги, судя по всему, не было).
Всего здесь представлено 362 выявленных на тот момент в продаже наименования в
основном списке плюс 3 – «книги отпечатанные, но в продажу не поступившие», 55 –
«находящиеся в тиснении», а также 38 наименований, «в оной же лавке продающихся», но
напечатанных в других типографиях, 26 из них – в типографии Лопухина (как известно,
одна из двух типографий масонского «Дружеского общества» в 1783 году была открыта
на имя Лопухина, другая – на имя Новикова).
При анализе «росписи» очевидно, что «просветители», коих обнаружено лишь четыре
наименования – Вольтера, Сатирические и философские сочинения; О блаженстве, из
творений Ж. Ж. Руссо; Разсуждение на Монтескиеву книгу о разуме законов; Тактика г.
Волтера (в переводе Ермила Кострова); – составляли лишь малую толику
книгоиздательской деятельности Новикова сотоварищи. Наиболее же обширной была
религиозно-христианская литература – самая разнообразная по форме и происхождению.
В том числе: Августина Блаженного, Единобеседование души с Богом; Беседы Святаго
Отца Василия Великого, на шестоднев; Вера, Надежда и Любовь, учения богословского
состав; Житие Святаго Григория Назианзина; Житие Преподобнаго Отца нашего
Сергия Радонежскаго Чудотворца; Златая книжица о прилеплении к Богу; Иоанна
Златоустаго, книга о девстве; Руководство к познанию Бога по лествице сотворенных
вещей; Святаго Дионисия Ареопагита о Небесной Иерархии; Путешествие христианина
и христианки, 2 ч.; Блаженнаго Августина о Граде Божии, 4 ч.; Христианин
размышляющий, разглагольствующий и кающийся; Святаго отца нашего Григория
Палама, десять бесед.
Отметим также: Образ жития Енохова; Разсуждение против атеистов (сочинение Гуго
Гроция); Истина религии, 2 ч.; Драгоценная книжка о внутренней духовной гордости, о
глубокой, несведомой и сокровенной злости во всех человеческих сердцах, для чтения
всякому человеку весьма нужная и полезная; и ещё Путеводитель к истинному
человеческому счастию, 3 ч. – оригинальный философский трактат русского учёного и
просветителя Андрея Тимофеевича Болотова (1738-1833).
О широте взглядов свидетельствует проникновение в другие религиозные традиции:
Ахукамукхама шалымнабы, или книги богословии магометанской; Описание жизни
Конфуция; О древних мистериях или таинствах, бывших у всех народов.
Важнейшее место – в органичном единстве с христианской традицией – занимала
алхимическая и собственно масонская литература, в частности: Парацельса, химическая
псалтирь; Иоанна Масона, о познании самаго себя, 3 ч.; Райские цветы (Ангела
Силезского); Избранная библиотека для христианского чтения, 2 ч.; Апология вольных
каменьщиков; О заблуждениях и истине (Сен-Мартена).
Наконец, художественная литература – образцы изящной словесности как европейской:
Библиотека немецких романов, 3 ч.; Донкишот новой, 2 ч.; Золотой осел, 2 ч. (как мы
помним, в переводе Ермила Кострова); Поэма Потерянный рай; Путешествие
Гулливеровых, 4 ч.; Робинзон Крузе, новой; Похождения Родрика Рандома, 2 ч. (роман
Тобайаса Смоллетта); Мессия, поэма, часть I (Клопштока); так и российской: Поэма
Владимир возрожденный (Хераскова); Собрание полное сочинений Сумарокова.
Ну и всячина – для самой широкой публики, например: Умозрительный путешественник,
или Важныя и смешныя забавы, сочинения г. дю-Френи ; Сказки русския, 10 ч.
(признанные, кстати, митрополитом Платоном «сумнительными»); французские сказки
Тысяча и одно дурачество, 8 ч. авторства Нугаре, его же Картина глупостей нынешняго
века, или страстей различнаго возраста, а также такие книги как Любовный лексикон;
Карманная, или памятная, книжка для молодых девиц, содержащая в себе наставления
прекрасному полу с показанием, в чем должны состоять упражнения их – в общем, для
всех и каждого и на всякий случай жизни – необходимая для издательской деятельности
коммерческая составляющая. (Особенно экстравагантно выглядят сегодня такие
наименования как Способ нынешняго лечения от угрызения бешеной собаки и от
уязвления змеи и Онанизм, или разсуждение о болезнях, происходящих от онанизма,
сочинение г. Тиссота).
Мы умышленно привели столько необычных для нашего уха названий с той целью, чтобы
почувствовать дух времени – и увидеть, насколько реальная картина отличается от того
стереотипного представления, которое внедрялось посредством фрагментарного тезиса «о
Новикове-просветителе, издававшем сатирические журналы, Вольтера и Руссо». Да,
издавал – но это лишь небольшой фрагмент, как внешней его деятельности, так и
мировоззрения, масонская суть которого это – сумма знаний, интеграл, единство в
многообразии, постижение единого источника, который также является и
единственным смыслом всех знаний, ибо из него все знания вытекают, к нему и
возвращаются. Об этом он сам говорит в «Предисловии» к первому номеру
«Московского ежемесячного издания»:
«Хотя многие между людьми прославилися в некоторых частях учености и имена свои
предали бессмертию, однако они при всей своей славе могут быть сущие невежды. Всех
познаний и наук предмет есть троякий: мы сами, природы, или натура, и творец
всяческих. Ежели ученый не соединит оных трех предметов воедино и все свои познания
не устремит к совершенному разрешению оной загадки – на какой конец человек родится,
живет и умирает, и ежели он при учености своей злое имеет сердце, то достоин
сожаления и со всем своим знанием есть сущий невежда, вредный самому себе,
ближнему и целому обществу». – И далее: «Разврат в науках и проистекающее от оных
роду человеческому зло происходят, как кажется, от незнания источника, из которого
науки проистекли, и от незнания предмета, куда они текут и пиющих чистейшую их воду
за собою стремиться возбуждают». (Цит. по книге: Русская философия второй
половины XVIII века: Хрестоматия. Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1990. – СС. 161-162)
Как шило в мешке
В той же хрестоматии в разделе IV – «Идеалистическо-мистическая философия.
Масонство» – размещены фрагменты произведений двух авторов: «Некоторые черты о
внутренней церкви» И. В. Лопухина и «Отрывки из лекций» И. Г. Шварца, а также
анонимное «Рассуждение о бессмертии души», принадлежащее, по всей видимости, перу
того же Шварца. Два автора – две стадии русского мартинизма. Шварц символизирует
зарубежное его происхождение, прививку на русской почве; Лопухин – высшую степень
его органичного – русско-христианского – развития.
Но прежде чем перейти к разбору взглядов Лопухина, обратим внимание ещё на одного
представленного в хрестоматии автора. Статья «Рассуждение о бессмертии души» –
весьма неудобоваримая в силу своей архаичности сегодня – названием отсылает к
другому произведению, представленному в том же сборнике – к философскому трактату
Александра Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии». С мыслями,
изложенными в этом трактате, можно соглашаться или опровергать их, изучать по ним
состояние на то время естественных и общественных наук, но – углубляясь и постигая –
неминуемо приходишь к выводу: СЕ ЕСТЬ ШЕДЕВР – произведение виртуозной мысли,
равно как произведение изящной словесности. Примером тому возьмём следующее место
из самого его начала:
«Прежде нежели (как будто новый некий провидец) я прореку человеку, что он будет или
быть может по разрушении тела его, я скажу, что человек был до его рождения.
Изведши его на свет, я провлеку его полегоньку чрез терние житейское, и дыхание потом
исторгнув, ввергну в вечность. Где был ты, доколе члены твои не образовалися; прежде
нежели ты узрел светило дневное? что был ты, существо, всесилию и всеведению
сопричастное в бодрственные твои лета? Измерял ли ты обширность небесных кругов
до твоего воплощения? или пылинка, математической почти точке подобная, носился в
неизмеримости и вечности, теряяся в бездне вещества? – Вопросы дерзновенные,
возлюбленные мои! но вопросы, подлежащие моему слову!»
Могут возразить, что, дескать, язык архаичен и не мы ли сами несколькими строками
выше назвали статью Шварца неудобоваримой по причине её архаичности? Но
архаичность становится причиной неудобоваримости от недостатка движения, от
неумения пользоваться в совершенстве языком, от того, что мысль не в состоянии
отобразить все нюансы. Но разве не виртуозность мысли и изящество формы находим мы
у Радищева: «Твое воображение клокочет и кипит, и где бы ты мысленно ни носился,
пускай возницы твои легчае звука и быстрее света, о тварь, се точка, и ты на ней!»
Что же до особенностей тогдашнего языка, то бишь архаизма, то ведь именно в этом и
заключено своеобразие эпохи. Пусть язык не был настолько плавен и гибок, каким мы его
видим у Пушкина, но ведь и нравы, и представления, и вся тогдашняя жизнь также были
другими – не столь плавными и гибкими. Однако меньшая утончённость это вовсе не
основание рассматривать эпоху не саму по себе, а в приложении к эпохе последующей –
более утончённой. Державина выбрали как предтечу Пушкина, но Радищев, Лопухин,
Херасков – вовсе не предтечи, это самостоятельные планеты, громадные глыбы чистой
породы, содержащие не познанный доселе смысл. Его постижением мы и занимаемся.
В этом и необходимость постижения смысла русского масонства – а точнее мартинизма,
неразрывно связанного со смыслом русской культуры. Ведь в силу неправильной подачи
масонской идеологии, мы имеем весьма искаженное представление о тогдашней эпохе, и о
литературном процессе в частности.
Тема эта болезненна как для «демократического», так и для советского времени. Её всегда
пытались увязать с революционным движением, тайными обществами карбонариев.
Наглядным примером такого прочтения может служить «Повесть о братьях Тургеневых»
Анатолия Виноградова – автора интересует исключительно социально-политическая,
революционная составляющая. В том числе и в отношении Радищева и Новикова, с
которых, собственно, и начинается данная повесть – так как Тургенев-отец был напрямую
связан с обоими. Болезненность же темы заключается в её мистицизме, ибо смысл
истинного масонства (мартинизма) – в его религиозной основе. Не просто нравственной, а
в глубоко-религиозной. И этот момент – как шило в мешке.
Тот же Новиков – о бессмертии души: «Желал бы я более говорить о важности
нравоучения, но отвлекает меня другой мой предмет, о котором говорить должен, то
есть благотворная польза, приносимая уверением о бессмертии души. Привидение
доказательств о бессмертии оной за нужное теперь не почитаю, ибо, кажется,
довольно уже было о том рассуждаемо во многих местах нашего журнала. <…> Сие
чувствование, что душа наша бессмертна, есть надежнейшее правило всех наших
благородных великих и человеческому обществу полезных деяний, без которого правила
все человеческие дела были бы малы, низки и подлы» (из статьи «Заключение журнала под
названием «Утреннего света»»).
Но если в советское время – шарахались мистицизма, всякой изначальной религиозности,
поэтому и масонов старательно обходили, то нынешнее состояние дел – полная
дезориентация на местности. Как говорил классик, всё смешалось в доме Облонских
(впрочем, «Лев Толстой и масонство» – тема отдельная!) Изменились знаки: раньше
ругали царей и церковь и всячески прославляли революционеров, теперь наоборот –
только вместе с революционерами ругают еще и масонов, которых называют не иначе как
безбожниками и сатанистами. Интересная метаморфоза – ведь именно религиозный
мистицизм отпугивал от масонов советских исследователей, нынешние же российские
вешают на них нечто прямо противоположное!
Вот, например, Борис Башилов в книге «История русского масонства», в главе «Духовный
отец русской интеллигенции масон А. Радищев» пишет: «Радищев занял более крайнюю
революционную позицию, чем большинство русских масонов того времени. Радищев
выступает открыто как убежденный противник монархии и веры в Бога».
(http://www.bibliotekar.ru/rusMassonstvo/84.htm)
Но вот свидетельство самого Радищева, взятое из трактата «О человеке, его смертности и
бессмертии»: «Одна первая причина всех вещей изъята из сего быть долженствует. Ибо,
поелику определенные и конечные существа сами в себе не имеют достаточной причины
своего бытия, то должно быть существу неопределенному и бесконечному, поелику
существенность являющихся существ состоит в том, что они, действуя на нас,
производят понятие о пространстве и, существуя в нем, суть самым тем определенны и
конечны, то существо бесконечное чувственностию понято быть не может и
долженствует отличествовать от существ, которые мы познаваем в пространстве и
времени. А поелику познание первыя причины основано на рассуждении отвлечением от
испытанного и доказывается правилом достаточности, поелику воспящено и
невозможно конечным существам иметь удостоверение о безусловной необходимости
вышшего существа, ибо конечное от бесконечного отделено и не одно есть; то понятие
и сведение о необходимости бытия Божия может иметь Бог един. – Увы! мы должны
ходить ощупью, как скоро вознесемся превыше чувственности».
В той же книге Башилова захотелось найти и «красноречивые свидетельства» о Лопухине.
Долго искать не пришлось: «Граф Ф. В. Ростопчин сообщил Великой Княгине Екатерине
Павловне (дочери Павла I), что однажды у Новикова "30 человек бросало жребий, кому
зарезать
Императрицу
и
жребий
пал
на
Лопухина"».
(http://www.bibliotekar.ru/rusMassonstvo/85.htm)
Вот и получается, что главным злодеем, безбожником и сатанистом, согласно Башилову
является именно Лопухин (в другом месте он его и называет «главой русских масонов»).
Из чего вытекает необходимость познакомиться с его философским наследием. Ибо
именно в трудах Лопухина мы находим религиозно-философскую формулировку главных
идей русского масонства. Из них мы можем узнать о том едином источнике, о котором
писал Новиков и без которого наука не наука и литература не литература.
XI
ВОКРУГ ХЕРАСКОВА:
РЫЦАРИ ХРИСТА
Духовный рыцарь
В 1997 году в специализированном московском издательстве «Алетейа» в серии «Пути к
небу» были в полном объёме переизданы (впервые с 1913 года) «Масонские труды» И. В.
Лопухина, а именно «Искатель премудрости, или Духовный рыцарь», «Нравоучительный
катихизис истинных ф-к. м-в.» и «Некоторые черты о внутренней Церкви». Первая из этих
работ предваряется эпиграфом: «Пламенное усердие к Царю и Отечеству своему, любовь
к ближним, ненависть к порокам и стремление разумом и сердцем ополчаться противу
враждующих Христианству и Свет Учения Его гонящих, суть доблести Духовных
Рыцарей, и одне оне давать могут право и достоинство ко вступлению в Общество,
котораго цель есть, подкрепляя силу Законных Властей на земли Предержащих и
прогоняя мрак неверия, отверзать в Душах путь к Горнему Иерусалиму».
И следует вступительный раздел под названием: «Общия правила духовных рыцарей, или
ищущих премудрости, которыя каждый вступающий перед введением в комнату
приуготовления должен подписать, клятвенно обещая исполнять их наистрожайше». –
Правила состоят из восьми пунктов, первые три из них суть следующие:
«I. Прилежное упражнение в Страхе Божием и тщательное исполнение Заповедей
Евангельских.
II. Непоколебимая верность и покорность своему ГОСУДАРЮ с особливою обязанностию
охранять Престол Его не только по долгу общей верноподданных присяги, но и всеми
силами стремясь изобретать и употреблять всякия к тому благия и разумныя средства;
и таким же образом стараясь отвращать и предупреждать все оному противное тайно
и явно, наипаче в настоящия времена Адскаго буйства и волнения противу Властей
Державных.
III. Рачительное и верное исполнение Уставов и Обрядов своея Религии. NB. Из
Христианских токмо Религий могут быть приняты в Общество Рыцарей Ищущих
Премудрости».
Таким образом, видим нечто прямо противоположное тому, в чём огульно обвиняются
масоны: Страх Божий, а не дьявольские козни; Заповеди Евангельские, а не атеизм;
верность и покорность Государю, а не революции с восстаниями, кои именуются Адским
буйством; наконец, приверженность исключительно христианству – и никаким другим
учениям!
Но, возможно, всё дело в дьявольском их коварстве – в том, что за фасадной декларацией
скрываются совершенно другие цели? Ведь именно об этом твердят все антимасонские
исследователи масонства: втереться в доверие, прикрыв волчью сущность овечьей
шкурой, для того, чтобы в конце концов совершить главную подмену: «И это основная
формула сатанистов – (дьявол есть бог). И это же масонский трюк – подменить Бога
дьяволом», – пишет Петро Аркадьевич Павлюк. «Имя Христа используется масонами для
подмены одного другим. На деле имеется в виду завоевать доверие людей, чтобы
заставить их поклоняться дьяволу», – вторит ему Лоллий Петрович Замойский…
Проследим же, каким образом это делается. Основную часть «Духовного Рыцаря»
составляет описание ритуала посвящения в франкмасоны и всего с данным таинством
связанного, – что согласно названиям разделов выглядит следующим образом:
Приуготовление; Введение кандидата к приуготовлению; Первая беседа; Вторая беседа;
Третия беседа; Принятие; – и затем краткое описание функционирования ложи:
Устроение капитула (открытие капитула и закрытие); Обряд столоваго собрания
(открытие и закрытие); Одежды рыцарския; Праздник общества.
Что такое Ритуал? Это – фокусировка сознания, посредством зримых символов фиксация
его на высших абстракциях.
Приуготовление: «…между 4-х незажженных свеч должно положить изображение
пламенной Звезды с буквою G в середине». – С чьей-то не очень умной подачи
пентаграмму стали трактовать в качестве сатанинского символа. Тоже касается и понятия
«Великий Архитектор», который в прокрустовом «антимасонском» ложе оказывается тем
самым дьяволом-сатаной, которым масоны якобы подменяют Бога. Как говорится, кто
ищет, тот всегда найдёт – другой вопрос: КОГО ищет – Бога или дьявола? На наш взгляд,
всё гораздо проще и логичнее: как о том говорится в редакторской сноске к тексту
Лопухина, Пламенная Звезда масонов соответствует пентаграмме пифагорейцев,
символизирующей совершенного человека, что находится в полном соответствии с там же
приведённым тезисом: «Познай себя: обрящеши блаженство внутрь тебя сущее».
Ну а буква G – один из наиболее известных символов масонства, обозначает «Бог» и
«Геометрия», что соответствует пифагорейской максиме «Бог есть Геометр». В этой связи
вспомним картину Уильяма Блейка «Сотворение мира» или «Уризен, создающий мир»,
известную также под названием «Великий Архитектор». Ещё более подходящим видится
название «Великий Геометр» – вот и циркуль, пресловутый масонский циркуль,
определяющий сакральное значение круга. Вопрос на засыпку для всех «антимасонов»:
кто изображен на этой картине – Бог или дьявол?
Что же искали Лопухин сотоварищи? Не декларация определяет это, не простое
произнесение тех или иных слов и наименований, а мотивы, усилия, предшествующие
делам. В разделе «Введение кандидата к приуготовлению» Председатель даёт следующие
наставления: «Щастлив будешь, брат, естьли живо ощутишь в себе тму невежества и
мерзость пороков и их возненавидишь. Сие ощущение спасительно для тебя будет и
может дать тебе существенное средство в единый час, в единую даже минуту духовно
приближиться к Источнику Света, который живет во внутреннейшем и близь есть
воистину Ищущих Его».
Это ключевой – изначальный и самый главный – момент: без него никакого
самосовершенствования быть не может в принципе. Приближаться к Источнику Света
можно, лишь находя этот свет в себе самом. Но там где должно быть место светильника –
внутри человека – как правило, находится бочка с нечистотами. Поэтому, чтобы
светильник горел, для начала нужно очистить для него место – это значит начать
планомерное искоренение собственных пороков. Но как это делать? Во-первых, должна
быть внутренняя потребность, во-вторых, необходим маяк, которым может быть лишь тот
самый Источник Света – его нужно разглядеть опять-таки внутри самого себя.
«Любезные братья! – говорит Председатель, – Во внутреннейшем сердец наших
пожелаем добраго успеха испытующему Брату и соединимся в духовном прошении, да
Сама Премудрость просвещает его и сопровождает на пути прехождения важнаго
Сана его; да Она же Сама вожжет в сердце Ищущаго истинное, существенное желание
искать Ея; и да спомоществует ему при многотрудном его путешествии. Сии
чувствования должны мы воспламенять в себе вящше и вящше во все испытания и
путешествия каждаго Ищущего Брата».
А здесь – прямое объяснение, что путь к Богу возможен лишь через постижение Его
Премудрости. И далее – в Первой, Второй и Третьей беседах – находим внутреннее
объяснение ритуала, смысл его духовного наполнения. Это – к вопросу о якобы
бессмысленности масонских ритуалов. Но читая Лопухина их смысл становится
предельно ясен. Итак, Председатель говорит:
«Премудрость для вернейшаго испытания Любителей своих, не желают ли они Света Ея
токмо для собственнаго наслаждения своего, а не ради Ея служения; и пребудут ли они
Ей верны и в то время, когда ни мало не вкушая Ея сладости, безутешно страждут в
бедствиях, яростию тмы Любителям Премудрости наносимых, – ради таковаго
испытания, говорю, Премудрость, осияв уже великим просвещением и открыв многия
красоты и богатства свои, от узревших уже оныя совсем скрывается и лишает их всех
услаждавших предметов! – Образ сего представится теперь и тебе». – Сказав сие,
водитель паки завязывает Кандидату глаза, погашает стоящия на столе свечи, берет
от него светильник и непогашенный поставляет на стол подле Кандидата; меч же
оставляет у него и говорит: «Премудрость скрывает свой свет для испытания, но
никогда не лишает она силы соблюсти к Ней верность во время и самых жестоких
нападений. В таком состоянии испытательныя слепоты страшиться должно отчаяния,
яко величайшаго искушения в сей степени, и могущаго повергнуть в бездну тмы…»
Здесь впервые в данном трактате видим формулировку тезиса о непривязанности к
результатам деятельности. Речь идёт о том, что постигать премудрость нужно не с целью
стать мудрым, но во имя самой премудрости; творить добро не для того чтобы получить
за это награду в виде спасения, но во имя самого добра, то есть во имя Бога; любить не
для своего удовольствия, но для Бога.
И наглядно видна связь этого тезиса с символикой масонского ритуала: свет истины,
верность которой даёт силу, которую символизирует меч. Итого, видим, что в каждом
элементе масонского ритуала заключён непосредственный смысл того или иного высшего
принципа – что наверху, то внизу: божественная абстракция фокусируется в конкретном
предмете.
Но совсем другое дело, насколько символика ритуала соответствует реальной жизни того,
кто его проходит. Если вообще не соответствует – как у нынешних политических
псевдомасонов – тогда и говорить не о чем! Тогда это действительно лишённая всякого
смысла бутафория. Ибо смысл здесь не что иное, как связующее звено между высшей
абстракцией и реальным воплощением. Нельзя постичь божественный принцип без
приведения в соответствие с ним своего Я – только когда оно в нужном состоянии, тогда и
устанавливается неразрывная смысловая связь между ними. А если внутри своего Я нет
соответствующих условий, тогда никакой Божественный принцип не откроется и связь с
ним не установится. А останется только пустая и пошлая оболочка.
Иными словами, Ритуал – это не что иное как Идеал, к которому необходимо стремиться.
Без соответствия же ему реальных дел – он теряет всякий смысл. О чём Председатель
говорит в разделе «Принятие»:
«И так, должен ты обещать, стараться всеми силами и сколько возможно тебе: I-е –
Испрашивать Премудрости от Бога, служить ему и кланятися; истинное же поклонение
Ему есть поклонение духом и истинною: Дух есть Бог, и иже кланяется Ему духом и
истинною, достоин кланятися. Иоан. IV.24. II-е – Хранить душу и тело твое от
осквернения и прилежно убегать всего, что может препятствовать наитию духа
премудрости: ибо в злохудожную душу не внидет Премудрость, ниже обитает в телеси,
повиннем греху. Прем. Сол. I.4. III-е – Любить Ближних и служить им желанием,
мыслями, словами, делами и примером: Бог Любы есть, и пребываяй в Любви, в Боге
пребывает, и Бог в нем пребывает. Иоан. IV.16. Размысли и ответствуй».
Не может находиться Божественная премудрость в непригодном для неё – зашлакованном
и пропитанном эгоистическими испарениями – месте. По той простой причине, что в
таком месте для неё не подготовлено условий и – соответственно – нет свободного
пространства. И здесь не имеет значения как ты себя называешь – масон или
православный, – посещаешь ты церковную службу или заседания ложи – или вообще
ничего не посещаешь. Имеет значение лишь то, что у тебя внутри, чем наполнен сосуд
твоей души, на что направлены твои помыслы и мотивы и какие дела в результате ты
совершаешь.
В том же разделе немного ниже вновь находим тезис о непривязанности к результатам
деятельности: «По некотором молчании вступившему уже на место работы
Председающий повелевает Принимаемому в знак покорности, доверенности и особливо в
знак неприлепления к богатству Премудрости, которую должно любить и искать
единственно для Нея самой, а не ради Ея сокровищ, повелевает ему пожертвовать
плодами работы своей». – Тезис этот – один из главнейших для постижения Премудрости
и – как мы покажем ниже – присущ он не только масонству, и не только христианству (см.
«Бхагавад-Гита»!)
В то же время здесь же находим и сопряжение масонской символики с высшим смыслом
алхимического Великого Делания – не иначе как об алхимическом золоте говорится в
следующей фразе: «Вещество, колико бы драгоценно ни было и хотя бы заключало оно в
себе все сокровища земныя, не должно быть и не есть целию Истинных Каменщиков. –
Но благо есть искати Зерцала Премудрости, дабы видеть пресветлое Лице невидимаго
Ея Источника, Божественное Его действие и откровение Пресвятыя Его Воли; в ея же
едином исполнении Мудрые обретают все блаженство, всю сладость и все свое
богатство».
Требуется небольшое разъяснение. В общественном сознании об алхимии сложилось
устойчивое представление как о маниакальном поиске т. н. «философского камня», с
помощью которого все металлы можно было бы обращать в золото. Но это было лишь
внешнее направление деятельности средневековых алхимиков, ибо искусство
трансмутации распространяется не только и не столько на физический мир, но и на
духовный. О взаимодействии двух полюсов гласит основное кредо алхимика: освободить
дух через материю и освободить материю через дух – solve et coagula (разлагай и
соединяй) – то, что носит название ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ: разделение, расчленение,
расслоение целого на различные части, формы и ступени; – и ИНТЕГРАЦИИ:
объединение в целое каких-либо частей, элементов.
Очень просто, но в то же время точно сказал о смысле алхимии Фернан Шварц: «В самом
деле, понятно, что человек легко может измениться, если сменит грубую одежду на
изящную и благородную, но ему гораздо труднее так изменить свою глубинную природу,
чтобы благородство стало для него внутренне более естественным, чем грубость»
(Алхимия и духовная эволюция / в книге: Теории и символы алхимиков. – М.: Новый
Акрополь, 1995. – с. 9).
Такое же понимание алхимии как Великого Делания – внутреннего преображения
человека – находим и в мартинистском трактате Лопухина: «Братие! да будет нам всегда
любезно сие Спасительное Таинство Креста, которому мудрость мира сего не верует,
ибо понять его не может; но в котором Истинные Мудрецы ищут и обретают все
таинство Премудрости и все свое Блаженство; и коего сущий виден образ при
совершении великаго дела Мудрых и при возрождении малаго мира!» – В этом
наставлении находим ряд основополагающих идей: – об исключительности христианства
для постижения Божественной Премудрости; – о неспособности к её вмещению «мирской
мудростью» (то есть теми, кто руководствуется знаниями фрагментарными –
дифференцированными, но не интегрированными, разделёнными и не собранными
воедино, к каковым относятся представления, замешанные на атеизме, материализме, но
также и на внешней религиозности); – о человеке как микрокосме и о его возрождении
посредством Великого Делания.
И вот, наконец, ЦЕЛЬ, каковой она видится истинному франкмасону Ивану
Владимировичу Лопухину: «Свет Духовнаго светила сего, исполнив меру определеннаго
Просвещения им в стране тмы и заблуждения, пролиется в свое начало; и сам сей
избранный Сосуд Премудрости, преображенный в непомрачимую Светлость, вознесется
к источнику своему и центрально слиется с высшим Солнцем чистаго Света». – Так что
же такое в данном случае Просвещение? Не иначе как неуклонное движение по
направлению к изначальному источнику, к первообразу, к самому Центру – согласно
учению Сен-Мартена.
К этому имени мы ещё вернёмся, ибо по собственному свидетельству Лопухина именно
книга Неизвестного Философа «О заблуждениях и истине» легла в основу его
собственного мировоззрения, в одночасье заставила отказаться от вольтерьянства и стать
на путь Великого Делания. Но дело не в одном Лопухине – это основа всего мартинизма,
того явления, которое с полным на то правом следует признать ИСТИННЫМ масонством,
то есть тем, что соответствует религиозно-философскому учению, в отличие от
бутафорского политического масонства, имеющего цели никак не совместимые с Великим
Деланием и нахождением Центра.
Поэтому всем, кто желает иметь дело не с антимасонскими химерами, а с
первоисточником, следует обратиться к трактату Лопухина «Искатель премудрости, или
Духовный рыцарь», содержащему в себе квинтэссенцию истинного масонства. В
завершающих разделах Устроение капитула и Обряд столоваго собрания «тайна
масонства» открывается в высшей степени чётко и ясно.
Вопрос: Где обитает Премудрость?
Ответ: Она везде и представляется взору всех и каждаго, но видима только Любящими
Ея; и токмо Ищущими Ея обретается. Прем. VI.12-16.
Вопрос: Что потребно для обретения Премудрости?
Ответ: Единое.
Что это означает? – Опять-таки, ИНТЕГРАЛ!
Вопрос: Что есть человек?
Ответ: Малый мир, ибо он есть извлечение, Екстракт из всех существ, и потому
подобится великому миру. Богу же самому он подобен разумною душою, которая
божественно влита в живый небесный дух, управляющий человеческим телом,
сооруженным из стихии.
Вопроса «Что есть Бог?» в этом разделе нет, но ответ на него содержится в первых словах
молитвы при закрытии капитула:
«О Неизглаголанный и Непостижимый Боже, Отец Светов, источник живота и Жизнь
единая! Ты еси Премудрый Строитель всего чина и всея лепоты и в Ангельском, и в
Небесном, и в Стихийном Мирах, коих согласие есть таинственная Лествица к
невидимому Престолу Твоему, и всеми чертами видимаго возвещаеть о Зраке Твоем,
сокровенно везде сущем, в чистом свете Натуры...»
И возвращаясь к масонской символике, вокруг которой существует великое множество
совершенно диких спекуляций, обратим внимание на следующие разъяснения:
Вопрос: Каким Символом представляют Натуру?
Ответ: Свободные Каменщики изобразили ея чрез Пламенеющую Звезду, толико
уважаемую древними их Мастерами и представляющую Божие Дыхание, всеобщий и
центральный Огонь, который все сотворенное оживляет, соблюдает и разрушает.
Вопрос: Какие суть еще важнейшие Символы у Свободных Каменщиков?
Ответ: Неотесанный Камень, Кубический Камень и Гроб.
Вопрос: Что может изображаться неотесанным Камнем?
Ответ: Materia prima et cruda Phylosophorum (Первоматерия и состояние «философской
незрелости, незавершенности»).
Вопрос: Что может представлять кубический Камень?
Ответ: Sal Phylosophorum (Соль философов).
Вопрос: Что Гроб знаменовать может?
Ответ: Смерть и тление, которое есть необходимый путь к возрождению Великаго
Мира и всех сущих в нем видимых вещей.
Вопрос: Что еще Гроб напоминать может?
Ответ: Что чрез внутреннюю на сердечном кресте смерть и через гниение ветхаго
человека может совершиться в малом мире Новое Творение и Просветление, в котором
Духовный человек освободиться от владычества плоти и тмы.
Сожжённая библиотека
(В списках не значился)
Если отрицательным моментом нашего действия – то есть направленным не на
собственное действие, а на противодействие – является опровержение глупых (иначе не
скажешь) антимасонских инсинуаций, то положительным – восстановление целостной
картины русской духовной культуры, а также истинного значения творчества отдельных
её деятелей. В частности, И. В. Лопухина.
Он один из тех, кто выпал, одно из многих недостающих звеньев. Настолько многих, что
общая картина, по сути, представляет собой большое белое пятно, поверх которого
наложена искусственно-произвольная картинка, считающаяся «канонической». Ещё вчера
я знать ничего не знал, ведать не ведал ни о Лопухине, ни о… Страхове – переводчике
Сен-Мартена (о Сен-Мартене знал – но, вероятно, по той причине, что он не русский!) А
между тем, просматривая интернет-информацию касательно книги «О заблуждениях и
истине», я обратил внимание на следующую выписку из второго тома «Моей библиотеки»
известного библиофила Смирнова-Сокольского: «Пётр Иванович Страхов (1757-1813) –
профессор Московского университета в области физики атмосферы, прославившийся
своими лекциями, сопровождаемыми виртуозно поставленными опытами. Автор
известного учебника «Краткое начертание физики». В 1805-1807гг. – ректор
Московского университета. Один из соратников Н. И. Новикова, пользовавшийся
большим уважением у русских мистиков, особенно масонов, с которыми находился в
близких отношениях. Ещё будучи студентом Страхов по поручению Новикова с
«тщанием, точностью и тонкостью» перевёл на русский язык основной трактат по
мартинизму «О Заблуждениях и Истине» (1785), напечатанный иждивением
Типографической компании (масонской Новиковской типографии Ордена Креста и Розы).
Его перевод был признан современниками безупречным. Также переводил Нугаре, Руссо,
Бриссона и первые пять томов очень популярного в своё время «Путешествия младшего
Анахарсиса по Греции» Бартелеми. Его перу принадлежит и целый ряд оригинальных
работ. Умер П. И. Страхов – талантливый учёный, философ, писатель, переводчик, –
спустя несколько месяцев после пожара Москвы, 12 февраля 1813 г., в возрасте 55-ти
лет, не пережив гибель почти всех зданий университета, его архивов, библиотеки,
ценнейших музейных коллекций, научного оборудования и результатов всех его
многолетних трудов, которые он не успел издать при жизни». – Воистину: разрушенный
университет и сожжённая библиотека – весьма подходящие метафоры для характеристики
того положения вещей, в котором пребывает вневременное здание русской культуры.
Парадоксальная ситуация: книгоиздательское дело и в до- и особенно в послереволюционной России было поставлено на весьма приличном уровне – звание самой
читающей страны за СССР числилось вовсе не зря – но всё летело куда-то в прорву. И
происходило так в силу установки: что-то нужно сохранять, а что-то НЕОБХОДИМО
забывать. По ходу исчезало очень многое – ценное и весьма интересное – например,
историко-авантюрный роман – Рафаил Зотов, Карнович, Салиас; или авторы и
произведения, так или иначе служившие основой для произведений Пушкина… Казалось
бы, то, что повлияло на главного поэта, наоборот должно всячески собираться и
исследоваться – ан нет! – кто может похвастаться тем, что читал роман Александра
Измайлова «Евгений, или Пагубные последствия дурного воспитания и сообщества»
(1799-1801), поэму Семёна Боброва «Таврида, или Мой летний день в Таврическом
Херсонесе», «Владимира возрожденного» и «Бахариану» Хераскова, богатырские сказки
Лёвшина, Чулкова, Попова? А вот о Булгарине можно было узнать только в связи с
Пушкиным: но не с его собственными произведениями ознакомиться, а прочесть лишь
отзывы о нём – исключительно одной направленности, как, например, у того же
библиофила Смирнова-Сокольского в «Рассказах о книгах»:
«Имя Фаддея Булгарина, редактора-издателя «Северной пчелы», автора многочисленных
романов и еще более многочисленных доносов в Третье отделение, – постыдное имя в
истории русской литературы».
«Завистливый к чужой литературной славе, Булгарин, накропав своего «Самозванца»,
был крайне обеспокоен растущим успехом вышедшего из печати исторического романа
М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» и слухами о поданном уже в цензуру «Борисе
Годунове» Пушкина. Наглый, но трусливый Булгарин почувствовал, что между двумя
такими явлениями в литературе его «Дмитрий Самозванец» будет раздавлен, как тля, и
он решил «принять меры»» (Смирнов-Сокольский Ник., Рассказы о книгах. М.: изд-во
«Книга», 1977, с. 256).
В общем и целом выборочно оставлялось то, что вписывалось в идеологию – из века 18го: выборочный Новиков, выборочный Радищев, Крылов, Фонвизин, – а также различные
безделки, не способные существенно повлиять на идеологическую ситуацию и на
«канонические» представления о литературе. Литература религиозная, мистическая ни к
одному, ни к другому не относилась – и потому должна была кануть в Лету.
В тех же «Рассказах о книгах» Смирнова-Сокольского есть очерк на интересующую нас
тему – «Новиков и московские мартинисты». Это название уже всплывало в нашем
исследовании – так называется книга М. Лонгинова, вышедшая в 1867 году и с тех пор
больше не переиздававшаяся. Она оказалась в коллекции знаменитого библиофила и в
придачу к ней – письмо автора к Николаю Тургеневу – известному масону, ставшему
впоследствии главным героем «Повести о братьях Тургеневых» Анатолия Виноградова. В
письме Лонгинов рассказывает о своей книге и просит Тургенева сообщить ему кое-какие
биографические сведения – Смирнов-Сокольский полностью приводит текст письма,
после чего даёт свой – весьма любопытный – комментарий:
«На первый взгляд в письме нет ничего особенного. Может показаться даже, что пишет
весьма серьезный ученый, поставивший целью дать картину жизни прославленного
своими делами и страданиями деятеля просвещения XVIII столетия. Не забудем, что о
Новикове писал Белинский, как о «необыкновенном и, смею сказать, великом человеке».
Не скупится на похвалы в своей книге и М. Н. Лонгинов. Однако в какую именно сторону
они направлены? В приведённом здесь письме характер деятельности Новикова
обрисовывается так, что его труды, видите ли, были: «филантропические,
издательские, типографские, книгопродавческие, педагогические, ученые», а главное:
«масонские, розенкрейцерские, тамплиерские, иллюминатские». В исследовании М. Н.
Лонгинова эта мысль получает еще большее развитие. Новиков в книге Лонгинова – это
мистик, масон, алхимик, теософ. Лонгинов предпринимает все возможное, чтобы
сделать в своей книге понятными «перевороты и отношения в русском масонстве и
розенкрейцерстве времен новиковских». Вот, оказывается, в чем главная задача
«исследования» Лонгинова! Даже по содержанию письма видно, что он в своей книге не
уделяет и строки Новикову – писателю, сатирику, врагу крепостного права, врагу
Екатерины II. Не просветителем, а насадителем мистицизма в России рисует Лонгинов
в своей книге Николая Ивановича Новикова. За мистицизм, видите ли, его и покарала
императрица!» (сс. 101-102).
Но – как то следует из самого названия – исследование Лонгинова посвящено именно
мартинизму! Поэтому весьма странными следует признать претензии к нему СмирноваСокольского – почему, мол, не уделяет должного внимания «антикрепостнической» и тем
более «антимонархической» деятельности Новикова? Да хотя бы потому, что книга
посвящена исследованию совершенно другого предмета! В целом же видим здесь мысли
прямо противоположные тому, о чём мы писали в предыдущей части: делая из Новикова
лишь «просветителя» социального толка и борца с монархическим режимом, произвольно
– в силу идеологического фактора – сужается и фрагментируется оперативное
пространство русской культуры. Да и то: издание Новиковым сатирических журналов в
Петербурге приходится на то время, когда ему было 25-30 лет, после чего он полностью
переключается на просвещение совсем иного рода – духовно-нравственное. Но… как
говорит Смирнов-Сокольский: «Советским исследователям пришлось не мало
потрудиться, чтобы правильно оценить деятельность Н. И. Новикова» (с. 103). – И
статью свою «Новиков и московские мартинисты» подытоживает указанием на
первоисточник этого «правильного» процесса: «Владимир Ильич Ленин в 1918 году,
заботясь о монументальной пропаганде, предложил поставить памятники русским
просветителям, писателям, ученым, революционерам. Из числа просветителей XVIII века
им были названы Радищев и Новиков» (с. 109).
Обратим внимание на небольшую – сразу и не заметную – деталь. В первой приведённой
нами цитате из Смирнова-Сокольского видим: «Ещё будучи студентом Страхов по
поручению Новикова с «тщанием, точностью и тонкостью» перевёл на русский язык
основной трактат по мартинизму «О Заблуждениях и Истине» (1785), напечатанный
иждивением Типографической компании (масонской Новиковской типографии Ордена
Креста и Розы)». – Возможно, что именно Новиков давал такое поручение Страхову, но
книга-то Сен-Мартена – как о том свидетельствует её титульный лист – «иждивением
Типографической Компании» в 1785 году вышла «в вольной Типографии И. Лопухина». О
том же свидетельствует составленная по приказу Екатерины «Роспись книгам,
печатанным в университетской типографии у поручика Новикова»: трактат «О
Заблуждениях и Истине» значится в ней среди книг, напечатанных в типографии
Лопухина, и отсутствует в основном – «новиковском» – списке.
Что это? Случайная ошибка? Небрежность? И это у знаменитого библиофила-буквоеда –
обладателя богатейшей коллекции изданий XVIII века? Думается, что дело в другом – в
идеологическом посыле. Если Новиков и Радищев нужны были исключительно в образе
революционеров, но ни в коем случае мыслителей-идеалистов, то Лопухин – в силу своей
нерасчленимой доминанты – не нужен был вообще. И он был изъят.
Поэтому ничего удивительного нет в том, что в биобиблиографическом словаре «Русские
писатели» (М.: Просвещение, 1971) – о Лопухине – ни строчки.
Наибольшая заповедь
Ситуация изменилась через три десятка лет: в аналогичном словаре «Русские писатели.
XVIII век» (составитель С. А. Джанумов; М.: Просвещение, 2002) Ивану Лопухину
посвящена весьма благосклонная статья, где, в частности, говорится: «Характерной
приметой всех сочинений Лопухина является искренняя религиозность и склонность
автора к мистицизму. Его многочисленные масонские переводные и оригинальные
произведения до сих пор не систематизированы и не изучены. Лопухин был самым
плодовитым среди русских писателей-масонов. <…> Дружба известного мистика с
Платоном (Левшиным), автором православного «Катехизиса», и их споры о сущности
масонства вдохновили Лопухина на создание «Нравоучительного катехизиса истинных
франкмасонов» (1790), в котором он пытался обосновать близость масонства к
христианскому вероучению. Это сочинение отдельно и в составе сборников
неоднократно переиздавалось, а также распространялось в списках, став настольной
книгой многих поколений русских философов и писателей-мистиков. Любовь к Богу и
ближним, не исключая врагов, непрерывный процесс внутреннего самопознания и
самосовершенствования – вот основные идеи «Катехизиса» Лопухина. Обрядовой
стороне масонства посвящено его сочинение «Духовный рыцарь, или Ищущий
премудрости» (ок. 1799). <…> В 1808–1809 гг. он написал автобиографические
«Записки», которые представляют большой исторический и литературный интерес. В.
А. Жуковский писал Александру Тургеневу: «Прочитав его «Записки», пожелаешь, чтобы
таких людей было поболее, а для себя сочтешь счастием пользоваться их дружбой».
<…> На протяжении жизни Лопухин был дружен со многими видными деятелями
русской истории и литературы: М. М. Херасковым, И. П. Тургеневым, А. М. Кутузовым,
Н. М. Карамзиным, Г. П. Каменевым, П. И. Сумароковым, Феофилактом (Русановым), И.
М. Долгоруковым, М. М. Сперанским, И. И. Дмитриевым и др. Современники отзывались
о нем как о человеке, который «делал добро без разбора» (Я. И. Булгаков), «всему на
свете предпочитал добродетель» (А. Ф. Воейков), прославился «умом и подвигами
человеколюбия» (С. П. Жихарев)».
Даже по этому отрывку можно понять, что в лице Лопухина мы имеем дело не просто с
недюжинной личностью, но с весьма глубоким явлением духовной культуры. Но что это
за феномен? к какой сфере он относится? литературной? Но в собственно литературном
активе Лопухина всего-то – сборник «Подражание некоторым песням Давидовым» (1796),
содержащий переложение шести псалмов и посвящённый митрополиту Платону, а также
дидактическая пьеса «Торжество правосудия и добродетели, или Добрый судья» (1794).
Понятно, что не это здесь главное, и даже не «Записки сенатора Лопухина», а именно его
масонские труды.
Но насколько они принадлежат литературной сфере и правомочно ли столь пристальное к
ним внимание в литературном исследовании? Думается, что более чем правомочно, ибо
без философии не может быть литературы: первая – неотделимая внутренняя основа
второй. Да и как можно уяснить истинный смысл и значение того пласта русской
литературы, творцами которого являлись писатели-масоны, без разумения масонской
философии? Вот мы и углубились в исследование данного вопроса – и, похоже, что
пришли, наконец, к цели.
Обратим внимание на то и дело появляющееся в околомасонских делах имя митрополита
Платона (Левшина) – выдающегося деятеля Русской Православной церкви, автора таких
трудов как «Катехизис, или первоначальное наставление в христианском законе,
толкованное всенародно» (1757), «Православное учение, или сокращенное христианское
богословие, с прибавлением молитв и рассуждения о Мельхиседеке» (1765) и «Краткая
церковная российская история» (1805). Что характерно: и в отношении Новикова, и в
отношении Лопухина церковный иерарх выступает вовсе не в роли гневного обличителя
злостных масонов, напротив – видим единство в понимании первоосновы, но разность в
путях её постижения. Таким образом, мы выходим на вопрос соотношения масонства и
христианства и на уяснение того, что есть истинное масонство и что есть истинное
христианство??
Написанный Лопухиным в 1790 году «Нравоучительный катихизис истинных ф-к. м-в.»
начинается со следующих пунктов:
1. Истинный ли ты Ф. М.? - Мне известны та невидимая и неустроенная Земля и те
Воды, на коих носился Дух Великаго Строителя Вселенной при ея сотворении.
2. Чем наипаче отличается истинный Ф. М.? - Духом собратства, который один есть
Дух с Христианским.
3. Какая Цель Ордена истинных Ф. М.? - Главная Цель его та же, что и Цель Истиннаго
Христианства.
4. Какой главный долг истиннаго Ф. М.? - Любить Бога паче всего, и ближняго как самаго
себя, или еще более, по примеру Св. Павла, который желал даже быть анафема и
отлучен быть от Иисуса Христа ради своих братий. Рим. IX.3.
5. Какой должно быть главное Упражнение (работа) истинных Ф. М.? - Последование
Иисусу Христу.
6. Какия суть действительнейшия к тому средства? - Молитва, упражнение воли своей в
исполнении заповедей Евангельских и умерщвление чувств лишением того, что их
наслаждает: ибо истинный Ф. М. не в ином чем должен находить свое удовольствие, как
токмо в исполнении Воли Небеснаго Отца.
7. Где истинный Ф. М. должен совершать свою работу? - Посредине сего Мира, не
прикасаясь сердцем к суетам его, и в том состоянии, в которое каждый был призван. I.
Кор. VII.20.
8. Какие суть самыя верныя знаки последования Иисусу Христу? - Чистая любовь,
преданность и Крест.
Катехизис Лопухина являет собой стремление к полному отождествлению масонства с
христианским вероучением, значительная его часть заключается в просто дословном
повторении евангельских заповедей. Но в сравнении с каноническим катехизисом
православной (или католической) церкви возникает одно «но». И состоит оно в самом
понятии Церкви. В учении, воспринятом и проповедуемом Лопухиным, во главу угла
ставится понятие Внутренней Церкви – но таким образом под сомнением оказывается
необходимость внешней! Вот именно в этом пункте и находится камень преткновения
между официальной церковью и масонством!
В пункте 19 своего катехизиса Лопухин отмечает: «Какие обязанности истинного Ф. М. в
разсуждении внешняго Богослужения? - Почитая его Установления и Обряды, должен он
прилежно ими пользоваться как средством для внутреннего; чему надлежит быть их
предметом во всех Христианских Учреждениях Богослужения внешняго». – Подчеркивая
приоритет внутреннего над внешним, Лопухин стремится развеять сам повод к
противоречию с официальной церковью: ведь и в церковном Богослужении внешний
обряд – это лишь средство к достижению внутренней связи человека с Богом! Тем не
менее, противоречие не исчезает. По той причине, что хотя Лопухин и не отрицает
значение внешнего, он и не подчёркивает его необходимость. А не признавая её
АБСОЛЮТНУЮ необходимость, он существенно снижает авторитет официальной
церкви. Что же до самого понятия Церкви – оно вовсе не отрицается, но наполняется
принципиально иным содержанием
Разъяснения, чрезвычайно важные для понимания этой принципиальной разницы,
находим в приложенной к «Катехизису» статье «О влиянии истиннаго каменщичества в
Церковь Христову и о внутренней Церкви вообще»:
«Кроме особых Друзей и Строителей Божиих и принадлежащих к тайному их Училищу
Премудрости были всегда благочестивые души, жившия в страхе Господнем, верою в них
рожденном. Сии последние по духу едино были с первыми, составляя все вкупе единую
внутреннюю Церковь, в которой Бог творит великое дело обновления. Церковь сия
наипаче укрепилась, возвысилась, распространилась, новый свет и дух прияла
вочеловечением Христа Бога нашего. Бог, Слово, Им же вся быша; плоть бысть и вселися
в ны. Сей Бог и человек, Глава и Учредитель истинных Каменщических работ,
воплощением своим, жизнию, страданием и смертию выработал возможность и отверз
путь всем человекам, кои верою и любовию объемлют Его, паки чадами Божиими бытии;
бытии таковыми ни от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от
Бога родившися. Он совершил великое сие дело на кресте, таинственно окропив все души
драгою своею кровию, яко тинктурою к Божественному Превращению». – И далее:
«Сказавый Ученикам своим: се Аз с вами до скончания века, от начала пребывал с оными
Священниками Храма Премудрости, являясь им в откровении света ея: по совершении
же дела воплощения Своего, яко Бого-Человек пребывает и пребудет с ними до скончания
века».
Из чего следует, что Истинная Церковь существовала и до воплощения Иисуса
Христа, то есть тогда, когда нынешней церковной организации (то есть внешней церкви)
не было и в помине! Это означает, что Истинная Церковь вовсе не нуждается в наличии
внешней организации. Разбор того, что это значит по сути, начнём с одного весьма
симптоматичного для нашей темы спора – столкновения двух религиозных антиподов.
Один из них – автор этих строк, второй – «русский традиционалист» Владимир Можегов
(приводится с сохранением возникшей в ходе дискуссии ненаучной лексики):
– Читаю параллельно две книги. Первая – «Православие и религия будущего» Серафима
Роуза – поражён, прежде всего, тем насколько глуп этот человек! Вторая – «У врат
молчания» Александра Меня – картина прямо противоположная: каждая страница
проникнута мудростью, спокойствием, чистотой.
– По-моему, Роуз не так уж и глуп. Просто он фундаменталист. И Мень не так уж умен,
хотя, конечно, более начитан. Но по большому счету обе книжки – голимая попса.
– Проникновение в Дао Дэ Цзин, в Упанишады – проникновение созидательное – при
сохранении глубоко христианского взгляда – это не попса, а высшая мудрость. С другой
стороны – может, кто-то и называет это фундаментализмом, а по сути это –
истерика и беснование глупца.
– Серьезные индологи и египтологи без раздражения о Мене говорить не могут. Очень
поверхностная, мягко говоря, книжка. В этом смысле действительно очень похоже на
Роуза. Но Роуза спасает страсть, видно, что сердце горит у человека, хоть разум и не
поспевает. А Мень... Он не столько ищет истину, сколько размывает ее своими
рассуждениями. Для первого знакомства с традициями, конечно, сойдет. Но не более.
– Читая эти книги, совсем не нужно знать мнение "серьезных" индологов и египтологов.
Мень решает свои задачи, ученые индологи – свои. С поставленной целью Мень
справляется целиком и полностью – и это главное. Кто хочет углубиться в тему, тот
обратится к первоисточнику – какие проблемы? Мень предстает истинным мудрецом.
Роуз – это просто бесовщина – тупая и примитивная. И таких бесов от православия –
хоть пруд пруди.
– Мень не чувствует сердца русского православия. И так же точно не чувствует сердца
ни одной из традиций, о которых рассуждает. Читаешь его с интересом, но по
прочтении обнаруживаешь, что ни в уме ни в сердце ничего не осталось. Какая-то
интеллектуальная игра, без души и ясного смысла. Хотя и не без харизмы. А Роуз
наоборот – полюбил православие всем сердцем. Но с русскими всегда так (а Роуз в этом
смысле чистейший русский): в сердце Бог, в мозгах дьявол.
– Выражение интересное – в сердце Бог, в мозгах дьявол – насчет последнего согласен, а
вот насчет Бога в сердце – сильно сомневаюсь. Наверняка он действительно – как вы
говорите – полюбил православие. А надо было – не православие, а Бога полюбить. Только
сначала Его нужно найти…
– У Меня тоже своеобразный Бог, иудо-христианский. Он так мило проходит мимо всей
тысячелетней европейской традиции, просто диву даешься.
– Мень, который с одинаковой любовью пишет о Лао-цзы и Будде, равно как и о
ветхозаветных пророках, «сердца русского православия», возможно, и не чувствует. По
той причине, что все эти национальные особенности сливаются у него в единой любви к
Богу. Конечно у каждого автора есть свои особенности. И у каждого при желании
можно найти недостатки. Но лично для меня главным критерием является та энергия,
которая исходит от автора, – добра, любви и созидания или злости и разъединения.
– Злость часто бывает от большой любви, а «добро и созидание» от чего-то другого...
Нелинейная геометрия
– Вы упускаете из виду несколько моментов: во-первых, это не проповедь, а обзор
истории религий; во-вторых, этот обзор делает христианин – и столь уважительное
отношение к различным традициям лично для меня является свидетельством именно
принципа любви и добра.
– Я эти моменты прекрасно помню, но меня они не убеждают. Не вижу ничего
христианского во всесмешении... Христос плетью гонял торговцев и Творец
предупреждал, что Он Бог ревнивый... Позиция Меня – это позиция со стороны. Легко
быть миротворцем, когда ты ко всем одинаково равнодушен.
– Бог ревнивый – это еврейский Иегова в талмудическом восприятии. Для меня –
неприемлемо наделять Бога собственными недостатками
– Ревность Бога – не ревность человека. Это значит, что Бог не терпит неправды и
компромиссов. Это значит также, что есть некое драматическое напряжение Истории
как процесса осмысленного и этически окрашенного. Мои претензии к Меню в том, что
он умудряется при всем своем энциклопедизме этот драматический процесс и это
этическое напряжение не заметить, упустить как будто его и не было.
Нельзя не согласиться, что выражение «полюбил православие» (а православие и
православная церковь суть вещи неразделимые) означает не что иное как «полюбил
именно Церковь». Но нужно ли любить церковь? Или, может, исключительно Бога? и
воплощать свою любовь всеми возможными способами, в том числе и посредством
церкви? Таким образом, церковь оказывается в ряду средств, предназначенных для
прославления Бога. Но тогда она теряет свой абсолютный смысл – ведь Бога можно
славить и не заходя в церковный храм, и не исполняя церковных обрядов, и вовсе не
принадлежа к церковной общине, – а своими поступками, мотивы которых коренятся в
душе. Для того же, чтобы эти мотивы стали действительно богоугодными, душа должна
прийти в соответствие с Богом, образно говоря, она должна стать Его Храмом. Вот это и
есть Внутренняя Церковь. А что ещё можно добавить к следующему месту из Евангелия
от Матфея? – «И слышав народ дивился учению Его. А фарисеи, услышавши, что Он
привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его,
спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему:
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем
разумением твоим»: Сия есть первая и наибольшая заповедь; Вторая же подобная ей:
«возлюби ближнего твоего, как самого себя»; На сих двух заповедях утверждается весь
закон и пророки» (Матф. 22. 33-40) – Если же вместо того, чтобы полюбить Бога – кто-то
полюбил православие, – то не сердце горит у него, а страсти! как говорит наш оппонент:
но Роуза спасает страсть...
Итого, принадлежность к Внутренней Церкви определяется исключительно любовью к
Богу. И только внутренний смысл христианства имеет абсолютное значение. В этом –
основа творчества и жизни Лопухина. «Духовный Рыцарь», как мы видели, посвящён не
только и не столько обрядовой стороне масонства, сколько символическому значению
масонского ритуала. По сути, это – квинтэссенция, сгущённое христианство, внутренняя
его сущность, которая заключается в двух словах: ЦЕЛЬ – это Центр, его достижение; и
ПУТЬ – Великое Делание. Алхимической формулировкой V.I.T.R.I.O.L. – visita interiora
terrae rectificando invebies ocultum lapidem (проникни во внутренность земли, перегонкою
найдешь сокрытый камень) завершается «Нравоучительный катихизис истинных ф-к. мв.». О главных же аспектах Делания – небольшой, из восьми глав состоящий, но
чрезвычайно ёмкий трактат И. В. Лопухина «Некоторые черты о внутренней Церкви, о
едином пути истинны и о различных путях заблуждения и гибели с
присовокуплением краткаго изображения качеств и должностей истиннаго
христианина».
Церковь внутренняя и внешняя
Что представляет собой эта книга? В творчестве Лопухина – вместе с «Духовным
рыцарем» и «Нравоучительным катехизисом» это одно неразрывное целое. И если первые
две работы – концентрат учения, вертикаль, то «Некоторые черты…» суть разъяснение их
смысла, горизонталь. Вместе же они образуют КРЕСТ – как в христианском, так и в общесимволическом его значении. В «Словаре символов» Х. Э. Керлота читаем: «Подобно
Древу Жизни, крест означает «мировую ось». Помещенный в мистический Центр
космоса, он становится мостом или лестницей, при помощи которых душа может
достичь Бога. Есть несколько версий, где крест изображается с семью концами,
сравнимыми с космическими деревьями, которые символизируют семь небес. Крест,
следовательно, утверждает первичные взаимоотношения между двумя мирами
(небесным и земным). Кроме того, поперечная перекладина, пересекающая вертикальную
стойку (при этом первая символизирует горизонт, а вторая – ось мира) означает
соединение противоположностей, союз духовного (или вертикального) принципа с
принципом мира явлений. Таким образом, здесь крест символизирует страдание, муки и
борьбу». (Керлот Хуан Эдуардо. Словарь символов. – М.: «REFL-book», 1994. – сс. 269,
270).
Всё это – крест, символически содержащий в себе путь, жертву и посредством этого
соединение двух миров и достижение Центра, – в полной мере относится к творчеству и
самой жизни Ивана Лопухина. В его «Некоторых чертах…» – в этой Книге Прозрений –
восемь глав как восемь шагов на пути к постижению внутренней Церкви. Об изначальном
свете и последствиях грехопадения рассказывает Глава I. «О начале и продолжении
внутренней Церкви»:
«Слово, изрекшее свет, всегда речет – и свет бывает», – здесь же находим весьма
важный момент для понимания сущностного отличия двух путей – правого и левого:
«Первый вздох покаяния Адамова был, можно сказать, первый луч возсияния в нем онаго
Света и первая точка основания внутренней Церкви Божией на земле. Последовавшие
Патриархи, Праведники, души благочестивыя, жившия в страхе Господни, верою в них
рожденном, и добротою непорочности Авелевой украшенныя, все вкупе составляли
единую Церковь оную, в которой Бог творил великое дело обновления. А воспаленные
темным духом Каиновым, размножая злонравный мир неправды, вражды, убийств,
нечестия и заблуждений, созидали на земле церковь Антихристову». – Таким образом,
левый путь, символически обозначаемый именем Каина, это не что иное как отклонение
от света, правды и добродетели – во тьму невежества.
Понять значение и смысл книги Лопухина невозможно без уяснения, во-первых,
контекста в котором она пребывает, во-вторых, традиции, к которой она принадлежит.
Контекст русской литературы представляет собой нечто фрагментарно-разорванное.
Старая русская литература, православная литература, демократическая литература, канон
русской классики, периферийная и маргинальная литература – всё это существует как бы
само по себе, не составляя единого целого, даже почти не пересекаясь. Лопухин же не
относится ни к одному из перечисленных нами отдельных пластов. Он укоренён в иной
традиции – к которой в равной степени относятся и гностики, и неоплатоники, и отцы
церкви. Это и Блаженный Августин, и Майстер Экхарт, и Фома Кемпийский, и Якоб Бёме,
и Сведенборг, и Эккартсгаузен, и мартинисты. Традиция эта при внимательном
рассмотрении демонстрирует абсолютную слиянность мартинизма с христианством –
красной нитью пронизывая трактаты Лопухина, – другое дело, что с точки зрения
христианской ортодоксии (как православной, так и католической) это в любом случае
будет восприниматься как ересь.
Таким образом, место Лопухина оказывается совершенно особым и не изученным в
собственно русском культурном контексте, зато глубоко укоренённым в многовековой и
наднациональной традиции гностическо-христианской. Но в этом нет ничего
удивительного, если вспомнить, что львиная доля литературы, издававшейся в
типографиях Новикова и Лопухина, относилась именно к этой традиции. Например,
Блаженный Августин: «И я искал, откуда зло, но искал плохо и не видел зла в самых
розысках моих. Я мысленно представил себе всё созданное: и то, что мы можем видеть,
– например, землю, море, воздух, светила, деревья, смертные существа, – и для нас
незримое, например, твердь вышнего неба, всех ангелов и всех духов». (Лабиринты души /
Августин Аврелий. Исповедь; Блез Паскаль. Письма к провинциалу. – Симферополь:
«Реноме», 1998. – с. 89)
Ничего удивительного нет и в том, что Глава II. «Описание Церкви во образе храма»
лопухинского трактата напоминает аналогичное описание духовной иерархии Небес у
Эммануила Сведенборга: «Небес трое, и весьма между собой различных, а именно: самые
внутренние, или третьи, средние, или вторые, и последние, или первые. Они следуют одни
за другими и относятся между собой, как в человеке верхняя, средняя и нижняя часть
тела, т. е. голова, туловище и ноги; или как верхний, средний и нижний ярусы дома. В
таком же точно порядке исходит и нисходит Божественное от Господа начало, а
потому и раздел небес на три части вытекает из необходимости порядка». (Сведенборг
Э. О небесах, о мире духов и об аде. – К.: Украина, 1993. – с. 25).
В соответствии с той же идеей – концентрические круги – от центра и далее – в описании
духовной иерархии внутренней Церкви Лопухина.
Круг первый: «Во внутреннейшем, при райских источниках спасения…»;
круг второй: «Прочая Святая Святых населяется совершенно созревшими в
возрождении…»;
круг третий: «Святая содержит в себе, во-первых, внутренно пригвожденных уже со
Христом ко кресту…» – Интересно, что в своём описании Лопухин находит место и
Сведенборгу –
в круге четвёртом: «Потом следуют все идущие путем возрождения, от самаго начала
его во Христе; преходящие крестный путь его в разных степенях и возрастах, но не
совсем еще совлеченные ветхаго естества, долженствующаго умереть на кресте
самоотвержения и истлеть в огне очищения. В сем числе могут быть и орудия
Апостольства, и Пророки, и Чудотворцы, и Богопросвещенные писатели, по
распределению дарований. Но когда не совершились еще они в обновлении внутренняго
человека, то по мере недозрения в чистоте крестныя жизни, может естество, еще ко
кресту не пригвожденное, со впечатлениями, к коим оно удобно, вмешиваться в их дела,
слова и писания, и открываемую им и ими истинну затмевать лжею и заблуждениями». –
И следует примечание Лопухина: «Примером сему служат писания Шведенборговы и
многих других».
Далее следует круг пятый: «Притвор наполняется подвигнутыми влечением Отчим…»
Но наиболее интересный для нас момент находим в конце описания – по нашему счёту, в
круге шестом: «В Преддвориях храма суть ощущающие нужду в вечном спасении… <…>
Несчастнейшие между сими суть те, которые, подвигнуты будучи корыстною любовию
ко спасению своему, т. е. ищущие рая для сладости его, а не для того, что в райской
токмо чистоте благоугождается Бог, и по ложному понятию о путях спасения
суеверием во зло употребляют уставы религии; предаются воспалению воображения,
бесполезному и безвременному умерщвлению плоти, незаконным мучениям; пригвождают
себя ко внешности и впадают в идолопоклонство, мня приносить службу истинному
Богу». – На наш взгляд, под пригвождением ко внешности и впаданием в
идолопоклонство следует понимать не что иное как служение церкви и её канонам в
отрыве от служения Богу. Именно этот случай и заключается в приведённой выше
формулировке: «любить православие» – вместо того, чтобы любить Бога. Развитие этой
идеи находим в последующих главах трактата о внутренней Церкви, где говорится о
непопадающих в неё, то есть не видящих её, проходящих мимо неё, идущих левым путём.
«Из кого же составляется церковь Антихристова?» – вопрошает автор в Главе III. «О
церкви антихристовой» – и отвечает, что: «Удобнейшие к восхищению на сии
высочайшия степени зла суть: духовные сластолюбцы, прилежащие к тайным наукам не
по любви к истине, но для удовлетворения самолюбию своему, в число которых должно
полагать любопытством, корыстию и себялюбием прилепленных к познаниям, к
златоделанию и к исканию средств искуством продолжить греховную свою жизнь, к
упражнениям в буквах Теософии, Кабалы, Алхимии, тайной медицины и в магнетизме
оном, который может учиниться наилучшим разсадником и приготовлением для
действий темных сил».
Сходу в глаза бросается упоминание Теософии, Каббалы, Алхимии – из чего можно
сделать вывод, что Лопухин в корне осуждает занятие этими тайными науками. Вот те
раз! А мы столько рассуждали о Великом Алхимическом Делании, говоря, что оно-то и
лежит в основе мартинизма вообще и позиции Лопухина в частности! Но никакого
противоречия, конечно, нет. Речь-то идёт лишь о тех, кто занимается этим «не по любви к
истине, но для удовлетворения самолюбию своему»!
В чём состоит левый путь? В искании средств искусственно продолжить греховную свою
жизнь; не в постижении высшего смысла и предназначения тайных наук, их духовной
сути, а в упражнениях именно в буквах этих наук! то есть в попытках овладения тайным
знанием в своекорыстных эгоистических целях.
Почему занимающиеся этим восходят на высочайшие ступени зла? Потому что, проникая
в тайны природы, в тайны божественного замысла, они извращают его своими
действиями. А если к тайным наукам прилежать именно из любви к истине? Очевидно,
что тогда это не будет относиться ко злу, к левому пути, к Антихристовой церкви.
Но к таковой, согласно Лопухину, принадлежат не только следующие левым путём
алхимики и теософы. Кроме них: «Великие орудия в Антихристовой церкви суть духовные
те Фарисеи, уподобленные гробам повапленным, которых самолюбие, гордость, духовное
сладострастие, лукавство, властолюбие облекают в одежды смирения, воздержания,
целомудрия и благотворения…» – А это уже гораздо ближе к служителям церкви
официальной – но, разумеется, никак не внутренней, а исключительно внешней. Мысль
эта находит своё развитие в главе V, но перед тем следует –
Глава IV. «О знаках истинной Церкви Божией и истинных членов главы ея Иисуса
Христа».
Пожалуй, это – один из кульминационных моментов учения, ибо именно здесь мы
находим краеугольный камень, определяющий истинность пути:
«Скажем теперь, какие суть знаки отличия истинныя церкви Божией и истинных членов
Главы ея и Учителя, или истинных Христиан. Где Иисус не есть краеугольный камень,
основание, цель, (альфа) и (омега), первый и последний всего здания; где не ищут прежде
всего царствия Божия и правды Его; где с Павлом ради Иисуса не вменяют уметы быти
вся. Фил. III.8; где не Дух Распятаго, Главы и Учителя церкви, все оживляет, все
начинает, все продолжает, все совершает: тамо нет истинной церкви Божией».
Но что значит Иисус – альфа и омега? Об этом ведь говорят и все «внешние»
христианские церкви, вот только называние далеко не всегда соответствует реальному
положению дел, часто оставаясь на уровне декларации и прикрывая вовсе не
христианские действия. Что же вместо декларации необходимо для вхождения в Церковь
внутреннюю? И Лопухин вопрошает:
«Какие же суть знаки истинных членов Церкви сея, или истинных Христиан?
Вера? – Но и беси веруют и трепещут.
Сила молитвы? – Имеяй всю веру, яко и горы преставляти, может не существовать
(быть ничто) во истинне.
Пост, воздержание, умерщвление плоти? – Хотя правильное их употребление необходимо
нужно ученикам Христовым, но в них упражняться могут и суеверие и лицемерие; и
самые злейшие орудия царства тьмы употребляют оныя в пособие к своим мрачным
действиям.
Ведение ли таин и разумение? – Но что есть око, смотрящее на дивныя вещи и от одной
пылинки могущее лишиться зрения?
Видения ли? – Но могут быть и обманчивыя; а хотя бы то были и чистыя, то чтож
есть слепец, болезнию и оковами удручаемый, видевший во сне райския красоты и
свободу?
Дар ли Пророчества? – Но что есть стекло, приближающее отдаленнейшие предметы?
Таинственные ли слова и Ангельские языки? – Но глаголяй ими может быть яко медь
звенящая или кимвал звяцаяй.
Чудотворения ли? – Но и лжепророки и лжехристи дадят знамения и чудеса велия.
Раздаяние ли имения? – Но сие может твориться и от преизбытка духовнаго
самолюбия, которое для услаждения своего не только не страшится телесной нищеты,
но ниже самой смерти.
Ревностное ли искание вечнаго спасения и страдание его ради? – Но познав возможность
спасения и вечнаго блаженства, весьма естественно стремиться к оному; и сколько
фанатиков в религии, во мнимой добродетели и в ложном патриотизме с радостию
предавали себя на сожжение из идолопоклонства ими самими изваянным истуканам и
для блаженствования в будущем!
Даже смирение чрез долговременный навык в корыстном терпении может натура так
подделать, что не только неискусные примечатели, но и сам смиряющийся будет
обманывать себя, мня, что оное происходит от Божественнаго источника. <…>
Итак, все разсмотренныя здесь свойства, долженствующия быть свойствами истинной
натуры Христианской, могут являться и без нея».
Таким образом, пропустив через алхимический тигль собственной души все возможные
варианты ответов, в конце концов ищущий получает истинное золото – единственно
правильный ответ.
«Что же знаменует во истинну члена Христова?
Любовь! I Кор. XII. – Любовь есть сущность животворящаго тела Иисусова. Любовь
есть явление Духа Его, в ней единой пребывать и действовать могущаго. Сим токмо
Духом действуемое есть благо, истинно и огню искушения не подвержено. Любовь одна
есть неразрывный узел, со Иисусом соединяющий. Бог любы есть, и пребываяй в любви, в
Бозе пребывает, и Бог в нем. I Иоан. IV.16 (Бог есть любовь, и пребывающий в любви
пребывает в Боге, и Бог в нем)».
Но чтобы и это слово, означающее главное свойство и главное действие, не осталось
только словом, автор разъясняет его истинную природу, проводящую через смерть к
возрождению:
«Николиже отпадающая любовь сия, не ищущая своихси, т. е. отвергнувшая всякую
собственность и стремящаяся к Богу единственно для Него; любовь совершенная, в ней
же несть страха (I Иоан. IV.18), которая ненавидит грех и бежит от него не из страха
наказания, но для того, что он противен источнику ея; – сия любовь есть верный знак
возрождения во Христе. Любовь есть душа новаго возрождающагося внутренняго тела,
по мере возраста его являющаяся. Тело же сие может соблюдаться и возрастать
только в совлекающемся ветхаго наружнаго человека. К таинственному умерщвлению
сего греховнаго человека коренное средство есть глубокое самоотвержение, которому
наконец, пособием духа любви, долженствует последовать отвержение, так сказать,
самаго онаго самоотвержения. Я не только должно не действовать, но и не видеть
своего бездействия, кольми паче услаждаться им. Ибо через сие самоуслаждение может
Люцифер мгновенно воздвигнуть в сердце престол свой. Собственность – гнездо греха,
магнит, привлекающий родившаго ее и главное ее орудие».
И вот, поднявшись на кульминационную вершину крёстной смерти, ведущей к
возрождению и преображению, автор указывает на возможный путь падения. Обратим
внимание на упоминание Люцифера – первое с самого начала книги с тремя масонскими
трактатами Лопухина. И это – отношение к главному негативному понятию – ещё одно
ключевое отличие внутренней церкви в понимании Лопухина от церкви официальной.
Итак, в Главе V. «О возрождении, о могущих в оном быть падениях, заблуждениях и о
ложной духовности» читаем: «Рожденный да скроется в крестную пустыню удаления
от сует мира сего, да не погублен будет князем тьмы, в оном владычествующим».
Данное высказывание красноречиво говорит о сущности понятия «дьявол», он же «князь
тьмы». Что же это за тьма? Очевидно, что это – ТЬМА НЕВЕЖЕСТВА, то, что в
индийской традиции называется АВИДЬЯ.
«Авидья – в индийской философии – невежество, незнание, противоположность видье,
знанию, иллюзия, которая порождается чувственным восприятием. Синонимы:
аджняна, випарьяя. В философии Шанкары (адвайта-веданте) авидья является главным
препятствием для постижения единого Брахмана, создаёт мир множественности и
связанное с ним движение, изменение. Освобождение от цепи перерождений возможно
через изучение Вед и в особенности Упанишад. Упанишады разрушают обычный стиль
мышления, кружащегося в пределах майи, уничтожают авидью – неведение и указывают
путь к освобождению. В философии буддизма авидья с её последствиями –
заблуждениями о самом себе и мире – является коренной причиной человеческих
страданий. Для нравственного совершенствования и избавления от страданий нужно
иметь правильные взгляды (прежде всего, правильное понимание четырёх благородных
истин)». (Википедия)
Таким образом, мы выходим к основополагающим метафизическим понятиям – к идее
единства – интегральности – религиозного знания, а также дифференциальной природе
авидьи, а, следовательно… и «князя тьмы»! Проследим же за мыслью Лопухина:
«Гордость духовная, самолюбие и невежество могут сделать, что человек примет оныя
предвещания о приближении царствия Божия за явление уже онаго, за непосредственное
присутствие Иисусово, за ощущение самыя силы Его, в которой состоит царствие
небесное. Духовные картины, для возбуждения и наставления ему показанныя, начнет
употреблять на удовлетворение похоти умных очес; ощущениями внутренних сладостей,
одну тень существеннаго присутствия Божия являющих, станет питать похоть
духовнаго сладострастия; начнет тайно превозноситься открывшимися в нем силами.
Ложно понятые нечистотою его уроки таинственных образований почтет за ясныя
откровения Божественныя; и мня последовать оным, будет блуждать, водимый
собственностию. Находясь в таковом ослеплении и познав о действии силы имени
Божия, побуждаемый корыстолюбием собственности, во зло будет употреблять святое
имя сие для воспомоществования самодействию своему. Чрез все сие отгонит
приближавшееся к нему царствие Божие, паче затруднит в себе возможность к
возрождению, и все следы начинавшагося в нем дела благодати запечатлеет образом
собственности. Вот так может быть искажено самое дело возрождения!» – Это тот
случай, о котором говорится: благими намерениями выстлана дорога в ад. Сползание
адепта на левый путь – получается перевёртыш, наглядным примером которого является
Саруман Белый из «Властелина колец» Толкина, где Гэндальф символизирует Церковь
внутреннюю, Саруман же – внешнюю: «…он заглянул в палантир Ортханка – и был
порабощен Сауроном; с той поры Саурон исподволь направлял все его действия». (Толкин
и его мир: Энциклопедия / К. М. Королев. – М.: АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – с. 318).
– «Ибо через сие самоуслаждение может Люцифер мгновенно воздвигнуть в сердце
престол свой».
Но не только в художественных произведениях можно отыскать подобное. Такими
персонажами хоть пруд пруди в реальной жизни – во всех без исключения внешних
церковных организациях. И сейчас, и во времена Лопухина:
«Таковые герои ложнаго Христианства мнят деятельностию своею распространять
царство Божие; но основывая оную на самости, суть они похитители славы Божией и
распространители царства собственности, носящей на себе образ Антихристов. Всяк
сад, его же не насади Отец небесный, искоренится, и всякое дело, не Христовым Духом
начатое и совершенное, есть мерзость в очах Божиих, и не устоит в огне
всяискусительном».
И далее: «Для врага же Христова и душеубийцы конечно весьма приятны суть те,
которые делаются христами без Духа Христова. Сии могут быть любимейшими
орудиями Антихристовыми; и он не будет отнимать у них веры, а только стараться
будет вящше вводить ее в действия собственности». – Здесь проскальзывает образ
дьявола вроде бы как личности, но вернёмся к этому чуть погодя, а пока: «Верующие без
любви суть наипаче подвержены сему страшному блуждению, или лучше сказать, они
одни; ибо не можно во зло употреблять вещь, которой и не постигаешь». – И здесь самое
время вернуться к Серафиму нашему Роузу!
Любить Бога значит любить Его творение во всём его многообразии. Это не значит
любить все пороки и извращения, ибо они сотворены не Богом, а являются отклонениями
от первоначального замысла, от Божественной гармонии. Но любить – это значит знать и
видеть в чём эти отклонения заключаются? Это значит знать Основу, Центр,
Первоисточник, то есть иметь Истинное Знание.
А любить православие значит ненавидеть всё остальное, шарахаться от него, совершенно
не знать и не понимать его, потому что если нет любви, то нет и знания. Так что истинной
в любом случае может быть лишь любовь к Богу – и если нет её в основе отношения к
кому или чему-либо – то и не любовь это, а так – одна видимость. По сути об этом –
трактат Лопухина, в заключительных трёх главах которого говорится о –
Глава VI. О пути Христовом в душе
«На истинном пути возрождения сам Дух Иисусов по мере своего в душе откровения и
возраста таинственнаго тела своего совершает путь свой в возрождаемом».
Глава VII. О подражании Иисусу Христу
«Совершающий путь ко Христу должен искренно любить добро и непосредственно
иметь в виду Христа Иисуса, ища Его единаго и Того распята. Таковое токмо
расположение знаменует истинное влечение, без котораго не можно и двигнуться ко
Христу; и тот, кто не имеет сего расположения, конечно не идет путем, ведущим к
истинному возрождению, что бы он ни делал».
«Наипаче должно упражняться в люблении ближняго; ибо сим упражнением особливо
образуется натура человеческая в удобность воздвигнутися в ней обители Триединаго,
который есть Любовь. Все сие ищущий Христа должен делать, наблюдая в самой
простоте слова Евангельския, скрывая, сколь возможно, добрыя дела, им творимыя, и
весьма храня себя от того, чтоб не обращать их на собственную честь и на собственное
удовольствие, не только пред людьми, но и в самом себе. При всех добрых делах и
намерениях должен он стараться наиглубочайшее соблюдать таинственный смысл сих
слов Спасителевых: да не увесть шуйца твоя, еже творит десница твоя. Матф. VI.3».
Глава VIII. О главных средствах на пути к Божественной жизни (А. Насилование
воли; В. Молитва; С. Воздержание; D. Дела любви; Е. Поучение себя в познании
натуры и самаго себя)
«Токмо Иисусовым Духом, без всякой примеси собственности нашей, токмо чистою
любовию производимые дела любви истинны суть; ибо единым Духом сим творимое благо
и чисто есть. Бог, созидающий спасение и блаженство твари своея, требует от нас
чистой и безкорыстной любви, для того, что таковая токмо любовь, яко воздействие
единаго Духа Его, соединять с Ним может; а в соединении с Ним состоит все
блаженство. Блаженство ж есть непрерывное вкушение блага; а благо только то, что
произведено Духом Божиим: и для сего Богу – Любви угодно в нас только то, что есть
действие Духа Его».
Итого – феномен! Лопухин – совершенно неизведанный феномен русской культуры конца
XVIII – начала XIX века. Особенность же этого феномена состоит не в расширении
художественного пространства – ведь наследие Лопухина ни на йоту ему не принадлежит!
– и даже не столько в философской глубине, сколько в сущностном его измерении. И
потому здесь совершенно недостаточен так называемый культурологический подход –
необходима экзистенция!
Поясним свою мысль. Если мы сравним Ивана Лопухина (1756–1816) с упомянутыми
выше Уильямом Блейком (1757–1827) и Эммануилом Сведенборгом (1688–1772) –
собратьями его и по времени и по принадлежности к Традиции, то увидим
принципиальное отличие. Блейк: глубинная библейская основа, но не внутреннекаббалистическая, а внешне-онтологическая, и в результате: художественное буйство в
картинах и стихах («Бракосочетание рая и ада», «Книга Тэль», «Книга Уризена»),
прометеевское бунтарство, мифотворчество в собственном соку, то есть замешанное на
собственных ошибках. Сведенборг: оригинальное толкование Библии, визионерство:
общение с ангелами – описание восходящих и нисходящих миров. При этом
распространение мысли (у обоих) направлено не вглубь, а вширь – глубина, конечно, есть,
но она неизменна – достигнув её раз, читатель вместе с автором так на ней и остаётся. То
есть силой воображения Блейка и визионерства Сведенборга человек в одночасье
переносится в иномирие, и там с ними и пребывает. Находится как бы в гостях у
Сведенборга или Блейка. А так как распространение идёт вширь, мысль охватывает
внешнее пространство – пускай иных миров, – то и постигать их можно отвлечённо,
онтологически, ментально – Блейка как колоссального художника и поэта, Сведенборга
как создателя Новой церкви.
Совсем другое – Лопухин: поскольку это не что иное как духовная практика, путь,
внутреннее делание, движение вглубь – к самому центру, – постольку постичь его можно
лишь экзистенциально, сущностно – лишь в том случае, если сам станешь на этот путь.
Как-либо отвлечённо (онтологически, ментально, художественно) понять это не
представляется возможным.
В ПОИСКАХ БЛЮЗА
Когда-то в молодости я вёл весьма разгульный образ жизни. Горячительные напитки,
толпы друзей и постоянное – ничем неистребимое – стремление к какому-то абсолютному
контакту. И тогда же мне выпало сочинять тексты для рок-группы, тогда и родился мой
первый блюз – именно этот, а никакой другой текст я обозначил как «блюз».
Пустая комната (посвящается вчерашней пьянке)
Пустая комната, ободранные стены, Отзвуки вчерашних голосов. Вчерашний прайс
заплачен за вчерашние цены, Где они сейчас? Мне нужен только стакан водки И мудрый
собутыльник.
Кто даст за меня сегодня Хоть половину вчерашней цены? Кто наполнит мой флэт
Цветами той странной страны, Где был я вчера? Мне нужен только стакан водки И
мудрый собутыльник.
Быть может, когда-нибудь завтра Я искупаюсь в ванной И смою налипшую грязь. Но
сегодня Мне нужен только стакан водки И мудрый собутыльник.
Что здесь видим? Опустошение, прежде всего, энергетическое, называемое похмелье,
бодун. Однако если подобное состояние может переживать кто угодно, то ощущать его
как блюз дано далеко не каждому. Ибо ощущение это весьма специфично, и соответствует
вполне определённым фибрам души, то есть душа должна быть настроена на особый
блюзовый лад. И потому выходит, что блюз – это глубоко внутреннее чувство, энергия,
рвущаяся изнутри и говорящая о горечи утраты, о невозможности ухватиться за вечность,
остановить минуту уходящего счастья или хотя бы ощущения счастья.
При этом блюз – это устремленность именно души – при минимальном участии
интеллекта и высшей интуиции. То есть на 99,9% это выплеск именно душевной энергии.
И, например, один из наиболее удачных моих текстов того периода – при всей его
экспрессивности назвать блюзовым никак нельзя.
В тёмных водах инь
Королева снов Зовёт меня вновь Из зеркальной глубины. Фальшивый свет Луны Скрывает
блеск ножа. Я крикнул: ”Сгинь!” Но было поздно, Стрела Амура пронзила сердце, И я
упал в колодец её глаз.
Королева снов Ведёт в свою страну Сквозь воды инь. В её стране не видно Солнце, И
лунный свет Скрывает блеск ножа. Алтарь любви окрашен чёрным, Я вижу зверя лик! Я
вижу зверя лик в улыбке Королевы, И пятна крови на алтаре! В этих тёмных водах инь!
По ту сторону зеркала!
Я покидаю царство сна И снова вижу ночь. О Королева снов, я твой! В моих жилах
течёт чёрная кровь, И сердцу не нужно тепла, Сердцу нужна лишь женщина-призрак,
Женщина, которой нет!
Здесь – загадочная тёмная мистичность в духе Майринка, свойственные этому писателю
завуалированность, пребывание на грани сна и яви. В то время я и находился под
впечатлением произведений Густава Майринка, в особенности романа «Ангел западного
окна». Причём это никак не подражание, а извлечение из собственного нутра, из глубин
собственного подсознания, Майринк же был для меня наиболее созвучен по своему
мирочувствию.
Что же касается данного текста, то хотя здесь и описывается нечто глубоко
экзистенциальное, но делается это с достаточной интеллектуальной отстранённостью,
продуманностью, то есть описываемый процесс наблюдается извне. Блюз же появляется
когда появляется внутренняя обнажёнка:
Сегодня ночью Я не знал что делать, Что делать с тобой, моя любовь. Я занёс нож, но
угодил себе же в сердце… Алая кровь полилась, полилась, полилась… Залила брачное
ложе, И рука проткнула ничто, И призрак рассеялся, Ибо тебя не было Никогда Ничего
не было.
И я долго смеялся, А слёзы текли и текли, И кто-то кинул в меня грязью, И кто-то
плюнул мне в глаза, А я долго смеялся Сегодня ночью.
Текст этот, названный «В тёмных водах инь. Часть 3», рассказывает всё о той же
ситуации, о том же процессе, но с несколько иной позиции – изнутри.
Поэтому исчезает отстранённость, снижается интеллектуально-интуитивное осмысление,
лирический герой целиком и полностью сливается, растворяется в испытываемом чувстве,
в собственном плаче. Поэтому блюз – это плач, утишить который может лишь
искоренение его причины.
Блюз – это энергия открытого, обнажённого сердца как в следующем тексте, написанном
под впечатлением от песни Джимми Пэйджа / Роберта Планта «Heart in your hand» из
альбома 1998 года «Walking into Clarksdale»:
Моё сердце у меня на ладонях, Я подхожу к окну и опять вижу этот мир, Мир, в котором
я живу… Я смотрю в окно И во всём огромном мире Не вижу никого, кто принял бы мой
дар, Моё отверженное сердце…
Солнце спряталось в тучи, Почернела листва, померкла улыбка, Льёт слёзы моё бедное
сердце, Ибо последний корабль разбился у чужих берегов. Я смотрю в окно И во всём
огромном мире Не вижу никого, кто принял бы мой дар, Моё отверженное сердце, Моё
отверженное сердце…
Много позже довелось ознакомиться с переводом песни Пэйджа/Планта:
Сердце в твоих руках
Собираешь ли ты для меня цветы, Плавно скользя меж деревьев? Аромат исходит от
твоих рук. Когда-то я знал твое очарование, Проходя через пурпурные холмы, Что скоро
забудутся, Знаю, что мое сердце было в твоих руках, И мое сердце было в твоих руках.
Произносишь ли ты все еще мое имя? Будут ли твои губы такими же на вкус? Там я
выучил самые нежные слова. О! Какова цена милосердия. Да, хотя я и скольжу сквозь
года, Память остается С моим сердцем в твоих руках. О, мое сердце в твоих руках
Упаду ли я у дороги? Бессмертная беспокойная душа, И чистая память, И мое сердце
было там. Да, будто я иду через пурпурные холмы. Уже давно Я знаю, мое сердце было в
твоих руках. О, мое сердце было в твоих руках. Мое сердце в твоих руках. О, мое сердце…
Чем же отличаются эти два «Сердца»? Очевидно, тем что у Планта находим лирику
воспоминаний с соответственной метафоричностью, – то, что когда-то было.
Следовательно, это не блюз – ибо блюз это то, что сейчас.
Блюз – это простота и непосредственность, фиксация тех переживаний, которые не могут
быть проявлены иначе как в блюзе. В некотором роде моей квинтэссенцией блюза –
возможно, слегка упрощённой – стал текст, который я так и озаглавил:
Блюз
Каким я всё-таки был болваном, Когда поверил в твою любовь, Каким я всё-таки был
болваном, Когда поверил в твою ложь.
Какой я всё-таки дурак, Я видел ложь и оставался с ней, Какой я всё-таки дурак, Ведь я
всё видел и оставался слеп.
Какой я всё-таки дурак, Я сам загнал себя в ловушку, Какой я всё-таки дурак, Я сам
захлопнул твой капкан.
Какой я всё-таки дурак, Теперь я у разбитого корыта, Какой я всё-таки дурак, Теперь я
по уши в дерьме.
Каким я всё-таки был кретином, Когда сам вырыл себе могилу, Каким я всё-таки был
кретином, Когда сам поставил себе крест.
Подбивая сказанное, заметим, что:
блюз – это глубоко внутреннее чувство, энергия, рвущаяся наружу и говорящая о боли
утраты;
блюз – это несколько «не»: не-интеллектуализм, не-изощренность (тем более, невычурность), не-лиризм;
блюз – это непосредственность – это не когда-то, а здесь и сейчас;
блюз – это абсолютная внутренняя обнажённость;
блюз – это страдание, это плач (но не жалоба, ибо блюзмен не жалуется, а плачет!), плач
ноуменальный;
блюз – это беспонтовость (где понты, там нет искренности, а блюз не может быть
неискренним);
блюз – отсутствие звёздной болезни;
блюз – это отсутствие материальных богатств… – и потому ещё один из своих текстов я
также счёл блюзовым:
Лохмотья
Собирайся, честная рвань, На наш праздник, На наше мутное веселье, Очень похожее на
плач Изнасилованной девственницы. Наливайте в рюмки Мутный напиток под названием
«Кровавая Мэри», Им мы зальём тоску свою, Им мы зальём своё горе. Гуляй, рванина!
Сегодня на нашей улице праздник, Очень похожий на похороны, На обалделые похороны
Наших надежд. Собирайтесь, изгои, Униженные и оскорблённые, И вы, растоптанные
ногами, Ногами приличных граждан. Гуляй, рванина, веселись, Тряси лохмотьем На своём
мутном празднике.
Правда, это уже больше похоже на Тома Уэйтса, под впечатлением от которого (альбом
«Rain Dogs») этот текст и был написан… А выложив уже весь этот набросок (В поисках
блюза. Пролог) на FB, получил интересный комментарий от Андрея Пермякова: «Rain
Dogs – дождевые собаки – когда дождь смывает запахи и ориентиры, остается чувство
потерянности в этом мире. Спасибо за блюз, Олег Керуак».
P. S. Да вот ещё: два текста – два полюса блюза!
Полюс +
На свете много прекрасных мест, но самое прекрасное – между ног моей возлюбленной!
Полюс –
БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!
Забавный случай произошёл с моим знакомым ныряльщиком, искателем жемчуга. Привык
он прыгать с высоты и погружаться в глубины – и однажды нашёл красивую
глубоководную бухту с большим запасом жемчуга. Он нырял чуть ли ни каждый день – и
всегда возвращался с новой жемчужиной. И вот однажды – вроде всё как всегда –
ныряльщик прыгнул, ожидая привычной глубины – но в лоб ему с разбега врезалось дно –
ил, грязь и камни. Оказалось, что глубоководная красивая бухта в одночасье
превратилась в пересохшую лужу – а жемчуга не было в ней и в помине. Только ил, грязь и
камни…
Хельги Кашмир
КОРОЛЕВА СНОВ
Сказка-Лабиринт
ПРОЛОГ
По законам природы ожидался приход лета, но зима отказалась уходить из моего дома.
Конура моя не отапливается, а раньше я топил печь досками, из которых сделана моя
конура. Доски кончились, и конуры уж нет как таковой, я ума не приложу, что же теперь
надо отапливать. Но от этого теплее не становится.
В доме моем зима. Беспросветная зима с бесконечным снегом и грязью под ногами. Я
почти перестал различать звёзды на ночном небе, ведь они так далеко. Я всё больше
смотрю себе под ноги – как бы не очутиться в очередной волчьей яме.
ГРАФФИТИ
О чём говорят стены,
Чёрные стены сгоревшего дома?
Ты войдешь в забытый дом,
Прочтёшь на стене надпись.
Надпись на стене
принадлежит другому миру,
отделённому от тебя
Стеной времени.
Надпись на стене –
стенания умершего времени.
Ты прочтёшь чёрную надпись,
Вспомнишь об ушедшем.
Берегись!
Бойся уйти и не вернуться,
Бойся заблудиться
в умершем времени.
Существование моё проходит на грани сна и яви. То и дело всплывают образы из
прошлого, разрастаются, принимая непропорциональные размеры, поглощают сознание,
и, сковав ледяным холодом волю, уводят меня куда-то вдаль. Далеко-далеко от дома. Но
кто ответит мне, где мой дом ?!
… Как всегда, он явился нежданно. Зашёл во мрак комнаты, зажёг свечи, и я увидел его
светлый лик. Это был давно ушедший друг из моего детства.
Я лежал на старом диване, дрожа от холода, а он в это время пытался развести огонь в
камине. Долго ему это не удавалось, но вот наконец затеплился маленький огонёк. После
этого он воткнул штепсель в розетку, нажал на “play”, и тогда заиграла музыка.
Это была песня “Прикоснись к радуге”, которую когда-то мы знали наизусть. Многомного лет назад она была своеобразным паролем. И вот теперь эта связующая нас
субстанция снова в эфире.
И под эту музыку из уст моего друга прозвучала дивная сказка о Королеве Снов.
Глава 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Морозным декабрьским утром едва пробудившиеся жители Мидгарда, покинувшие свои
крепости и спешащие кто по делам, а кто по делишкам, могли увидеть забавные афиши,
расклеенные на стенах домов.
А-у-у-у, люди!
Впервые в славном Мидгарде Цирк бродячих артистов им. Зелёной Кобылы!
Оле Доминор и его друзья приглашают всех желающих принять участие в дух
захватывающем путешествии во владения Снежной Королевы!
Весьма своеобразно изобразил художник-оформитель прибывших в город циркачей.
Бродяга Оле был уподоблен большой снежинке, пристально глядящей на озадаченных
прохожих сквозь стёкла очков. По правую руку от него расположился скрипач Вальдо
Сван, смычком указывающий в глубину пространства, туда, где виднелась приоткрытая
дверь…
Прибытие в город бродячих музыкантов пришлось на последнюю декаду уходящего года.
Приближался волшебный праздник зимы, и весьма кстати оказалась программа с
вариациями на тему Снежной Королевы.
Жители Мидгарда любили сказочные новогодние истории, и были немало заинтригованы
намечающимся действом. Давненько их не баловали старой доброй сказкой. Сейчас в
моду входят совсем другие, урбанистические темы, в которых нет места волшебству. Как
считает достопочтенный бургомистр города, его дело – заботиться о благосостоянии
людей, а от всего этого волшебства добра не жди, оно всё ставит с ног на голову.
Однако на Новый год он всё же решил позабавить сограждан, и пригласил в город Цирк
бродячих артистов. А сказочная тема была избрана для того, чтобы на представление
можно было пойти с жёнами и детьми, и чтобы всем было интересно.
Монета за вход – плата не ахти, поэтому зал был полным. Чтобы встретиться с её
величеством Снежной Королевой, можно не пожалеть и более значительной суммы. Ну
вот, всё готово к началу представления.
Звон колокольчиков, извлекаемый гитаристом Акселем, создаёт необходимое для сказки
настроение. Скрипач Вальдо Сван и флейтист Сигур, развивая тему, посылают в зал
серебряные ледяные стрелы. Сцена ярко освещается голубым светом, из которого
материализуется главный виновник сегодняшнего действа – Оле-бродяга.
Моя снежная рапсодия
Звучит, не умолкая…
Зимняя сказка обволакивает зачарованную публику искрящимся снегом, зал погружается
в волшебный сон.
Тускло светят фонари,
По улицам ночного города
Бреду, куда не знаю.
Быть может, зимний лик Луны
Ведёт меня туда,
Где царство вечной тишины
И снежная рапсодия
Звучит, не умолкая,
Куда увозит маленьких детей
Снежная Королева.
Басист Алан и барабанщик Ларс чётко держат ритм, но вот Вальдо Сван начинает плести
скрипичные кружева, а когда к этому присоединяется флейта Сигура, ледяная стрела
находит уязвимое сердце. Соло Акселя на гитаре подобно завыванию северного ветра, и
уже видно как мчится на тройке белых коней Снежная Королева. Мы приветствуем тебя,
снимаем перед тобой шляпы! На сегодняшний вечер мы – твои слуги. И с тобой рядом мы
успокоены навеки.
Холодный снег целует нежно
Морщины на моем лице,
Ни одного прохожего навстречу,
Они все спят!
Бреду по зимней улице
И сердце понемногу замерзает,
Пусть приведёт оно меня
В неведомую часть зимы,
Туда, где царство вечной тишины,
И снежная рапсодия
Звучит, не умолкая,
Куда увозит маленьких детей
Снежная Королева.
Странствие в вечных снегах с замороженным сердцем. Кто меня видит? Неужели ты,
сидящий в четырёх стенах? Воистину, ты заблуждаешься. Из своей клетки никогда не
увидишь ты пугающей красоты чёрной спирали.
Снег сокроет мою душу,
Снежная могила,
Глаза закрою и усну,
Увижу белый сон,
Тень смерти унесёт меня
В страну, где правит тишина,
И снежная рапсодия
Звучит, не умолкая,
Куда давно меня зовёт
Снежная Королева.
Когда прозвучали последние аккорды, и в зале зажёгся электрический свет, публика
пребывала в состоянии гипнотического сна. Кто-то переводил дух после путешествия,
кто-то его ещё не закончил. Но помаленьку люди приходили в себя, и, не произнося ни
слова, покидали зал. Впрочем, аплодировать было некому, ибо циркачи давно уже ушли,
и только сценические работники разбирали аппаратуру.
Глава 2
ОЛЕ ДОМИНОР
Бродяга Оле, плывущий на щепке среди бурлящего моря… Он постоянно рискует пойти
на дно, постоянно рискует стать кормом для рыб. Периодически так и случается, и он идёт
на дно и становится кормом для рыб, но в нужный момент всегда что-нибудь происходит,
и вот он снова на поверхности, и временами его щепка превращается в шлюпку, челнок, а
то и сказочную яхту.
Плывущий на яхте среди переменчивого моря, смотрел Оле на небо, и там находил ответы
на всевозможные вопросы, то и дело возникающие в буйной головушке.
Наблюдая за ночным небом, он видел бесчисленное множество звёзд и звёздочек
различной величины. Разнилась их яркость, и цвет их яркости тоже был разным.
Наблюдая за звёздами ночного неба, стремился он услышать их голос. Не всегда это
удавалось, и часто нужные сигналы проходили мимо уха. Но когда срабатывал принцип
симпатии, послание звезды находило пристанище в его сердце.
Было ясное июльское утро. Ярко светило солнце, щебетали птички небесные. И вот на
голубом небе, в чьи воздушные потоки окунался тогда Оле , возникло явление крайне
необычное.
Огненный шар, явившийся из первоначальной точки, светом своим наполнил
находившегося здесь Оле; потом разросся до великих размеров, последовательно
переменив все цвета, и… так же неожиданно взорвался.
Хлынул дождь, наверное, это были небесные слёзы. После этого вновь ярко засветило
солнце, и тогда Оле увидел радугу.
Это была вспышка Сверхновой. Находясь столь близко от эпицентра взрыва, сердце Оле
приняло в себя световой код погибшей звезды, и с тех пор он стал бродягой, что ищет
дорогу уводящую…
Время шло. Оставаясь на прежнем месте, Оле не переставая смотрел в небо, пытаясь
отыскать путь, и ему всё сильнее хотелось разрушить стены камеры заключения.
Хватаясь за всякую возможность, он часто сооружал песочные замки, но в конечном счёте
морской прибой сводил на нет все его усилия. Печальный и одинокий, оставался Оле
сидеть на берегу, всматриваясь в линию горизонта, из-за которой время от времени
показывались паруса иллюзорных корабликов. Всегда встречая их с неизменным
энтузиазмом, он собирал свой нехитрый скарб, и всходил на борт корабля, чтобы принять
участие в очередном разочаровании. Ведь иллюзия имеет свойство рассеиваться, и
кораблики эти были той же конструкции. И когда палуба ускользала из-под ног, хватался
Оле за проносящуюся мимо щепку.
Вот и теперь, вдоволь нахлебавшись солёной воды и вконец выбившись из сил, вновь
оказался он на спасительном берегу, где наградой послужила ему постель из согретого
солнечным теплом песка.
Долго ли, коротко ли наслаждался Оле дарованным покоем совсем не важно, ибо дело в
том, что разбудили его звуки музыки. Во всём его существе играла музыка некогда
погибшей звезды. Играла, бродила по лабиринту капилляров, вен и артерий.
Отряхнувшись от сна, побрёл Оле куда ноги несли да глядели глаза, и принесли его ноги с
глазами на опушку леса. Она оказалась примечательна тем, что здесь ухо Оле уловило
мелодию скрипки. Музыка, игравшая внутри, тут же откликнулась, и вот тропинка,
петлявшая между деревьев, привела бродягу к избушке, где жил Вальдо Сван. Так нашёл
Оле своего скрипача.
Избушка Вальдо Свана являла собой нечто замечательное. Впрочем, кто такой Вальдо
Сван? О, это человек давно мечтавший отправиться бродить по дорогам с полным
попутчиков. И вдруг, откуда ни возьмись, перед избушкой скрипача нарисовался человек
с бродящей в крови музыкой.
Избушка Вальдо Свана представляла собой сооружение весьма оригинальной
конструкции. Надо сказать, что Вальдо был умелым конструктором-изобретателем, но все
свои умения он посвятил одной страсти – исследованию музыкального вещества. И
жилище его, то есть место обитания и экспериментов, постепенно превратилось в
музыкальную цитадель, что-то наподобие музыкальной студии, но студии, выходящей за
рамки обыденных представлений о музыке как о всего лишь звуке. Нет, Вальдо Сван был
убеждён, что музыка пронизывает все проявления жизни, и уводит за пределы сих
проявлений. Вот туда и нужно искать дорогу.
И ещё этот оригинал верил, что рождается музыка на небесах. По этой причине чердак
избушки был оборудован под обсерваторию. Ха! Не так давно сей доморощенный
астроном наблюдал поразительное явление, а именно, вспышку Сверхновой. С тех пор
Вальдо Сван был готов в любой момент отправиться в путь, нужно было только
дождаться гостя – посланника звёзд. И Вальдо не сидел сложа руки. Чтобы ожидаемый
пришелец не сбился с дороги, мощные динамики на весь лес разносили послание,
облечённое в форму известной мелодии “Прикоснись к радуге”.
И вот Вальдо Сван встретил долгожданного гостя, которым оказался бродяга Оле. Хотя
виделись они вроде бы в первый раз, но их рукопожатие походило на приветствие
сообщников.
Всё было решено моментально, и повозка с кобылкой извлечена из сарая, чтобы
превратиться в передвижной дом-студию и с восходом солнца отправиться в путешествие.
А вот сундук с музыкальными идеями Вальдо. В этот сундучишко сложил Оле свои
песни, хорошенько всё перемешал, после чего растворился в тепле избушки Свана, чтобы
отдать должное кулинарным способностям хозяина.
АНАХОРЕСИС
Круг смертей осветился небесным огнём.
Властелин, твой посланник вошёл в тёмный дом,
Он разбил пополам чашу прежних мерил,
Указал мне дорогу к истокам светил.
Он мне в путь подарил два волшебных плода,
Что несут в себе знанье и силу добра,
Жемчуг прожитых дней я поставил на кон,
Чтоб покинуть тот дом и стряхнуть с себя сон.
В четырёх стенах душной комнаты
Ты не найдешь своей любимой.
Всё, что остаётся тебе в этом мире –
Лишь грезить в ожидании будущего.
Так оставь этот мир обмана,
Стань анахоретом, вдохни свежий воздух.
Собираясь в путь-дорогу, верь в свою звезду,
И благодари Мастера за подаренные яблоки.
Эти два спелых яблока, солнечный дар,
Увели наши души из царства зеркал,
Трудный путь предстоит в лабиринте идей,
Боль и вера со мной, так в дорогу, скорей!
Свет от яркой звезды растворит ледники,
И в пустынях пески оживят родники,
От обманчивых благ чёрно-белой тюрьмы
Унесёт меня прочь бригантина любви…
И покатилась по бесконечным дорогам разноцветная повозка бродячих артистов…
Куда меня уводит музыка?
(фантазия в тональности до-минор маэстро Доминора)
Сегодня светит Солнце, наша телега катит среди зелёных холмов, взбираясь на вершину,
чтобы оттуда устремиться вниз. Но внизу иначе, чем на вершине. Внизу солнечные лучи
находят меня не сразу, здесь я всегда в шумном окружении. На вершину же забираются
немногие, чаще всего – я один. Там я встречаю волшебника Черномора, который,
отплясывая на радуге новый танец, передаёт мне вести от брата моего Солнце.
Когда светит Солнце, мы получаем очередную порцию тепла, и тогда песни мы поём
весёлые, и под знамя Зелёной Кобылы собирается разноликий добродушный люд. Но
когда приходит зима, все разбредаются кто куда, а кто-то замерзает на дороге, по которой
бредёт наше неприхотливое животное, впряжённое в дребезжащую телегу. Тогда остаётся
лишь воспоминание о Солнце.
Сегодня светит Луна, и по велению Ночной Госпожи разом меняются все декорации. Они
вроде бы и те же, но отражённый свет преображает их сущность. И тогда ко мне приходит
Королева Снов, берёт меня за руку и уводит в те дальние края, где живёт моё второе Я…
Долго ли, коротко ли колесили наши артисты по странам света – не столь важно. Важно,
что одно из их выступлений приглянулось высоким чиновникам Мидгарда, которые и
решили пригласить музыкантов на празднование Нового года в свой город.
Впрочем, тот факт, что выступление понравилось сим мидгардцам, требует уточнения,
ибо тогда весь день шёл дождь, настроение у циркачей было лунное, а соответственно и
музыка. Но чиновники из Мидгарда в тот вечер были то ли пьяные, то ли чего-то
обкурились, и имя Зелёной Кобылы произвело на них неизгладимое впечатление. В
результате и было сделано предложение.
В тот памятный вечер Оле пел песню о левом пути, – все прекрасно помнят, что тогда
было полнолуние. Музыканты играли на серебряных струнах дождя, а Вальдо Сван, сидя
в передвижной мини-студии, наколдовал такого фона, что и во сне не приснится…
Глава 3
СОН
…Я сплю. Один в старом замке. Я остался здесь совсем один. До ближайшего селения
много миль. Замок находится в гористой местности. Над бурлящим потоком. Я иногда
смотрю вниз, в уходящую вдаль воду. Вода чиста и прозрачна и теряется во времени.
Эманации моей души устремляются вслед за ней.
Сон мой неспокоен. Лицо красивой женщины всплывает из памяти. Когда-то я знал её
очень близко. Но это было давно, и близость исчезла из сердца. Осталась странная память.
Я часто просыпаюсь. В этой синей темноте ничего не видно на расстоянии вытянутой
руки. И только белеет наглухо закрытая дверь спальни.
Встреча. Я помню, что по какой-то причине она не состоялась. “Ты мне нужен. В тот день
я долго тебя ждала, промокла до нитки,– опять я вижу её лицо и мучительно пытаюсь
вспомнить имя.– Приди ко мне, ведь я уже умерла.
Я проснулся, и чёрный страх наполнил мои глаза. Она лежала рядом. Мёртвая красивая
женщина. Рука моя проводит по её холодному телу. Смутные призывы входят в закрытые
двери. Ты очень красива, но я так и не вспомнил твоего имени… Губы мои ласкают тебя.
Закрыты твои глаза, но нездешний взгляд устремлён на меня. Он просит соединения.
Языком провожу по твоей груди. Твёрдые розовые сосцы. Затем опускаюсь ниже и
погружаюсь во влагу уснувшего цветка. Напряжена моя плоть, и я готов соединиться с
мёртвой женщиной. Ты мертва, а я тебя люблю. Люблю до истощения всех сил. Горячее
семя наполняет мёртвое хранилище жизни. В изнеможении впадаю в мутное
беспамятство.
Призывы звучат сильнее. В этом тягостном сне я слышу стоны неземной боли. Боли
несостоявшихся встреч. Моя мёртвая невеста не лежит больше рядом со мной.
Неприкаянная душа бродит по чёрным коридорам замка. Лёгкие шаги за дверью зовут за
собой. Я слышу зов, и я приду к тебе. Дождь промочил тебя до нитки, а ты всё ждёшь,
смутно надеясь на другое время в другом пространстве.
Бреду по длинному коридору в поисках той комнаты, где разрешится загадка этой ночи.
Кто ты, зовущий меня? Твой взгляд я встретил на дне реки, когда пытался заглянуть в
бездну. С тех пор я следовал твоему зову, а сегодня мы должны встретиться.
Спиралевидная лестница заводит меня в самую высокую башню замка. Из этой башни я
когда-то смотрел вниз, на бурлящий поток. Но сегодня двери этой комнаты закрыты.
Мой взгляд извне устремлён сквозь преграду. Я вижу до ужаса знакомое лицо узника
комнаты. Его мучает закрытое пространство, и мысль о побеге видна в воспалённых
глазах сумасшедшего. Выход через единственное окно опасен и теряется в неизвестности.
Но это его не останавливает. Метр за метром, цепляясь за неровности стены, преодолевает
он расстояние спуска. И вот, когда осталось совсем немного, он срывается и падает вниз.
Бурно несущийся поток подхватывает его и, словно пёрышко, увлекает течением. Ледяная
вода заполняет вены, я выбиваю дверь в эту тёмную комнату и подбегаю к окну. Я вижу,
как беднягу ударяет о скалы, и в этот момент белый двойник покидает безжизненное тело.
И тогда я увидел своё лицо. Моё мёртвое тело несёт течение скорби и печали. Я же,
облачившись в белые одежды, зажигаю свечи в замке. Красным светом освещается сосуд
святого причастия. Теперь я вижу тебя со всей ясностью, я вспомнил твоё имя. Я знаю,
что грядущая встреча откроет твои глаза, а соединение наполнит нас жизнью…
Глава 4
МИДГАРД
В то время, когда Цирк бродячих артистов им. Зелёной Кобылы появился в Мидгарде,
город жил подготовкой к новогодним празднествам.
Новый год. У миллионов людей словосочетание это вызывает непроизвольный трепет
сердца. Ибо это есть рождение Непобедимого Солнца, а значит обновление и нашей
жизни. Новый год содержит в себе надежду на лучшее будущее, а потому является
любимым праздником великого множества людей.
Не были исключением и жители Мидгарда. Новый год всегда здесь встречали с особым
размахом, так как мидгардцы зело любили развлечения. По этой причине и была
приглашена в город труппа Оле Доминора и Вальдо Свана, и, надо сказать, что артистам
весьма понравилось праздничное убранство города.
Уже повсюду красовались сверкающие разноцветными огнями ёлки. По установившейся в
Мидгарде традиции деревья нельзя было срезать. Людей много, и если каждый год всяк
желающий станет пилить себе дерево, то от ёлок скоро останутся одни палки. Ёлки-палки.
Но чтобы люди могли встретить Новый год как полагается, в парках и скверах были густо
насажены эти представительницы хвойного царства. Конечно, какой-нибудь извращенец
под прикрытием ночи мог поехать в лес и срубить дерево, чтобы потом тайком
любоваться им у себя в квартире. Но это считалось дурным тоном, а мало кто хотел
прослыть дурным человеком. Поэтому все предпочитали после небольшого домашнего
застолья выходить на улицу и продолжать празднование на свежем воздухе. И неудобства
в этом не было никакого: в новогоднюю ночь были открыты всевозможные забегаловки –
кафе, трактиры, харчевни, – повсюду звучала музыка, работали различные аттракционы,
прямо на улицах выступали местные и приглашённые артисты.
С приближением Нового года в Мидгарде на время забывались житейские проблемы, и
город превращался в празднично гудящий улей.
Но чтобы картина была более-менее полной, необходимо отметить ещё одно
обстоятельство. Обстоятельство сие совсем не праздничное и отнюдь не волшебное, и
имеет отношение не к Новому году, а к предстоящим в Мидгарде выборам в городской
магистрат.
Приглашение в город артистов, собравшихся под сенью Зелёной Кобылы, являлось
частью предвыборной борьбы. Как уже говорилось, мидгардцы зело любили развлечения,
и бургомистр, чтобы удержаться у власти, очень хотел угодить своим потенциальным
избирателям, хотя сам по себе он не особенно жаловал всяких там лицедеев, поскольку
принадлежал к политической партии реалистов.
Уже долгое время пребывающие у власти реалисты полагались исключительно на
здравый смысл, ратовали за улучшение материальных условий жизни мидгардцев, а
потому и пользовались устойчивой поддержкой прагматически настроенных горожан.
Однако тот факт, что мидгардцы были не чужды фантазии, воображения, и всегда хотели
чего-нибудь нового и интересного, давал шанс оппозиционной партии романтиков.
Пользуясь неослабевающим интересом горожан к разного рода увеселениям, романтики
поддерживали местную богему, а также ввели традицию приглашать в Мидгард странных
иностранных артистов, и таким образом набирали очки в предвыборном марафоне.
Однако артисты приходили и уходили, а кушать хотелось всегда, наступала пора сделать
выбор и, как правило, побеждали реалисты.
А на этот раз реалисты решили побить врага его же оружием, и не замедлили сами
пригласить в город компанию Оле Доминора. Ох, если бы они знали, какую кашу
заваривают…
Уже в самом начале суеты предвыборной и суеты предновогодней произошло странное
событие. На следующий день после прибытия в город труппы Доминора, после первого
представления – путешествия во владения Снежной Королевы, – в местный участок
полиции явилась перепуганная женщина и заявила, что её муж вчерашнего дня ушёл на
концерт, и до сих пор не вернулся.
Находящиеся в связи с наступающими праздниками в повышенной боевой готовности
полицейские рьяно взялись за дело. Был объявлен розыск, но к концу дня подобных
заявлений насчитывалось уже не много не мало, а целых восемь. Помимо того, в прессу
просочилась информация, что окромя без вести пропавших, у отдельных граждан,
побывавших на злополучном концерте, явно, что называется, крыша поехала. Не так,
чтобы совсем, но поведение их стало вызывать тревогу у окружающих. Одни могли
подолгу смотреть в никуда, как бы пытаясь что-то вспомнить. Другие не могли усидеть на
месте, особенно у себя дома. Эти последние стали к неудовольствию жён срываться
посреди ночи, и мчаться неизвестно куда, искать непонятно кого. А ведь раньше все они
были вполне нормальными людьми, и ничего странного за ними не наблюдалось.
Такие вот дела, и это в начале предвыборной кампании! Другими словами, находясь тогда
в Мидгарде, можно было почувствовать усиливающийся запах жареного. Мяса.
Глава 5
В ЧЕРТОГАХ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ ОЛЕ УВИДЕЛ ЕЁ ГЛАЗА
Так что же произошло на предновогоднем представлении Цирка бродячих артистов им.
Зелёной Кобылы?
По мнению Вальдо Свана, главного теоретика Цирка, загадка заключена в самом понятии
“музыка”. Ведь что такое музыка и с чем её едят? Мы привыкли воспринимать это не
более не менее как созвучия семи нот, а что за этим скрывается, ускользает от нашего
понимания. Но то, что произошло на пресловутом концерте, – произошло не вполне в
этом мире, а скорее в том промежуточном пространстве между здесь и там, которое и
принято называть словом “музыка”.
Когда снежная грёза Оле Доминора нашла своё продолжение в студийном акустическом
колдовстве Вальдо Свана; когда гитара Акселя, флейта Сигура, скрипка Вальдо, голос Оле
обрели единство в ритме Алана и Ларса; когда светотехник Торгал элементами
ослепляющей тьмы и разноцветного света визуально изобразил то, чего не услышали
глухие (ибо и таких на концерте было немало), тогда и произошёл тот магический
резонанс, приоткрывший завесу в другой мир, тогда и была найдена точка
соприкосновения двух миров, перекинут мост в иное измерение.
В это приоткрывшееся окошко мигом были втянуты все желающие, да и нежелающие
вместе с ними, потому что никого не спрашивали, хотят они того или нет. Раз оказался в
этом месте, значит так тому и быть. И вот во владения Снежной Королевы явились
непрошеные гости из Мидгарда. Что же они там увидели? Надо полагать, каждый узрел
что-то своё, другому невидимое.
Бродяга Оле давно мечтал проникнуть в чертоги Снежной Королевы. Зачем? Этого он не
знал. Но что-то непреодолимо манило его в эту холодную страну. Наверное, влекло его
туда собственное сердце, оказавшееся слишком горячим.
Первое приглашение от Королевы он получил ещё в детстве. Оле любил снежную,
морозную зиму, и при этом оставался солнечным ребёнком. Вот такой вот мнимый
парадокс. А когда зима заканчивалась, и снег покидал нашу землю, какая-то часть Оле
стремилась уйти вместе с ним, и, может быть, она уходила и оставалась там, во владениях
вечной зимы.
И вот настал час, когда бродяга переступил порог и оказался за пределами ограничения
зимы. Там, своими глазами увидел он мчащуюся на тройке белых коней Снежную
Королеву. Он смотрел на неё, она же – на него – глаза в глаза. Глаза женщины. Такие
близкие и такие далёкие. Оле должен был понять, что они больше не дадут ему покоя. Он
заглянул в бездну, и манящая красота чёрной спирали притянула его. Но стоп машина!
Ещё не время. Время. Вот вам ещё одна загадка.
БРОДЯГА
Бродяга смотрел на небо, наблюдая за пролетающими птицами. Человек стоял на земле,
взор его был устремлён в небо. Его ноги перестали чувствовать твёрдую почву, гнездо,
свитое из воздуха, показалось надёжным убежищем. Ослеплённый любовью к призрачной
птице, забыл о большом доме, погнался за эфемерным журавлём. Но что его ждёт,
лишённого дома. Порывы ветра уносят тополиный пух, пушинка – лишённый дома
бродяга. И, хватаясь за хрупкий цветок, не сможет пушинка удержать равновесие.
Человек, пока твой разум способен тебе служить, узнай имя призрачной птицы. И тогда
ты получишь право занять своё место в большом доме.
…Моя музыка уводит в Страну Снега. А где-то ещё дальше лежит Страна Любви, но
мало кто знает туда дорогу. Её узнает тот, чьё сердце способно принять весь холод
Страны Снега. И я смотрю в эти глаза, подобные бездонному колодцу. Ничто не может
удержать меня на краю. Шаг навстречу – ну же, Королева Снов зовёт тебя! И я иду за ней,
пока длится эта песня. Я иду за ней, но она всё так же далеко, она недосягаема. И я уже
ничего не вижу, я падаю, падаю в чёрный колодец…
Глава 6
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗНАКОМСТВА
…Издалека доносится звук. Хорошо знакомый мотив. Это скрипка Вальдо Свана твердит
снова и снова: прикоснись, прикоснись к радуге.
И понемногу темень тьмущая рассеивается, уступая место солнечному свету…
31 декабря, накануне Нового года, с утра шёл снег. Белым ковром укрылись улицы
Мидгарда. Мостовая, крыши домов, деревья, шляпы прохожих, – всё скрылось под
снегом. Теперь, на сверкающем белом фоне можно было рисовать праздник.
Бенгальские огни, хлопушки, гирлянды, конфетти, – все атрибуты новогоднего веселья
блистали, хлопали, переливались и чего только не творили для того, чтобы создать
сказочную атмосферу. А вот и Дед Мороз со своим мешком, полным всевозможных
сюрпризов. Рядом с ним Снегурочка, при ней улыбка, всем на свете дарящая хорошее
настроение. Северным сиянием загорелись в небе волшебные фейерверки, – это начался
новогодний карнавал.
На белом искрящемся фоне началась история знакомства Оле и Даны.
Печальный клоун Ело смотрел на луну, пытаясь разглядеть на обратной её стороне
изменения в своей судьбе. Фу ты, ну ты, о чём это я? Клоун Ело ещё не вышел на сцену,
речь же идёт о том, как Оле-бродяга встретился с провидением ему данной Даной.
В Мидгарде бродячие музыканты поселились в старом-старом доме, что на улице
Солнечного Петуха. Особенно с этим петухом подружилась Зелёная Кобыла, бывало что
ради него она отказывалась даже от овсяного печенья.
Последний день уходящего года Оле Доминор провёл в одиночестве, прислушиваясь к
стуку часов. Он был один, ибо все его соратники разбрелись по лабиринту мидгардских
улиц. И вот под стук последних часов уходящего года Оле вспомнил…
Помнишь ли
брата своего Солнце?
Помнишь ли,
когда он жил
рядом с тобой?
Помнишь ли
своего крылатого друга?
Помнишь ли,
когда жизнь плыла
лёгким облаком?
И жизнь плыла лёгким облаком,
когда он жил рядом с тобой.
На твоих ладонях распускались цветы,
когда тебя обнимал
твой брат Солнце.
Помнишь ли
минуту прощания?
Помнишь ли,
когда тебя опутал
тяжёлый сон?
Помнишь ли
когда твой брат улетал?
Помнишь ли,
что он сказал?
“Ты найдёшь меня, когда последние слёзы
растопят снег.
Ты найдешь меня, когда станешь
легче воздуха”.
Помнишь ли
брата своего Солнце?
Помнишь ли?
Старое помутневшее зеркало висело на стене в этой комнате. Наполнив хрустальный
бокал красным вином, Оле заглянул в зеркальную глубину.
– Как странно, – подумал он,– в городе вот-вот наступит Новый год, в сердце у меня
праздник, а в глазах у него – печаль. – Оле поднял бокал и выпил до дна напиток, столь
напоминающий кровь.
Близился вечер, за окном наступала пора сумерек. Застегнув на все пуговицы старенький
ватник, натянув на голову чёрный задрипанный берет, доставшийся ему в наследство от
отца, Оле Доминор покинул дом, что по улице Солнечного Петуха, и направился к
центральному перекрёстку, где у него была назначена встреча с Вальдо Сваном. В
новогоднюю ночь предстояло им развлекать честной народ славного города Мидгарда.
Концерт начался как и было назначено – за час до полночи. И музыка захватила в свои
объятия весь город. Вот-вот должен был начаться новый отсчёт.
ВСПОМНИТЬ ИМЯ
Дни тёмные, оковы из металла
Оставили осадок тягостной печали,
Слепящий блеск, всё это злато-серебро,
Он пленник, пленник суеты!
Трясины, мусор, соглядатаи и предатели,
Топтание на месте с иллюзией движенья
В иллюзионе удовлетворенья.
Но вспомнит своё Имя
Актёр, сыгравший эту роль,
Роль белки в колесе,
И обратятся в прах цепи из жёлтого металла!
Пусть только вспомнит Имя,
Пусть только вспомнит Имя…
Музыка соединилась с разноцветным светом. И на каждый звук, соответствующий той
или иной ноте, светотехник Торгал реагировал каким-то определённым цветом. На “до”
он посылал в пространство красный, на “соль” – оранжевый, на “ре” – жёлтый, на “ля” –
зелёный, на “ми” – голубой, на “си” – синий, на “фа-диез” – фиолетовый свет. И так была
построена радуга, и рука волшебника Черномора приоткрыла дверь, из которой глянула на
взбудораженных зрителей манящая глубина…
Она придёт по истеченье срока в тыщу лет,
Она увидит неугасший свет
Моей души.
Любимая, которой нет…
Мне надо ждать, я буду ждать хоть тыщу лет,
Отныне я её и рыцарь, и валет,
Моей Небесной Дамы.
Любимая, которой нет…
Оле пел, а из первого ряда на него смотрели зачарованные глаза одинокой женщины. О,
опять эти глаза! Он видел их в чертогах Снежной Королевы, и ещё где-то там, где когдато бывал.
– Кто это? – спросил Оле.
– Дана, – ответил Вальдо Сван, – рядом с ней племянник бургомистра Лонг, её муж от
первого брака.
И вновь грянула музыка, и на этот раз дверь распахнулась настежь, ибо это был коронный
номер Оле Доминора.
… И вновь со всех сторон в тебя проникает усталость.
Приходи в мой сад,
Здесь ты найдёшь отдых,
Под нежным лучом раннего солнца
Вспомнишь о далёкой стране.
Какой по счёту карточный домик строишь ты сегодня? Поверь, это слишком
ненадёжное жилище даже для такого заядлого игрока, как ты.
Приходи в мой сад,
Здесь ты найдешь пристанище,
После долгого пути
Укроешься в тени от зноя.
Сумерки – вечерняя пора, предшествующая тёмной ночи. Ты долго бродил по сумеркам,
где каждый твой попутчик нёс на себе печать смерти.
Приходи в мой сад,
Здесь ты найдешь веру,
Утраченную много веков назад,
Напьёшься родниковой воды.
В который раз хочешь ты удержать то, что имел, но снег растаял и вода утекла. И
только призраки обступают тебя тесным кольцом и начинают душить – душить –
душить.
Приходи в мой сад,
Здесь ты обретёшь надежду
На возвращение домой.
Как долго ещё предстоит скитаться? Скоро узнаешь…
И вот уже начался новогодний бал, а часы показывали без пяти минут полночь. Когда же
объявили белый танец, Оле услышал обращённые к нему слова:
– Я хочу пригласить тебя на танец, – и тогда городские часы Мидгарда объявили о начале
Нового года.
Глава 7
СВАДЬБА
Сверкала музыка, дымился танец,
В моих объятиях была она,
Та женщина, чьё имя тайна…
Что остаётся после взрыва Сверхновой? Светящаяся туманность, в центре которой –
Пульсар, нейтронная звезда, излучающая радиосигналы. Если попробовать углубиться в
эту тему, то, быть может, откроется взаимосвязь между некоторыми событиями.
Например, между появлением Оле в Мидгарде накануне Нового года и сигналами,
поступающими с бесконечно далёкого Пульсара. Но как бы там ни было, а когда начался
новый отсчёт, тут-то и появился Братец Сол, видать, пришёл и его черёд.
Он появился весьма неожиданно в доме по улице Солнечного Петуха и был он не один.
Рядом с ним Оле увидел длинноволосого человека, и с радостью и изумлением узнал в
нём Ричи Черномора. Так звали знаменитого волшебника промежуточного пространства,
той странной страны между здесь и там, именуемой Музыка.
Принимать дорогих гостей в своём доме было счастьем для Оле. Он обнимал их, целовал
их бородатые лица, и не нужно было ничего говорить, – понимали они друг друга без
слов.
Но вот страсти улеглись, и трое мужей сели за стол с импровизированной вечерей.
(Должен, однако, поправить себя, – за стол сели двое мужей и бродяга, что аналогично
двум бабочкам и куколке.)
– Мой дорогой брат, – сказал Братец Сол, когда глад и жажда были утолены. – Наступил
Новый год, что не сулит Мидгарду спокойной жизни. Но помни, чтобы ни происходило,
ты должен верить в свою звезду…
– И благодарить Мастера за подаренные яблоки, – закончил Оле.
– Именно так, брат. А сейчас старина Ричи порадует нас своим искусством. Неси гитару,
Оле!
Надо заметить, что все инструменты находились на передвижной студии Вальдо Свана, а
в доме по улице Солнечного Петуха где-то в углу пылилось допотопное весло.
Но здесь же был сам волшебник Черномор. И вот старенькая гитара с треснувшим грифом
и перевязанной струной преобразилась в его руках в сказочную лиру, наполнившую
комнату удивительными созвучиями. Нежные звуки влекли за собой, уводили в ту страну,
откуда родом волшебник Черномор, и где состоялась свадьба Оле, как это следует из его
собственноручных записок.
…Собрались мы за пределами города в условленном месте, и Ричи повёл нас по
просёлочной дороге. В эту тёплую ночь ярко светила Луна, в траве трещали насекомые, и
наш небольшой отряд впитывал в себя магию окружающей жизни.
Миновали несколько деревень. На свет Луны откликались светящиеся окошки сельских
домиков. И за каждым окошком скрывался целый мир. Я ликовал от мысли, что моё
естество способно вместить в себя миллион вселенных.
Рядом со мной шагал Братец Сол, и при лунном свете делился он со мной своей
мудростью.
– Важно всегда успеть отвести своих солдат на безопасное расстояние. Усвой это правило,
и ты никогда не будешь бит. Мои воины в твоём распоряжении, брат мой, сумей
определить направление главного удара, и перед нашими совместными усилиями не
устоит ни один враг. И ты должен знать, что война идёт повсюду, ибо в этой жизни
призваны мы на ристалище со зверем. Враг коварен и особенно опасен, когда красив.
А вот и опушка. Вступили во владения Лесного Короля. Необычный дух проник в мою
сущность, очистил её от напластований суеты, и оставил лишь то, что я по крупицам
собирал всю жизнь. На рок-подмостках и в прокуренных винных погребках, в долгой
дороге с друзьями и в погоне за иллюзорными корабликами. И видит Бог, мои старания
не пропали даром.
Этот волшебный лес наполнен музыкой. Я слышу пение песен, звуки рожков, волынок.
Кто-то играет на флейте, а кто-то на скрипке. И всё сливается во всеобщую гармонию.
Но вот нам навстречу вышли два длинноволосых человека. О, да это эльфы! Видать не
всякому сюда дозволен вход. Наш вожак Ричи перекинулся с ними несколькими фразами,
и мы вступили на ярко освещённую поляну. Здесь горят факелы, и свет от их огня падает
на лица людей, сидящих за длинными деревянными столами.
– Оле, куда же ты запропастился?! – я слышу голос Вальдо Свана.
– Я здесь, Вальдо!
– Это просто фантастика, Оле! – глаза моего друга горели огнём. – Такое впечатление, что
сегодня здесь собрались все наши неизвестные друзья. И всё это застолье тянется на
много миль.
– Роднит людей космическая сопричастность, – сказал проходящий мимо Ричи Черномор.
В руках он нёс большой блестящий сосуд с какой-то жидкостью.
– Что ты пьёшь, Ричи? – крикнул я.
– Этот благородный напиток пробуждает спящее сознание. Подставляйте стаканы, ребята.
Мы с Вальдо не заставили себя долго упрашивать, и, как оказалось, старина Ричи не
шутил. Опорожнив свой стакан, я секунда за секундой стал погружаться в состояние
совершенной сопричастности. Я чувствовал землю, на которой стоял, видел, как растёт
трава, слышал разговор деревьев. И все братья и сёстры, что меня окружали, становились
частью меня, нет, они становились мной.
– Вальдо, это чаша Святого Грааля! У меня нет никаких сомнений, что мы нашли её!
– Будем веселиться, Оле, это наш праздник, как я рад, что мы дождались его!
– Иначе и быть не могло, Вальдо, много нас бродило по свету, пока добрый эльф не указал
нам путь к этой поляне. И теперь все мы, причастившиеся Святого Грааля, нашли друг
друга и нашли себя…
– Не спи, не спи, Оле, посмотри вон туда, – дёргал меня за рукав Братец Сол, и рукой
указывал в направлении старого клёна. Под этим деревом собралась весёлая компания, и
начали они петь старинную песню “Прикоснись к радуге”. А немного в стороне стояла
девушка с длинными сиреневыми волосами. Она смотрела на меня, и её ясный взор
излучал нежность. Тогда возникло во мне непреодолимое желание обнять её и согреть
теплом своего сердца. Я подошёл к ней, провёл ладонью по её волосам, по щеке. Это была
Дана, моё тепло ей было нужно, и я это знал. Я обнял её за плечи, и наши уста слились в
поцелуе…
Когда их дыхание соединилось, пир, проходивший во владениях Лесного Короля,
естественным образом преобразился в свадебную церемонию. И много было выпито вина
и спето песен.
На время утих радостный шум, – это со своего места поднялся Братец Сол с пожеланием
новобрачным.
– В Небесной книге читаю слова: Свобода, Любовь, Верность. Освободитесь же от власти
хищных зверей, клинком огня разрубив мешающие движению паутинные цепи. Разрушив
мрачные стены тюрьмы, постройте прозрачный храм из кирпичиков любви. Но для того,
чтобы ветер не гулял в вашем доме, и снег не засыпал очаг, для того, чтобы друзья смогли
найти к вам дорогу, соедините кирпичи любви цементом верности.
И Братец Сол под аккомпанемент волшебника Черномора подарил невесте песню:
Если ты хочешь подняться в небо,
Стань птицей,
Если ты хочешь дождаться принца,
Стань принцессой,
Если ты хочешь стать птицей,
Отрасти себе крылья,
Если ты хочешь дождаться принца,
Стань принцессой,
Если ты хочешь стать принцессой,
Поднимись в небо,
Там, за серебряной завесой,
Найдёшь ты принца.
Тогда снял принц доспехи, и на серебряном блюде преподнёс ей хрустальное сердце,
хранительницей которого она становилась.
Ну а печальный клоун Ело продолжал смотреть на Луну, пытаясь разглядеть на обратной
её стороне изменения в своей судьбе. Он тоже присутствовал на свадьбе и сказал вот что:
– Прежде, чем ложиться спать, всегда заглядывайте под кровать, чтобы проверить, не
спрятался ли там кто-то чужой.
Глава 8
СОЕДИНЕНИЕ
Запретный плод влечёт в неизвестность,
За окном ночь, трепещут занавески.
Мою сущность съедает чёрный огонь,
Когда я пытаюсь найти взгляд женщины.
Полюби меня, женщина,
Подари мне чёрную любовь.
В каком городе я смогу её встретить,
Блуждая в вечном лабиринте времени,
Наблюдая фантомы левого пути
И мутное подобие вместо себя?
Подари мне чёрную любовь, женщина,
Полюби меня!
Что значит сегодня, вчера или завтра
В призрачном свете Луны?
Чёрная спираль зовущей женщины,
И больше ничего нет!
Поглоти меня, чёрная женщина,
Поглоти меня!
Безумный хохот наполнит дом,
Пустота станет моей наградой,
За окном ночь, трепещут занавески,
Запретный плод влечёт в неизвестность…
…Когда-то раньше я знал её очень близко, но когда это было и где? Осталась лишь
неуловимая и пронзительная память. Сегодня её зовут Дана. Она лежит рядом, всем телом
прижавшись ко мне.
Становится лёгкой моя сущность, и гравитация теряет силу. Воздушные крылья
поднимают в небо, и необозримое растительное царство проплывает подо мной. Держись
за меня, любимая, ничто нас не удерживает в грубом мире, ведь мы покончили со старыми
долгами. Сейчас мы совершим путешествие в то дивное место, где мы когда-то жили, где
у нас были другие имена, и где не было разделения на ты и я.
Жили мы на берегу синей речки, в красивой светлой избушке, сотканной из
благоухающих цветов, из зелёной листвы, из счастливого смеха её обитателей. В нашей
жизни постоянно сияло солнце, потому что были мы одним целым. Планета же, на
которой мы жили, называлась волшебным словом, смысл которого знали только её
обитатели.
Но однажды на Солнце надвинулись тучи, и небо в одночасье стало тёмным и злым. Это
великий Канцлер зла Адраммелех решил сокрушить твердыню света. Солдаты Любви как
один стали на защиту своей земли. Тогда я облачился в боевые доспехи, ещё раз прижал
твоё сердце к своему, и отправился туда, где в противовес силам тьмы сооружался Щит
Любви.
Но велика мощь Канцлера зла. Занёс магический жезл Адраммелех, сокрушительный удар
пришёлся в недозащищённое место, и сердце планеты вмиг обагрилось. Треснул Щит, и
много воинов полегло. В этот момент я находился там, где было всего жарче. На моих
устах было твоё Имя, любимая, когда удар чёрного жезла погрузил сознание в
непроницаемую темень…
С тех пор много приключений испытал вдали от дома бродяга, что ищет дорогу
уводящую…
Я видел рыцаря, которому суждена одна и та же вечная дорога. Его доспехи сверкают на
солнце, и тяжелая поступь коня сотрясает землю. Куда же он мчится? Магнит притягивает
железный наконечник копья. Бурлящая кровь достигает отметки кипения, когда рыцарь
вторгается в этот желанный грот под названием Йони.
А потом в волшебном лесу мы охотились на лисицу. И сказал я своему антиподу: ”Твой
мех, моя кровь”. Но стрелы мои не достигали цели. Тогда погнал я её в ловушку, и этот
хитрый зверь оказался у меня в руках. Но когда была вскрыта кровь, из вен потекла вода.
И я не смог наполнить свою чашу.
И вот приехал я на этот постоялый двор в Мидгарде, куда направил меня мой брат. Скачет
всадник-время, увлекает нас с собой. Сегодня мы раздаём своё имущество, но что будет
завтра? Наутро проснёмся в пустой комнате, вспоминая о прошедшей радости. И я
прибыл в Мидгард, чтобы до краёв наполнить эту чашу, и смыть проклятие жителей
песочных замков.
Поднеси вина уставшему путнику,
Но жажда возвращается во времени,
Открой клетку, выпусти птицу,
Попробуем ухватиться за вечность.
И когда боевой меч нашёл своё влагалище, на поверхность проступили капли красной
крови. Но тогда же в приоткрывшееся отверстие проник маленький Курц и спрятался под
кроватью.
Глава 9
КАК МАЛЕНЬКИЙ КУРЦ ПРЕВРАТИЛСЯ В БОЛЬШОГО ЛОНГА
Отсверкали новогодние праздники, и на смену им в Мидгарде пришла пора серых будней.
Кроме всего прочего, серые будни принесли с собой тот запах жареного, что возник
накануне Нового года. Это было дело о пропавших без вести на выступлении Цирка
бродячих артистов им. Зелёной Кобылы. Как и следовало ожидать, всё это в конце концов
вылилось в форменный скандал, ибо после праздника наступило похмелье, и оказалось,
что во время новогодних выступлений число пропавших увеличилось втрое.
Розыск, проведённый пронырливыми сыщиками, дал свои результаты. Следы кое-кого из
пропавших были отысканы, а с некоторыми из них был даже установлен контакт. Однако
никто не захотел возвращаться к прежней жизни по причинам различного свойства, но
близким по сути. Вот что заявил пропавший муж гражданки N. Там, где он побывал, ему
открылось, что женщина, с которой он жил до сих пор, ни в коей мере не есть его жена, и
даже дети, которых он считал своими, на самом деле соседские. Вот такие вот дела,
ребята.
Не лучшим образом обстояло дело и с теми, кто, по мнению их близких, нуждался в
психиатрической помощи. Их отклонения прогрессировали, а вскоре бедняги сделались
вовсе невменяемыми. Вместо того, чтобы заботиться о хлебе насущном, они всё чаще
стали обпиваться пуншем и сочинять (ха-ха) стишки.
Это было весьма опасное поветрие, и нужно было что-то делать.
На этом положении стали строить свою предвыборную программу реалисты :
– Выдворить нарушителей спокойствия, то есть Доминора и Ко из города.
Тот факт, что последних пригласили сами реалисты, постепенно забылся, так как
противоборствующая партия романтиков в полном составе оказалась на стороне бродячих
музыкантов. Более того, Оле Доминора романтики решили баллотировать на пост
бургомистра Мидгарда.
По мнению реалистов, это было откровенным сумасшествием. Ведь становилось
очевидным, что артисты Зелёной Кобылы есть вопиющее зло для города, ибо они ведут ни
к чему иному, а к постепенному самоуничтожению Мидгарда.
Но бывает так, что здравый смысл не находит больше применения в жизни людей. Что-то
подобное стало происходить и в Мидгарде. Флюиды безумия поражали сознание
беззащитных граждан, день и ночь они толклись возле резиденции романтиков на улице
Солнечного Петуха. Погоду в этом лагере определяли побывавшие на пресловутых
концертах. Постигая теорию Вальдо Свана, они разрабатывали план дальнейших
выступлений с целью проникновения в иные миры.
Все здравомыслящие жители Мидгарда, а таковых оставалось всё же значительное
количество, с тревогой следили за происходящим, и наконец стали требовать от
бургомистра конкретных предложений.
И вот тогда-то глава города почувствовал, что он слишком стар для того, чтобы что-то
изменить. Он понял: чтобы спасти ситуацию, нужен молодой и энергичный инженер с
радикальным проектом переустройства города. И на экстренном заседании таким был
признан племянник бургомистра Лонг, восходящая звезда партии реалистов.
Он был на всех выступлениях прибывших в Мидгард бродячих музыкантов. Он видел ту
дверь, на которую своим смычком указывал Вальдо Сван. И он первым понял, что для
того, чтобы спасти город, нужно захлопнуть эту дверь.
В день, когда он стал кандидатом на пост бургомистра от партии реалистов, Лонг
встретил в городе Дану, и свою предвыборную кампанию решил начать именно с неё:
– Вернись к своим, Дана. Я построю тебе дом из камня, не из воздуха. На твёрдой земле, а
не на иллюзорном облаке сооружу я королевские чертоги. Я буду бургомистром
Мидгарда, а ты станешь Королевой! А что ты имеешь сейчас? Что-то настолько
неосязаемое, что достаточно дуновения ветра, и ничего не останется…
И вдруг на самом деле поднялся ветер. Откуда он прилетел в Мидгард, кроме маленького
Курца, никто не знает. Но какой это был ветер! По мнению метеорологов, такого ветра в
Мидгарде не было уже сто лет.
Глава 10
ВЫБОРЫ
иной раз,
ощущая тяжесть своего креста,
я устремляю взгляд за пределы,
музыка небесных сфер наполняет мой парус,
и я нахожу то, что искал…
я вижу,
как мы идём с тобой по утренней росе,
прохлада ласкает босые наши ноги,
лёгкость движений уподобляет нас птицам,
слияние душ превращает двоих в одно…
этим утром, на этом лугу
слушаем мы песню вечной любви,
вечную песню любви…
…Держись за меня, любимая, ничто нас не удерживает в грубом мире, ведь мы покончили
со старыми долгами! Но непонятная метаморфоза произошла с моей любимой. Как будто
свинцом наливается её естество, я не в силах бороться с притяжением земли…
В этот день жители Мидгарда должны были сделать правильный (или неправильный)
выбор.
Романтики во главе с Вальдо Сваном баламутили народ как никогда. Какие только
лозунги не провозглашали они, чтобы добиться наконец долгожданной победы:
– Солдаты! Настал час объединиться и стать под знамёна Великого Магистра и
Предводителя!
– Необходимо растормошить спящих, разбросать семена учения, привести в движение
стоячие воды и очистить болото.
– Душа бродячего артиста – вот всё, что необходимо желающему участвовать в
представлении, в нашей психической атаке.
– Только опустившись на дно самого глубокого ущелья, найдём мы опору, и тогда
оттолкнёмся от неё и начнём восхождение на небо.
– Пусть каждый будет готов принять страшный удар.
– Пусть каждый будет готов принести страшную жертву.
Романтики утверждали, что Оле Доминор – тот, кто способен трансмутировать Мидгард,
и эта трансмутация повенчает Сестру Луну и Брата Солнце.
Но реалисты, а с ними все здравомыслящие граждане, подозревали, что за всеми этими
алхимическими бреднями нужно понимать самоуничтожение Мидгарда. И всеми
доступными способами они разъясняли колеблющимся всю опасность подобной
программы. Альтернативой романтическим авантюрам провозглашалось процветание
Мидгарда, и не только материальное, но и духовное.
А молодой лидер реалистов Лонг обещал, что под его руководством горожане достигнут
такого благосостояния, что каждый из них сможет слетать и на Луну, и на Солнце. Если
пожелает, конечно.
Вот перед каким нелёгким выбором оказались все без исключения жители Мидгарда.
А в это время Дана, стремясь найти правильное решение, достала из золотой шкатулки
хранившееся там хрустальное сердце принца. В Новом году оно всегда подсказывало ей,
как поступать.
“ О, как страшно бывает порой там, куда уводит меня Оле. Каким прекрасным, но всё же
странным блеском светятся тогда его глаза.
Но кто же он всё-таки такой? Ангел или демон? И где находится его дом?
Не раз спрашивала я у Оле, и у Вальдо Свана, куда деваются на их концертах бедные
жители Мидгарда. Что же они ответили?
– Музыка уводит в неизвестность, в Страну снов, где кто-то находит свой дом, но
большинство, так ничего и не найдя, погибает, укрывшись белым снегом.
Но как всё это страшно, как могу я понять, что это за прозрачный дом, который можно
построить, лишь разрушив каменный? А мне так нравится Мидгард, как же я могу желать
его разрушения? Ох, мне так хочется тишины и спокойствия “.
В этот момент резко открылась дверь дома, и прямо с порога Лонг заявил:
– Я победил на выборах, Дана, теперь слово за тобой!
От неожиданности хрустальное сердце выскользнуло из рук Даны и, ударившись об пол,
разбилось на мелкие кусочки.
Эх, Дана, Дана, что же ты наделала!
Моё сердце у меня на ладонях,
Я подхожу к окну
и опять вижу этот мир,
Мир, в котором я живу…
Я смотрю в окно
И во всём огромном мире
Не вижу никого,
кто принял бы мой дар,
Моё отверженное сердце…
Солнце спряталось в тучи,
Почернела листва, померкла улыбка,
Льёт слёзы моё бедное сердце,
Ибо последний корабль
разбился у чужих берегов.
Я смотрю в окно
И во всём огромном мире
Не вижу никого,
кто принял бы мой дар,
Моё отверженное сердце,
Моё отверженное сердце…
Глава 11
ОСТРОВ
Бродяга стоял посреди дороги, его отсутствующий взгляд был устремлён в синюю высь.
Туда, где плыл над землёй белый лебедь. В стремящейся в заоблачную даль птице билось
сердце того, чьё бренное тело так нелепо осталось стоять посреди дороги.
Проходящий мимо охотник, проследив за взглядом бродяги, зорким глазом нашёл добычу.
Белое стало красным, когда находящаяся на острие стрелы боль пронзила сердце. Пройдёт
время, и красное станет чёрным, но белому лебедю уже не быть.
И бродяга с отравленной стрелой в сердце побрёл куда-то дальше.
Сегодня в Мидгарде целый день идёт дождь. Впрочем, после выборов это стало
привычным явлением. Подумать только, ещё вчера волшебной сказкой окутывал всё
праздник Нового года. А сейчас…
каждый день
я слышу грустную песню,
которую поёт дождь
дождь промочил меня до нитки,
и мне кажется,
что в мире нет ничего,
кроме дождя,
что такое солнце,
я забыл давно,
холод, дождь и ветер –
всё моё добро,
сырость пробирает
до мозга костей,
птицы не приносят
добрых новостей
Слякоть покрывает землю. Проникает повсюду. Не спрячешься от неё, не убежишь.
Плавают все в мутных водах, иногда высовываясь из своих убежищ. Панцири становятся
прочнее. В таком укрытии можно пробыть до скончания века. Скользкая дорога,
постоянно шлёпаешься в грязь. И наступает момент, когда исчезает разница между тобой
и грязью. Одна всепоглощающая слякоть.
Таким стал Мидгард после выборов.
но кровь не остывает,
сердце горячо,
поплыву на щепке
в океане слёз,
и в бескрайнем море,
может быть, найду
остров, где забуду
про свою беду
и вот вороны с верхушек деревьев
кричат мне, что, мол, пора…
Своим мощным клювом ворона пробила панцирь и принесла мне весть от брата моего
Солнце.
Я погружаюсь в тишину
Я погружаюсь в темноту
Оле-Лукойе
Однажды дождливой осенней ночью шестеро в чёрных плащах с капюшонами с
непонятной ношей в руках шествовали по улицам Мидгарда. Им пришлось пройти через
весь город, так как целью их шествия была река. Здесь их ждала лодка, в которой сидел
человек в белом хитоне.
Непонятная ноша оказалась человеческим телом, завёрнутым в саван, которое и было
погружено в лодку. Через некоторое время лодка отчалила и спустя полтора часа
покинула пределы Мидгарда, растворившись в ночном мраке. Но вот что странно: когда
эти таинственные фигуры возвращались, их было уже не шестеро, а семеро, как будто тот,
кого они несли, теперь шёл вместе с ними. Но ведь они положили его в лодку, я сам
видел, как лодка с этим необычным грузом на борту покинула Мидгард. Скорее всего, без
волшебства здесь не обошлось.
А всё объясняется следующим образом. Человек в белом хитоне, то есть лодочник, был не
кто иной как сам Брат Сол, который и посылал ворону за принцем, чьё тело доставили по
назначению шестеро соратников: скрипач Сван, гитарист Аксель, флейтист Сигур, басист
Алан, барабанщик Ларс и светотехник Торгал. Однако в Мидгарде оставались ещё
неразрешённые дела, поэтому назад возвращались семеро. К шестерым прибавился Клоун
Ело.
А лодка с телом принца, преодолевая течение реки времени, поплыла к далёкому острову,
не отмеченному ни на одной географической карте.
ИНИС АВАЛЛОН
Долгий путь через тернии
Предстоит пройти
Каждому воину,
желающему попасть на Инис Аваллон.
Кипит жаркая битва,
Падают воины,
Кому из них
суждено добраться до Острова Яблок?
– Тем, чьё знамя отмечено
Печатью благородства, мудрости, любви.
Исполнивший свой долг,
Испивший чашу страданий до дна,
Обретёт покой на Инис Аваллон
Под покровительством Феи Морганы.
Глава 12
ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ
Мы вновь кружимся в этом танце,
Промчась весь год в безумной гонке
за иллюзорной красотой.
В моих объятиях она,
Та женщина, что мне верна,
Я утону в её объятьях,
в объятьях Королевы снов.
– Пока этот цирк не уехал, приходится играть роль клоуна,– такими словами открыл Ело
последнее представление в Мидгарде Цирка бродячих артистов им. Зелёной Кобылы.
На проведении этого концерта настояли многочисленные поклонники заезжих
музыкантов. Хотя партия романтиков выборы проиграла, однако руководство города во
избежание нежелательного противоборства решило пойти навстречу своим оппонентам.
Тем более, что контролировать ситуацию своим присутствием решил новоиспечённый
бургомистр.
Зал был полон. Ажиотаж подогревался ещё и слухами о якобы имевшей место смерти
Оле. Но вот на сцене появился Ело, и об этом забыли, ибо он был точной копией маэстро
Доминора. Одно только отличие – у Оле глаза голубого цвета, а у Ело – чёрного,– в
призрачном освещении зала никто заметить не мог.
Прозвенел третий звонок, и начался последний акт комедии, в которой тема смерти
сменяла тему любви и наоборот.
Погребённый заживо смотрит на звёзды,
Понять не может перемещения света,
Могильные черви
Съедают тело,
Меня становится
Всё меньше и меньше.
Остов, лежащий глубоко в земле,–
Печальный итог нерождённого свыше,
Могильные черви
Съедают тело,
Как странно слышать
Плач Алконоста.
Кровавые слёзы орошают землю,
Нежный цветок напоён их влагой,
Могильные черви
Съедают тело,
Нежный цветок
Не виден их глазу.
В этот момент клубы разноцветного дыма неизвестного происхождения заполонили зал. А
когда дым рассеялся, то многих зрителей уже не было. Быть может, они просто вышли на
свежий воздух, хотя разноцветный дым был абсолютно безвреден для лёгочного дыхания.
Скорее всего, они растаяли вместе с дымом, утратив присущие им в Мидгарде очертания.
Белая птица покинула клетку,
Лежащий в могиле съеден червями.
Несмотря на некоторое замешательство в зале, представление продолжалось. В глубине
сцены неистовствовал Вальдо Сван, потрясая смычком словно магическим жезлом. На
этом концерте должны были увенчаться его многолетние изыскания, ибо заканчивался
срок пребывания в Мидгарде. Всё было готово к переходу, и волшебная дверь
открывалась всё шире. Уже видна была радуга, ещё аккорд – и до неё можно будет
дотронуться.
Но оставалось ещё последнее условие, без соблюдения которого открытая дверь могла
стать чёрной дырой,– нужна была искупительная кровь.
– Пока этот цирк не уехал, приходится играть роль клоуна, – Ело ещё раз повторил
ставшую затем знаменитой фразу, и три раза хлопнул в ладоши, после чего в наступившей
тишине продолжил своё ритуальное действо:
– Эту женщину я увидел в зеркале, когда попробовал заглянуть в его глубину. Её глаза
притягивали подобно магниту, и я шагнул ей навстречу, ибо решил, что пришла моя
удача. Но ноги мои не нашли опоры, и я провалился в тёмный колодец. В чёрный колодец
её глаз.
И с постепенным подключением всех участников последнего парада, то бишь
участвовавших в ритуальном танце музыкантов, Ело запел:
Королева снов
Зовёт меня вновь
Из зеркальной глубины.
Фальшивый свет Луны
Скрывает блеск ножа.
Я крикнул: ”Сгинь!”
Но было поздно,
Стрела Амура пронзила сердце,
И я упал в колодец её глаз.
– По ту сторону зеркала несёт свои мутные воды инь. Подводные камни скрыты от моего
взора, а свет лишь ослепляет. Сердце брошено на алтарь чёрной любви, это моя последняя
жертва. Сверкнул жертвенный нож, и эта женщина выпила мою кровь.
Королева снов
Ведёт в свою страну
Сквозь воды инь.
В её стране не видно Солнце,
И лунный свет
Скрывает блеск ножа.
Алтарь любви окрашен чёрным,
Я вижу зверя лик!
Я вижу зверя лик в улыбке Королевы,
И пятна крови на алтаре!
В этих тёмных водах инь!
По ту сторону зеркала!
– Улыбаясь окровавленными губами, она растворилась во тьме. Я же навсегда остался
рабом той, что не существует.
Я покидаю царство сна
И снова вижу ночь.
О Королева снов, я твой!
В моих жилах течёт чёрная кровь,
И сердцу не нужно тепла,
Сердцу нужна лишь женщина-призрак,
Женщина, которой нет!
Пристальный взгляд бургомистра Мидгарда был прикован к происходящему на сцене, где
в клубах разноцветного дыма юродствовал ряженый шут. Колебаний больше не было!
Расталкивая толпу очарованных кроликов, Лонг стал приближаться к сцене, сжимая в
руках необходимый инструмент. И вот он уже в двух шагах от ненормального клоуна.
Взмах сильных рук, и сердце Ело проткнул остро отточенный осиновый кол. И в этот
момент ритуальный танец бродячих артистов перерос в бешеный круговорот элементов, в
который были захвачены участники действа. Впрочем, не все присутствовавшие, но
только избранные.
Минута времени, и этот вихрь устремился в глубину пространства, к точке, где к трём
измерениям был найден перпендикуляр. И за волшебной дверью скрылись все участники
этого необычного представления. Последнее, что увидели зрители, это прощальный взмах
пушистого хвоста Зелёной Кобылы.
Дверь захлопнулась, представление завершилось, и … наступило долгожданное
спокойствие. Как будто ничего и не было.
И тогда беспредельная усталость погрузила всех в сон.
– Спите, жители Мидгарда, в городе всё спокойно,– эти слова бургомистра надолго
запечатлелись в коре головного мозга каждого, кто побывал на том столь памятном
светопреставлении.
Глава 13
КОРОЛЕВА МИДГАРДА
Прошло пять лет. Жизнь в Мидгарде шла своим чередом. После бурных событий,
связанных с посещением города Цирком бродячих артистов, страсти улеглись, всё
наладилось и вошло в привычное умеренное русло.
Руководившие Мидгардом реалисты в знак благодарности намеревались наградить своего
бургомистра почётным орденом за особые заслуги в деле спасения города. Однако Лонг
поступил достаточно мудро, запретив своим подчинённым даже вести об этом речь. Его
дальновидная политика была направлена на то, чтобы события того безумного времени
как можно скорее выветрились из памяти горожан.
Благосостояние мидгардцев во время правления Лонга заметно улучшилось. Хотя о
полётах на Луну, не говоря уже о Солнце, говорить не приходилось, но каждый гражданин
был обеспечен всем необходимым. Речь идёт не только о материальных благах, но и о
духовных.
Не последнее место уделялось изящным искусствам, и в частности, музыке. Но чтобы не
нарушать душевного равновесия мидгардцев, магистрат стремился не приглашать в город
всевозможных подозрительных бродяг. Ставка делалась на воспитание собственных
музыкантов. При этом их положение определялось достаточно чётко: предназначение
музыканта состоит в том, чтобы развлекать честных людей, создавая условия для их
отдыха. В то же время, музыкантам не положено толкать всякие там далекоидущие идеи.
На то есть люди посерьёзней.
В качестве городского главы Лонг пользовался среди сограждан неизменным уважением.
В таком же почёте находилась и Дана, фактическая королева Мидгарда. Лонг выстроил
для неё настоящие королевские чертоги, где были все удобства, какие только может
пожелать самая привередливая красавица. А каких только нарядов и украшений ни
накупил для неё достопочтенный Лонг. Просто глаза разбегались. Бывало, полдня не
могла Дана решить, что ей надевать, ведь один наряд красив, другой – эффектен, а третий
как раз вошёл в моду. Попробуй выбери!
О бродячих музыкантах Дана совершенно забыла, так как память у неё была не из
лучших. Но вот однажды во время очередного королевского выезда произошло
непредвиденное. Проезжая мимо зелёного амфитеатра, Дана вдруг приказала кучеру
остановиться. Дело в том, что её ухо уловило знакомый мотив. Это была старая забытая
песня “Прикоснись к радуге”. Выйдя из кареты, Дана словно во сне подошла поближе к
сцене амфитеатра. И, не веря своим глазам, она увидела там принца. Своего принца. И
вновь как и когда-то его голубые глаза сверкали подобно звёздам, и вновь скрипач
указывал смычком на приоткрытую дверь.
Плачь, милая, плачь,
В этот город прибыл палач,
Плачь, милая, плачь.
Мне жаль, мне очень жаль,
Мне жаль, мне очень жаль
Маленькую-маленькую девочку,
Заблудившуюся в тёмном лесу.
Я слышу бой часов –
Это время гиен и сов,
Время диких лесных зверей
И проснувшихся упырей.
Послужить из них каждый рад,
Начинается бал-маскарад.
Даже зоркий недремлющий глаз
Для тебя в этот миг погас.
Чей-то жадный трепещущий рот
Завлекает тебя в хоровод.
И костёр неземных страстей
Пробирает тебя до костей.
Язычки начинают плясать,
Твоё тело легонько ласкать.
Плачь, милая, плачь.– О как чудесно!
Плачь, милая, плачь. – О как небесно!
Мне жаль, мне очень жаль,
Мне жаль, мне очень жаль
Маленькую-маленькую девочку,
Оказавшуюся в тёмном подвале.
Плачь, милая, плачь,
Пусть утонет в слезах палач.
На вес золота сегодня слеза,
Пусть заполнится ими подвал,
И чердак, и веранда, и зал.
Приплывёт к тебе светлый муж,
Утешитель всех грешных душ,
И тогда загорится свет,
И никто не ответит: нет.
Плачь, милая, плачь,
И утонет в слезах палач.
Мне жаль, мне очень жаль,
Мне жаль, мне очень жаль,
Если это мимолётная блажь,
и не золото это, а фальшь,
Если слёзы всего лишь вода –
Это значит, что ждёт нас беда,
Это значит, не исполнился срок,
Всё исчезнет, кроме нескольких строк.
Но замёрзнет в ручье вода
И в твой дом постучат холода.
И настанет, настанет день,
И по снегу промчится олень.
Ты увидишь его глаза
И захочешь ему что-то сказать.
Но умчится олень навсегда,
И не будет дороги назад.
Мне жаль, мне очень жаль,
Мне жаль, мне очень жаль.
И тогда ты заплачешь вновь,
Вместо слёз потечёт кровь.
Из глаз Даны текли слёзы, они текли непрерывным потоком, текли долго-долго, а когда
закончились, на сцене уже никого не было.
И после этого, несмотря на все возражения досточтимого бургомистра, королева
приказала разыскать и пригласить в Мидгард Цирк бродячих артистов им. Зелёной
Кобылы.
Глава 14
ФИНАЛ АПОФЕОЗ
Блуждая по лабиринту грязных улиц, я постоянно слышу зов. Он влечёт меня домой, но
как найти туда дорогу, блуждая по лабиринту грязных улиц? Как выбраться из лабиринта?
Перебираясь из города в город, я повсюду нахожу грязные улицы и великое множество
стен. Как долго суждено пребывать нам в лабиринте? Как его преодолеть? Кто может его
преодолеть? Кто поможет его преодолеть?
– Зов волшебного Сада. – Чем отчётливее ты его слышишь, тем явственнее ощущаешь
дыхание Сада. Как выбраться из лабиринта? Ответ прост: подняться в Небо. Но для этого
нужны крылья.
Впервые услышал я зов, когда появился на свет. Я открыл глаза, и увидел этот город. И я
понял, что я – это я, и что город – это не я.
Беспомощное дитя жмётся к матери, одной ногой оно ещё в Саду, но другой – уже в
лабиринте. И наступает момент, когда ты понимаешь, что ты один, совсем один, и
утешить тебя не могут ни мать, ни отец. Так ты со всеми потрохами становишься
пленником лабиринта.
И тебе необходима одна вещь – крылья, а иначе говоря – любовь. Любовь требует
многого: ей нужен объект, устремляясь к которому, ты стремишься соединиться с ним в
одно целое, преодолевая таким образом разделение субъект – объект (я – не я). А это
значит, что любовь требует жертвы, и в жертву ты должен принести своё я.
Любовь предполагает страдания, проходя через огонь страданий, ты постоянно
приносишь себя в жертву на алтарь любви. Проходя через горнило любви, ты сжигаешь
своё я, оставляя единственно любовь. Или, другими словами, твоё я растворяется в том,
что называется Любовь.
Но не мудрено и заблудиться. Зов любви, натыкаясь на множество преград, уходит в
разные стороны, и до многих доходит лишь отражённый (искажённый) звук. Отражения
многолики настолько, насколько разнообразны преграды. Как часто тень любви
принимается за любовь. Но это лишь отражение и ведёт оно в никуда.
Для того, чтобы услышать зов чистый, старайся разрушить стены, стоящие между тобой и
Садом.
…Открыл глаза принц, увидел синее небо, белые облака, яркое солнце.
– Вот я и дома,– подумал он.
– На моей планете солдат любви всегда дома,– услышал он дивный голос, который хотел
слышать всегда.
Принц поднял голову и увидел Королеву Любви. Её обнажённое тело сиянием своим было
Солнцу подобно, принц смотрел на него, и глаза его способны были вместить в себя весь
свет.
– Принц, постигший природу отражений и дважды погибший за меня, достоин награды.
Принц становится Королём.
На сброшенных покровах, об опорах
расшатанных болезнуя, почти
что вздрагивая на малейший шорох,
когда его и не было, учти! –
ежеминутно спрашивая, где мы
и что мы – то ли перлы, то ли шваль..,
всё более исчерпанностью темы
мы тяготимся, вглядываясь вдаль…
Там кто-то будто за ноги подъятый
завис, там силуэты мой и твой,
как века череды – последней датой
коснулись горизонта головой.
То наши тени из руин бедлама
уже взошли, застенчиво топча
ступеньку перевёрнутого храма
в игре новорождённого луча.
И соединился Король со своей Королевой в вечном, неподвластном времени, оргазме.
ЭПИЛОГ
На пыльных стенах комнаты картинки прошлых лет
Солёный ручеёк прочертит новый след
В ожидании Разрушителя стен.
Объятия холодной ночи, дорога в дивный сон,
Серебряная нить найдёт прозрачный дом,
Где правит бал великий Разрушитель стен!
Я очнулся словно после долгого-долгого сна, и обнаружил себя лежащим на диване. В
комнате никого не было, только весело трещали дрова в камине, выделяя приятное тепло.
Я сходил на кухню, заварил чай, после чего, удобно устроившись в кресле, вставил в
магнитофон свою любимую кассету, и нажал на “play”. Конечно, это была песня
“Прикоснись к радуге”.
Выглянув в окно, я увидел, что там зацвели деревья. И ещё я увидел радугу, широко
раскинувшуюся после прошедшего дождя. Дождя из слёз. И, как всегда, отплясывал на
ней свой бесконечный танец волшебник Черномор.
На пыльных стенах комнаты картинки прошлых лет,
Глаза слепого вдруг увидят свет
В ожидании Разрушителя стен.
28.08.1998 – 24.04.2000
ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБИРИНТА
(Нечто о сказке «Королева Снов» Хельги Кашмира)
Точнее, о сказке-лабиринте… Поэтому оговоримся сразу же: из лабиринта, о котором идет
речь, никакого линейного выхода не существует, так что с пресловутой нитью Ариадны
он не связан. Живя в подобном лабиринте, можно об этом не подозревать. Такова именно
участь большинства жителей славного города Мидгарда (согласно древнескандинавскому
сказанию, так называется «средняя страна», возникшая из туловища великана Имира, т. е.
вообще Земля, мир людей), где происходит действие «Королевы Снов». И надо думать,
что, покинув лабиринты его улиц, они попадают в лабиринт другого такого же города… и
т. д., таким образом, подтверждая догадку Пифагора, Ф. Ницше и П. Д. Успенского о
печальной участи большинства в круговороте вечного возвращения.
Ну, кто не слышал сказки о Снежной Королеве, кто в детстве не любил ее?! Не стал
исключением и герой нашей истории Оле Доминор. «Странствие в вечных снегах с
замороженным сердцем. Кто меня видит? Неужели ты, сидящий в четырех стенах?
Воистину, ты заблуждаешься. Из своей клетки никогда не увидишь ты пугающей красоты
черной спирали». То есть любят-то Снежную сказку многие, а вот кто способен принять
на себя весь ее холод?
Что же случилось с нашим героем? Во-первых, он еще в ранние годы хорошенько осознал,
что является пленником лабиринта. Подобное знание, как это известно из индийской
философии, приводит к ощущению иллюзорности мира. А тут еще вспышка
Сверхновой… «Находясь близко от эпицентра взрыва, сердце Оле приняло в себя
световой код погибшей звезды, и с тех пор он стал бродягой, что ищет дорогу
уводящую…» Куда же? Должно быть, из лабиринта… Таким образом, из пленника Оле
превращается в странника лабиринта. А кем может стать впоследствии странник?
Именно об этом рассказ, и такова символика этой странной (припомним этимологию сего
слова, не забыв о не менее важном словоупотреблении), ни на что в современной
литературе не похожей сказки.
Внешний же план ее (сюжет) весьма незамысловат, что способствует эффекту всеобщей
узнаваемости и какой-то обманчивой прозрачности. О чем здесь, казалось бы, толковать?
Оле с компанией таких же, как он сам, бродяг-музыкантов по приглашению мидгардских
властей прибывает в город накануне Нового года, и на одном из первых представлений
знакомится с Даной. Вот он смотрит в ее глаза, которые уже встречал в чертогах Снежной
Королевы. Впоследствии Дана банальнейшим образом предаст его, точнее, сделает выбор,
и «вернется к своим». Да, вот еще, выборы в городской магистрат – это кульминация
произведения, где побеждают не «романтики», а «реалисты». Впрочем, кто бы еще мог
победить в «средней стране», в Мидгарде? А кто из нас не делал и не делает свой выбор
на всю жизнь и на каждый миг, несмотря на видимую победу реализма повседневности?..
Существование в «средней стране» подразумевает еще и свободу выбора.
«Моя музыка уводит в Страну Снега. А где-то еще дальше лежит Страна Любви…»
Итак, эпицентр повествования – музыка. На концертах Цирка им. Зеленой Кобылы
происходят необъяснимые явления: например, кто-то просто исчез, а у некоторых, как
говорится, крыша поехала. Опять же, один из законов Лабиринта: попадая в
промежуточное пространство, именуемое музыкой (теоретик Вальдо Сван здесь
своеобразный жрец и оракул, а человек с бродящей в крови музыкой – Оле – поначалу
лишь медиум), эти исчезнувшие из Мидгарда, как и просто погибшие для «нормальной»
жизни, скорее всего, вослед за Оле Доминором и Ко превращаются из просто пленников
Лабиринта в его странников, в просторечии – бродяг… Там светит Луна своим
отраженным светом и властвует Ночная Госпожа – та самая Королева Снов, давшая сказке
заглавие, – маня и пугая возможностью черной любви с водоворотом ее черной спирали.
Собственно, промежуточное пространство на то и называется так, что его никак не
миновать, ежели странствуешь по лабиринту. Иначе ведь не попасть в Страну Любви.
Сколько всего написано о Ней! А любовь снежная сразу же ассоциируется со «Снежной
маской» А. Блока. Тот же зов запредельности, прозрение сквозь толщу льда в иной мир,
эти льды породивший, в колдовскую женскую сущность, как персонификацию снежной
стихии. Но у Блока – это зачарованность вьюгой и добровольная гибель на снежном
костре, в ледяном угаре страсти, т. е. неизбежная духовная смерть на алтаре такой любви.
Есть здесь порыв высокой субъективной мистики, но метафизический подход начисто
отсутствует, потому что во главу угла положена «страсти черная дыра» (чем не «черная
любовь» Оле Доминора – «Если сердце хочет гибели,/ Тайно просится на дно?»), а не
взгляд на нее из пространства свыше. Откуда же? Может быть, из… Страны Любви?
Впрочем, забегаю вперед, между тем как мы еще не разобрались с Королевой Снов.
Вот великолепная, поистине готическая, главка, описывающая сон в старом замке, сон о
самом себе. Некогда с нами бывшее, тем более, долгожданное несостоявшееся, приходит в
таких вот особенных снах, как прообраз грядущих встреч, и наполняет тревожным
ожиданием чуда. Но случайно ли это соитие с мертвой женщиной? Это извержение
горячего семени в «мертвое хранилище жизни»? Да в сказочке этой, как я погляжу,
вообще ничего случайного быть не может, только не нужно, Бога ради, рассматривать ее
сквозь узкопсихологические, а тем паче, психоаналитические окуляры! Ибо автор, как и
его герой, я думаю, однажды попробовал «ухватиться за вечность», и лабиринт времени
представился ему оттуда как на ладони.
«…Ну же, Королева Снов зовет тебя! И я иду за ней, пока длится эта песня. Я иду за ней,
но она все так же далеко, она недосягаема. И я уже ничего не вижу, я падаю, падаю в
черный колодец…» Вот она – «пугающая красота черной спирали»! Но тот, кто однажды
поднимался по «спиралевидной лестнице… в самую высокую башню замка», поднимется
еще не однажды. А спуск (вспомним великих созерцателей «обеих бездн» в нашей
литературе – Лермонтова, Достоевского, Даниила Андреева) – это есть зеркальное
отражение подъема, закон аналогии, начертанный на легендарной «Изумрудной
Скрижали» Гермеса Трисмегиста – основоположника европейской оккультной традиции.
А вот как звучит один из предвыборных лозунгов партии «романтиков» во главе с Вальдо
Сваном: «Только опустившись на дно самого глубокого ущелья, найдем мы опору, и тогда
оттолкнемся от нее и начнем восхождение на небо». На то и Мидгард – средняя страна,
лежащая между царством Асгарда и обиталищем дракона Нидхёгг («Старшая Эдда»),
город между небесами богов и бездной хаоса! Не исключено, что ему по-своему
соответствует то самое «промежуточное пространство» – что внизу, подобно тому, что
вверху, и наоборот. Такова природа отражений…
Приходи в мой сад,
Здесь ты найдешь отдых,
Под нежным лучом раннего солнца
Вспомнишь о далекой стране.
Еще одна возможность промежуточного пространства – возвышать до Страны Любви,
даже пусть пока явленной фрагментарно и потому заведомо или неосознанно иллюзорной.
Так и произошло в случае с Даной. Но когда хоть на некоторое время попадаешь в эту
страну – то из зимней стужи так естественно ступить во владения лета, прямо к Лесному
Королю и его эльфам. Здесь двое мужей, братец Сол с Ричи Черномором относятся к
бродяге Оле, как две бабочки к куколке; стало быть, эти двое свой лабиринт уже некогда
прошли, во всяком случае, промежуточное пространство с его коварными провалами и
водоворотами освоили и постигли в совершенстве, – думается, это адепты. (Тут
напрашивается еще одна аналогия: сам бродяга Оле – куколка – должен относится к
рядовым мидгардцам не иначе как к гусеницам и личинкам!) Совершенные мужи дарят
невесте песню («Если ты хочешь дождаться принца, стань принцессой…») и причащают
бродяг-музыкантов из чаши Святого Грааля – многогранный этот символ средневековой
европейской литературы, прежде всего, связан с идеей поиска мистического Центра (в
легендарном цикле о короле Артуре Грааль должен быть найден наиболее чистым и
жертвенным из рыцарей, дабы расположиться в центре Круглого Стола). Кстати, согласно
М. Элиаде, в охране Центра и заключалась задача лабиринта, «что фактически
подразумевало инициацию в святость, бессмертие и абстрактную реальность, а потому
соответствовало “испытаниям” высшего плана…» (Х. Э. Керлот «Словарь символов»).
Впрочем, о Центре и алхимическом браке мы еще поговорим, а пока Оле с друзьями,
сойдясь в «космической сопричастности», вдруг замечает, что «застолье это тянется на
много миль». Но увы: присутствует на этой свадьбе и печальный клоун Ело – этот
зеркальный двойник Оле, порождение самой двойственности нашего мира. В отраженном
пространстве так и должно быть, даже если оно отражает Страну Любви… Потому-то Ело
глядел на Луну с ее отраженным светом, в то время как Оле причащался от
«неподвижного солнца Любви». Ело – это то в нас, что интуитивно провидит свою судьбу
с возможностью будущей жертвы (архетип бессознательного? вариант шута в колоде
Таро?), в то время как солнечная сторона нашей личности, собственно, сущность, может о
ней на время (вдруг ставшее Вечностью!) забыть.
«Держись за меня, любимая, ничто нас не удерживает в грубом мире, ведь мы покончили
со старыми долгами». То есть сейчас кармические узы распались, ах, если бы не
завязывать новых узлов! Но «этот желанный грот под названием Йони»! И вечно «магнит
притягивает наконечник копья». И случается, что земная любовь – это всего лишь охота
на лисицу…
Таков многоступенчатый язык притчи-сказки Хельги Кашмира; способствующий ее
разночтению, он в то же время настолько образно и символически убедителен, что
местами звучит пророческим Глаголом. «Скачет всадник-время, увлекает нас с собой.
Сегодня мы раздаем свое имущество, но что будет завтра? Наутро проснемся в пустой
комнате, вспоминая о прошедшей радости. И я прибыл в Мидгард, чтобы до краев
наполнить эту чашу, и смыть проклятие жителей песочных замков».
Курц – вот еще одно загадочное существо, плод метафизического мышления автора и
фантазии, полной эзотерических прозрений. Кто он такой, этот Курц? Его, пожалуй, не
объяснишь так просто. О нем всего-то сказано, что проник он в приоткрывшееся
отверстие. Это «когда боевой меч нашел свое влагалище» (еще одна, на редкость смелая,
символико-метафорическая находка!) и «на поверхность проступили капли красной
крови». Но, скажите на милость, была ли на этой земле идеально-праведно счастлива хоть
одна супружеская пара? Но «Королева Снов» не семейный роман, чтобы в подробностях
пересказывать, что конкретно между ними произошло. Притча есть притча, и оперирует
она не событиями повседневности, а скупыми на слова, емкими образными абстракциями
(насколько абстрактно – это уже как автору заблагорассудится). Здесь оказалось
достаточно истины, что акт физической любви – есть, как правило, невидимое начало
конца. И никакой не змей это искуситель, а всего лишь маленький Курц.
Курц – есть чистая идея, вещь-в-себе, ставшая мыслеформой, действие которой
обнаруживается лишь по мере материализации ее в явление другого персонажа. Поэтому
Курц превращается в Лонга. Не о нем ли в седьмой главе: «Враг коварен и особенно
опасен, когда красив». Красив и умен. Охранитель среднего человечества прежде всего и
должен быть здравомыслящ. Его роль в этом мире – воздвигать каменные стены и вечно
захлопывать трансцендентную дверь. А Дана, она плоть от плоти этих стен, в которых
Лонгу так просто устроить-разыграть «ветер» – посеять смятение в сердце Даны. Дальше
в тексте сказано, что «кроме маленького Курца, никто не знает» откуда прилетел этот
ветер. Нужна ли сказке другая психология?
«…Держись за меня, любимая, ничто нас не удерживает в грубом мире, ведь мы
покончили со старыми долгами! Но непонятная метаморфоза произошла с моей любимой.
Как будто свинцом наливается ее естество, я не в силах бороться с притяжением земли…»
И вот выборы, исход которых предрешен в Мидгарде из века в век. Дане также
предлагают сделать выбор; пожалуй, он самый трудный и рискованный – ведь это ей
доверил принц свое хрустальное сердце.
« – Необходимо растормошить спящих, разбросать семена учения, привести в движение
стоячие воды и очистить болото» (из предвыборной программы романтиков).
Тема эта уводит в доисторическую глубь времен: некогда данное жителям земли истинное
знание о мире оказалось не под силу многим, постепенно сделалось внутренним, тайным
(эзотерическим) и пошло неформальным путем. С тех пор профаны и фарисеи правят бал
и время от времени распинают посвященных.
Трансмутация сознания (то, к чему спокон веков подталкивают алхимики, теософы,
адепты оккультных знаний, религиозные подвижники и мистические философы разного
толка), или дары научно-технического прогресса, когда «каждый… сможет слетать на
Луну и на Солнце» – вот предвыборная альтернатива мидгардцев.
Трансмутация (преобразование) – есть достижение алхимическим путем (по аналогии с
металлами) совершенства, выход к Центру, Эдемскому Саду Адама Кадмона, месту вне
пространства и времени – сердцевине человеческого существа, обретшего после долгих
блужданий по лабиринту страстей и иллюзий единство со своей изначальной сущностью.
Алхимическое действо включает в себя, однако, элемент страдания и даже опасность
гибели, – мужской принцип сознания в человеке сталкивается с женским принципом
бессознательного, Логос с Эросом (К. Г. Юнг), а в «Королеве Снов» – это дерзание
романтиков повенчать Сестру Луну и Брата Солнце. Так что, герои нашей сказки не
просто люди, они одновременно некие Универсальные Принципы, лежащие в основании
макро- и микрокосма. Да, сказка Хельги Кашмира еще и об этом.
«От неожиданности хрустальное сердце выскользнуло из рук Даны и, ударившись об пол,
разбилось на мелкие кусочки.
Эх, Дана, Дана, что же ты наделала!»
Вот и настало время печального клоуна Ело. Он ведь лунный, а солнечный его двойник
Оле отправляется на Инис Аваллон (Остров Яблок, «не отмеченный ни на одной
географической карте», где, тем не менее, обрел покой легендарный король Артур в
повествованиях Гальфрида Монмутского, Томаса Мэлори, «Королевских идиллиях»
А.Теннисона и др.) Может быть, просто для передышки? Во всяком случае, миссия его в
Мидгарде окончена: он испил свою чашу до дна.
Мы помним, что в попытке алхимического брака с Даной не выдержала испытаний
женская ее природа. А клоун Ело – это как раз и есть женственная сторона Оле, так
сказать, лунный аспект его Эроса. Если же присмотреться к прощальному концертному
номеру этого «ряженого шута», обнаруживается как бы тройственность (авторская
система зеркал и тут неотразима!) уже самого лунного двойника: в плане физическом
оскорбленный, отчаявшийся человек паясничает над разбитой любовью; в психическом,
или, если угодно, астральном – это надорвавшаяся, срывающаяся в пропасть часть души,
от коей, ежели кинуть взгляд на нее с собственной духовной высоты – следует вовсе
избавиться, т.е. принести ее в жертву. Иначе дверь, открывшаяся на последнем концерте
«могла стать черной дырой».
А Лонг, при всем здравомыслии, даже и не палач, а всего лишь слепое орудие закона
причин и следствий, он тот, через кого это зло-добро совершается. Трансмутация
происходит, как и всегда, только с избранными («…ритуальный танец бродячих артистов
перерос в бешеный круговорот элементов…»), прочие исчезавшие могли оказаться просто
зваными и еще безнадежнее заплутать в лабиринте. Так Мидгард снова погружается в сон.
В повести этой не три, а четыре королевы* (случайна ли эта верность первоначальным
элементам, согласно герметической науке, стоящим в основании мира?). Сей четвертой
становится Дана. Некогда «черный колодец ее глаз» напоминал о Снежной Королеве, да и
всегда будут они пугающими, эти «темные воды Инь» (вода). Соединившись с ней, на
время преодолевает Оле гравитацию – так крылья поднимают в небо Королевы Снов
(воздух). А сама она, будучи им любимой, искупалась в лучах эманаций Королевы Любви
(огонь)… И вот Дана становится Королевой Мидгарда (земля), в правление Лонга
вкушающего, как никогда, от материальных и культурных (с их чисто прикладной ролью
в данном социуме) благ цивилизации.
* Далее следует приблизительная схема лабиринта с его четырьмя возможностями.
Но однажды ее посещает видение из прошлого и… Дана плачет. Она ведь в шикарно
обустроенном лабиринте все та же пленница и еще не раз ей предстоит осознать сие. (Для
Даны «этот цирк» повторится и повторится многократно, что уже невозможно для Оле!)
Сейчас капризная красавица требует разыскать артистов и… своего Принца… Эх, Дана,
Дана, как же ты наивна!
«…Открыл глаза принц, увидел синее небо, белые облака, яркое солнце.
– Вот я и дома, – подумал он.
– На моей планете солдат любви всегда дома, – услышал он дивный голос, который хотел
слышать всегда.
Принц поднял голову и увидел Королеву Любви. Ее обнаженное тело сиянием своим было
Солнцу подобно, принц смотрел на нее, и глаза его способны были вместить в себя весь
свет (курсив – И. К.).
– Принц, постигший природу отражений и дважды погибший за меня, достоин награды.
Принц становится Королем.
…………………………..
И соединился Король со своей Королевой в вечном, неподвластном времени, оргазме».
Так Оле (впрочем, это уже не Оле!) достигает Центра, Страны Любви, Эдемского Сада,
Божественного Истока, Пробуждения, откуда более нет возврата в постылый
человеческий лабиринт с его повторами прерывных состояний, измен и трагедий любви.
(Символика финала, впрочем, опять же допускает разночтение: в аспекте личной истории
это может быть и Смерть, и Путь. Причем, в случае последнего расширившееся сознание
ведет к трансформации начертанных в Небесной Книге понятий Свобода, Любовь,
Верность, а значит, размыванию их узкочеловеческого содержания с опасностью срыва,
профанации и, как следствие, – нового лабиринта...)
Теперь о внешнеизобразительной стороне «королевского» финала-апофеоза в связи с
рецензией в одном из номеров «Яра» за 2003 год «Почему не разбудила “Королева
Снов”?» «…Это уже слепок сакрального ритуала тантристов, соитие Шивы и Шакти», –
пишет автор и напоминает, что «не каждая Дверь ведет к свету, есть и Двери тьмы».
Разумеется, это так… И о сущности Тантры, требующей, насколько я понимаю, не только
теоретической подготовки, но и активного личного опыта, чтобы о ней судить, – спорить
не буду. Но в нашем случае слово «оргазм» несет сугубо сексуальный смысл только вне
организующего фразу конкретного контекста, т.е. без слов «в вечном, неподвластном
времени…» На поэтическую же символику следует глядеть шире и по отношению к идеям
в их художественном обличье соображать творчески: да, речь идет о состоянии
непрерывного экстаза растворения в Любви, способности «вместить в себя весь свет», но
поскольку обычный человеческий опыт аналогов подобному переживанию не имеет, а
язык наш беден, можно предположить, что это Нирвана, Вечное Блаженство, Царство
Небесное… что там есть еще в словаре?.. Ну, а природа художественного творчества
такова, что даже очищенное от поверхностного слоя психической жизни, касаясь
глубоких тайников души и духа, оно не может остаться безобразным и бесполым*. Что же
касается Шакти (активная женская энергия богов в индуизме), то согласно «Теософскому
словарю» Е.П.Б., – она «обладает двоякой природой, белой и черной, доброй и злой».
Так что, кому какая больше нравится…
* Тем более в отображении трансцендентального. «Доступные человеку мистические
состояния обнаруживают удивительную связь между мистическими переживаниями и
переживаниями пола», – читаем в книге П. Д. Успенского «Новая модель Вселенной».
Статья эта отнюдь не исчерпывает загадочного содержания сказки Хельги Кашмира,
однако рискну заявить, что перед нами произведение, энергетика которого перехлестнула
за рамки чистой словесности, а многоликий постмодерн еще раз проявил свою
нефиксированную природу и доказал возможность жизнедеятельности в своих формах
любой традиции, на этот раз символико-романтической.
Творческий метод, отражая авторское мировоззрение, соответственно определяет поэтику
и жанровые особенности литературного феномена. Попытаемся разобраться в них.
Итак, перед нами мистерия, потому что заключает в себе инициацию в таинство жизни и
смерти. Притча (как уже было отмечено), ибо ее аллегории содержат элемент
нравственно-философской науки (я думаю, что несправедливо будет пенять автору на
некоторую назидательность итоговой главы, он ведь и так слишком многое зашифровал в
своем тексте, так что она только компенсирует присущую отдельным местам суггестию).
Наконец, специфика сказки с ее волшебной фабулой и условностью описательной
фактуры – вне привязки к современному антуражу. Впрочем, последнее присуще как
сказке, так и притче: действие их может разворачиваться в любом времени, а такие
конкретноисторические атрибуты как аппаратура, рок-подмостки, Ричи Черномор
(Блэкмор?) разве что выдают авторское пристрастие именно в этом направлении. Зато
Королева Мидгарда в «Главе 13» совершает свой парадный выезд в карете – прием
умышленного смешения временных реалий, в данном случае, уместная
кинематографическая подсказка: «Покаяние» Т. Абуладзе, кстати, тоже фильм-притча.
Четвертую ипостась этой вещи с мощнейшей энергетической заряженностью почти что
каждой строки (стиха?), при том, что концентрат этот местами переходит в состояние
эфирной эссенции, – я назвала бы психоделической поэмой, ибо она «имеющих уши», что
называется «цепляет» за живое, а кое-кого может уже и не отпустить никогда. Так что я
бы опять же поостереглась разбирать оное действо с позиции элементарного
прозаического жанра и предъявлять ему соответствующие требования житейской логики
поведения героев, бытовых подробностей и пр.
Эти четыре взаимопроникающие ипостаси «Королевы Снов» вплотную подводят к ее
генезису, т. е. нелишним будет назвать литературные источники, подпитавшие, на наш
взгляд, произрастание сказки-лабиринта.
Прежде всего, ранний немецкий романтизм – «магический идеализм» Новалиса,
универсализм, движение «живого космоса» души у Гельдерлина, к тому же, пантеизм
миросозерцания обоих. А частые поэтические вставки – рифмованные (их некоторое
несовершенство вполне оправдано авторством бродячего певца) и достаточно
«поставленные», иногда мастерские, верлибры – причастность к этой традиции только
подтверждают.
Другое ответвление романтизма, соприкасающееся с «Королевой Снов», – это сказочная
феерия и карнавал, такие произведения как «Золотой горшок» и «Принцесса Брамбилла»
Гофмана или «Фея Хлебных Крошек» Ш. Нодье. От «Золотого горшка», несущего кроме
того алхимическую идею, мостки перекидываются, с одной стороны, в какой-нибудь XVII
век – к «Химической Свадьбе Христиана Розенкрейца в году 1459» Иоганна Валентина
Андреа, или к автору «Графа де Габалиса» Монфокону де Виллару (попутно припомним
рассказ «Сильфида» русского романтика В. Одоевского); с другой – алхимические романы
ХХ века – «Голлем» и «Ангел Западного окна» Г. Майринка. Ну а коснувшись традиций
феерии и карнавала, как не вспомнить нашего А. Грина!
Эстетика и лексика романтизма в «Королеве Снов» органически вплетена в структуру
современной притчи, восходящей к «Маленькому принцу» А. де Сент-Экзюпери,
произведению для любого возраста. В этой связи можно вспомнить также «Чайку по
имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, а заодно и «Алхимик» П. Коэльо, вещи, хотя
и лишенные глубины «Принца», однако ныне широко раскрученные…
Какие еще могли быть влияния?.. Конечно, русский символизм. Конечно же, Дж. Р. Р.
Толкин. Отчасти Л. Кэрролл.
Влияние, однако, не есть заимствование, оно характерно общим духом, а не конкретной
буквой. И прямого аналога «Королеве Снов» в обозримом литературном ареале пожалуй
что не найти. Произведение это независимо и, в определенном смысле, уникально.
Слышится в нем и многое такое, что способен объяснить разве что сам автор, а, может, и
не нужны дополнительные слова и комментарии: просто каждый прочтет свое, обнаружит
свою «дверь», услышит свою музыку… Важнее здесь то, что моменты субъективного (а
для читателя потенциально субъективного) характера органически растворены в
космическом целом (как общем, так и индивидуально-личном), чего, к сожалению, не
достает большинству произведений современной литературы. Даже самые недостатки
(некоторые
стилистические,
возможно,
нарочитые
шероховатости,
местами
неприхотливость лексики или такой вот двусмысленный стеб, смахивающий на ляпсус:
«…муж от первого брака») только способствуют выявлению главных достоинств:
частности не отвлекают от целого и, дай Бог, не помешают иному эстетски придирчивому
гурману за явлением различить сущность. Одним словом, как признался однажды Ф.
Гельдерлин: «Для меня оригинальность – это внутренняя сосредоточенность, глубина
сердца и духа». Похоже, создатель «Королевы Снов» в своем мироощущении той же
природы. Впрочем… «пока этот цирк не уехал, приходится играть роль клоуна».
Ну, держись, славный Мидгард! Компания бродячих циркачей уже здесь, и представление
только начинается!
2003
СЕВЕР
Пролог
SAIL AWAY
Хмурым осенним утром бродил я аллеями городского парка. На небе клубились
тучи, огненно-желтые кроны деревьев шелестели над головой, а шалун-ветер то и дело
норовил залезть ко мне под плащ или, на худой конец, сорвать шляпу. По всем признакам
приближался сильный дождь, однако я, рискуя промокнуть, совсем не спешил покинуть
парк. Дело в том, что идти мне было некуда. Идти некуда, терять нечего.
Через несколько минут парк совершенно опустел, только что последний прохожий
промчался мимо меня и скрылся за поворотом. Никому не хотелось мокнуть под
проливным дождем, по крайней мере, из тех, кого я видел в этом парке. И только мне
было на все наплевать. Наплевать на дождь, на лужи, на промокшие ноги, наплевать на
простуду, способную вызвать опасные для жизни последствия, наплевать на все, потому
как пребывал я в состоянии перманентной апатии.
Болезнь эта проявилась у меня не так давно, однако корни ее уходят в глубокое
детство.
Когда я был маленьким, я очень любил красивые игрушки. И если какая-нибудь
вещица привлекала мой взор, будь то: прозрачный шар, фосфорический лебедь или
мигающие часы, – я делал все возможное, чтобы завладеть ею. Я выменивал ее на марки,
значки, деньги и прочую дребедень, а иногда мог прибегнуть и к постыдному воровству.
Когда же я немного подрос, и, как и все, стал считать себя взрослым, я обзавелся
вещью, увенчавшей мою страсть к игрушкам. Это был прозрачный шар, внутри которого
плавал фосфорический лебедь, а внизу находились мигающие часы. У лебедя я учился
парить в облаках, но иногда забывал о часах. А они, знай себе, отсчитывали время, –
время моего обладания шаром. И в один прекрасный день его у меня отобрали. С тех пор
я и погрузился в океан апатии.
А дождь между тем разошелся не на шутку. Он долго собирал силы, стягивая тучи в
одно место, – и вот, наконец, разверзлись хляби небесные. В один момент одежда моя
насквозь промокла.
Башмаки чавкали на каждом шагу, однако стена дождя заставила меня остановиться.
Вокруг не видать было ни зги. Но что это? В летящей сверху вниз воде я стал различать
какие-то изображения. Вообще-то это были перемешанные обрывки, фрагменты
различных предметов, людей, домов и пейзажей. В одной капле помещался фрагмент
чьего-то лица, чьи-то глаза, в другой – старое кресло, затем ноги, обутые в футбольные
бутсы, неоновая реклама гастронома «Стрела», расчехленная гитара, узор паркетного
пола, крутящиеся бобины на магнитофоне «Маяк-203», заснеженная вершина горы, кратер
на обратной стороне Луны, парящая высоко в небе птица, большая морская ракушка,
движущаяся точка на Млечном Пути, вертящееся колесо удачи в луна-парке, ворона в
черном капюшоне, узкая полоска белой воды за кормой корабля... Мелькающие перед
глазами разрозненные стеклышки калейдоскопа, способные сложиться так или иначе.
Достигнув поверхности земли, капли дождя соединялись в потоки воды и,
смешиваясь с твердыми элементами почвы, устремлялись в разные стороны. Один из
таких потоков занялся непосредственно мной, в частности, моими ногами, – благо, что
шузы оказались крепкими.
Я с интересом наблюдал за бурлящей водной стихией, уносящей прочь спичечные
коробки, щепки и сигаретные окурки, красные и желтые листики.
«Никто мне не ответит, – сказал я, – куда плывут эти листики. Вот бы и мне
уподобиться листику, красному или желтому».
А между прочим водяной уже пробовал залезть ко мне в башмаки.
«Да это настоящий потоп», – мелькнуло в голове.
И тут я вспомнил про зонтик.
Раскрыв черную полусферу, я опустил ее на волнующуюся поверхность. Запрыгнул
в середину, и, оттолкнувшись от земли, отдался на волю течения.
Если в пустынном океане
тебе пришлось лечь в дрейф,
Если нет того ветра,
который бы наполнил паруса,
Если, отправившись на поиски Грааля,
ты утратил то, что имел,
Если ты не видишь того заповедного места,
куда стоило бы плыть, –
Взгляни на воду, оставшуюся за кормой,
Взгляни на воду под килем, – там твое отражение.
Уплывай прочь немедленно,
Уплывай далеко-далеко,
Чтобы найти его, вспомнить, вернуть,
Уплывай прочь скорее,
Уплывай хотя бы на зонтике...
Глава 1
Ол Крокус и его семьЯ
– Олли, подъем! – сквозь сладкий утренний сон слышу я голос Ра. А это значит, что
ночное путешествие закончилось, и пора продирать глаза, вставать и собираться в школу.
Я еще раз окунулся в теплые воды уходящего сна, раскрыл глаза, несколько раз
потянулся, и, наконец, спрыгнул с кровати. Выглянул в окно и… обомлел. За ночь
насыпалась такая уймища снегу, что, казалось, белый цвет вобрал в себя весь мир. В этот
ранний час людей на улице почти не было, а значит не было еще суеты. И душу каждого,
кто прикасался к природе умиротворением окутывала снежная белизна…
Однако нужно было собираться, чтобы не опоздать в школу, – а чего я по жизни не
люблю, так это опаздывать, – и я отправился совершать утренний туалет.
За пределами спальни уже бурно кипела жизнь. Родители мои: Джо и Ра –
собирались на работу, а сестра Кларисса – в школу.
– Вопрос на засыпку, – сказал Джо, когда все собрались в столовой за завтраком.
Это в порядке вещей. Задавать вопросы Джо любит, и даже его работа соответствует
этому. Мой отец Джо Марский работает детективом в агентстве под названием «Вера в
возрождение чистых вод» – забавное название, не правда ли?
– Без чего не может, – спросил Джо, – жить человек? Кроме, конечно, свежего
воздуха, чистой воды, здоровой и вкусной пищи.
– Без Солнца, – сказала Ра.
– Без любви, – сказала Кларисса.
– Без веселья, – сказал я.
– Короче говоря, – подвел итог Джо, – каждая лягушка свое болото хвалит.
Я с ним полностью согласен. Дело в том, что Ра работает сестрой милосердия в
Кабинете функциональной диагностики, где наблюдает сердца жителей Унгвара. И
параллельно с этим работники Кабинета ведут наблюдение за деятельностью сердца
Солнца. Таким образом изучается воздействие ближайшего к нам светила на наши сердца.
А вот Кларисса. Она сейчас учится в 7-м классе, – в этом возрасте, как известно,
начинает просыпается женщина. А что такое женщина без любви? Это рыба без воды.
Лягушка без болота.
Что же касается меня, Ола Марского, то я… Впрочем, что значит я? Есть большое Я
и есть я маленькое! Так вот, мое я состоит из семи ипостасей, или, говоря математическим
языком, мое большое Я дифференцируется на семь маленьких я.
Первое я принадлежит той семье, к которой принадлежит Ол Марский. Незримые
красные нити соединяют всех Марских, когда-то очень давно, еще задолго до сооружения
Сфинкса прилетевших откуда-то с Марса, и с тех пор живущих на Земле. Мое первое я
относится к единой энергетической системе Марса.
Второе я учится в школе, в 6-А классе, где оно более известно под именами Марс и
Крокус. Шесть раз в неделю оно просыпается в пол-восьмого утра и приводит мои мозги в
состояние, соответствующее школьной программе. Оно связано с информационным полем
ОМ – отсюда те знания, что неоднократно удивляли учителей и прочих взрослых.
Особой милостью моего второго я среди школьных предметов пользуются история и
география. Впрочем, дружит оно также и с математикой, но эта сухая старая дама с
очками на носу и указкой в руке иногда нагоняет такую скуку, что приходится убегать в
другую систему координат. Вот тут-то мне на помощь и приходит вектор веселья, и я
оказываюсь или в зале, где во всю глотку орет магнитофон, а вокруг него топчется
множество девочек и мальчиков; или на хоккейной площадке, где с клюшками в руках и
азартом в крови мы отстаиваем интересы «Людей Севера»; или же на страницах
очередного попавшего мне в руки приключенческого романа, где корабль уносит нас в
неведомое море и с головой погружает в дух захватывающие авантюры.
В силу особенностей возраста в школе приходится проводить мне значительную
часть времени, о чем я впрочем нисколько не жалею, потому что школа у нас довольно
веселая, и много интересного происходит в ее стенах.
Но между моим домом и школой я всегда прохожу через двор. И третья
составляющая моего Я обитает именно здесь, в этом дворе. Густонаселенный
стоквартирный, выплескивая наружу и переплетая мысли, чувства и желания
многочисленных своих жильцов, превращает двор в единый жизненный организм. Мое
третье я постоянно участвует во всевозможных акциях, игрищах и склоках, которыми
живет наш двор. Есть здесь свои обычаи и достопримечательности, свои авторитеты и
возмутители спокойствия.
Ипостаси мои чередуются в зависимости от того, где я нахожусь – дома, в школе, во
дворе, или же дополняют друг друга, как, например, во время приготовления уроков, то
есть когда я дома готовлюсь к школе, или когда Джо экзаменует меня по некоторым
вопросам межпланетной политики, – тогда первое я сочетается с я вторым.
Когда я читаю интересную книгу – а неинтересных я стараюсь не читать, – на
авансцену выходит четвертое мое я. В этой ипостаси я уже был участником англо-бурской
войны, оказывался во Франции XVII века, вместе с отпетыми мошенниками отправлялся
на поиски сокровищ, попадал в круговорот флибустьерских разборок… Происходило это
только в воображении? Как сказать. После одной потасовки на Тортуге у меня осталось
весьма красноречивое свидетельство реальности происходящего – диагональный
сабельный шрам в области живота… Да, иной раз я попадал в опаснейшие переделки, и
если бы ни свойственная мне бодрость духа, то вполне можно было забыть, кто я, и
больше не отыскать дорогу домой.
Впрочем, книга – это не единственный способ путешествовать во времени и
пространстве. Помимо маленьких черненьких буковок проводниками служат мне также
семь духов, известных как семь нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. У каждого из них свой
особенный голос, а когда они начинают петь вместе, то, как правило, вызывают к жизни
пятое мое я. Многое, конечно, зависит от того, ЧТО они поют, то есть от репертуара, и
если он мне не по душе, то пятое я тут же опять отправляется спать. Но если же контакт
установлен, то события развиваются с головокружительной быстротой. Волна созвучий
подхватывает меня и опускает в затягивающую воронку, а дальше… А дальше
происходит все, что угодно, вплоть до самого невероятного.
Нам крупно повезло на Венере,
Нам всегда весело на Марсе,
Встречаемся с разными прикольными персонажами.
Мы пропахали на ракете весь Млечный Путь,
Мы кружились с северным ветром Бореем,
Мы – в космическом путешествии вокруг звезд!
Помнишь, когда мы отправились на Луну,
И Вадик Джаз прокладывал путь,
Мы направлялись к лунной станции Дагда,
И каждый клерк танцевал и кружился,
Мы услышали музыку Солнечной системы
В космическом путешествии вокруг звезд.
Комета, которую мы оседлали, неслась как угорелая,
Но теперь у нас есть новая тачка,
Да, именно так! – сказали чудики-уродцы,
Мужик, эти парни умеют веселиться!
Они слышат музыку Солнечной системы,
Они на ракете облетели весь Млечный Путь,
Они кружились с северным ветром Бореем,
Они отправляются в космическое путешествие каждый день!
На крыльях Борея прилетает в наш город зима, и тогда, благодаря Деду Морозу,
двор наш превращается в хоккейную площадку. Снимаются с гвоздя коньки, из пыльного
чулана извлекается клюшка, и Ол Крокус становится участником ледовых баталий.
Шестое я – это иногда вратарь, иногда защитник, а иногда и правый край нападения
хоккейной команды «Люди Севера», – в нем страсть доведена до высшего предела, до
точки кипения.
Вот вкратце о шести я, составляющих внутреннее существо Ола Марского. Но есть
еще седьмое я, и хотя о нем у меня весьма смутное представление, тем не менее я
чувствую, что оно всегда со мной. И вот сегодня утром я вспомнил о нем, когда Джо
прочитал стихи:
Старый, верный Вяйнямёйнен,
Все шесть зерен вынимает,
Семь семян берет рукою…
…и я задумался над тем, как из шести зерен получается семь семян?
– Любовь, Солнце, веселье, – продолжал философствовать Джо, – все это, конечно,
красиво звучит, и все-то оно правильно… да вот только слишком неопределенно.
– Что же тут неопределенного? – удивилась Ра.
– Ну вот ты говоришь: Солнце. А что сие значит? Звезда, огненный шар или что-то
другое?
– Это то, что несет нам свет и тепло. Без чего и невозможно жить. Разве не так?
– Так-то оно так, – согласился Джо, – но и Солнце может палить так нещадно, что и
земля и люди превращаются в сплошную сахару, тепло может превратиться в жар, а свет
способен ослепить. И тогда Солнце убивает жизнь.
– Ну а любовь разве может убивать? – спросила Кларисса.
– Еще как. Сколько известно самоубийств из-за несчастной любви, убийств на почве
ревности. А сейчас у нас по этой части имеется такое дело: один человечек так сильно
любил, что убил свою любовницу от одной только любви, даже не из ревности.
– У попа была собака, он ее любил, она съела кусок мяса, он ее убил, – вставил свои
пять копеек я.
– Значит, это была ненастоящая любовь, – не согласилась Кларисса.
– Вот! – воскликнул Джо. – Поэтому я и говорю, что ответ неопределенный. Нужно
что-то еще, чтобы наполнить и Солнце и любовь положительным содержанием.
– А как же веселье? – выкрикнул я.
– Веселье?.. – задумался Джо. – Слишком уж это по-детски… А впрочем…
– А впрочем, пора на работу, – глядя на часы, сказала Ра, подводя итог столь
содержательной беседе.
Таким образом, мысль Джо Марского оборвалась на полуслове. Но я думаю, Джо
хотел сказать: устами младенца истина глаголет.
Глава 2
Наша школа
Второе мое я учится в школе, в 6-А классе, где оно более известно под именами
Марс или Крокус. Почему Марс – понятно без объяснений, а вот прозвище Крокус
происходит от имени Ол: Ол – Олли – Аллигатор – Крокодил – Крокус, – какая длинная
цепочка!
Наша школа размещается в большом четырехэтажном здании. Сооружение довольно
старое, однако привидений в нем не водится. Те, как известно, любят тишину, а в нашей
школе порой стоит невообразимый шум.
Когда-то я был пчелой, и могу сказать, что в улье гул все-таки потише, чем в нашей
школе во время перемены. Шум этот производят постоянно движущиеся и галдящие
разнокалиберные школяры. Облеченная в униформу мелкота, пестрые как попугаи
ученики средних классов и важные неторопливые старшеклассники вверх-вниз скользят
по лестницам и снуют туда-сюда по коридорам.
Учиться в нашей школе весело и интересно, и это во многом благодаря директору
школы Фердинанду Правдину………………………………………………………………….
ЧЕЛОВЕК-АФЕДРОН
В скитаниях часто встречаешь на своём пути различные предметы, достойные
кунсткамеры. На одном раздорожье увидел я человека, чья физиономия была не видна за
густой щетиной. Блуждая в тумане, я не стал пристально всматриваться, но пошёл рядом с
ним.
Однако, проведя с сим субъектом короткое время, я стал ощущать всё усиливающийся
специфический запах, исходивший из его рта, в коем зубов не было, из-за чего и звуки он
издавал нечленораздельные. Я заметил, что звуки эти напоминают работу
пищеварительного тракта, и заподозрил, что природа запаха коренится именно здесь.
Подозрения мои подтвердились, когда как-то утром я застал его с бритвенными
принадлежностями в руках. Щетина больше не скрывала его оголённой физиономии,
которая являла собой не что иное, как … афедрон.
Первым делом я хотел поскорее убежать, но страсть исследователя удержала меня на
месте. Раз афедрон у этого индивидуума находится там, где у других людей положено
быть лицу, то может быть и лицо у него на месте афедрона?
И я пустился на хитрость, предложив ему искупаться в речке, что пробегала рядом.
Попутчик мой не стал возражать, но когда он сбросил прикрывавшую его одежду, я
изумился ещё больше. Ибо он представлял собой перманентный афедрон. С какой
стороны я не подходил, отовсюду на меня смотрела одна и та же дыра.
Тьфу ты, что за напасть! Размахнувшись посильней, я пнул эту жопу ногой, и она
покатилась по дороге в кунсткамеру, напоследок ещё раз отравив атмосферу своим
природным зловонием.
БРОДЯЧИЙ МУЗЫКАНТ
Когда он приходит на нашу улицу,
собаки поднимают радостный лай.
В руках у него гитара,
за плечами котомка со всякой всячиной,
а в сердце –
незаходящее солнце.
Лёгкий ветерок проносится по округе,
и тогда открываются окна.
Лёгкий ветерок извлекает нас из клеток,
и зверьё из нор.
Мы пляшем под его музыку,
образуя хоровод прикольных зверьков,
мы порхаем как бабочки,
мы дружим с пчёлами,
питаемся цветочным нектаром…
Когда он приходит на нашу улицу,
даже коты прекращают кричать.
Наш маленький мир
становится вдруг беспредельным,
когда его пальцы касаются струн.
Бурный поток разноцветных звуков
подхватывает нас,
растворяя в себе,
и неудержимо несёт далеко-далеко…
Туда, где за семью печатями
скрывается он,
источник вечного импульса.
Удар по струнам,
и я уже слышу,
ещё удар,
и я уже вижу,
как он бурлит глубоко внутри,
поднимаясь наверх
животворящим ключом,
выплёскиваясь вовне
добронесущим ключом.
И весь мир наполняется живой водой,
когда его пальцы касаются струн.
Но вот затянуло небо, и пошёл дождь –
это тихо плачет его гитара,
рассыпая гирлянды звуков на наши головы,
и нежные капли на сухую землю.
Когда плачет его гитара,
всё вокруг меняет свой вид:
зацветают деревья,
оживают цветы,
новые краски проступают сквозь серость.
И всего лишь одна маленькая гитара
становится многоголосым оркестром,
играющим симфонию до-минор.
А мы стоим под проливным дождём,
слушая музыку грусти
внутри себя…
Когда плачет его гитара,
всё вокруг меняет свой вид.
Настал черёд весёлого аккорда,
и солнце выпрыгнуло из его гитары.
Светло, солнечно и весело
пелось о любви
в этот бескрайний летний день.
Голос его поднимался всё выше,
и мы резвились в лучах песни,
как в тёплых волнах южного моря,
являя собой
большую семью детей,
мужей и жён, сохранивших невинность,
ласковых и нежных зверей,
не отличающих любви от свободы.
Сверкающий золотой шар плыл по небесному своду,
победоносно освещая закоулки покорённого времени.
И этот шар выпрыгнул из гитары бродячего музыканта,
когда настал черёд весёлого аккорда.
Ну а когда приходит ночь,
он достаёт из котомки кларнет,
и чарующая мелодия
погружает нас в сон.
Стрекотание маленьких певцов,
приходящее из травы,
уводит в путешествие по стране дремучих трав,
где мы встречаемся
с жуками и осами,
пауками и богомолами.
И в каждом из них узнаём себя.
Но сколько бы не длился сон,
мы помним,
что в один прекрасный миг
проснёмся
от удара по струнам гитары бродячего музыканта.
Когда он приходит на нашу улицу,
собаки поднимают радостный лай,
и даже ночью –
нам не страшно…