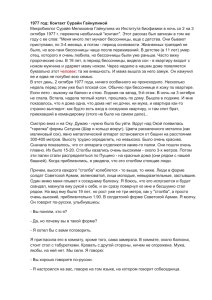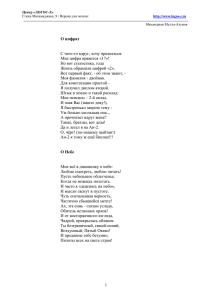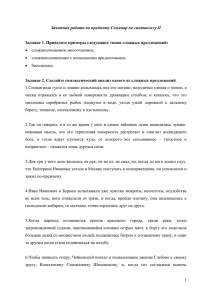антон павлович чехов
advertisement
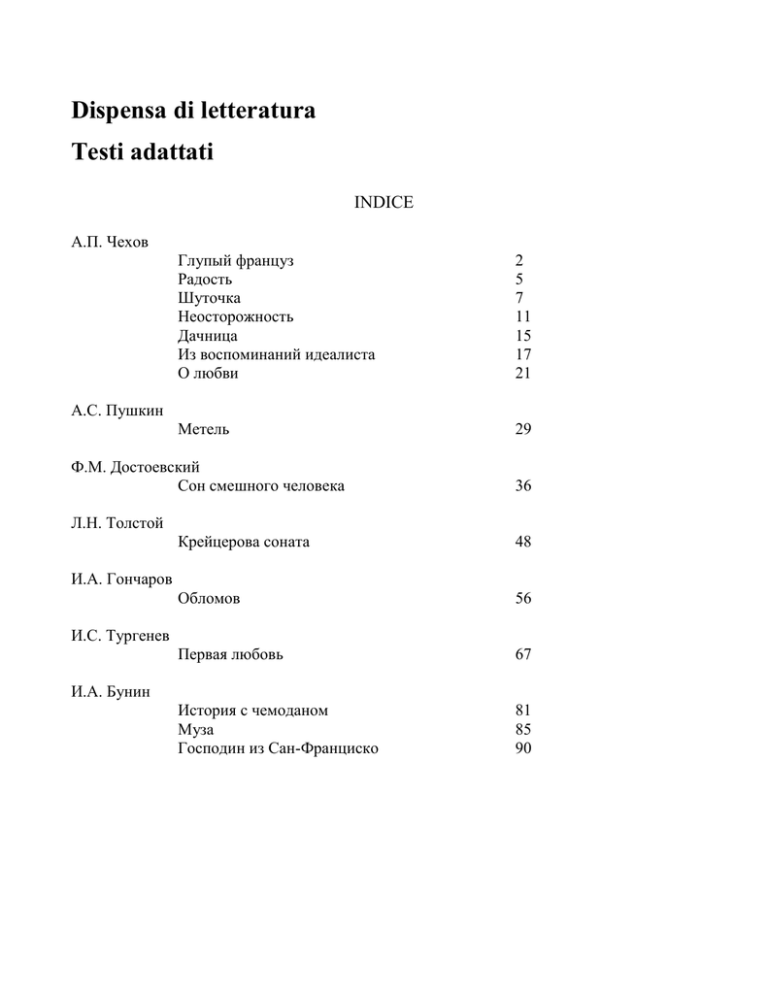
Dispensa di letteratura Testi adattati INDICE А.П. Чехов Глупый француз Радость Шуточка Неосторожность Дачница Из воспоминаний идеалиста О любви 2 5 7 11 15 17 21 Метель 29 Ф.М. Достоевский Сон смешного человека 36 А.С. Пушкин Л.Н. Толстой Крейцерова соната 48 Обломов 56 Первая любовь 67 История с чемоданом Муза Господин из Сан-Франциско 81 85 90 И.А. Гончаров И.С. Тургенев И.А. Бунин Testo n. 1 (3 рp.) Антон Павлович Чехов Глупый француз Клоун из цирка братьев Гинц, Генри Пуркуа, зашёл в московский трактир позавтракать. — Дайте мне консоме! — приказал он половому. — Прикажете с паштетом или без паштета? — Нет, с паштетом слишком сытно... Две-три гренки, пожалуй, дайте... В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа занялся наблюдением. Первое, что он заметил, был какой-то полный господин, сидевший за соседним столом и готовившийся есть блины. "Как много подают в русских ресторанах! — подумал француз, глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. — Пять блинов! Разве один человек может съесть так много теста?" Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил быстрее, чем за пять минут... — Человек! — обернулся он к половому. — Принеси ещё порцию! Да что у вас за порции такие? Принеси сразу штук десять или пятнадцать! И дай сёмги! "Странно... — подумал Пуркуа, рассматривая соседа. — Съел пять кусков теста и ещё просит! Впрочем, такие феномены не составляют редкости... У меня у самого был дядя Франсуа, который на спор съедал две тарелки супа и пять бараньих котлет... Говорят, что есть также болезни, когда много едят..." Половой поставил перед соседом гору блинов и тарелку с сёмгой. Господин выпил рюмку водки, закусил сёмгой и начал есть блины. К великому удивлению Пуркуа, ел он их спеша, как голодный... "Очевидно, болен... — подумал француз. — И неужели он, чудак, воображает, что съест всю эту гору? Не съест и трёх кусков, как его желудок будет уже полон, а ведь придётся платить за всю гору!" — Дай ещё икры! — крикнул сосед, вытирая салфеткой жирные губы. — Не забудь зелёного лука! 2 "Но... однако, уже половины горы нет! — ужаснулся клоун. — Боже мой, он и всю сёмгу съел? Это даже неестественно... Неужели человеческий желудок так растяжим? Не может быть! Если бы этот господин был у нас во Франции, его показывали бы за деньги... Боже, уже нет горы!" — Принеси бутылку Нюи... — сказал сосед, принимая от полового икру и лук.— Только погрей сначала... Что ещё? Дай ещё порцию блинов... Поскорее только... — Слушаю... А после блинов? — Что-нибудь полегче... Порцию селянки из осетрины по-русски и... и... Я подумаю, иди! "Может быть, это мне снится? — удивился клоун.— Этот человек хочет умереть. Нельзя безнаказанно съесть такую массу. Да, да, он хочет умереть! Это видно по его грустному лицу. И неужели прислуге не кажется подозрительным, что он так много ест? Не может быть!" Пуркуа подозвал к себе полового, который служил у соседнего стола, и спросил шёпотом: — Послушайте, зачем вы так много ему подаёте? — То есть, э... э... он заказывает! Как же я могу не подавать? — удивился половой. — Странно, но ведь он может до вечера сидеть здесь и требовать! Если у вас не хватает смелости отказать ему, то доложите метрдотелю, пригласите полицию! Половой ничего не ответил и отошёл. "Дикари! — возмутился про себя француз.— Они ещё рады, что за столом сидит сумасшедший, самоубийца, который может съесть на лишний рубль! Ничего, что умрёт человек, главное выручка!" — Что за порядки! — проворчал сосед, обращаясь к французу. — Меня ужасно раздражают эти длинные антракты! От порции до порции надо ждать полчаса! Так и аппетит пропадёт к черту и опоздаешь... Сейчас три часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде. — Pardon, monsieur, — побледнел Пуркуа, — ведь вы уже обедаете! — Не-ет... Какой же это обед? Это завтрак... блины... Тут соседу принесли селянку. Он налил себе полную тарелку, поперчил кайенским перцем и стал есть... "Бедняга... — продолжал ужасаться француз. — Или он болен и не 3 замечает своего опасного состояния, или же он делает всё это нарочно... с целью самоубийства... Боже мой, если бы я знал, что увижу здесь такую картину, то ни за что бы не пришёл сюда! Мои нервы не выносят таких сцен!" И француз с сожалением стал рассматривать лицо соседа, каждую минуту ожидая, что вот-вот начнутся у него судороги, какие всегда бывали у дяди Франсуа после опасного пари... "Человек интеллигентный, молодой... полный сил... — думал он. — Быть может, приносит пользу своему отечеству... и возможно, что имеет молодую жену, детей... Он должен быть богат, доволен... но что же заставляет его решиться на такой шаг?.. И неужели он не мог выбрать другого способа, чтобы умереть? Чёрт знает, как дёшево ценится жизнь! И как низок, бесчеловечен я, сидя здесь и не идя к нему на помощь! Быть может, его ещё можно спасти!" Пуркуа решительно встал из-за стола и подошёл к соседу. — Послушайте, monsieur, — обратился он к нему тихим голосом. — Я не знаком с Вами, но тем не менее, верьте, я друг Ваш... Не могу ли я Вам помочь чем-нибудь? Вспомните, Вы ещё молоды... у вас жена, дети... — Я Вас не понимаю! — удивлённо посмотрел на француза сосед. — Ах, зачем скрывать, monsieur? Ведь я отлично вижу! Вы так много едите, что... трудно не подозревать... — Я много ем?! — удивился сосед. — Я?!.. Да я с самого утра ничего не ел? — Но Вы ужасно много едите! — Да ведь Вы же не должны платить! Что Вы беспокоитесь? И вовсе я не много ем! Посмотрите, ем, как все! Пуркуа поглядел вокруг себя и ужаснулся. Половые, толкаясь, носили целые горы блинов... За столами сидели люди и съедали горы блинов, сёмгу, икру... с таким же аппетитом, как и благообразный господин. "О, страна чудес! — думал Пуркуа, выходя из ресторана. — Не только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О, страна, чудная страна!" 1886 4 половой – официант селянка – разновидность супа Что за порядки! – Какой плохой сервис! Testo n. 2 (2 p.) Антон Павлович Чехов Радость Было двенадцать часов ночи. Митя Кулдаров, возбуждённый, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа. Братья-гимназисты спали. — Откуда ты? — удивились родители. — Что с тобой? — Ох, не спрашивайте! Я никак не ожидал! Нет, я никак не ожидал! Это... это даже невероятно! Митя засмеялся и сел в кресло, не держась на ногах от счастья. — Это невероятно! Вы не можете себе представить! Вы посмотрите! Сестра спрыгнула с кровати и, накинув на себя одеяло, подошла к брату. Гимназисты проснулись. — Что с тобой? — Какая радость, мама! Ведь теперь меня знает вся Россия! Вся! Раньше только вы одни знали, что на этом свете существует Дмитрий Кулдаров, а теперь вся Россия знает об этом! О, господи! Митя вскочил, побегал по всем комнатам и опять сел. — Да что такое случилось? Говори! 5 — Вы живёте, как дикие звери, газет не читаете, не обращаете никакого внимания на гласность, а в газетах так много замечательного! Если что-то случится, сейчас же всё становится известно, ничего не спрячется! Как я счастлив! О, господи! Ведь только про знаменитых людей в газетах печатают, а тут про меня напечатали! — Что ты? Где? Отец побледнел. Мать взглянула на образ и перекрестилась. Гимназисты вскочили и, как были, в одних коротких ночных рубашках, подошли к своему старшему брату. — Да! Про меня напечатали! Теперь обо мне вся Россия знает! Вы, мама, спрячьте этот номер на память! Будем читать иногда. Посмотрите! Митя вытащил из кармана номер газеты, подал отцу и ткнул пальцем в место, обведённое синим карандашом. — Читайте! Отец надел очки. — Читайте же! Мать взглянула на образ и перекрестилась. Отец кашлянул и начал читать: «29-го декабря, в одиннадцать часов вечера, гражданин Дмитрий Кулдаров... — Видите, видите? Дальше! ...гражданин Дмитрий Кулдаров, выходя из дома на Малой Бронной и находясь в нетрезвом состоянии... — Это я с Семёном Петровичем... Всё до деталей описано! Продолжайте! Дальше! Слушайте! ...и находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина Ивана Дротова. Испуганная лошадь перешагнула через Кулдарова и протащила через него сани с находившимся в них московским купцом Степаном Луковым, а потом помчалась по улице и была остановлена дворниками. Кулдарова, который вначале находился в бесчувственном состоянии, отвели в полицию и показали врачу. Удар, который он получил по затылку... — Это я об оглоблю ударился. Дальше! Вы дальше читайте! 6 ...который он получил по затылку, был лёгким. О случившемся составлен протокол. Потерпевшему оказана медицинская помощь»... — Сказали затылок холодной водой мочить. Прочитали теперь? А? То-то! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда! Митя схватил газету, сложил её и сунул в карман. — Побегу к Макаровым, им покажу... Надо ещё Иваницким показать, Наталии Ивановне, Анисиму Васильичу... Побегу! Прощайте! Митя надел фуражку и, торжествующий, радостный, выбежал на улицу. 1883 О, господи! – Oddio! образ – икона находиться в нетрезвом состоянии – быть пьяным Testo n. 3 ( 4 рp.) Антон Павлович Чехов Шуточка Ясный, зимний полдень... Мороз крепкий, трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрываются серебристым инеем кудри и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе. От наших ног до самой земли тянется вниз горка, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки. — Съедем вниз, Надежда Петровна! — умоляю я. — Один только раз! Уверяю вас, мы останемся целы и невредимы. Но Наденька боится. Всё пространство от её маленьких ног до конца ледяной горы кажется ей страшной, глубокой пропастью. У неё прерывается дыхание, когда она 7 смотрит вниз, когда я только предлагаю сесть в санки, но что же будет, если она рискнет полететь в пропасть! Она умрёт, сойдет с ума. — Умоляю вас! — говорю я. — Не надо бояться! Поймите же, это малодушие, трусость! Наденька наконец уступает, и я по лицу вижу, что она уступает с опасностью для жизни. Я сажаю её, бледную, дрожащую, в санки, обнимаю рукой и вместе с ней лечу в бездну. Воздух бьёт в лицо, ревёт, свистит в ушах, хочет сорвать с плеч голову. От ветра нет сил дышать. Кажется, сам дьявол обхватил нас лапами и с рёвом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную бегущую полосу... Вот-вот ещё мгновение, и кажется — мы погибнем! — Я люблю вас, Надя! — говорю я вполголоса. Санки начинают бежать всё тише и тише, рёв ветра уже не так страшен, дыхание перестаёт замирать, и мы наконец внизу. Наденька ни жива ни мертва. Она бледна, едва дышит... Я помогаю ей подняться. — Ни за что в следующий раз не поеду, — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. — Ни за что на свете! Я чуть не умерла! Когда она приходит в себя, вопросительно заглядывает мне в глаза: я ли сказал те четыре слова, или же они только послышались ей в шуме ветра? А я стою около неё, курю и внимательно рассматриваю свою перчатку. Она берёт меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не даёт ей покоя. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья, вопрос очень важный, самый важный на свете. Наденька нетерпеливо, грустно заглядывает мне в лицо, ждёт, когда заговорю я. О, какая игра на этом милом лице, какая игра! Я вижу, как она борется с собой, ей нужно что-то сказать, о чём-то спросить, но она не находит слов, ей неловко, страшно, мешает радость... — Знаете что? — говорит она, не глядя на меня. — Что? — спрашиваю я. 8 — Давайте ещё раз... прокатимся. Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную, дрожащую Наденьку в санки, опять мы летим вниз, опять ревёт ветер, и опять при самом сильном шуме я говорю вполголоса: — Я люблю вас, Наденька! Когда санки останавливаются, Наденька смотрит на гору, по которой мы только что ехали, потом долго всматривается в моё лицо, вслушивается в мой голос, равнодушный и бесстрастный, и вся она, вся её фигурка выражает крайнее недоумение. И на лице у неё написано: «В чём же дело? Кто произнёс те слова? Он, или мне только послышалось?» Эта неизвестность беспокоит её. Бедная девочка не отвечает на вопросы, готова заплакать. — Не пойти ли нам домой? — спрашиваю я. — А мне... мне нравится это катанье, — говорит она, краснея. — Не проехаться ли нам ещё раз? Ей «нравится» это катанье, но, садясь в санки, она опять бледна, чуть дышит от страха, дрожит. Мы спускаемся в третий раз, и я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю и, когда на середине горы, успеваю вымолвить: — Я люблю вас, Надя! И загадка остаётся загадкой! Наденька молчит, о чём-то думает... Я провожаю её домой, она старается идти тише и всё ждёт, не скажу ли я ей тех слов. И я вижу, как страдает её душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать: — Не может же быть, чтобы их говорил ветер! И я не хочу, чтобы это говорил ветер! На другой день утром я получаю записку: «Если пойдёте сегодня на каток, то заходите за мной. Н.» И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток и, слетая вниз на санках, я каждый раз произношу вполголоса одни и те же слова: 9 — Я люблю вас, Надя! Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию. Она жить без неё не может. Правда, лететь с горы ей по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозреваются всё те же двое: я и ветер... Кто из двух признаётся ей в любви, она не знает, но ей, кажется, уже всё равно. Однажды в полдень я пошёл на каток один; вдруг вижу, как к горе подходит Наденька, как ищет глазами меня... Затем она робко идёт вверх по лесенке... Страшно ехать одной, о, как страшно! Она бледна, как снег, дрожит, но идёт решительно. Она, очевидно, захотела, наконец, попробовать: будут ли слышны те изумительные сладкие слова, когда меня нет? Я вижу, как она, бледная, садится в санки, закрывает глаза и, трогается с места... «Жжжж...» — жужжат полозья. Слышит ли Наденька те слова, я не знаю... Я вижу только, как она встаёт измождённая, слабая. И видно по её лицу, что она и сама не поняла, слышала она что-нибудь или нет. Страх, пока она ехала вниз, отнял у неё способность слышать, понимать... Но вот наступает весенний месяц март... Солнце становится ласковее. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает наконец. Мы перестаём кататься. Бедная Наденька больше не слышит тех слов, да и некому произносить их, так как ветра нет, а я собираюсь в Петербург — надолго, наверное, навсегда. Однажды перед отъездом, дня за два, в сумерки сижу я в садике, а от двора, в котором живёт Наденька, садик этот отделён высоким забором с гвоздями... Ещё достаточно холодно, деревья мертвы, но уже пахнет весной. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит из дома и печально смотрит на небо... Весенний ветер дует ей прямо в бледное лицо... Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова, и лицо у неё становится грустным, грустным, по щеке ползёт слеза... И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей ещё раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю вполголоса: — Я люблю вас, Надя! 10 Боже мой, что происходит с Наденькой! Она вскрикивает, улыбается и протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая. А я иду собирать чемодан... Это было уже давно. Теперь Наденька уже замужем и у неё уже трое детей. Но то, как мы вместе когда-то ходили на каток и как ветер доносил до неё слова «Я вас люблю, Наденька», она не забыла; для неё теперь это самое счастливое, самое прекрасное воспоминание в жизни... А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил... 1886 Testo n. 4 ( 3 рp.) Антон Павлович Чехов НЕОСТОРОЖНОСТЬ Пётр Петрович Стрижин, племянник полковницы Ивановой, тот самый, у которого в прошлом году украли новые калоши, вернулся с крестин ровно в два часа ночи. Чтобы не разбудить своих, он осторожно разделся у двери, на цыпочках пробрался к себе в спальню и стал готовиться ко сну. Стрижин ведёт жизнь трезвую и регулярную, книжки он читает только духовнонравственные, но на крестинах от радости, что Любовь Спиридоновна благополучно родила, он позволил себе выпить четыре рюмки водки и стакан вина, которое напоминало что-то среднее между уксусом и касторовым маслом. Горячие же напитки похожи на морскую воду или славу: чем больше пьёшь, тем сильнее жажда... И теперь, раздеваясь, Стрижин чувствовал непреодолимое желание выпить. 11 «У Дашеньки, кажется, есть водка в шкафу, в правом углу, — думал он. — Если я выпью одну рюмку, то она не заметит». После некоторого колебания Стрижин направился к шкафу. Открыв осторожно дверцу, он нащупал в правом углу бутылку и рюмку, налил, поставил бутылку на место, потом перекрестился и выпил. И тотчас же произошло чудо. Со страшной силой, словно бомбу, Стрижина вдруг отбросило от шкафа. В глазах его засверкало, по всему телу пробежало такое ощущение, как будто он упал в болото с пиявками. Ему показалось, что вместо водки он проглотил кусок динамита, который взорвал его тело, дом, весь переулок... Голова, руки, ноги — всё оторвалось и полетело куда-то к чёрту, в пространство... Минуты три он лежал неподвижно, но дыша, потом поднялся и спросил себя: — Где я? Первое, что он ясно ощутил, придя в себя, это был резкий запах керосина. — О, господи! Это я вместо водки керосина выпил! — ужаснулся он. От решил, что отравился. О том, что яд он действительно принял, свидетельствовали, кроме запаха в комнате, жжение во рту, искры в глазах, звон колоколов в голове и боль в желудке. Чувствуя приближение смерти и не обманывая себя напрасными надеждами, он пожелал проститься с близкими и отправился в спальню Дашеньки. — Дашенька! — сказал он плачущим голосом, входя в спальню. — Дорогая Дашенька! Что-то заворочалось в темноте. — Дашенька! — А? Что? — быстро заговорил женский голос. — Это вы, Пётр Петрович? Уже вернулись? Ну, что? Как назвали девочку? — Я... я, Дашенька, кажется, умираю. А новорождённую назвали Олимпиадой в честь их благодетельницы... Я... я, Дашенька, выпил керосину... — Вот ещё! Там что подавали керосин? 12 — Признаюсь, я хотел, не спрося у вас, водки выпить, и... и бог наказал: я в темноте нечаянно керосина выпил... Что мне делать? Дашенька, услышав, что без её разрешения отворяли шкаф, оживилась... Она спрыгнула с постели и в одной рубашке зашлёпала босыми ногами к шкафу. — Кто же это вам позволил? — спросила она строго. — Водка здесь не для вас. — Я... я, Дашенька, пил не водку, а керосин... — пробормотал Стрижин, вытирая холодный пот. — А зачем вам керосин? Разве это ваше дело? Или, по-вашему, керосин денег не стоит? А? Да вы знаете, сколько стоит теперь керосин? Знаете? — Дорогая Дашенька! — простонал Стрижин. — Речь идёт о жизни и смерти, а вы говорите о деньгах! — Напился пьяным и в шкаф суёт свой нос! — крикнула Дашенька и хлопнула дверцей. — О, изверги, мучители! Ни днём, ни ночью нет мне покоя! Завтра же уезжаю! И пошла, и пошла... Зная, что рассерженную Дашеньку успокоить никак невозможно, Стрижин махнул рукой, оделся и решил сходить к доктору. Но доктора легко найти только тогда, когда он не нужен. Позвонив раз пять доктору Чепхарьянцу и семь раз доктору Бултыхину, Стрижин побежал в аптеку: может быть, поможет аптекарь. Тут, после долгого ожидания, к нему вышел маленький кудрявый фармацевт, в халате и с таким серьёзным и умным лицом, что даже стало страшно. — Вам что угодно? — спросил он таким тоном, каким могут говорить только очень умные и солидные фармацевты иудейского вероисповедания. — Ради бога... прошу вас! — проговорил Стрижин, задыхаясь. — Дайте мне чегонибудь... Я сейчас нечаянно керосина выпил! Умираю! — Прошу вас не волноваться и отвечать на вопросы, которые я буду вам задавать. Уже тот факт, что вы волнуетесь, не позволяет мне понимать вас. Вы выпили керосина? Да-а? — Да, керосина! Спасите, пожалуйста! 13 Фармацевт серьёзно раскрыл книгу и начал читать. Прочитав две страницы и подумав, он вышел в соседнюю комнату. И когда часы показывали десять минут пятого, фармацевт вернулся с другой книгой и опять погрузился в чтение. — Гм! — сказал он, недоумевая. — Вы чувствуете себя нехорошо, нужно, чтобы вы обратились не в аптеку, а к врачу. — Но я уже был у докторов! Не дозвонился! — Гм... Вы нас, фармацевтов, не считаете за людей и беспокоите даже в четыре часа ночи… Стрижин выслушал фармацевта, вздохнул и пошёл домой. «Стало быть, мне суждено умереть!» — думал он. А рот у него горел, желудок болел, в ушах раздавалось: бум, бум, бум! Каждую минуту ему казалось, что конец уже близко, что сердце его уже не бьётся... Дома он поспешил написать: «Прошу в моей смерти никого не винить», потом помолился богу и лёг в постель. До утра он не спал и ждал смерти, и всё время ему казалось, что его могила покрывается молодою зеленью и над ней поют птички... А утром он сидел на кровати и с улыбкой говорил Дашеньке: — Кто ведёт правильную и регулярную жизнь, дорогая сестрица, того никакая отрава не убьёт. Вот я, например, был на краю могилы, умирал, мучился, а теперь ничего... А почему? Потому что регулярная жизнь. — Нет, это значит — керосин плохой! — вздыхала Дашенька, думая о расходах и смотря в одну точку. — Значит, лавочник мне дал не лучшего керосина, а того, что по полторы копейки. О, несчастная я, мучители,.. чтоб вам плохо было, окаянные... И пошла, и пошла... 1887 горячие напитки – здесь: алкогольные напитки О, господи! – Oddio! махнуть рукой – lasciar perdere Что вам угодно? – Чего Вы хотите? 14 Testo n. 5 (2 рp.) Антон Павлович Чехов ДАЧНИЦА Лёля NN, хорошенькая двадцатилетняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, смотрит вдаль. Далёкое поле, облака на небе, вдали - железнодорожная станция и речка, залитые светом багровой, поднимающейся изза кургана луны. Кругом тишина... Лёля думает... Хорошенькое лицо её так грустно, в глазах столько тоски… Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и сдавала выпускные экзамены. Она вспоминает, как классная дама m-lle Morceau, с вечно испуганным лицом и большим, вспотевшим носом, водила их фотографироваться. — Ах, умоляю вас, — просила она фотографа, — не показывайте им карточек мужчин! Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого «демона» она умела читать райское блаженство, ведущее к страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Morceau, но, пропитанные «идеалами», они тоже разделяли её священный ужас. Они верили, что там, за институтскими стенами, их ждут лохматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры... Гляди на эту толпу и выбирай! В частности, Лёля была уверена, что, выйдя из института, она обязательно встретит героев, бойцов за правду и прогресс, о которых пишут все романы и даже все учебники по истории — древней, средней и новой... В этом мае Лёля уже замужем. Муж её красив, богат, молод, образован, но, несмотря на всё это, он (совестно признаться!) груб, неотёсан и нелеп. 15 Просыпается он ровно в десять часов утра, надевает халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон изобретает. После бритья пьёт какую-то воду, тоже с озабоченным лицом. Затем одевается, целует руку жены и в собственном экипаже едет на службу в «Страховое общество». Что он делает в этом «обществе», Лёля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты, или, может быть, даже решает судьбы людей — неизвестно. В четвёртом часу приезжает он со службы и, жалуясь на усталость, меняет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает. Говорит он обычно о высоких материях. Решает финансовые вопросы, ругает за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Критикует газеты, медицину, актеров, студентов... «Молодежь ужасно измельчала!» За один обед успевает сотню вопросов решить. Но, ужаснее всего, что гости слушают этого тяжёлого человека и поддакивают. И он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и может служить авторитетом. — Нет у нас теперь хороших писателей! — вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение идёт не из книг. Он никогда ничего не читает — ни книг, ни газет. Тургенева путает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже, а прочитав однажды, по совету Лёли, Щедрина, решил, что Щедрин «туманно» пишет. — Пушкин, ma chère, лучше... У Пушкина есть очень смешные вещи! Я читал... помню... После обеда он идёт на террасу, садится в мягкое кресло и… задумывается. Думает долго, сосредоточенно... О чём он думает, Лёля не догадывается. Она знает только, что после двух часов раздумий он нисколько не умнеет и несёт всё ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и, в случае ошибки партнёра, ровным голосом излагает правила карточной игры. После карт, когда гости уходят, он пьёт ту же воду и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он спокоен, как бревно. Иногда только бредит: — Извозчик! Извозчик! — услышала от него Лёля на вторую ночь после свадьбы. Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, животе... 16 Больше ничего не может сказать о нем Лёля. Она стоит теперь у палисадника, думает о нём, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и решает, что он лучше всех. Но ей не становится легче от этого. Священный ужас m-lle Morceau обещал ей больше… 1884 классная дама – responsabile di un corso карточка – здесь: фотография институтка – девушка, которая учится в женском Институте в четвёртом часу – alle 3 passate поддакивать – говорить «да», соглашаться нести чушь – говорить глупости Testo n. 6 (3,5 рp.) АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИДЕАЛИСТА (СЦЕНКА) Десятого мая взял я отпуск на 28 дней, попросил сто рублей вперёд и решил во что бы то ни стало «пожить», пожить так, чтобы потом в течение десяти лет жить одними только воспоминаниями. А вы знаете, что значит «пожить» в лучшем смысле этого слова? Это не значит отправиться в летний театр на оперетку, съесть ужин и к утру вернуться домой навеселе. Это не значит отправиться на выставку, а оттуда на скачки и оставить деньги в тотализаторе. Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где в воздухе запах сирени и черёмухи, где наперегонки цветут ландыши и ночные красавицы. Там, на просторе, под голубым небом, среди зелёного леса и 17 ручьёв, в обществе птиц и зелёных жуков, вы поймёте, что такое жизнь! Добавьте к этому две-три встречи с широкополой шляпкой, быстрыми глазками и белым платьем... Признаюсь, обо всём этом я мечтал, когда с отпуском в кармане, переезжал на дачу. Дачу я снял, по совету одного приятеля, у Софьи Павловны Книгиной, которая сдавала у себя на даче лишнюю комнату со столом, мебелью и прочими удобствами. Наём дачи совершился скорее, чем мог я думать. Приехав в Перерву и отыскав дачу Книгиной, я вошёл, помню, на террасу и... сконфузился. Терраса была уютна и мила, но ещё милее и (разрешите так выразиться) уютнее была молодая полная дамочка, которая сидела за столом на террасе и пила чай. Она посмотрела на меня. — Что вам угодно? — Извините, пожалуйста...— начал я.— Я... я, наверное, не туда попал... Мне нужна дача Книгиной... — Я Книгина и есть... Что вам угодно? Я растерялся... Я привык, что квартирные и дачные хозяйки - дамы пожилые, ревматические, но тут...— «спасите нас о неба херувимы!» — как сказал Гамлет, сидела чудесная, великолепная, изумительная, очаровательная женщина. Я, заикаясь, объяснил, что мне нужно. — Ах, очень приятно! Садитесь, пожалуйста! Мне ваш друг уже писал. Не хотите ли чая? Вам со сливками или с лимоном? Есть порода женщин (чаще всего блондинок), с которыми достаточно посидеть две-три минуты, чтобы вы почувствовали себя, как дома, словно вы давным-давно знакомы. Такой именно была и Софья Павловна. Выпивая первый стакан, я уже знал, что она не замужем, живёт на проценты с капитала и ждёт к себе в гости тётю; я знал причины, по которым Софья Павловна должна была сдать одну комнату. Во-первых, платить сто двадцать рублей за дачу для одной тяжело и, во-вторых, как-то страшно: вор заберётся ночью, или днём войдёт страшный мужик! И ничего нет предосудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина. 18 — Но мужчина лучше! — вздохнула хозяйка.— С мужчиной меньше хлопот и не так страшно... Одним словом, через час я и Софья Павловна были уже друзьями. — Ах, да! — вспомнил я, прощаясь с ней.— Обо всём поговорили, а о главном ни слова. Сколько же это будет стоить? Жить я у вас буду только 28 дней... Обед, конечно... чай и прочее... — Ну, о чём вы говорите! Сколько можете, столько и дайте... Я ведь не из расчёта сдаю комнату, а так... чтобы веселее было... 25 рублей можете дать? Я, конечно, согласился, и дачная жизнь моя началась... Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь на ночь, и — столько прелести в этом однообразии, какие дни, какие ночи! Утром я просыпался и, не думая о службе, пил чай со сливками. В одиннадцать шёл к хозяйке и пил у неё кофе с жирными сливками. От кофе до обеда болтали. В два часа обед, но что за обед! Представьте себе, что вы, голодный, как собака, садитесь за стол, хватаете большую рюмку водки и большой кусок горячего мяса с хреном. Затем представьте себе зелёные щи со сметаной и т. д. и т. д. После обеда - чтение романа, потом купание. Вечером до глубокой ночи прогулка с Софьей Павловной... Представьте себе, что в вечерние часы, когда всё спит, когда слабый ветерок еле-еле доносит до вас шум далёкого поезда, вы гуляете с полной блондиночкой, которая то и дело кокетливо поворачивает к вам бледное от луны личико... Ужасно хорошо! Не прошло и недели, как случилось то, чего вы давно уже ждёте от меня, читатель, и без чего не обходится ни один порядочный рассказ... Я не устоял... Мои объяснения Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно давно уже ждала их, только сделала милую гримасу губами, как бы желая сказать: — И о чём тут долго говорить, не понимаю! 28 дней пролетели, как одна секунда. Когда кончился мой отпуск, я, тоскующий, неудовлетворённый, прощался с дачей и Соней. Хозяйка, когда я собирал чемодан, сидела на диване и вытирала глазки. Я, сам чуть не плача, утешал её и обещал приезжать к ней на дачу по праздникам и бывать у неё зимой в Москве. 19 — Ах... когда же мы, душа моя, с тобой рассчитаемся? — вспомнил я.— Сколько я тебе должен? — Когда-нибудь потом...— проговорила она, всхлипывая. — Потом после? Я совсем не хочу жить за твой счёт. Говори же, Соня... Сколько тебе? — Там... пустяки какие-то...— проговорила хозяйка, всхлипывая и выдвигая ящик из стола.— Мог бы и потом заплатить... Соня достала оттуда бумажку и дала её мне. — Это счёт? — спросил я.— Ну, вот и отлично... и отлично... (я надел очки) рассчитаемся и ладно... (я просмотрел счёт). Итого... Подожди, что же это? Итого... Да это не то, Соня! Здесь «итого 212 р. 44 к.». Это не мой счёт! — Твой, Дудочка! Ты посмотри! — Но... откуда же столько? За дачу и стол 25 р.— согласен... За прислугу 3 р.— ну, ладно, и на это согласен... — Я не понимаю, Дудочка,— сказала хозяйка удивлённо. Неужели ты мне не веришь? Посчитай в таком случае! Водку ты пил... Сливки к чаю и кофе... потом клубника, огурцы, вишни... кофе тоже... Ведь ты не договаривался пить его, а пил каждый день! Но всё это такие пустяки, что я могу сбросить тебе 12 руб. Пусть останется только 200. — Но... тут ещё стоит 75 руб. и не обозначено за что... За что это? — Как за что? Вот это мило! Я посмотрел ей в личико. Она глядела так искренне и удивлённо, что язык мой уже не мог выговорить ни одного слова. Я дал Соне сто рублей и вексель на столько же, взял чемодан и пошёл на вокзал. Нет ли, господа, у кого-нибудь взаймы сто рублей? 1885 ...«спасите нас, о неба херувимы!»... — цитата из «Гамлета» (акт I, сцена четвёртая) Что вам угодно? – Чего Вы хотите? 20 не туда попал – ошибся щи – овощной суп жить за чей-либо счёт – vivere alle spalle di qc.no сбросить кому-либо – сделать скидку Testo n. 7 (7 рp.) АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ О любви На завтрак были очень вкусные пирожки и бараньи котлеты; и пока все ели, приходил наверх повар Никанор узнать, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами. Алёхин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяницей, то она не хотела выходить за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожным, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так. Он требовал, чтобы она вышла за него, и по-другому не хотел, и ругался с ней, а когда бывал пьяным, даже бил. Когда он пил, она пряталась наверху и рыдала. И тогда Алёхин и прислуга не уходили из дома, чтобы защитить её в случае надобности. Стали говорить о любви. — Как рождается любовь, — сказал Алёхин, — почему Пелагея не полюбила когонибудь другого, более подходящего ей по душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, — тут у нас все зовут его мурлом, —всё это неизвестно и всё это можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что она «есть тайна великая», всё же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешёнными. То объяснение, которое, кажется, годится для одного 21 случая, уже не годится для десяти других. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай. — Совершенно верно, — согласился Буркин. — Мы, русские, порядочные люди, имеем пристрастие к вопросам, остающимся без ответа. Обычно любовь поэтизируют, украшают её розами, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я ещё был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая каждый раз, когда я обнимал её, думала о том, сколько денег я буду давать ей в месяц и почём теперь говядина. Так и мы, когда любим, то не перестаём задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему приведёт эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но то, что это мешает и раздражает — это я знаю. Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они хотели бы рассказать. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории. В деревне же обыкновенно они открывают душу перед своими гостями. В окне было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать. — Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно, — начал Алёхин, — с тех пор, как окончил университет. У имения, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на моё образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не выплачу этот долг. Я решил так и начал работать. Здешняя земля даёт немного, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом наёмных рабочих, или же работать в поле самому, со своей семьёй. Середины тут нет. Но я тогда не думал о таких тонкостях. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела. Я сам тоже пахал, сеял: тело моё болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко примирить со своими 22 культурными привычками; для этого нужно только, думал я, придерживаться в жизни внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах. После завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришёл наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» тоже отправился к поповнам, так как летом, когда было много работы, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае или где-нибудь в лесу — какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и от прежней роскоши у меня осталась только прислуга, которая служила ещё моему отцу и которую уволить мне было бы больно. В первые же годы меня здесь выбрали почётным мировым судьёй. Кое-когда приходилось ездить в город и принимать участие в заседаниях местного суда, и это меня развлекало. Когда поживёшь здесь месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по чёрному костюму. А в суде были и костюмы, и мундиры, и фраки. Все юристы, люди, получившие образование - было с кем поговорить. После сна в лесу, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в лёгких ботинках — это такая роскошь! В городе меня принимали хорошо, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя суда. Его вы знаете оба: милейший человек. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; процесс продолжался два дня, мы очень устали. Луганович посмотрел на меня и сказал: — Знаете что? Пойдёмте ко мне обедать. Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашёл к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тогда познакомился с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была ещё очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до этого у неё родился первый ребенок. Это было давно, и теперь мне было бы трудно определить, что в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня всё было совершенно ясно; я видел женщину молодую, 23 прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней человека близкого, уже знакомого, как будто это лицо, эти умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери. В деле поджигателей обвинили четырех евреев и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уже не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна всё покачивала головой и говорила мужу: — Дмитрий, как же это так? Луганович — это один из тех простодушных людей, которые уверены в том, что если человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно только на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре. — Мы с вами не поджигали, — говорил он мягко, — и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму. И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслова, я мог заключить, что живут они мирно и хорошо. После обеда играли на рояле в четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем всё лето провел я в Софьине, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось со мной; я не думал о ней, но точно лёгкая тень её лежала на моей душе. Позднею осенью в городе был благотворительный спектакль. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю — рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое впечатление красоты ласковых глаз, и опять то же чувство близости. Мы сидели рядом, потом вышли в фойе. — Вы похудели, — сказала она. — Вы болели? — Да. У меня болит плечо, и в дождливую погоду я плохо сплю. 24 — У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда много говорили, были очень интересны, и я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета я вспоминала вас и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу. И она засмеялась. — Но сегодня у вас вялый вид, — повторила она. — Это вас старит. На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы устроить всё к зиме, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин и молодая мать часто уходила взглянуть, спит ли её девочка. И после этого в каждый свой приезд я обязательно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Я стал у них своим человеком. — Кто там? — слышался из дальних комнат голос, который казался мне таким прекрасным. — Это Павел Константиныч, — отвечала горничная или няня. Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала: — Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь? Её взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, её домашнее платье, причёска, голос, шаги каждый раз производили на меня впечатление чего-то нового, необыкновенного и важного. Мы подолгу разговаривали и подолгу молчали, думая каждый о своём, или она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, играл с ребёнком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал её, брал у неё покупки, и почему-то каждый раз эти покупки я нёс с такой любовью, словно мальчик. Если я долго не приезжал в город, то, Лугановичи начинали думать, что я болен или что-нибудь случилось со мной, и оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, много работаю, и всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и если я говорю, смеюсь и ем, то только для того, чтобы скрыть свои 25 страдания. Когда же, и в самом деле, мне не хватало денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьёзным лицом говорил: — Если вам, Павел Константиныч, в настоящее время нужны средства, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас. И уши краснели у него от волнения. А случалось, что так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил: — Я и жена очень просим вас принять от нас вот этот подарок. И подавал запонки, портсигар или лампу, и я за это присылал им из деревни птицу, масло и цветы. Кстати, оба они были состоятельные люди. Поначалу я часто брал взаймы, где только было возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом! Я был несчастлив. И дома, и в поле я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, — понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простака, который скучно рассуждает, на балах и вечеринках держится около солидных людей; и я старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка. А приезжая в город, я каждый раз по её глазам видел, что она ждала меня. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и ревниво скрывали её. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести её? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если бы я, например, был знаменитым учёным, артистом, художником... И как долго могло бы продолжаться наше счастье? И она, по-видимому, рассуждала так же. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила её мужа, как сына. Ей пришлось бы лгать… И её мучил вопрос: принесёт ли мне счастье её любовь, не осложнит ли она мою жизнь? 26 Шли годы. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришёл дядя Павел Константиныч, и все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, каждый раз пешком; мы сидели в креслах рядом, я молча брал из её рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, но, выходя из театра, мы каждый раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды. В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у неё уже бывало плохое настроение, ей не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов. Мы молчали и молчали, а при посторонних людях она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чём бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. К счастью или к несчастью, в нашей жизни рано или поздно всё кончается. Лугановича назначили председателем в одну из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали её доктора, а потом Луганович с детьми уедет в свою западную губернию. Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из её корзинок, которую она чуть не забыла; и нужно было проститься. Когда в купе взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял её, она прижалась лицом к моей груди, и слёзы потекли из глаз — о, как мы были с ней несчастны! — я признался ей в своей любви, и с болью в сердце я понял, как мелко было всё то, что нам мешало любить. 27 Я поцеловал её в последний раз, и мы расстались — навсегда. Поезд уже шёл. Я сел в соседнем купе, — оно было пусто, — и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошёл к себе в Софьино пешком... Пока Алёхин рассказывал, дождь кончился и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, в самом деле пропадал здесь, в этом громадном имении, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое печальное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали её в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил её красивой. 1898 батюшка – священник в один присест – за один раз поповна – дочь священника людская кухня – кухня для прислуги понимать с полуслова – очень хорошо понимать друг друга губернаторша – жена губернатора без гроша – совсем без денег бог знает что – здесь: tutti i colori 28 Testo n. 8 (7 рp.) Александр Сергеевич Пушкин МЕТЕЛЬ В конце 1811 года жил в своём поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он был гостеприимным и радушным, и соседи часто ездили к нему поесть, попить, поиграть в бостон с его женой, а некоторые для того, чтоб посмотреть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестой, и многие хотели жениться на ней. Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следственно, была влюблена. Предметом её любви, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуске в своей деревне. Молодой человек, конечно, отвечал ей той же страстью. Но родители девушки, заметя это, запретили дочери даже думать о нём. Наши любовники переписывались, и каждый день встречались у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви и дошли до следующего заключения: если мы друг без друга дышать не можем, а жестокие родители мешают нашему счастью, то нельзя ли нам будет обойтись без них? Разумеется, что эта мысль пришла сначала в голову молодому человеку и что она очень понравилась Марье Гавриловне, которая выросла на французских романах. Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял её венчаться тайно, скрываться некоторое время, а потом броситься к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты наконец героизмом и несчастьем любовников и простят их. Марья Гавриловна долго сомневалась, но наконец согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и уйти в свою комнату под предлогом головной боли. Служанка её знала обо всём; обе они должны были выйти в сад, за садом найти готовые сани, сесть в них и ехать прямо в церковь, где их будет ждать Владимир. 29 Накануне назначенного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывала бельё и платье, написала одно длинное письмо подруге, другое своим родителям. Она прощалась с ними, извинялась за свой проступок и объясняла его неодолимою силой страсти и оканчивала тем, что будет счастлива только тогда, когда позволено будет ей броситься к ногам дорогих её родителей. Запечатав оба письма, она отправилась спать и задремала перед самым рассветом; но и тут ужасы поминутно будили её. То ей казалось, что в ту самую минуту, когда она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец останавливал её, тащил по снегу и бросал в тёмное подземелие...; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил её поскорее с ним обвенчаться... Наконец она встала, бледнее, чем обычно и с непритворной головною болью. Отец и мать заметили её беспокойство: Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша? Она старалась их успокоить, казаться веселой, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что она проводит последний день со своим семейством, стесняла её сердце. Подали ужин. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они её поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. В своей комнате она кинулась в кресло и расплакалась. Девушка уговаривала её успокоиться. Всё было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; всё казалось ей угрозой и плохим предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло. Маша надела тёплый капот и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней два узла. Они шли по саду. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто желая остановить её. На дороге их ждали сани. Целый день Владимир был в разъездах. Утром был он у священника; насилу с ним договорился; потом поехал искать свидетелей. А найдя их, поехал домой готовиться. Уже давно темнело. Он отправил своего надёжного слугу Терёшку в Ненарадово за невестой, а сам один отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а ехать было всего двадцать минут. 30 Но как только Владимир выехал в поле, поднялся ветер и началась такая метель, что он ничего не видел. В одну минуту всё исчезло во мгле, сквозь которую летели белые хлопья снега; небо слилось с землёй. Владимир оказался в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь то въезжала в снег, то проваливалась в яму. Владимир старался не потерять направления. Прошло ещё около десяти минут; и всё ещё ничего не было видно. Владимир ехал по полю. Метель не утихала, небо не прояснялось. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, вспоминать, — и понял, что нужно ему было повернуть направо. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а поле не кончалось. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видно... Владимир с ужасом понял, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил лошадь; бедное животное поскакало, но скоро стало уставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Когда Владимир выехал из леса; Жадрина было не видно. Должно было быть около полуночи. Слёзы полились из глаз его; он поехал наудачу. Метель утихла, тучи разошлись, снег лежал белым ковром. Ночь была ясной. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырёх или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избы он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучать. Через несколько минут старик высунул свою седую бороду. «Что тебе надо?» — «Далеко ли Жадрино?» — «Недалеко; вёрст десять». При этом ответе Владимир схватил себя за волосы и замер, как человек, приговорённый к смерти. «Который час?» — спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвет», — отвечал мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи и было уже светло, как приехал он в Жадрино. Церковь была закрыта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе никого не было. Какое известие ожидало его! 31 Но возвратимся к добрым родителям Марьи Гавриловны и посмотрим, что у них делается. А ничего. Старики проснулись и вышли в гостиную. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девушку узнать у Марьи Гавриловны, как её здоровье и как она спала. Девушка вернулась и сказала, что барышня спала дурно, но теперь ей легче и что она сейчас придёт в гостиную. В самом деле, дверь открылась, и Марья Гавриловна подошла поздороваться с папенькой и с маменькой. «Как твоя голова, Маша?» — спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», — отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша почувствовала себя дурно. Послали в город за врачом. Он приехал к вечеру и нашёл больную в бреду. Бедная Маша две недели находилась у края гроба. Никто в доме не знал о побеге. Письма, написанные накануне, Марья Гавриловна сожгла; её горничная никому ни о чём не говорила, боясь гнева господ. Таким образом тайна была сохранена. Но Марья Гавриловна в бреду сама высказывала свою тайну. Однако же её слова были так бессмысленны, что мать смогла понять из них только то, что дочь её была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, наверное, любовь была причиной её болезни. Она посоветовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец все решили, что этот человек был судьбой Марьи Гавриловны… Между тем, барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. К нему послали человека, чтобы объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но в ответ получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что ноги его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остаётся единственной надеждой. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго боялись объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не говорила о Владимире. Через несколько месяцев когда нашла его имя в числе тяжело 32 раненых в битве под Бородино, она упала в обморок. Однако, слава богу, обморок не имел последствий. Другая печаль её посетила: Гаврила Гаврилович скончался и оставил её наследницей всего имения. Но наследство не утешало её; она искренно разделяла горе бедной Прасковьи Петровны и поклялась никогда с ней не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье. Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не давала ни малейшей надежды. Мать иногда уговаривала её выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Между тем война кончилась. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Солдаты весело разговаривали, мешая поминутно немецкие и французские слова. Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слёзы свидания! Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обычная холодность их исчезла. Кто из тогдашних офицеров не признается, что русская женщина была для него драгоценнейшей наградой?.. В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в*** губернии и не видела, как обе столицы праздновали возвращение войск. Мы уже рассказывали, что, несмотря на её холодность, Марья Гавриловна всё попрежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в её замке раненый полковник Бурмин. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в своё поместье, находившееся по соседству с деревней Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум наблюдения, без притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что бы она ни сказала или ни сделала, душа его так за ней и следовала. 33 Но более всего... (более его нежности, более приятного голоса, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого человека более всего увлекало её любопытство и воображение. Почему же до сих пор не увидела она его у своих ног и ещё не слышала его признаний? Что удерживало его? Это было для неё загадкой. Подумав хорошенько, она поняла, что робость была единственной причиной, и решила помочь ему своим вниманием и даже нежностью. Её военные действия имели желаемый успех: Бурмин стал таким задумчивым и чёрные глаза его с таким огнём останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь её наконец нашла себе достойного жениха. Когда однажды старушка сидела одна в гостиной, раскладывая пасьянс, Бурмин вошёл в комнату и спросил о Марье Гавриловне. «Она в саду, — отвечала старушка, идите к ней, а я вас буду здесь ждать». Бурмин пошёл, а старушка перекрестилась и подумала: дело сегодня же кончится! Бурмин нашёл Марью Гавриловну у пруда с книгой в руках и в белом платье как настоящую героиню романа. Бурмин объявил, что давно искал случая открыть ей своё сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и опустила глаза в знак согласия. «Я вас люблю, — сказал Бурмин, — я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову ещё ниже.) «…но мне еще остаётся исполнить тяжёлую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами преграду...» — «Она всегда существовала, — прервала Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть вашей женой...» — «Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что вы любили, но смерть... Добрая, милая Марья Гавриловна! Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моей, но — я несчастнейшее создание... я женат!» Марья Гавриловна посмотрела на него с удивлением. — Я женат, — продолжал Бурмин, — я женат уже четыре года и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли я увидеться с ней когда-нибудь! 34 — Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна, — как это странно! Продолжайте; я расскажу после... продолжайте. — В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я ждал лошадей, когда вдруг поднялась ужасная метель, и все советовали мне переждать. Я их не послушался, и поехал в самую бурю. Ямщик хотел сократить нам путь, но проехал мимо того места, где был выезд на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомых местах. Буря не утихала; я увидел огонёк и приказал ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была открыта, рядом ходили люди. «Сюда! сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Где же ты был? — сказал мне кто-то, — невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошёл в церковь, слабо освещённую двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в тёмном углу церкви; другая тёрла ей виски. «Слава богу, — сказала эта. — Чуть было барышню не уморили». Старый священник подошёл ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» — «Начинайте, начинайте, батюшка», — отвечал я растерянно. Девушку подняли. Она показалась мне красива... Непонятная, непростительная ветреность... я встал рядом с ней; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и были заняты только ей. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», — сказал священник. Жена моя повернула ко мне своё бледное лицо. Я хотел её поцеловать... Но она вскрикнула: «Ай, это не он! не он!» — и упала в обморок. Все смотрели на меня испуганными глазами. Я повернулся, вышел из церкви, бросился в сани и закричал: «Пошёл!» — Боже мой! — закричала Марья Гавриловна, — и вы не знаете, что случилось с бедной вашей женой? — Не знаю, — отвечал Бурмин, — не знаю, как называется деревня, где я венчался; не помню, рядом с какой станцией. В то время я так мало думал о моей преступной проказе, что, отъехав от церкви, сразу заснул и проснулся уже на другой день утром. Слуга, который был тогда со мной, умер, так что у меня нет никакой надежды найти ту, над которой подшутил я так жестоко... 35 — Боже мой, боже мой! — сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, — так это были вы! И вы не узнаёте меня? Бурмин побледнел... и бросился к её ногам... 1829 бостон – игра в карты, разновидность твиста под предлогом – con la scusa девушка, горничная – служанка капот – пальто проводник – здесь: человек, который провожал Владимира ноги его не будет – non ci metterà più piede Testo n. 9 (12,5 рp.) Фёдор Михайлович Достоевский СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ I Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если бы я ещё не оставался для них таким же смешным, как и раньше. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной – и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними, если бы мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут. А раньше я тосковал очень оттого, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я 36 уже в семь лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете и что же – чем больше я учился, тем больше я учился тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука существовала как бы только для того, чтобы доказывать и объяснять мне, что я смешон. Как в науке, так шло и в жизни. С каждым годом росло и укреплялось во мне то же самое сознание о моём смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший о том, что я смешон, так это был сам я, и вот это было для меня обиднее всего, что они этого не знают. Но тут я сам был виноват: я всегда был таким гордым, что ни за что и никогда не хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если бы случилось так, что я хоть перед кем-то позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моём отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг признаюсь сам товарищам. Но с тех пор как я стал молодым человеком, я почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому что в душе моей росла страшная тоска по одному обстоятельству: я понял, что на свете везде всё равно. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне было бы всё равно, существовал ли мир и если бы нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать, что ничего вокруг меня не было. Сначала мне всё казалось, что раньше было многое, но потом я догадался, что и раньше ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей и стал почти не замечать их. И вот, уже после того, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, а именно третьего ноября, и с того времени я помню каждое мгновение моё. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грозный дождь, я это помню. А тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость, и от каждого камня на улице и из каждого переулка шёл какой-то пар. Я вдруг представил себе, что если бы везде потух газ, то стало бы 37 радостнее, а с газом грустнее сердцу, потому что он всё это освещает. Я в этот день почти не обедал и с раннего вечера был у одного инженера, а у него сидели ещё двое приятелей. Я всё время молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чём-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было всё равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и сказал это: "Господа, ведь вам, говорю, всё равно". Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Я сказал это без всякого упрёка, и просто потому, что мне было всё равно. Они увидели, что мне всё равно, и им стало весело. Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно тёмное, но можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные чёрные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звёздочку и стал пристально смотреть на неё. Эта звёздочка дала мне мысль: я решил в эту ночь убить себя. У меня это было твёрдо решено ещё два месяца назад, и хотя я был беден, я купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он всё лежал в ящике. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я всё ждал минуты. И вот теперь эта звёздочка дала мне мысль, и я решил, что это будет обязательно в эту ночь. А почему звёздочка дала мысль – не знаю. И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Девочке было лет восемь, в платочке и в одном платье, вся мокрая, но особенно я запомнил её мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Она вдруг стала дёргать меня за локоть и звать. Она не плакала, но выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала. Она была в ужасе и кричала: "Мамочка! Мамочка!" Я не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дёргала меня, и в голосе её прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что её мать где-то умирает, или что-то с ними случилось, и она выбежала позвать когото, найти что-то, чтобы помочь маме. Но я не пошёл за ней, и, напротив, у меня появилась вдруг мысль прогнать её. Она всё бежала рядом и не покидала меня. Вот тогда-то я крикнул на неё. Она вдруг бросила меня и перебежала улицу: там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему. 38 Я поднялся на мой пятый этаж. Я живу у хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно полукруглое. У меня клеёнчатый диван, стол, на котором книги, два стула и старое-престарое кресло. Я сел, зажёг свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате, жил отставной капитан, а у него были гости – человек шесть. Они пили водку и играли в карты. Прошлой ночью была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Из других жильцов у нас в номерах всего одна худенькая дама маленького роста, приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми. И она и дети боятся капитана до смерти. На службу нашего капитана не принимают, но, странное дело (я ведь потому и рассказываю это), капитан за весь месяц, как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же раза, но сколько бы они ни кричали там в соседней комнате, – мне всегда всё равно. Я сижу всю ночь и их не слышу. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета и вот так уже год. Я сижу всю ночь у стола в кресле и ничего не делаю. Книги читаю я только днём. Сижу и даже не думаю, а просто какие-то мысли бродят, а я их выпускаю на волю. Свечка сгорает за ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собой. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: "Так ли?", и совершенно утвердительно ответил себе: "Так". То есть застрелюсь. Я знал, что в эту ночь застрелюсь наверняка, но сколько ещё просижу за столом, – этого не знал. И уж конечно бы застрелился, если бы не та девочка. II Видите ли: хоть мне и было всё равно, но боль я, например, чувствовал. Если бы кто-то меня ударил, я почувствовал бы боль. Также и в нравственном отношении: если бы случилось что-нибудь очень жалкое, то я почувствовал бы жалость, так же как тогда, когда мне было ещё в жизни не всё равно. Я и почувствовал жалость в то мгновение. Почему же я не помог девочке? А из-за одной идеи, которая явилась мне тогда: когда она дёргала и звала меня, то вдруг передо мной возник вопрос, и я не мог разрешить его. Если я уже решил, что сегодня ночью покончу с собой, то мне всё на свете должно было 39 стать ещё более всё равно. Почему же я вдруг почувствовал, что мне не всё равно и я жалею девочку? И я очень был раздражён этим, как давно уже не был. Мне было ясно, что если я человек, и ещё не ноль, то живу, а значит, могу страдать, сердиться и чувствовать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через два часа, я превщаюсь в ноль, в ноль абсолютный. Было ясно, что жизнь и мир теперь от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер уже лежал передо мной. Но я уже не мог умереть теперь, не разрешив чего-то предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана тоже стало всё утихать: они кончили играть в карты и ложились спать. Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось раньше, за столом в кресле. Сны, как известно, очень странная вещь: одно представляется с ужасающей ясностью, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая совсем, например, через пространство и время. Сны, кажется, определяет не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой ум во сне! Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, а между тем я в течение всего сна, знаю и помню, что брат мой умер и похоронен. Почему мой ум допускает всё это? Но довольно. Расскажу о моём сне. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не всё равно, сон или нет, если этот сон открыл мне Истину, открыл новую, великую, обновлённую, сильную жизнь? Слушайте. III Я сказал, что уснул незаметно и вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и направляю его прямо в сердце – в сердце, а не в голову; я же решил раньше обязательно застрелиться в голову, а именно в правый висок. Направив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мной вдруг задвигались... Я поскорее выстрелил. 40 Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли. Так и во сне моём: боли я не почувствовал, но мне показалось, что с выстрелом моим всё во мне вдруг потухло, и стало вокруг меня ужасно темно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чём-то твердом, ничего не вижу и не могу сделать ни одного движения. Все вокруг меня ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка, – и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И вдруг меня в первый раз поражает идея, что я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, ничего не вижу и не двигаюсь, но между тем чувствую и рассуждаю. И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я не двигаюсь. Я почувствовал, что мне очень холодно, особенно кончикам пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал. Я лежал и, странно, – ничего не ждал, понимая, что мёртвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, – час или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на мой закрытый левый глаз через крышку гроба упала капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее, и так далее, всё через минуту. И вдруг я почувствовал в сердце физическую боль: "Это моя рана, – подумал я, – там пуля..." А капля всё капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз. И я вдруг воззвал, не голосом, но всем существом моим к властителю всего того, что происходило со мной: – Если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то разреши ему быть здесь. Если же ты мстишь мне за моё самоубийство, то знай, что никогда и никакое мучение не сравнится с тем презрением, которое я буду молча ощущать, даже в течение миллионов лет моих мучений!.. Я воззвал и умолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже ещё одна капля упала, но я знал, и твёрдо верил, что сейчас всё обязательно изменится. И вот вдруг открылась могила моя. Меня взял кто-то тёмный и неизвестный, и мы оказались в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и никогда, никогда ещё не было такой темноты! Мы летели в пространстве уже далеко от земли. Я ни о чём не спрашивал того, кто нёс меня, я ждал и был горд. Я убеждал себя, что не боюсь. Я не 41 помню, сколько времени мы летели, но помню, что вдруг увидел в темноте одну звёздочку. "Это Сириус?" – спросил я, вдруг не сдержавшись, потому что не хотел ни о чём спрашивать. – "Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой", – отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело лицо как будто человеческое. Странно, но я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. "Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за это ты презираешь меня?" – сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унизительного вопроса. Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что он меня не презирает, и надо мной не смеётся, и даже не жалеет меня, и что путь наш имеет цель, неизвестную и таинственную, касающуюся одного меня. Страх нарастал в моём сердце. Мы летели в тёмных и неизвестных пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые созвездия. Я знал, что есть такие звёзды, лучи от которых доходят до земли только за тысячи и миллионы лет. Я ждал чего-то в страшной тоске. И вдруг какое-то знакомое чувство потрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца бесконечно далеко, но я узнал почему-то, что это точно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое чувство зазвучало в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, воскресила моё сердце, и я почувствовал жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы. – Но если это солнце совершенно такое же солнце, как наше, – закричал я, – то где же земля? – И мой спутник указал на звёздочку, сверкавшую в темноте. Мы неслись прямо к ней. – Но неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если там земля, то неужели она такая же, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая, как и наша?.. – кричал я, сотрясаясь от любви к той родной прежней земле, которую я оставил. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мной. – Увидишь всё, – печально ответил мой спутник. 42 Мы быстро приближались к планете. Она росла на глазах, я уже видел океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности родилось в сердце моём: "Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить только ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и в ту ночь, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить только с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем другой любви. Я хочу мучения, чтобы любить. Я хочу только одну ту землю, которую я оставил, и не хочу никакой другой!.." Но спутник мой уже оставил меня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг, или где-нибудь на берегу материка рядом с этим архипелагом. О, всё было точно таким же, как у нас, но, казалось, что повсюду был какой-то великий праздник. Ласковое изумрудное море, высокие, прекрасные деревья приветствовали меня своим тихим шумом и как бы говорили какието слова любви. Птички, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки… И наконец, я увидел людей этой счастливой земли. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, – о, как они были прекрасны! Никогда я не видел на нашей земле такой красоты в человеке. Может быть только в детях наших, в самые первые годы их жизни, можно бы было найти слабый отблеск этой красоты. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом, и я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял всё, всё! Это была земля, на которой жили люди без греха, жили в таком же раю, как наши согрешившие прародители, с той только разницею, что вся земля здесь была раем. Эти люди увели меня к себе, и все хотели успокоить меня. О, они не спрашивали меня ни о чём, но как бы всё уже знали, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего. IV Пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки. Я видел их сам, я любил их, я страдал за них потом. Они 43 не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как стремимся мы, потому что жизнь их была полна. Но знание их было глубже и выше, чем у нашей науки; ибо наука наша хочет объяснить, что такое жизнь, чтобы научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все были одной семьёй. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая со светлой улыбкой на лице. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их о вечной жизни, они были до того в ней убеждены, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, у них не было веры, зато было твёрдое знание, что наступит для них, и для живущих и для умерших, ещё большее соприкосновение с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая, а как бы уже имея его в сердце. От ощущения полноты жизни у меня захватывало дух, и я молча молился на них. О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что все подробности я сочинил сам проснувшись. И когда я открыл им, что это было на самом деле, – боже, какой смех они подняли! Но как же мне не верить, что всё это было? Пусть это сон, но всё это не могло не быть. Знаете, я скажу вам секрет: всё это, быть может, было вовсе не сон. Неужели мелкое сердце моё и капризный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь скажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех! V Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться – не знаю, не помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и 44 познали красоту лжи. О, это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность – жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро пролилась первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Появились союзы, но уже друг против друга. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось своё знамя. Они стали мучить животных, и животные ушли от них в леса и стали их врагами. Началась борьба за моё и твоё. Они стали говорить на разных языках. У них появилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и написали себе целые кодексы, чтоб сохранить её, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они лишь чуть-чуть помнили о том, что потеряли, и даже не хотели верить в то, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись над этим прежним их счастьем и называли его мечтой. И если бы кто-то спросил их, хотят ли они возвратиться к нему, то они наверное бы отказались. Они отвечали мне: "Да, мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, мучаем и наказываем себя за это сами. Но у нас есть наука, и через неё мы вновь найдём истину, но примем её уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни. Наука даст нам мудрость, мудрость откроет законы, а знание законов счастья – выше счастья". Вот что говорили они, и после таких слов каждый полюбил себя больше всех, да и не могли они сделать иначе. Каждый стал настолько ревнив, что изо всех сил старался унизить других, и в том была цель его жизни. Появилось рабство, даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, только для того, чтобы те помогали им давить тех, кто слабее, чем они сами. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать, как всем вновь так объединиться, чтобы жить всем вместе и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твёрдо верили в то же время, что наука, мудрость и чувство самосохранения заставят наконец людей объединиться в согласное и разумное общество, а потому для ускорения дела, "премудрые" старались поскорее истребить всех "непремудрых" и не понимающих их 45 идею, чтоб они не мешали торжеству её. Наконец эти люди устали от бессмысленного труда, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота. Я ходил между ними и плакал над ними, но любил их, может быть, ещё больше, чем прежде, когда на лицах их ещё не было страдания и когда они были невинны и прекрасны. Я полюбил их землю ещё больше, чем когда она была раем, только за то, что на ней появилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но только для себя, для себя, а о них я плакал, жалея их. Я проклинал и презирал себя. Я говорил им, что всё это сделал я, я один, что это я им принёс разврат и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест Я не мог убить себя сам, но я хотел принять муки от них... Но они лишь смеялись надо мной. Они оправдывали меня, они говорили, что получили только то, чего сами желали. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь опасным и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу и я почувствовал, что умру, и тут... ну, вот тут я и проснулся. Было уже утро, около шести. Я проснулся в том же кресле, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя, я вдруг увидел передо мной мой револьвер, готовый, заряженный, – но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь я хочу жизни и жизни! Да, жизнь, и – проповедь! О проповеди я решил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, – что? Истину, ибо я видел её, видел своими глазами, видел всю её славу! И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того – люблю всех, а тех, кто надо мной смеётся, больше всех остальных. Почему это так – не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло 46 было нормальным состоянием людей. А ведь они все над этой моей верой смеются. Но я бодр, я свеж, я иду, иду, и могу идти тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка, – вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я лгу, и охранила меня и направила. Но как устроить рай – я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и буду говорить, всё, что видел, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого они и не понимают: "Сон видел, бред, галлюцинацию". Эх! Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть никогда не будет рая (ведь это-то я понимаю!), – ну, а я всё-таки буду проповедовать. Главное – люби других как себя, вот что главное, и это всё, больше ровно ничего не надо. А между тем ведь это только – старая истина, которую биллион раз повторяли и читали! "Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья – выше счастья" – вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас всё устроится. 1877 повышение в чине – promozione ни за что – per nulla al mondo в одиннадцатом часу – alle 10 passate всё равно – fa lo stesso, indifferente номерá – stanze in affitto Но довольно! – Но хватит! Прародители – здесь: Адам и Ева как бы – как будто прийти в себя – tornare in se 47 Testo n. 10 (8 рp.) Лев Николаевич Толстой Крейцерова соната (фрагмент) Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили люди, но трое ехали, так же как и я, с самого места отхода поезда: некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке, её знакомый, разговорчивый человек лет сорока, с аккуратными новыми вещами, и ещё небольшого роста господин, ещё не старый, но с преждевременно поседевшими кудрявыми волосами и с необыкновенно блестящими глазами. Он был одет в старое от дорогого портного пальто и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстёгивался, видна была русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла ещё в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на кашель или на начатый и оборванный смех. Господин этот во всё время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На вопросы соседей он отвечал коротко и резко, читал или, глядя в окно, курил, или, достав еду из своего старого мешка, пил чай, или закусывал. Во время остановки вечером второго дня, на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, со своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию. Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц и в том числе высокий бритый морщинистый старик, очевидно купец. Он сел напротив места дамы с адвокатом и тотчас же начал разговор с молодым человеком, вошедшим в вагон тоже на этой станции. 48 Я сидел наискосок и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать их разговор. Купец сказал сначала о том, что он едет в своё имение; потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, чем в Москве сегодня торгуют, потом заговорили о Нижегородской ярмарке. Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, которые на ходу про что-то оживлённо разговаривали. — Не успеете, — сказал мне общительный адвокат, — сейчас второй звонок. И точно, я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживлённый разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой. — Затем она прямо объявила своему супругу, — улыбаясь, говорил адвокат в то время, как я проходил мимо него, — что она не может, да и не желает жить с ним, так как... И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли ещё пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда всё затихло и я опять услышал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешёл уже на общие вопросы. Адвокат говорил о том, что вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе и что у нас всё чаще и чаще появлялись такие же случаи. Заметив, что слышен только его голос, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику. — В старину этого не было, не правда ли? — сказал он, приятно улыбаясь. Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв шапку, начал креститься и читать шёпотом молитву. Окончив свою молитву, старик начал говорить. — Бывало, сударь, и прежде, только меньше, — сказал он. — А сегодня нельзя этому не быть. Уж очень люди образованы стали. 49 Поезд, двигался всё быстрее и быстрее, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался. — Да почему же образование плохо? —улыбаясь, сказала дама. — Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и даже не видели друг друга? — продолжала она, по привычке многих женщин отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. — Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили замуж за кого попало, и всю жизнь мучались; так, повашему, лучше? — говорила она, очевидно обращаясь больше ко мне и к адвокату, чем к старику, с которым говорила. — Уж очень образованы стали, — повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя её вопрос без ответа. — Я хотел бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве, — улыбаясь, сказал адвокат. Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его. — Нет, это время уже прошло, — сказала она. Но адвокат остановил её: — Нет, позвольте ему выразить свою мысль. — Глупости от образованья, — решительно сказал старик. — Женят тех, кто не любит друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут, — торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня. — Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности, — говорила она. — Напрасно так говорите, сударыня, — сказал старик, — животное - скот, а человеку дан закон. — Но как же жить с человеком, когда любви нет? — всё торопилась дама высказывать свои идеи, которые, вероятно, ей казались очень новыми. — Прежде об этом не думали, — внушительным тоном сказал старик, —только сегодня завелось это. Если что, она сразу и говорит: «Я от тебя уйду». А в женщине, первое дело, страх должен быть. 50 — Какой же страх? — сказала дама. — А такой: пусть боится своего му-у-ужа! Вот какой страх. — Ну, уж, батюшка, это время прошло, — даже с некоторой злобой сказала дама. — Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужа сотворена, так и останется до скончания века, — сказал старик, строго и победно тряхнув головой. — Да это вы, мужчины, так рассуждаете, — говорила дама, не сдаваясь, — сами себе дали свободу, а женщину хотите в тереме держать. Сами себе наверное всё позволяете. Я думаю, вы согласитесь, что женщина — человек, и имеет чувства, как и мужчина. Ну что же ей делать, если она не любит мужа? — Не любит! — грозно повторил купец, двинув бровями и губами. — Значит полюбит! — Да нет, не полюбит, — заговорила дама, — а если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить. — Ну, а если жена изменит мужу, тогда как? — сказал адвокат. — Этого нельзя, — сказал старик, — за этим смотреть надо. — А если случится, тогда как? Ведь бывает же. — У кого бывает, а у нас не бывает, — сказал старик. Все промолчали. В это время пришел кондуктор проверять билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет. Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок и вышел на тормоз. II Только что старик ушёл, начался разговор в несколько голосов. — Какое дикое понятие о женщине и о браке! — сказала дама. — Да, далеки мы от европейского взгляда на брак, — сказал адвокат. — Ведь главное то, чего не понимают такие люди, — сказала дама, — это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак и что брак истинный только тот, который освящает любовь. 51 В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания, и, оглянувшись, мы увидели моего соседа, седого одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошёл к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно, очень волновался: лицо его было красным, и на щеке дёргался мускул. — Какая же это любовь... любовь... любовь... освящает брак? — сказал он, запинаясь. Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему очень мягко: — Истинная любовь... Если есть эта любовь между мужчиной и женщиной, тогда возможен и брак, — сказала дама. — Да, но что понимать под любовью истинной? — неловко улыбаясь, сказал господин с блестящими глазами. — Каждый знает, что такое любовь, — сказала дама, очевидно желая прекратить с ним разговор. — А я не знаю, — сказал господин. — Надо определить, что вы понимаете... — Как? очень просто, — сказала дама, но задумалась. — Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными, — сказала она. — Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дня, на полчаса? — проговорил седой господин и засмеялся. — Нет, извините, вы, очевидно, не про то говорите. — Нет, я про то самое. — Дама говорит, — вступил адвокат, — что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, любви, если хотите, и что если таковая есть, то только в этом случае брак представляет собой нечто, так сказать, священное. Затем, что всякий брак, в основе которого нет естественных привязанностей — любви, если хотите, — не имеет в себе ничего нравственно-обязательного. Так ли я понимаю? — обратился он к даме. Дама движением головы выразила одобрение. 52 — Поэтому... — продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнём теперь глазами, не дав адвокату договорить начал: — Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими, но я только спрашиваю: предпочтение на сколько времени? — На сколько времени? надолго, на всю жизнь иногда, — ответила дама. — Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на годы, что очень редко, чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы, — говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением, и довольный этим. — Ах, что вы! Да нет, — в один голос заговорили мы все трое. — Да, я знаю, — уже кричал седой господин, — вы говорите про то, что считается существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине. — Ах, это ужасно, что вы говорите; но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое даётся не на месяцы и годы, а на всю жизнь? — Нет, нету. Если даже допустить, что мужчина и предпочёл бы одну женщину на всю жизнь, то эта женщина, по всей вероятности, предпочтёт другого, и так всегда было и есть на свете, — сказал он, достал портсигар и закурил. — Но может быть и взаимность, — сказал адвокат. — Нет, не может быть, — возразил он, — так же как не может быть: любить всю жизнь одну или одного — это всё равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, — говорил он, жадно затягиваясь. — Но вы всё говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном родстве? — сказала дама. — Духовное родство! Единство идеалов! — повторил он, издавая свой звук. — Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А что вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе?! — сказал он и нервно засмеялся. 53 — Но простите, — сказал адвокат, — факты противоречат тому, что вы говорите. Мы видим, что браки существуют, что всё человечество или большинство его живет брачной жизнью и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь. Седой господин опять засмеялся. — Вы говорите, что брак основывается на любви, когда я сомневаюсь в существовании любви, кроме чувственной, и вы мне доказываете существование любви тем, что существуют браки. Да брак-то в наше время один обман! — Нет, позвольте, — сказал адвокат, — я говорю только, что существовали и существуют браки. — Существуют. Да только почему они существуют? Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед Богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и получается или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносить. Но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь и со второго месяца уже ненавидят друг друга, хотят разойтись и всё-таки живут, тогда начинается тот страшный ад, от которого спиваются, убивают и отравляют себя и друг друга, — говорил он всё быстрее, не давая никому вставить слова. Все молчали. Было неловко. — Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, — сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор. — Вы, как я вижу, узнали, кто я? — тихо и как будто спокойно сказал седой господин. — Нет, я не имею удовольствия. — Удовольствие небольшое. Я Позднышев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, — сказал он, оглядывая быстро каждого из нас. Никто не знал, что сказать, и все молчали. Позднышев быстро повернулся и ушёл на своё место. Господин с дамой шептались. Я сидел рядом с Позднышевым и молчал, не умея придумать, что сказать. Читать было 54 темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции. На станции этот господин с дамой перешли в другой вагон, о чём они договорились ещё раньше с кондуктором. Позднышев же всё курил и пил чай. Когда я открыл глаза и посмотрел на него, он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне: — Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду. — О нет, что вы! — Ну, так не хотите ли? Очень крепкий. — Он налил мне чая. — Они говорят... И всё лгут... — сказал он. — Вы про что? — спросил я. — Да всё про то же: про эту любовь и про то, что это такое. Вы не хотите спать? — Совсем не хочу. — Так хотите, я вам расскажу, как я этой самой любовью был приведён к тому, что со мной было. — Да, если вам не тяжело. — Нет, мне тяжело молчать. Пейте же чай. Или он слишком крепкий? Чай действительно был как пиво, но я выпил стакан. В это время прошёл кондуктор. Он проводил его злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушёл… кто попало – chi capita до скончания века –fino alla fine dei tempi нету – разговорная форма от «нет» 55 Testo n. 11 (11 рp.) Иван Александрович Гончаров Обломов (фрагмент) В Гороховой улице, в одном из больших домов, населения которого хватило бы на целый уездный город, лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов. Это был человек лет тридцати двух-трёх от роду, среднего роста, приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием определённой идеи, сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуоткрытые губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём его лице был ровный свет беспечности. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки халата. Иногда взгляд его омрачался выражением усталости или скуки; но ни усталость, ни скука не могли ни на минуту согнать с лица мягкость, которая была господствующим и основным выражением, не лица только, а всей души; а душа так открыто и ясно светилась в глазах, в улыбке, в каждом движении головы, руки. И поверхностный человек, взглянув на Обломова, сказал бы: «Добряк должен быть, простота!» Человек поглубже и посимпатичнее, долго смотря в лицо его, отошёл бы в приятном раздумье, с улыбкой. Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни бледный, а безразличный или казался таким, может быть, потому, что Обломов как-то рано обрюзг: может, от недостатка движения или воздуха, а может быть, того и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, слишком белому цвету шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины. Движения его, когда он был даже встревожен, также отличались мягкостью и грациозной ленью. Если на лицо набегала из души тень заботы, взгляд туманился, на лбу появлялись складки, начиналась игра сомнений, печали, испуга; но редко тревога эта 56 застывала в форме определённой идеи, ещё реже превращалась в намерение. Вся тревога разрешалась вздохом и замирала в апатии. Как шёл домашний костюм Обломова к спокойным чертам лица его и к изнеженному телу! На нём был халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без малейшего намёка на Европу, без кистей, без бархата, весьма свободный, так что и Обломов мог дважды завернуться в него. Рукава, по азиатской моде, шли от пальцев к плечу всё шире и шире. Хотя этот халат и потерял свою первоначальную свежесть, он всё ещё сохранял яркость восточных красок и прочность ткани. Халат имел в глазах Обломова много достоинств: мягкий, гибкий; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется малейшему движению тела. Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и удобство. Туфли на нём были мягкие и широкие; когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то обязательно попадал в них сразу. Для Ильи Ильича лежать было нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он всегда лежал, и всё постоянно в одной комнате, где мы его нашли, которая была для него спальней, кабинетом и приёмной. У него было ещё три комнаты, но он редко туда заглядывал, только утром, и то не каждый день. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, шторы опущены. Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранной. Там стояло бюро из красного дерева, два дивана, обитые шёлком, красивые ширмы с небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шёлковые шторы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей. Но опытный глаз человека с чистым вкусом после одного только взгляда на всё, что тут было, увидел бы только желание кое-как соблюсти неизбежные приличия, чтобы только отделаться от них. Обломов думал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утончённый вкус не удовольствовался бы этими тяжёлыми, неграциозными стульями из красного дерева, шаткими этажерками. Точно такой же характер имели и картины, и вазы, и мелочи. 57 Сам хозяин, однако, смотрел на свой кабинет так холодно и рассеянно, как будто спрашивал: «Кто сюда притащил и наставил всё это?» От такого холодного взгляда Обломова на свою собственность, а может быть, и ещё от более холодного воззрения на неё же слуги его, Захара, вид кабинета, если осмотреть там всё повнимательнее, поражал запущенностью и небрежностью. По стенам, около картин, висела пыльная паутина; зеркала, вместо того чтобы отражать предметы, могли бы служить скорее для записывания на них по пыли какихнибудь заметок на память. Ковры были в пятнах. На диване лежало забытое полотенце; на столе каждое утро стояла не убранная после вчерашнего ужина тарелка с хлебными крошками. Если бы не эта тарелка, да не выкуренная трубка у постели, или не сам хозяин, лежащий на ней, то можно было бы подумать, что тут никто не живёт — так всё запылилось и было лишено живых следов человека. На этажерках, правда, лежали дветри открытые книги, валялась газета; но страницы, на которых были открыты книги, покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно, а номер газеты был прошлогодний. Илья Ильич проснулся очень рано, часов в восемь. Он был чем-то сильно озабочен. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум ещё не приходил на помощь. Дело в том, что Обломов накануне получил из деревни письмо неприятного содержания. Известно, о каких неприятностях могут писать из деревни: неурожай, уменьшение дохода и т. п. Хотя и в прошлом году и три года назад он получал точно такие же письма, но это последнее письмо подействовало так же сильно, как всякий неприятный сюрприз. Легко ли? Нужно думать о каких-нибудь мерах. Впрочем, надо отдать справедливость заботливости Ильи Ильича о своих делах. Он после первого же неприятного письма, полученного несколько лет назад, уже стал создавать в уме план перемен и улучшений в порядке управления своим имением. По этому плану предполагалось ввести разные новые экономические, полицейские и другие меры. Но план был ещё совсем не готов, а неприятные письма ежегодно 58 повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, нарушали покой. Обломов понимал необходимость предпринять что-нибудь решительное для окончания плана. Он, как только проснулся, сразу решил встать, умыться и, после чая, подумать хорошенько, кое-что записать и вообще заняться этим делом как следует. Полчаса он лежал, мучаясь этим намерением, но потом рассудил, что успеет сделать это и после чая, а чай можно пить, как обычно, в постели, тем более, что ничто не мешает думать и лёжа. Так и сделал. После чая он уже приподнялся и чуть было не встал; он даже начал спускать одну ногу с постели, но тотчас же опять поднял её. Пробило половина десятого, Илья Ильич встрепенулся. — Что ж это я в самом деле? — сказал он вслух с досадой. — Надо совесть иметь: пора за дело! — Захар! — закричал он. В комнате, которая отделялась только небольшим коридором от кабинета Ильи Ильича, послышалось сначала ворчанье, а потом стук шагов. В комнату вошёл пожилой человек, в сером сюртуке, с дырой под мышкой, откуда торчал клочок рубашки, в сером же жилете, с медными пуговицами, с голым, как колено, черепом и с такими широкими и густыми бакенбардами, которых хватило бы на три бороды. Захар не старался изменить не только данный ему богом образ, но и свой костюм, в котором ходил в деревне. Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой одежде он видел слабое воспоминание о ливрее, которую он носил когда-то, провожая покойных господ Обломовых в церковь или в гости. Больше ничего не напоминало старику о спокойном быте в глуши деревни. Старые господа умерли, фамильные портреты остались дома и валяются где-нибудь на чердаке. Поэтому для Захара дорог был серый сюртук: в нём и ещё в кое-каких манерах барина, напоминавших его родителей, видел он слабые намёки на прошлое величие. Дом Обломовых был когда-то богат и знаменит, но потом, бог знает почему, все беднел, мельчал и наконец незаметно потерялся между не старыми дворянскими 59 домами. Только поседевшие слуги дома хранили и передавали друг другу верную память о минувшем. Вот почему Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил потому, что видел в детстве много старых слуг с этим старинным, аристократическим украшением. Илья Ильич долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча. Наконец он кашлянул. — Что ты? — спросил Илья Ильич. — Ведь вы звали? — Звал? Зачем же это я звал — не помню! — отвечал он. — Иди пока к себе, а я вспомню. Захар ушёл, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме. Прошло около четверти часа. — Ну, хватит лежать! — сказал он, — надо же встать... А впрочем, дай-ка я прочитаю ещё раз внимательно письмо, а потом уже и встану. — Захар! Опять тот же стук шагов и ворчанье сильнее. Захар вошёл, а Обломов опять задумался. Захар стоял минуты две, недовольно посматривая на барина, и наконец пошёл к дверям. — Куда же ты? — вдруг спросил Обломов. — Вы ничего не говорите, так что же тут стоять? — захрипел Захар, по его словам, он потерял голос на охоте с собаками, когда ездил со старым барином и когда ему будто дунул сильный ветер в горло. Он стоял посередине комнаты и глядел на Обломова. — А разве ты не можешь постоять? Ты видишь, я думаю — так и подожди. Найди письмо, которое я вчера из деревни получил. Куда ты его дел? — Какое письмо? Я никакого письма не видел, — сказал Захар. — Ты же от почтальона принял его: грязное такое! — Куда же его положили — откуда я могу знать? — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе. 60 — Ты никогда ничего не знаешь. Там, в корзине, посмотри! Или за диваном. Вот спинка-то у дивана до сих пор сломана; что же ты не позвал столяра и не починил? Ведь ты же сломал. Ни о чём не думаешь! — Я не ломал, — отвечал Захар, — она сама сломалась; должна же она была когданибудь сломаться. Илья Ильич решил не спорить. — Нашёл, что ли? — спросил он только. — Вот какие-то письма. — Не те. — Ну, так других нет, — говорил Захар. — Ну хорошо, иди! — с нетерпением сказал Илья Ильич. — Я встану, сам найду. Захар пошёл к себе, но только он взялся руками за печку, чтоб прыгнуть на неё, как опять послышался крик: «Захар, Захар!» — Ах ты, господи! — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. — Что это за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла! — Чего вам? — сказал он недовольно. — Носовой платок, скорей! Сам бы мог догадаться: не видишь! — строго заметил Илья Ильич. Захар не выразил никакого особенного неудовольствия, или удивления при этом приказании барина, находя его вполне естественным. — А кто знает, где платок? — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так было видно, что на стульях ничего не лежит. — Всё теряете! — заметил он, открывая дверь в гостиную, чтобы посмотреть, нет ли его там. — Куда? Здесь ищи! Я три дня там не был. Да скорее же! — говорил Илья Ильич. — Где платок? Нету платка! — говорил Захар, осматривая все углы. — Да вон он, — вдруг сердито захрипел он, — под вами! Вон конец торчит. Сами лежите на нём, а спрашиваете, где платок! 61 И, не дожидаясь ответа, Захар пошёл из комнаты. Обломову стало немного неловко из-за собственного промаха. Он быстро нашёл другой повод сделать Захара виноватым. — Какая у тебя чистота везде: сколько пыли, сколько грязи-то, боже мой! Вон, вон, погляди в углах — ничего не делаешь! — Уж если я ничего не делаю... — заговорил Захар обиженным голосом, — стараюсь, жизни не жалею! И пыль стираю и подметаю почти каждый день... Он указал на пол и на стол, за которым Обломов обедал. — Вон, вон, — говорил он, — все чисто, убрано, как к свадьбе... Чего ещё? — А это что? — прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок. — А это? А это? — Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце и на забытую, на столе тарелку с куском хлеба. — Ну, хорошо, это уберу, — сказал Захар снисходительно, взяв тарелку. — Только это! А пыль на стенах, а паутина?.. — говорил Обломов, указывая на стены. — Это я к святой неделе убираю: тогда иконы чищу и паутину снимаю... — А книги, картины?.. — Книги и картины перед рождеством: тогда с Анисьей все шкафы разберем. А сейчас когда убирать? Вы всегда дома сидите. — Я иногда хожу в театр и в гости: вот бы... — Что за уборка ночью! Обломов с упрёком поглядел на него и вздохнул, а Захар равнодушно посмотрел в окно и тоже вздохнул. Хозяин, кажется, думал: «Ну, брат, ты ещё больше Обломов, чем я сам», а Захар подумал: «Врёшь! ты только говоришь мудрёные слова, а до пыли и до паутины тебе дела нет». — Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стене! — У меня и блохи есть! — равнодушно ответил Захар. — Разве это хорошо? Ведь это гадость! — заметил Обломов. Захар усмехнулся и сказал с наивным удивлением: 62 — Чем же я виноват, что клопы есть на свете? Разве я их выдумал? — Это от нечистоты, — перебил Обломов. — Что ты всё врёшь! — И нечистоту не я выдумал. — У тебя вот там мыши бегают по ночам — я слышу. — И мышей не я выдумал. Что мышей, что кошек, что клопов, везде много. — Как же у других не бывает ни моли, ни клопов? На лице Захара выразилась недоверие, или, лучше сказать, уверенность в том, что этого не бывает. — У меня всего много, — сказал он упрямо, а сам, кажется, думал: «Да и что за сон без клопа?» — Ты подметай, убирай мусор из углов — и не будет ничего, — учил Обломов. — Сегодня уберёшь, а завтра опять будет, — говорил Захар. — Не будет, — перебил барин, — не должно. — Будет — я знаю, — твердил слуга. — А будет, так опять подмети. — Как это? Каждый день убирать все углы? — спросил Захар. — Да что же это за жизнь? Лучше богу душу отдать! — Почему же у других чисто? — возразил Обломов. — Посмотри напротив, у настройщика: приятно взглянуть, а всего одна девка... — А где немцы мусора возьмут, — вдруг возразил Захар. — Вы поглядите-ка, как они живут! Вся семья целую неделю одну кость ест. Сюртук от отца переходит к сыну, а с сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие… Где им мусора взять? У них и корка хлеба зря не валяется: наделают сухариков, да с пивом и выпьют! Захар даже плюнул, рассуждая о такой ужасной жизни. — Хватит разговаривать! — возразил Илья Ильич, ты лучше убирай. — Я убрал бы, да вы же сами не даёте, — сказал Захар. — Опять за своё! Всегда я мешаю. — Конечно, вы. Всё дома сидите: как будешь убирать? Уйдите на целый день, так и уберу. 63 — Вот ещё выдумал — уйти! Иди-ка ты лучше к себе. — Да правда! — настаивал Захар. — Вот, если бы сегодня ушли, мы бы с Анисьей и убрали всё. — Э! Какие затеи! Иди к себе, — говорил Илья Ильич. Он уже был не рад, что начал этот разговор с Захаром. Обломову и хотелось бы, чтобы было чисто, но он желал бы, чтобы это сделалось как-нибудь незаметно, само собой; а Захар всегда начинал спор, когда от него требовали стереть пыль, помыть полы и т.п. Он в таких случаях всегда доказывал, что в доме необходима будет громадная возня, зная очень хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас. Захар ушёл, а Обломов погрузился в размышления. Через несколько минут пробило ещё полчаса. — Что это? — почти с ужасом сказал Илья Ильич. — Одиннадцать часов скоро, а я ещё не встал, не умылся до сих пор? Захар, Захар! — Ах ты, боже мой! Ну! — послышалось из передней. — Умыться готово? — спросил Обломов. — Готово давно! — отвечал Захар. — Чего вы не встаёте? — Что же ты не говоришь, что всё готово? Я бы уже встал давно. Иду. Мне надо заниматься, я сяду писать. Захар ушёл, но через минуту вернулся со старой тетрадкой и клочками бумаги. — Вот, если будете писать, так и счета проверьте: надо деньги заплатить. — Какие счета? Какие деньги? — с неудовольствием спросил Илья Ильич. — От мясника, от прачки, от булочника: все денег просят. — Только о деньгах и думаешь! — ворчал Илья Ильич. — А почему ты понемногу не приносишь счета, а вдруг все сразу? — Вы же ведь всегда прогоняли меня: завтра, да завтра... — Ну, так и сегодня: разве нельзя до завтра? — Нет! Больше не дают в долг. Сегодня первое число. 64 — Ах! — с тоской сказал Обломов. — Новая забота! Ну, что стоишь? Положи на стол. Я сейчас встану, умоюсь и посмотрю, — сказал Илья Ильич. — Так умыться-то готово? — Готово! — сказал Захар. — Ну, теперь... Он начал приподниматься на постели, чтобы встать. — Я забыл вам сказать, — начал Захар, — когда вы ещё спали, управляющий дворника прислал: говорит, что надо съехать... квартира нужна. — Ну, если нужна, так, разумеется, съедем. Что ты пристаёшь ко мне? Уже третий раз говоришь мне об этом. — Ко мне пристают тоже. — Скажи, что съедем. — Он говорит: вы уже месяц обещаете, а всё не съезжаете; я, говорит, полицию вызову. — Пусть вызывает! — сказал решительно Обломов. — Мы и сами переедем, как потеплее будет, недели через три. — Недели через три! Управляющий говорит, что через две недели рабочие придут: ломать все будут... «Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра...» — Э-э-э! слишком скоро! Это ещё что! А ты мне больше не смей и напоминать о квартире. Я уже тебе запретил, а ты опять. Смотри! — Что же мне делать-то? — отозвался Захар. — Что же делать? — отвечал Илья Ильич. — Он меня спрашивает! Мне что за дело? Ты не беспокой меня, а там как хочешь, так и делай, только чтобы не переезжать. Не можешь постараться для барина! — Да что же, Илья Ильич, я могу сделать? — начал Захар. — Дом-то не мой: как же из чужого дома не переезжать, если выгоняют? — Нельзя ли их уговорить как-нибудь. «Мы живём давно, платим вовремя». — Говорил, — сказал Захар. — Ну, что ж он? 65 — Что! Заладил своё: «Переезжайте, говорит, нам нужно квартиру переделывать». Хотят из докторской квартиры и из этой одну большую сделать, к свадьбе хозяйского сына. — Ах ты, боже мой! — с досадой сказал Обломов. — Ведь есть же такие ослы, что женятся! Он повернулся на спину. — А вы напишите хозяину, — сказал Захар, — так, может быть, он вас пока не тронет, а будет сначала вон ту квартиру ломать. Захар при этом показал рукой куда-то направо. — Ну хорошо, когда встану, напишу... Ты иди к себе, а я подумаю. Ничего ты не умеешь сделать, — добавил он, — мне и об этой дряни надо самому заботиться. Захар ушёл, а Обломов стал думать. Но он не знал, о чём думать: о письме ли из деревни, о переезде ли на новую квартиру, о счетах ли? Он терялся от житейских забот и всё лежал, ворочаясь с боку на бок. Иногда только слышались восклицания: «Ах, боже мой! Жизнь везде достанет». Неизвестно, сколько ещё пробыл бы он в этой нерешительности, но в передней раздался звонок. — Кто-то уже пришёл! — сказал Обломов, кутаясь в халат. — А я ещё не вставал — какой стыд! Кто бы это мог быть так рано? И он, лёжа, с любопытством смотрел на двери. 1857 как следует – come si deve тебе дела нет – тебя это не интересует отдать богу душу – умереть девка – служанка опять за своё –начать снова старый разговор съехать с квартиры – оставить квартиру Мне что за дело? – Мне нет никакого дела. 66 Testo n.12 (13 рр.) Иван Сергеевич Тургенев Первая любовь Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин, Сергей Николаевич и Владимир Петрович. Хозяин позвонил и велел убрать остатки ужина. — Итак, это дело решённое, — промолвил он, закурив сигару, — каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. Ваша очередь, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, кругленький человек с пухлым лицом, посмотрел сначала на хозяина, потом поднял глаза к потолку. — У меня не было первой любви, — сказал он наконец, — я начал прямо со второй. — Это каким образом? — Очень просто. Мне было восемнадцать лет, когда я в первый раз ухаживал за одной миленькой барышней; потом я точно также ухаживал за другими. В первый и последний раз я влюбился, когда мне было лет шесть, в свою няню; но это было очень давно. Подробности наших отношений исчезли из моей памяти, да если бы я их и помнил, кого это может интересовать? — Так как же быть? — начал хозяин. — В моей первой любви тоже не много занимательного; я ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой: отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбили друг друга и поженились. Моя сказка из двух слов. Я, господа, признаюсь, поднимая вопрос о первой любви, надеялся на вас, не скажу старых, но и не молодых холостяков. Может вы нам что-нибудь расскажете, Владимир Петрович? 67 — Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем обыкновенных, — ответил с небольшой запинкой Владимир Петрович, человек лет сорока, черноволосый, с проседью. — А! — промолвили хозяин и Сергей Николаевич в один голос. — Тем лучше... Рассказывайте. — Рассказывать я не стану; я не умею рассказывать: выходит сухо, коротко и фальшиво; а если позволите, я запишу всё, что вспомню, в тетрадку — и прочитаю вам. Приятели сначала не согласились, но Владимир Петрович настоял на своём. Через две недели они опять сошлись, и Владимир Петрович сдержал своё обещание. Вот что было в его тетрадке: I Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года. Я жил в Москве у моих родителей. Они снимали дачу напротив Нескучного сада. Я готовился поступать в университет, но работал очень мало и не торопясь. Никто не мешал моей свободе. Я делал что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернёром-французом, который никак не мог привыкнуть к мысли, что он упал «как бомба» (comme une bombe) в Россию, и с ожесточённым выражением на лице целыми днями валялся в постели. Отец был со мной равнодушноласков; мать почти не обращала на меня внимания, хотя у неё, кроме меня, не было детей. Мой отец, человек ещё молодой и очень красивый, женился на ней по расчёту; она была старше его на десять лет. Мать моя вела печальную жизнь: постоянно волновалась, ревновала, сердилась — но не в присутствии отца; она очень его боялась, а он держался строго и холодно... Я не видел человека более спокойного и самоуверенного. Я никогда не забуду первых недель на даче. Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого мая. Я гулял — то в саду нашей дачи, то по Нескучному саду; брал с собою какую-нибудь книгу — курс Кайданова, например, — но редко её раскрывал, а больше читал вслух стихи, которых знал очень много наизусть; фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений; я задумывался, грустил и даже 68 плакал; но и сквозь слёзы и грусть проступало радостное чувство молодой, закипающей жизни. У меня была лошадь, я уезжал один куда-нибудь подальше и воображал себя рыцарем на турнире — как весело дул мне ветер в лицо! Я помню, что в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал в моём уме; но во всём, о чём я думал, во всём, что я чувствовал, таилось полусознанное предчувствие чего-то нового, необычайно сладкого, женского... Это предчувствие было в каждой капле моей крови... оно скоро должно было сбыться. Дача наша состояла из деревянного дома с колоннами и двух низеньких флигелей; во флигеле слева находилась маленькая фабрика дешёвых обоев... Я часто ходил туда смотреть, как десяток худых мальчишек в грязных халатах печатали на прессах пёстрые узоры обоев. Флигель справа стоял пустой и сдавался внаймы. В один день — недели три спустя после девятого мая — ставни в окнах этого флигеля открылись, показались в них женские лица — какое-то семейство в нём поселилось. Помню, в тот же день за обедом мать спросила у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услышав фамилию княгини Засекиной, сначала промолвила не без уважения: «А! княгиня... — а потом добавила: — Наверное, бедная какая-нибудь». Отец холодно взглянул на неё: она замолчала. Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной: снятый ею флигель был таким маленьким и низким, что люди зажиточные, не согласились бы поселиться в нём. II У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьём по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным птицам я издавна чувствовал ненависть. В тот день я случайно подошёл к низкому забору, отделявшему наши владения от узенькой полосы сада, принадлежавшей флигелю справа. Вдруг я услышал голоса; я взглянул через забор — и окаменел... 69 В нескольких шагах от меня — на поляне, между кустами малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове; её окружали четыре молодые человека, и она поочереди хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветами, имени которых я не знаю. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы — а в движениях девушки (я её видел сбоку) было что-то такое очаровательное, повелительное и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия. Ружьё моё упало на траву, я забыл обо всём... — Молодой человек, а молодой человек, — проговорил вдруг возле меня чей-то голос, — разве можно глядеть так на чужих барышень? Я вздрогнул... Возле меня за забором стоял какой-то человек с короткими чёрными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне... Я увидел огромные серые глаза на оживлённом лице — и всё это лицо вдруг задрожало, засмеялось, брови как-то забавно поднялись... Я схватил с земли ружьё и, закрыв лицо руками, убежал к себе в комнату. Сердце во мне так и прыгало; мне было очень стыдно и весело: я чувствовал необычное волнение. Отдохнув, я причесался и сошёл вниз к чаю. Образ молодой девушки стоял передо мной, сердце перестало прыгать, но как-то приятно сжималось. — Что с тобой? — внезапно спросил меня отец, — убил ворону? Я хотел всё рассказать ему, но удержался и только улыбнулся. Под утро я проснулся на мгновенье, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом — и опять заснул. III «Как с ними познакомиться?» — было первой моей мыслью, как только я проснулся утром. Перед чаем я отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не видел. После чая я прошёл несколько раз по улице перед дачей — и издали заглядывал в окна... Мне почудилось за занавеской её лицо, и я с испугом поскорее ушёл. «Однако надо же познакомиться, — думал я, — но как? Вот в чём 70 вопрос». Я вспоминал подробности вчерашней встречи... Но, пока я волновался и строил планы, судьба уже позаботилась обо мне. Пока меня не было дома, матушка получила от новой своей соседки письмо, в котором княгиня просила матушку оказать ей покровительство: матушка моя, по словам княгини, была хорошо знакома с важными людьми, от которых зависела её судьба и судьба её детей, так как у неё были очень важные судебные процессы. Она просила у матушки разрешения явиться к ней. Я нашёл матушку в плохом настроении: отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Не отвечать «благородной, даме» было невозможно, а как отвечать — матушка не знала. Написать записку по-французски казалось ей неуместным, а в русской орфографии матушка не была сильна — и знала это и не хотела себя компрометировать. Она обрадовалась моему приходу и тотчас приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить, что матушка всегда готова оказать ей услугу и просит её прийти к ней в первом часу. Такое неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало и испугало… IV В тесном флигельке встретил меня старый и седой слуга с тёмным, медного цвета, лицом, свиными глазками и такими глубокими морщинами на лбу, каких я в жизни не видел. Он спросил: — Чего вам? — Княгиня Засекина дома? — Вонифатий! — закричал из-за двери женский голос. Слуга молча повернулся ко мне спиной и ушёл. — А?.. Пришёл кто-то?.. — послышалось опять. — Сосед? Ну, проси. — Проходите в гостиную, — проговорил слуга, появившись снова передо мной. Я оправился и вошёл в «гостиную». Я очутился в небольшой комнате с бедной мебелью. У окна, на кресле сидела женщина лет пятидесяти, некрасивая, в зелёном старом платье и с пёстрым платком вокруг шеи. Её небольшие чёрные глазки так и впились в меня. — Я имею честь говорить с княгиней Засекиной? 71 — Я княгиня Засекина; а вы сын господина В.? — Точно так. Я пришёл к вам с поручением от матушки. — Садитесь, пожалуйста. Вонифатий! Где мои ключи, не видел? Я сообщил госпоже Засекиной ответ моей матушки на её записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по окну, а когда я кончил, ещё раз пристально посмотрела на меня. — Очень хорошо; обязательно буду, — промолвила она наконец. — А как вы ещё молоды! Сколько вам лет, позвольте спросить? — Шестнадцать лет, — отвечал я. — Годы хорошие, — произнесла она внезапно. — А вы, пожалуйста, будьте как дома. У меня просто. В это мгновение другая дверь гостиной быстро распахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице её мелькнула усмешка. — А вот и дочь моя, — промолвила княгиня, указав на неё локтем. — Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать? — Владимир, — отвечал я, вставая от волнения. — А по отчеству? — Петрович. — Да! У меня был полицеймейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий! Не ищи ключи, ключи у меня в кармане. Молодая девушка продолжала смотреть на меня с прежней усмешкой. — Я уже видела мсьё Вольдемара, — начала она. — Вы мне позволите так называть вас? — Конечно, — пролепетал я. — Где это? — спросила княгиня. Княжна не отвечала своей матери. — Вы сейчас заняты? — промолвила она. — Никак нет. 72 — Хотите мне помочь шерсть распутать? Подите сюда, ко мне. Она кивнула мне головой и вышла из гостиной. Я отправился вслед за ней. В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с бо́льшим вкусом. Впрочем, в это мгновенье я почти ничего заметить не мог: я двигался как во сне. Княжна села, достала связку красной шерсти и положила мне её на руки. Всё это она делала молча, с какой-то медлительностью и с той же светлой усмешкой на губах. Она начала наматывать шерсть на согнутую бумагу: — Что вы подумали обо мне вчера, мсьё Вольдемар? — спросила она через некоторое время. — Вы, наверное, осудили меня? — Я... княжна... я ничего не думал... как я могу... — отвечал я со смущением. — Послушайте, — возразила она. — Вы меня ещё не знаете: я престранная; я хочу, чтобы мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, шестнадцать лет, а мне двадцать один: видите, я старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду... и слушаться меня, — прибавила она. — Смотрите на меня — почему вы на меня не смотрите? Я смутился ещё более, однако поднял на неё глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой. — Мне ваше лицо нравится; я чувствую, что мы будем друзьями. А я вам нравлюсь? — прибавила она лукаво. — Княжна... — начал было я. — Во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у молодых людей — не говорить прямо то, что они чувствуют? Ведь я вам нравлюсь? Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв серьёзный вид, промолвил: — Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна; я не хочу это скрывать. Она покачала головой. 73 — У вас есть гувернёр? — спросила она вдруг. — Нет, у меня уже давно нет гувернёра. Я лгал; ещё месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом. — О! да я вижу — вы совсем большой. Она легко ударила меня по пальцам. — Держите прямо руки! — И занялась наматыванием клубка. Она не поднимала глаз, и принялся её рассматривать. Лицо её показалось мне ещё прелестнее, чем накануне: так всё в нём было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, и солнечный луч обливал мягким светом её золотые волосы, покатые плечи и нежную, спокойную грудь. Я глядел на неё — и как дорога́ и близка становилась она мне! Мне казалось, что я давно её знаю и ничего не знал и не жил до нее... Мне было хорошо, как рыбе в воде, и я мог бы век сидеть в этой комнате. — Как вы на меня смотрите, — медленно проговорила она и погрозила мне пальцем. Я покраснел... «Она всё понимает, она всё видит, — мелькнуло у меня в голове.» Вдруг что-то застучало в соседней комнате. — Зина! — закричала в гостиной княгиня, — Беловзоров принёс тебе котёнка. — Котёнка! — воскликнула Зинаида и, поднявшись со стула, бросила клубок мне на колени и выбежала из комнаты. Я тоже встал, вышел в гостиную и остановился в недоумении. Посередине комнаты лежал полосатый котенок; Зинаида стояла перед ним на коленях и осторожно поднимала ему мордочку. А около княгини был белокурый и курчавый гусар с румяным лицом и глазами навыкате. — Какой смешной! — твердила Зинаида, — и глаза у него не серые, а зелёные, и уши какие большие. Спасибо вам, Виктор Егорыч! Гусар, в котором я узнал одного из вчерашних молодых людей, улыбнулся и поклонился. — Вы вчера сказали, что вы хотите полосатого котенка с большими ушами... вот, я и достал. Слово — закон. — И он опять поклонился. 74 Котёнок слабо пискнул и начал нюхать пол. — Он голодный! — воскликнула Зинаида. — Вонифатий! Соня! Принесите молока. Горничная вошла с блюдечком молока в руке и поставила его перед котёнком. Он зажмурился и принялся лакать. — Какой у него розовый язычок, — заметила Зинаида, пригнув голову почти к полу и заглядывая ему под самый нос. Котёнок насытился и замурлыкал. Зинаида встала и, обернувшись к горничной, равнодушно промолвила: — Унеси его. — За котенка — ручку поцеловать, — проговорил гусар. — Обе, — возразила Зинаида и протянула ему руки. Пока он целовал их, она смотрела на меня через плечо. Я стоял на одном месте и не знал — засмеяться ли мне, сказать ли что-нибудь, или промолчать. Вдруг, за дверью я увидел нашего лакея Фёдора. Он делал мне знаки. Я вышел к нему. — Что ты? — спросил я. — Маменька прислала за вами, — проговорил он шёпотом. — Она сердится, что вы с ответом не возвращаетесь. — Да разве я давно здесь? — Больше часа. — Больше часа! — повторил я невольно и, вернувшись в гостиную, начал прощаться. — Куда вы? — спросила меня княжна. — Мне нужно домой. Так я скажу, — прибавил я, обращаясь к старухе, — что вы придёте к нам во первом часу. — Так и скажите, пожалуйста. Я ещё раз поклонился, повернулся и вышел из комнаты с тем чувством неловкости в спине, которое ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему смотрят вслед. — Заходите к нам, мсьё Вольдемар,— крикнула Зинаида и опять рассмеялась. 75 «Почему это она всё смеется?» — думал я, возвращаясь домой с Фёдором, который ничего мне не говорил, но смотрел неодобрительно. Матушка меня поругала и удивилась: что я мог так долго делать у этой княгини? Я ничего не отвечал ей и отправился к себе в комнату. Мне вдруг стало очень грустно... Я старался не плакать... Я ревновал к гусару. V Княгиня, как обещала, навестила матушку и не понравилась ей. За столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня Засекина ей кажется вульгарной, что она очень ей надоела своими просьбами попросить за неё князя Сергея, что у неё всё какие-то тяжбы и дела. Матушка, однако же, добавила, что она пригласила её с дочерью завтра на обед (услышав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку), потому что она всё-таки соседка, и с именем. — Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь её позвала; меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка. — А! Значит, она не в мать. — И не в отца, — возразил отец. — Тот был тоже образован, но глуп. Матушка вздохнула и задумалась. Отец замолчал. Мне было очень неловко в течение этого разговора. После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал себе слово не подходить к «засекинскому саду», но какая-то сила влекла меня туда — и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала. Я кашлянул. Она обернулась, но не остановилась, посмотрела на меня, улыбнулась и опять опустила глаза в книжку. Я снял фуражку и, постояв немного на месте, пошёл прочь с тяжёлым сердцем. Знакомые шаги раздались за мною: я оглянулся — ко мне своей быстрой и лёгкой походкой шёл отец. — Это княжна? — спросил он меня. — Княжна. 76 — Разве ты её знаешь? — Я её видел сегодня утром у княгини. Отец остановился и, круто повернувшись, пошёл за Зинаидой. Поравнявшись с ней, он вежливо поклонился. Она также ему поклонилась, с некоторым изумлением на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень элегантно и просто, но никогда его фигура не казалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его немного поредевших кудрях. Я хотел подойти к Зинаиде, но она даже не посмотрела на меня, снова приподняла книгу и удалилась. VI Целый вечер и следующее утро я провёл в каком-то онемении. Перед обедом я причесался и опять надел сюртук и галстук. — Это ещё зачем? — спросила матушка. — Гости будут, — прошептал я с отчаянием. — Вот вздор! Какие это гости! Надо было покориться. Я заменил сюртук курткой, но галстук не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда; старуха тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность. Она так шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ёрзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице её появилась холодная важность — и я её не узнавал, её взгляда, её улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было лёгкое платье с синими разводами; волосы падали длинными локонами вдоль щёк — на английский манер; эта причёска шла к холодному выражению её лица. Отец мой сидел возле неё во время обеда и со спокойной вежливостью занимал свою соседку. Разговор у них шёл по-французски; меня, помню, удивила чистота произношения Зинаиды. Княгиня по-прежнему ничего не стеснялась, много ела и хвалила блюда. Матушка отвечала ей с некоторым пренебрежением. Зинаида также не понравилась матушке. 77 На меня Зинаида не обращала никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться. Отец ей поклонился и проводил её до двери. Я стоял тут же в своей котроткой куртке, словно приговорённый к смерти. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было моё удивление, когда, проходя мимо меня, она шепнула мне: — Приходите к нам в восемь часов, слышите, обязательно... VII Ровно в восемь часов я в сюртуке входил во флигель, где жила княгиня. В гостиной раздавались весёлые голоса. Я открыл дверь и остановился. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала в руках мужскую шляпу; вокруг стула толпилось пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала её вверх. Увидев меня, она вскрикнула: — Постойте, постойте! Новый гость, надо и ему дать билет, — и, легко соскочив со стула, подошла ко мне. — Позвольте вас познакомить: это мсьё Вольдемар, сын нашего соседа. А это: граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, капитан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. — Граф! — продолжала Зинаида, — напишите мсьё Вольдемару билет. — Это несправедливо, — возразил с лёгким польским акцентом граф, очень красивый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носом и тонкими усиками. — Он не играл с нами в фанты. — Несправедливо, — повторили Беловзоров и господин, названный капитаном. — Пишите билет, говорят вам, — повторила княжна. — Это что за бунт? Мсьё Вольдемар с нами в первый раз. Нечего ворчать, пишите, я так хочу. Граф покорно взял перо, оторвал клочок бумаги и стал писать на нём. — По крайней мере нужно объяснить господину Вольдемару, в чём дело, — начал насмешливым голосом Лушин, — а то он совсем растерялся. Мы играем в фанты; кто достанет счастливый билет, будет иметь право поцеловать ей ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал? 78 Я продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и взяла шляпу. — Майданов, — сказала княжна высокому молодому человеку, — вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсьё Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного. Но Майданов отказался. Я последним опустил руку в шляпу, взял и развернул билет... Господи! Что случилось со мной, когда я увидел на нём слово: поцелуй! — Поцелуй! — вскрикнул я. — Браво! он выиграл. Как я рада! — Княжна сошла со стула и так ясно и сладко посмотрела мне в глаза, что у меня сердце покатилось. — А вы рады? — спросила она меня. — Я?.. — пролепетал я. — Продайте мне свой билет, — воскликнул Беловзоров. — Я вам сто рублей дам. Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец! Зинаида стала передо мной и с важностью протянула мне руку. Я хотел было опуститься на одно колено, но упал на оба — и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа её ногтем. Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких только ни придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, изображать «статую» — и в качестве пьедестала она себе выбрала безобразного Нирмацкого. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, трезво воспитанному мальчику, выросшему в степенном доме, весь этот шум и гам, это буйное веселье так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Зинаида по-прежнему не отпускала меня от себя. Фанты надоели нам, — мы стали играть в верёвочку. Боже мой! Да что мы ещё проделывали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и изображали цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водой с солью. Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца», которую он собирался 79 издать в чёрной обложке с буквами кровавого цвета; старика Вонифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу... Всего не перечислишь. Мы, наконец, выбились из сил. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого, сухого сыра и каких-то холодных пирожков с ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов. Усталый и счастливый, я вышел из флигеля; на прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась. Ночь тяжело и сыро ударила мне в разгоряченное лицо; казалось, приближалась гроза; чёрные тучи ползли по небу. Через заднюю дверь пробрался я в свою комнату. Но не разделся и не лёг. Я сел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я чувствовал, было таким новым и так сладким... Я медленно дышал и только временами молча смеялся, и холодел при мысли, что я влюблён, что вот она, вот эта любовь. Наконец я встал, на цыпочках подошёл к своей кровати и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку... Я лёг, но даже не закрыл глаз. Скоро я заметил, что ко мне в комнату попадали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. «Гроза», — подумал я, — и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные молнии, похожие на крыло умирающей птицы. Я встал, подошёл к окну и простоял там до утра... С приближением утра молнии исчезли, затопленные отрезвляющим светом наступавшего дня... И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину... но образ Зинаиды продолжал носиться над моей душой. О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброта души, радость первых умилений любви, — где вы, где вы? 1860 в первом часу – alle 12 passate она не в мать – не похожа на мать выбиться из сил – устать 80 Testo n. 13 (3 рр.) Иван Алексеевич Бунин История с чемоданом Начинается эта ужасная история весело, просто и гладко. Дело происходит в доброе старое время, однажды весной. Я молод, беспечен, живу в Москве и собираюсь в своё первое путешествие в Турцию, что, конечно, ещё больше меня окрыляет, делает особенно лёгким в решениях и поступках. И вот наступает день моего отъезда, я начинаю укладывать вещи, вижу, что мой старый чемодан слишком мал, истрёпан, и иду в Английский магазин, на Кузнецкий мост, чтобы купить новый, большой, прочный. Что такое чемодан? Это интимнейший друг человека, - по крайней мере, в дороге, выбор которого требует немало ума, расчёта, опытного глаза… Что касается чемодана, о котором идёт речь, то я купил его совсем иначе: вне всяких мудрых правил, без размышлений, с небрежнейшей быстротой, однако крайне удачно. Так, во всяком случае, казалось сначала: чемодан на первый взгляд был безупречен. Я до сих пор отлично помню, как произошла эта покупка. Я вошёл в магазин с тем приятным чувством, с каким всегда входишь в магазин дорогой, богатый и потому спокойный, просторный, красивый, а главное, знакомый, где тебя не только давно знают, но, как кажется, и любят. Я, помню, отвечая на поклоны, быстрым шагом прошёл по коврам, и, войдя в дорожное отделение, указал на первый попавшийся кожаный чемодан. Не спросив даже, сколько он стоит, я приказал отправить его ко мне в гостиницу. Я сразу, конечно, заметил, что что цена чемодана, когда я о ней узнаю, заставит меня ахнуть. Но эта мысль, это чувство тотчас исчезли от сознания, что такой 81 превосходной вещи у меня ещё никогда не бывало, что я могу покрыть эту трату экономией на прочих расходах... Вернувшись в гостиницу, я вбежал в номер и кинулся к дивану. Я быстро перерезал верёвку, развернул бумагу – и вот мой новый друг предстал передо мной во всём своём блеске: большой, тяжёлый, прочный, с этим удивительным блеском новой великолепной кожи, с зеркально-белыми замками … Легко себе представить, с каким чувством я его раскрыл, увидел его девственные недра, большой тёмно- красный карман на верхней половине! Так радовал он меня всю дорогу до Одессы. Я всё время наслаждался мыслью о том, чем обладаю. Сижу в вагоне-ресторане за обедом, наливаю красное бордо в низкий и толстый стакан, гляжу на столы, на соседей, потом пью кофе и курю сладкую сигару, а сам мысленно вижу своё купе с уже приготовленной постелью, лампочку под розовым абажуром на столике - и его, мою гордость: лежит себе, плотно набитый всем мне необходимым, качается и дремлет, мчится вместе со всеми нами в Киев, в Одессу! В купе после обеда, выписываю минеральной воды, раздеваюсь, выключаю свет, засыпаю и опять та же мысль, то же чувство: ночь, вагон, темнота, всё летит, скачет, а он тут, он со мной, в этой сетке... Я чувствовал к нему даже какую-то благодарность! Ну а затем мы приехали с ним в Киев, пересели в другой поезд, тоже ночной, а утром проснулись уже под Одессой, в то время когда весь вагон умывался, одевался, пил чай, который несли по поезду лакеи... В Одессе мы остановились в гостинице «Петербургская», он, то есть чемодан, полежал в вестибюле, а я съездил в пароходную контору, потом позавтракал в ресторане «Петербургской» и, расплатившись по счёту и вновь соединившись с чемоданом, помчался в порт... Пароход уже готовился к отходу. Он оказался старым, низким, с тяжёлой кормой, - значит, подумал я, путешествие будет спокойным. Был он приятен и тем, что был совсем почти безлюден, - только в самую последнюю минуту подъехали ещё два пассажира первого класса, какой-то священник и худая дама в трауре, - так что в нашем с чемоданом распоряжении оказалась целая большая каюта. Там чемодан лёг на верхней полке, а я расположился на нижней. Вскоре после этого я услышал над нами топот матросов, под бортом зашумело, набережная 82 стала отдаляться... На закате мы были уже далеко в море, и я не забуду того ровного хода, каким шли мы весь вечер. Надышавшись тёплым ветром, я, часов в десять, был уже в койке и стал сладко засыпать, как вдруг, меня отбросило книзу и оглушило таким громом, что я дико вскочил с койки - в полном убеждении, что пароход налетел на чтото и что сейчас в каюту хлынет море, - и получил страшный удар по ногам. Пол за мной внезапно провалился, и я снова покатился к койке... И пошло, пошло! Дело было ясно: страшная качка! Но этот гром, грохот? Этот удар по ногам? Страшнее всего было мгновение ожидания нового удара, пока я катился к койке. Тут я, однако, изловчился и включил свет в каюте. Что же оказалось? В шуме волн, в свисте ветра по полу каюты носится что-то живое! Да, живое, живое! Что? Но чемодан, конечно! Это он ударил меня, свалившись с верхней полки об пол, потом чуть не сломал мне ноги... Теперь, на свободе, он носился по каюте как сумасшедший. Казалось, он мстил кому-то за всю ту покорность, с которой он должен был лежать всю дорогу, притворяться моей вещью, бездушным чемоданом. Он вдруг ожил и бросался то на меня, то на койку и бил лбом в ножку, то, летел под умывальник, а оттуда к двери, а от двери под иллюминатор... Надо было немедленно кинуться на этого безумца, схватить его и засунуть под койку! И тут я опять сорвался с полки и упал на него всем телом. Но чемодан быстро выскользнул, больно ударил меня, сам понёсся под койку. Я мгновенно перевернулся и уже готов был забить его туда одним ударом, но он вдруг подпрыгнул, как мячик, и понёсся к двери, а я попал как раз под железную сетку койки, страшно ободравшую мне плечи. Продолжать ли описывать эту гнусную битву? Ей не было конца. Я потерял рассудок, разозлился. Сначала я ещё думал, что всё это только игра моего воображения, - что чемодан мне только показался живым, одушевлённым; я сначала испугался только того, что он весь побьётся, обдерётся, кинулся к нему на помощь, чтобы дать ему возможность где- нибудь остановиться... Но нет, он вовсе не был игрушкой, бессмысленной вещью, против воли летавшей вверх и вниз вместе с каютой! Он, видимо, сознательно был счастлив всем этим адом, который дал ему столь чудесный случай сорваться на пол и начать нещадно бить меня. И если бы кто видел, 83 каким он был ловким, как ужасны были все его удары, какой умной, сильной, злобной тварью он вдруг оказался! Но ведь и я был не из тех, кто сдаётся сразу. Я бился на смерть, руками и ногами, - и награждал его такими ударами, что он взлетал чуть не на умывальник. Я задыхался, обливался потом, катаясь по каюте в самом постыдном виде. Кончилось же всё моим бегством. «Будь ты проклят! крикнул я ему под утро. Носись, грохочи тут сколько хочешь!» - И, кое-как одевшись, выскочил вон из каюты. Наверху был холод, лёд, пустыня, буря, палубу накрывало пенными волнами. Я жадно дышал свежим воздухом, стоял, качаясь и держась за перила. Уже светало. Небо летело куда-то прочь, в бездну, потом вдруг открывалась и неслась прямо на меня равнина зелёно-седого моря. Я вышел на холодный ветер и увидел, как мала и несчастна наша старая чёрная баржа в этом огромном и пустынном водном круге, окружённом лохматым небом. Но какое дело мне было до всей этой картины! Я, видя, что всё стихает, что близится утро, бормотал злорадно (чемодану, конечно): - Ну, погоди, погоди же! А в сущности, что я мог ему сделать? 1931 84 Testo n. 14 (5 рр.) Иван Алексеевич Бунин Муза Я был тогда уже не очень молод, но решил учиться живописи, - у меня всегда была страсть к ней, - и, бросив своё имение в Тамбовской губернии, я провёл зиму в Москве: брал уроки у одного бездарного, но довольно известного художника, неопрятного толстяка: длинные волосы, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, грязно-серые гетры, - я их особенно ненавидел, - небрежность в обращении, снисходительное поглядывание на работу ученика и фраза как бы про себя: - Занятно, занятно... Несомненные успехи... Жил я на Арбате, рядом с рестораном "Прага", в гостинице "Столица". Днём работал у художника и дома, вечера нередко проводил в дешёвых ресторанах с разными новыми знакомыми из богемы, и молодыми людьми, которые одинаково любили бильярд и раков с пивом... Неприятно и скучно я жил! Этот женоподобный, нечистоплотный художник, его "артистически" запущенная мастерская, эта тёмная "Столица"... В памяти осталось: непрестанно идёт за окнами снег, а вечером кисло воняет пивом и газом в тускло освещённом ресторане... Не понимаю, почему я вёл такую жалкую жизнь, - я был тогда далеко не беден. Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работая карандашами, а из распахнутого окна несло уже не зимней сыростью мокрого снега и дождя, кто-то постучал в дверь моей прихожей. Я крикнул: кто там? - но ответа не было. Я подождал, опять крикнул - опять молчание, потом новый стук. Я встал, открыл: на пороге стоит высокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в серых ботинках, смотрит в упор, глаза цвета жёлудя, на длинных ресницах, на лице и на волосах под шляпкой блестят капли дождя и снега; смотрит и говорит: 85 - Я консерваторка, Муза Граф. Слышала, что вы интересный человек, и пришла познакомиться. Ничего не имеете против? Довольно удивленный, я ответил, конечно, любезностью: - Очень приятно, проходите. Только должен предупредить, что слухи, дошедшие до вас, вряд ли правильны: ничего интересного во мне, кажется, нет. - Во всяком случае, дайте мне войти, не держите меня перед дверью, - сказала она, всё так же прямо смотря на меня. И, войдя, начала, как дома, снимать перед моим серо-серебристым зеркалом шляпку, поправлять ржавые волосы, сняла и бросила на стул пальто, оставшись в клетчатом фланелевом платье, села на диван и приказала: - Снимите с меня ботинки и дайте из пальто носовой платок. Я подал платок, она вытерлась и протянула мне ноги. - Я вас видела вчера на концерте Шора, - безразлично сказала она. Сдерживая глупую улыбку удовольствия и недоумения, - что за странная гостья! - я покорно снял один за другим ботинки. От неё ещё свежо пахло воздухом, и меня волновал этот запах. Затем она удобно уселась на диване, собираясь, видимо, уходить не скоро. Не зная, что говорить, я стал расспрашивать, от кого и что она слышала про меня и кто она, где и с кем живёт. Она ответила. - От кого и что слышала, неважно. Пришла больше потому, что увидела вас на концерте. Вы довольно красивы. А я дочь доктора, живу от вас недалеко, на Пречистенском бульваре. Говорила она как-то неожиданно и кратко. Я, опять не зная, что сказать, спросил: - Чая хотите? - Хочу, - сказала она. - И прикажите, если у вас есть деньги, купить у Белова яблок ранет, - тут, на Арбате. Только поскорее, я нетерпелива. - А кажетесь такой спокойной. - Это только кажется... 86 Когда коридорный принёс самовар и мешочек с яблоками, она заварила чай, вытерла чашки, ложечки... А съев яблоко и выпив чашку чая, подвинулась на диване и похлопала рукой возле себя: - Теперь сядьте ко мне. Я сел, она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, посмотрела и, как будто убедившись, что я достоин этого, закрыла глаза и опять поцеловала - старательно, долго. - Ну вот, - сказала она как будто с облегчением. - Больше пока ничего нельзя. Послезавтра. В номере было уже совсем темно, - только печальный свет от фонарей с улицы. Что я чувствовал, легко себе представить. Откуда вдруг такое счастье! Молодая, сильная, вкус и форма губ необыкновенные... Я как во сне слышал однообразные звуки за окном... - Я хочу послезавтра пообедать с вами в "Праге", - сказала она. - Никогда там не была и вообще очень неопытна. Воображаю, что вы обо мне думаете. А на самом деле вы моя первая любовь. - Любовь? - А как же это иначе называется? Ученье своё я, конечно, вскоре бросил, она своё продолжала кое-как. Мы не расставались, жили, как молодожёны, ходили по картинным галереям, по выставкам, слушали концерты и даже зачем-то публичные лекции... В мае я переехал, по её желанию, в старинную подмосковную усадьбу, где сдавались небольшие дачи, и она стала ездить ко мне, возвращаясь в Москву в час ночи. Никак не ожидал я и этого - дачи под Москвой: никогда ещё не жил как дачник, без всякого дела. Всё время шли дожди, кругом сосновые леса. Всё мокро, жирно, зеркально... В парке усадьбы деревья были так высоки, что дачи казались жилищами под деревьями в тропических странах. Пруд рядом стоял как громадное чёрное зеркало... Я жил на окраине парка, в лесу. Моя деревянная дача была не совсем достроена и почти совсем без мебели. И от постоянной сырости мои сапоги, валявшиеся под кроватью, обросли плесенью. 87 Темнело по вечерам только к полуночи и тогда я шёл на станцию встречать её. Подходил поезд, выходили на платформу несметные дачники, пахло каменным углем паровоза и свежестью леса, в толпе показывалась она, с пакетами закусок, фруктами, бутылкой мадеры... Мы обедали вдвоём. Перед её поздним отъездом бродили по парку. Она становилась как сомнамбула, шла, положив голову на моё плечо. Чёрный пруд, вековые деревья, уходящие в звёздное небо... В июне она уехала со мной в мою деревню, - не венчаясь, стала жить со мной, как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень она провела не скучая, за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, одинокий, бедный помещик, живший недалеко от нас, рыженький, несмелый, недалёкий - и неплохой музыкант. Зимой он стал появляться у нас почти каждый вечер. Мы играли с ним в шашки или же он играл с ней в четыре руки на рояле. Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашёл ее. Сел пить чай один. - А где барыня, Дуня? Гулять ушла? - Не знаю. Её нету дома с самого завтрака. - Оделась и ушла, - мрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька. "Наверное, к Завистовскому пошла, - подумал я, - верно, скоро придёт вместе с ним - уже семь часов..." И я пошёл и прилёг в кабинете и внезапно заснул - весь день мёрз в дороге. И так же внезапно проснулся через час - с ясной и дикой мыслью: "Да ведь она бросила меня! Наняла на деревне мужика и уехала на станцию, в Москву, - от нее всего можно ожидать! Но, может быть, вернулась?" Прошёл по дому - нет, не вернулась. Стыдно перед прислугой... Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружьё и пошёл по большой дороге к Завистовскому, думая: "Как нарочно, и он не пришёл сегодня, а у меня ещё целая страшная ночь впереди! Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть!" Свернул с большой дороги, пошёл к усадьбе Завистовского: аллея голых деревьев, потом въезд во двор, слева старый, нищий дом, в доме темно... 88 Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом открыл тяжёлую дверь, - в прихожей краснеет открытая печка, тепло и темнота... Но темно и в зале. - Викентий Викентич! И он бесшумно появился на пороге кабинета, освещённого тоже только луной. - Ах, это вы... Входите, входите, пожалуйста... А я, как видите, провожу вечер без огня... Я вошёл и сел на старый диван. - Представьте себе. Муза куда-то исчезла... Он промолчал. Потом почти неслышным голосом: - Да, да, я вас понимаю... - То есть, что вы понимаете? И тотчас, тоже бесшумно, с шалью на плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, Муза. - Вы с ружьём, - сказала она. - Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня. И села на другой диван, напротив. Я посмотрел на неё и хотел крикнуть: "Я не могу жить без тебя, я готов отдать за тебя жизнь!" - Дело ясно и кончено, - сказала она. - Сцены бесполезны. - Вы ужасно жестоки, - с трудом выговорил я. - Дай мне папиросу, - сказала она Завистовскому. Он трусливо протянул ей портсигар, стал по карманам искать спички... - Вы со мной говорите уже на "вы", - задыхаясь, сказал я, - вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на "ты". - Почему? - спросила она, подняв брови. Сердце у меня билось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, пошёл вон. 17 октября 1938 89 консерваторка – студентка консерватории коридорный – слуга в гостинице делать что-либо кое-как – fare come capita Testo n. 15 (9 рр.) Иван Алексеевич Бунин Господин из Сан-Франциско Господин из Сан-Франциско — имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил — ехал в Старый Свет на целых два года, с женой и дочерью, только ради развлечения. Он был твёрдо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствия, на путешествие. Во-первых, он был богат, а во-вторых, только что начинал жизнь, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень неплохо, но всё же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук, — китайцы, которых он привозил к себе на работы тысячами, хорошо знали, что это значит! — и наконец увидел, что сделано уже много, что он почти догнал тех, кого когда-то взял себе за образец, и решил отдохнуть. Люди, как он, имели привычку начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Решил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя; однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не была особенно впечатлительной, но ведь все пожилые американки страстные путешественницы. А что касается дочери, девушки слегка болезненной, то для неё путешествие было совершенно необходимо: не говоря о 90 пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут бывает сидишь за столом и рассматриваешь фрески рядом с миллиардером. Маршрут был разработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, — любовью молоденьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной; карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, где в эту пору собирается светское общество; начало марта он хотел посвятить Флоренции, к Пасхе приехать в Рим, чтобы слушать там Miserere; входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купанье на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония, — разумеется, уже на обратном пути... И всё пошло сначала прекрасно. Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с восточными банями, с собственной газетой, — и жизнь на нём текла очень размеренно: вставали рано; накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад; затем садились в ванны, делали гимнастику и шли к первому завтраку; до одиннадцати часов гуляли по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играли в шеффльборд и другие игры для возбуждения аппетита, а в одиннадцать — подкрепляться бутербродами с бульоном; подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, ещё более питательного и разнообразного, чем первый; следующие два часа отдыхали; все палубы были заставлены тогда длинными креслами, на которых путешественники лежали, накрывшись пледами, глядя на облачное небо; в пятом часу их поили крепким чаем с печеньем; в семь оповещали сигналами трубы том, что составляло главнейшую цель всего этого существования, венец его... И тут господин из СанФранциско спешил в свою богатую кабину — одеваться. По вечерам этажи «Атлантиды» сияли огнями, и множество слуг работало в поварских, и винных подвалах. Смокинг и крахмальное бельё очень молодили господина 91 из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, он сидел в золотистом сиянии зала за бутылкой вина, за бокалами тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с серебряными усами, его крупные зубы блестели золотыми пломбами. Богато была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно — дочь, высокая, тонкая, с великолепными волосами. Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, — в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, — курили гаванские сигары и пили ликёры в баре. В танцевальной зале всё сияло и изливало свет, тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго — и музыка настойчиво молила всё об одном, всё о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский писатель, была светская красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он танцевал только с ней, и всё выходило у них так очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле. В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну; на борту «Атлантиды» появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес, — наследный принц одного азиатского государства, путешествующий инкогнито. Через двое суток, небо стало бледнеть, горизонт затуманился: показались Иския, Капри, в бинокль уже виден был Неаполь... Многие леди и джентльмены уже надели лёгкие шубки; безответные, всегда говорящие шёпотом слуги-китайцы, вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, несессеры... Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, которого вчера вечером представили ей, и делала вид, что внимательно смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя. А сам господин из Сан-Франциско всё поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную собачку. И дочь, в какой-то неловкости, старалась не замечать его. 92 Неаполь рос и приближался; музыканты уже собрались на палубе и вдруг оглушили всех звуками марша, появился гигант-командир, в парадной форме и, как милостивый языческий бог, приветственно помахал рукой пассажирам. А когда «Атлантида» вошла наконец в порт своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, то сколько портье и их помощников, сколько всяких комиссионеров, мальчишек с пачками цветных открыток в руках кинулосъ к нему навстречу с предложением услуг! И он ухмылялся, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил то поанглийски, то по-итальянски: — Go away! Via! Жизнь в Неаполе потекла по заведённому порядку: рано утром — завтрак и толпа гидов у дверей; вид с высокого балкона на Везувий, окутанный сияющими утренними парами, и Капри на горизонте; потом — выход к автомобилю и медленное движение по узким коридорам улиц, среди высоких, многооконных домов, осмотр музеев или холодных, пахнущих воском церквей; в час — второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта и где однажды дочери господина из Сан-Франциско показалось, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме; в пять — чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и каминов; а там снова приготовления к обеду, который был таким обильным и блюдами, и винами, и минеральными водами, и сладостями, и фруктами, что к одиннадцати часам вечера по всем номерам горничные разносили каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков. Однако декабрь выдался не совсем удачный: всюду происходило что-то ужасное. На Ривьере страшные ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена, из Палермо туристы разбегаются от холода... Утреннее солнце каждый день обманывало: с полудня небо неизменно серело и начинался дождь. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться; дочь их ходила бледная, с головной болью... Все уверяли, что совсем другое дело в Сорренто, на Капри — там и теплее, и солнечнее, и лимоны цветут, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми 93 своими сундуками на Капри, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиверия, побывав в сказочных пещерах Лазурного Грота, поселиться в Сорренто. В день отъезда, — очень памятный для семьи из Сан-Франциско! — даже и с утра не было солнца. Тяжёлый туман до самого основания скрывал Везувий, острова Капри совсем не было видно — точно его никогда и не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так качало из стороны на сторону, что семья из СанФранциско пластом лежала на диванах, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех, ей казалось, что она умирает. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине, в широком пальто, не разжимал челюстей всю дорогу; лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжко болела. На остановках, в Кастелламаре, в Сорренто, было немного легче; но и тут качало страшно, берег со всеми своими садами, пиниями, розовыми и белыми отелями летал за окном вниз и вверх, как на качелях. Когда вдруг загремел и упал в воду якорь, сразу стало легче, всем захотелось есть, пить, курить, двигаться... Через десять минут семья из Сан-Франциско села в большую барку, через пятнадцать ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и с жужжанием поехала вверх по откосу, среди виноградников и апельсинных деревьев... Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой, особый запах есть у каждого её острова! Остров Капри был сырым и тёмным в этот вечер. Но тут он на минуту ожил, коегде осветился. На верху горы, на площадке фюникулера, уже опять стояла толпа тех, кто должен был достойно принять господина из Сан-Франциско. Ему и его дамам помогли выйти, перед ним побежали вперёд, указывая дорогу, его снова окружили мальчишки и те каприйские бабы, которые носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. В вестибюле отеля им вежливо и изысканно поклонился хозяин, элегантный молодой человек, который на мгновение поразил господина из Сан-Франциско: он вдруг вспомнил, что сегодня ночью во сне он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот. Удивлённый, он даже чуть приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось никаких так называемых мистических чувств, то сейчас же и 94 померкло его удивление: шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту: сердце её вдруг сжала тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом, тёмном острове... К ним приставили самую красивую и умелую горничную и самого видного из лакеев, угольно-черного, огнеглазого сицилийца. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз-метрдотель, чтобы узнать, будут ли господа обедать, и доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. Господин из Сан-Франциско ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть подальше от дверей, в самой глубине зала и что пить они будут вино местное. — Все, сэр? - деликатно спросил метрдотель. И, получив в ответ медлительное «yes», прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла — танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и «всему миру туристов». — Я видел её на открытках, — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. — А этот Джузеппе — её муж? — Двоюродный брат, сэр, — ответил метрдотель. И что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы. Затем он снова стал точно к венцу готовиться: повсюду зажёг электричество, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору перебивали его другие нетерпеливые звонки — из комнат его жены и дочери. И лакей летел на звонок и, постучав в дверь, с притворной робостью спрашивал: — Ha sonato, signore? И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос: — Yes, come in... Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытавший качку, только очень хотел 95 есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета, не оставлявшее времени для чувств и размышлений. Побрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, причесал остатки жемчужных волос, надел чёрные шелковые носки и бальные туфли, чёрные брюки и белоснежную рубашку с запонками. Пол ещё качался под ним, кончикам пальцев было очень больно… — О, это ужасно! — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно; потом привычно и внимательно оглядел свои короткие пальцы, их крупные ногти миндального цвета и повторил с убеждением: — Это ужасно... Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому гонг. И, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско надел смокинг, поправил манжеты, ещё раз оглядел себя в зеркале... Эта Кармелла, смуглая, похожая на мулатку, в цветистом наряде, танцует должно быть, необыкновенно, подумал он. И, выйдя из своей комнаты и подойдя к соседней, громко спросил у жены, скоро ли они будут готовы? — Через пять минут! — звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос. — Отлично, — сказал господин из Сан-Франциско. И не спеша пошёл по коридорам и по лестницам с красными коврами вниз в читальню. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все начали есть, он остановился перед столиком с коробками сигар и египетских папирос, взял большую маниллу и кинул на столик три лиры. В читальне, уютной, тихой и светлой был только какой-то седой немец, похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу, возле лампы под зелёным колпаком, надел очки и закрылся газетным листом. Он быстро просмотрел заглавия некоторых статей, прочитал несколько строк о никогда не прекращающейся балканской войне, привычным жестом перевернул газету, — как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском, глаза выпучились, пенсне слетело с носа... Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха — и дико захрипел; всё тело, извиваясь, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то. 96 Если бы в читальне не было немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие, мгновенно утащили бы за ноги и за голову господина из СанФранциско куда подальше — и никто из гостей ничего не узнал бы. Но немец выбежал из читальни с криком, он переполошил весь дом, всю столовую. И многие побежали к читальне, на всех языках раздавалось: «Что, что случилось?» — и никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор ещё ни за что не хотят верить смерти. Хозяин пытался задержать гостей и успокоить их, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско... Но никто его не слушал, многие видели, как он ещё настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей. Его торопливо внесли и положили на кровать в сорок третий номер, — самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора. Через четверть часа в отеле всё кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые вернулись в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами, а хозяин подходил то к одному, то к другому, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, «как это неприятно». Большинство гостей ушло в город, в пивную, и стало так тихо, что чётко слышался стук часов в вестибюле... Господин из Сан-Франциско лежал на дешёвой железной кровати, под грубыми шерстяными одеялами, мёртвое лицо постепенно застывало. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вошёл хозяин. «Già é morto», — сказал ему шёпотом доктор. Миссис, у которой тихо катились по щекам слёзы, подошла к хозяину и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату. — О нет, мадам, — поспешно, корректно, но уже без всякой любезности возразил хозяин. — Это совершенно невозможно, мадам, — сказал он и прибавил, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил её желание, то всему Капри стало бы известно об этом и туристы начали бы избегать их. Мисс села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слёзы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она стала требовать, говоря на своём языке и всё ещё не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин вежливо и холодно ответил: если мадам 97 не нравятся порядки отеля, он её не задерживает; и твёрдо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что сейчас явится полиция и исполнит необходимые формальности... Можно ли достать на Капри хотя бы простой готовый гроб, спрашивает мадам? К сожалению, нет, ни в каком случае, а сделать никто не успеет. Придётся поступить как-нибудь иначе... Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках... перегородки из такого ящика можно вынуть... Ночью весь отель спал. А на рассвете, когда за окном сорок третьего номера влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилась вершина Монте-Соляро, принесли к сорок третьему номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжёл и крепко давил колени младшего портье, который повёз его на извозчике по белому шоссе всё вниз и вниз, до самого моря. Пароходик, стоявший в Неаполитанском заливе, уже давал последние гудки. Возле пристани младшего портье догнал старший, который привёз в автомобиле мисс и миссис, бледных, с глазами тёмными от слез и бессонной ночи. И через десять минут пароходик снова снова побежал к Сорренто, к Кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско... И на острове снова воцарились мир и покой. Тело же мёртвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега Нового Света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, неделю странствуя из одного портового сарая в другой, оно снова попало наконец на тот же самый знаменитый корабль, на котором так ещё недавно, с таким почётом везли его в Старый Свет. Но теперь уже его скрывали от живых — глубоко спустили в гробе в чёрный трюм. И опять, опять пошёл корабль в свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни для того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь. Был он и на другую, и на третью ночь. Огненные глаза корабля были из-за снега едва видны Дьяволу, следившему со скал Гибралтара, с каменистых ворот двух миров, за уходившим в ночь кораблём. Дьявол был громаден, но громаден был и корабль, 98 многоэтажный, многотрубный, созданный Новым Человеком со старым сердцем. И опять извивалась в танце среди толпы, среди блеска огней, шелков и бриллиантов тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами и рослый молодой человек с чёрными, как бы приклеенными волосами, в узком фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно изображать любовь под грустную музыку, ни того, чтό стоит глубоко, глубоко под ними, на дне тёмного трюма, в мрачных недрах корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу... Октябрь. 1915 работать не покладая рук – lavorare sodo в пятом часу – alle 4 passate к венцу – к свадьбе замять происшествие – fare finta di niente 99