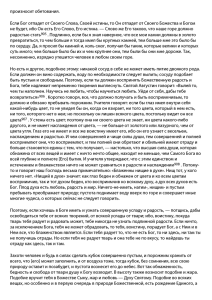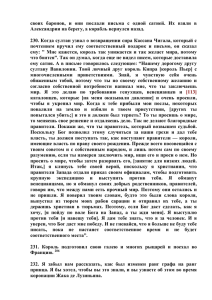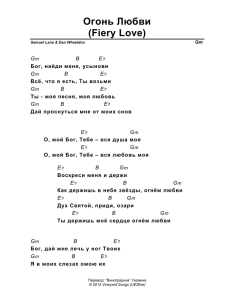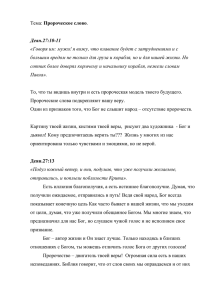Русская поэзия XIX века.
advertisement
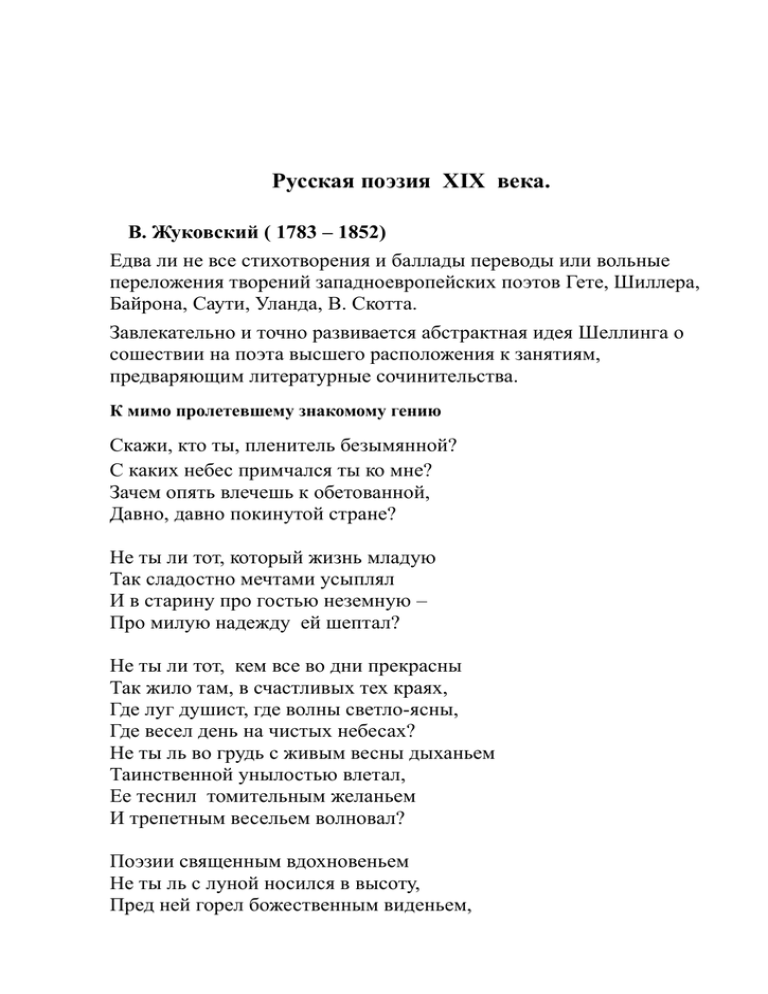
Русская поэзия XIX века. В. Жуковский ( 1783 – 1852) Едва ли не все стихотворения и баллады переводы или вольные переложения творений западноевропейских поэтов Гете, Шиллера, Байрона, Саути, Уланда, В. Скотта. Завлекательно и точно развивается абстрактная идея Шеллинга о сошествии на поэта высшего расположения к занятиям, предваряющим литературные сочинительства. К мимо пролетевшему знакомому гению Скажи, кто ты, пленитель безымянной? С каких небес примчался ты ко мне? Зачем опять влечешь к обетованной, Давно, давно покинутой стране? Не ты ли тот, который жизнь младую Так сладостно мечтами усыплял И в старину про гостью неземную – Про милую надежду ей шептал? Не ты ли тот, кем все во дни прекрасны Так жило там, в счастливых тех краях, Где луг душист, где волны светло-ясны, Где весел день на чистых небесах? Не ты ль во грудь с живым весны дыханьем Таинственной унылостью влетал, Ее теснил томительным желаньем И трепетным весельем волновал? Поэзии священным вдохновеньем Не ты ль с луной носился в высоту, Пред ней горел божественным виденьем, Разоблачал ей жизни красоту? В часы утрат, в часы печали тайной, Не ты ль всегда беседой сердца был, Его смирял утехою случайной И тихою надеждой целил? И не тебе ль она всегда внимала В чистейшие минуты бытия, Когда судьбы святыню постигала, Когда лишь бог свидетель был ея? Какую ж весть принес ты, мой пленитель? Или опять мечтой лишь поманишь? И, прежних дум напрасный пробудитель, О счастии шепнешь и замолчишь? О Гений мой, побудь еще со мною; Бывалый друг, отлетом не спеши; Останься, будь мне жизнию земною; Будь ангелом-хранителем души. По строкам истинно национальной оратории « Певец во стане русских воинов» воссозданы герои Отечественной войны 1812 года. Хвала сподвижникам-вождям! Ермолов, витязь юный, Ты ратным брат, ты жизнь полкам И страх твои перуны. Раевский, слава наших дней, Хвала! перед рядами Он первый грудь против мечей С отважными сынами. Наш Милорадович, хвала! Где он промчался с бранью, Там, мнится, смерть сама прошла С губительною дланью. И далее. В. Пушкин - родной дядя А.С. Пушкина (1770 – 1830). Опасный сосед Описание приключения с Буяновым, зазвавшего рассказчика позабавиться с красоткой шестнадцати лет, пошедшей в ремесло нынешней зимой. Драка, учиненная «опасным соседом» с завсегдатаями борделя, помешала плотскому удовольствию. И без часов, кошелька, отдав шинель на съедение стае псов, бежал несчастный рассказчик домой. Нет! полно! Я навек с Буяновым простился. Блажен, стократ блажен, кто в тишине живет И в сонмище людей неистовых нейдет; Кто, веселясь подчас с подругой молодою, За нежный поцелуй не награжден бедою; С кем не встречается опасный мой Сосед; Кто любит и шутить, но только не во вред; Кто иногда стихи от скуки сочиняет И над рецензией славянской засыпает. А. Мерзляков (1778 -1830) Среди долины ровныя Известная песня, ставшая народной. Написана мелом на ломберном столе, тут же переписанная пером на бумагу, и закончена. Ровная половина текста о дереве, растущем одиноко, и половина другая об одиноком молодце, кому горько без милой жизнь вести. М. Милонов (1792 – 1821) К Рубеллию Сатира Персиева Иносказание уничтожает, стирает в пыль вельможу, вознесенного льстецами и с презрением бросающего взгляд на поэта-сатирика. Бесславный тем подлей, чем больше ищет славы. Что в том, что ты в честях, в кругу льстецов лукавых Вельможи на себе приемлешь гордый вид, Когда он их самих украдкою смешит? Рубеллий! титла лишь с достоинством почтенны, Не блеском собственным – сияя им одним…. Ты думаешь сокрыть дела свои от мира В мрак гроба? но и там потомство нас найдет, Пусть целый мир рабом к стопам твоим падет. Рубеллий! трепещи: есть Персий и сатира! А. Тургенев (1781 – 1803) Элегия Лейтмотив полнейшей безутешной беспросветной печали под стать угрюмой Осени, мертвящей рукой разливающей унынье. Кладбищенский апофеоз безысходности. Пусть с доброю душой для счастья ты рожден, Но, быв несчастными отвсюду окружен, Но, бедствий ближнего со всех сторон свидетель – Не будет для тебя блаженством добродетель! Как часто доброму отрада лишь в слезах, Спокойствие в земле, а счастье в небесах! А. Воейков (1779 – 1839) Дом сумасшедших Сатирик размещает в желтом доме современных ему поэтов, писателей, драматургов, критиков, журналистов, издателей, весьма популярных в культурной среде России первой половины XIX века. Тут и Карамзин, и Шишков, и Жуковский, И Булгарин, и Греч. В последних строфах справедливости ради и по приличию, ни мало не заносясь, автор не щадит и самого себя. Вот Грузинцев! Он в короне И в сандалиях, как царь; Горд в мишурном он хитоне, Держит греческий букварь. « Верно, ваши сочиненья?» Скромно сделал я вопрос. « Нет, Софокловы творенья!» Отвечал он, вздернув нос. Я бегом без дальних сборов… «Вот еще!» - сказали мне. Я взглянул. Максим Невзоров Углем пишет на стене : « Если б, как стихи Вольтера, Христианский мой журнал Расходился. Горе! вера, Я тебя бы доконал!» От досады и от смеху Утомлен, я вон спешил Горькую прервать утеху; Но смотритель доложил: « Ради вы или не ради, Но указ уж получен; « Вам нельзя отсель ни пяди!» И указ тотчас прочтен: « Тот Воейков, что бранился, С Гречем в подлый бой вступал, Что с Булгариным возился И себя тем замарал, Должен быть, как сумасбродный, Сам посажен в Желтый Дом. Голову обрить сегодня И тереть почаще льдом!» Выслушав, я ужаснулся, Хлад по жилам пробежал, И, проснувшись, не очнулся И не верил сам, что спал. Други, вашего совету! Без него я не решусь; Не писать – не жить поэту, А писать начать – боюсь! Д. Давыдов (1784 – 1839) Гусарская лихая удаль и в схватках на настоящем поле боя и в стихах. Так не поступался человек собой до смертного часа. Другим он себя и не мыслил. Песня Я люблю кровавый бой. Я рожден для службы царской! Сабля, водка, конь гусарской, С вами век мне золотой! Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской! За тебя на черта рад, Наша матушка-Россия! Пусть французишки гнилые К нам пожалует назад! За тебя на черта рад, Наша матушка-Россия! Станем, братцы, вечно жить Вкруг огней, под шалашами, Днем – рубиться молодцами, Вечером горелку пить! Станем, братцы, вечно жить Вкруг огней под шалашами! О, как страшно смерть встречать На постеле господином, Ждать конца под балдахином И всечасно умирать! О, как страшно смерть встречать На постеле господином! То ли дело средь мечей! Там о славе лишь мечтаешь, Смерти в когти попадаешь И не думая о ней! То ли дело средь мечей Там о славе лишь мечтаешь! Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской! Сабля, водка, конь гусарской, С вами век мне золотой! Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской! И. Крылов (1769 – 1844) Из многообразия афористичной мудрости в сказочных обрамлениях – они тоже многого стоят, хотя и неприметны, как сами собой разумеющиеся, - две незаезженные басни. Муравей Какой-то Муравей был силы непомерной, Какой не слыхано ни в древни времена; Он даже (говорит его историй верный) Мог поднимать больших ячменных два зерна! Притом и в храбрости за чудо почитался; Где б не завидел червяка, Тотчас в него впивался И даже хаживал один на паука. А тем вошел в такую славу Он в муравейнике своем, Что только и речей там было что о нем, Я лишние хвалы считаю за отраву; Но этот Муравей был не такого нраву; Он их любил; Своим их чванством мерил И всем им верил: И ими наконец так голову забил, Что вздумал в город показаться, Чтоб силой там повеличаться. На самый крупный с сеном воз Он к мужику спесиво всполз И въехал в город очень пышно; Но, ах, какой для гордости удар! Он думал, на него сбежится весь базар, Как на пожар; А про него совсем не слышно: У всякого забота там своя. Мой Муравей, то взяв листок, потянет, То припадет он, то привстанет: Никто не видит Муравья. Уставши наконец тянуться, выправляться, С досадою Барбосу он сказал, Который у воза хозяйского лежал: « Не правда ль, надобно признаться, Что в городе у вас Народ без толку и без глаз? Возможно ль, что меня никто не примечает, Как ни тянусь я целый час; А, кажется, у нас Меня весь муравейник знает». И со стыдом отправился домой. Так думает иной Затейник Что он в подсолнечной гремит. А он - дивит Свой только муравейник. Белка В деревне, в праздник, под окном Помещичьих хором, Народ толпился. На Белку в колесе зевал он и дивился. Вблизи с березы ей дивился тоже Дрозд: Так бегала она, что лапки лишь мелькали И раздувался пышный хвост. « Землячка старая, - спросил тут Дрозд, - нельзя ли Сказать, что делаешь ты здесь?» « Ох, милый друг! Тружусь день весь: Я по делам гонцом у барина большого; Ну, некогда ни пить, ни есть, Ни даже духу перевесть». И Белка в колесе бежать пустилась снова. «Да, - улетая, Дрозд сказал, - то ясно мне, Что ты бежишь, а все на том же ты окне». Посмотришь на дельца иного: Хлопочет, мечется, ему дивятся все: Он, кажется, из кожи рвется, Да только все вперед не подается, Как Белка в колесе. К. Батюшков (1787 -1855) Заметная перемена поэтического настроя. Сначала – неистовый призыв любить юности забавы, беспечное веселье, в радости петь и плясать, затем , по прошествие энного количества лет, под бременем потерь друзей, возлюбленных - душевные терзания, сомнения, безвыходное погружение в тоску. Элизия Последняя весна О, пока бесценна младость Не умчалася стрелой, Пей из чаши полной радость И, сливая голос свой В час вечерний с тихой лютней, Славь беспечность и любовь! А когда в сени приютной Мы услышим смерти зов, То, как лозы винограда Обвивают тонкий вяз, Так меня, моя отрада, Обними в последний раз! Так лилейными руками Цепью нежною обвей. Съедини уста с устами, Душу в пламени излей! И тогда тропой безвестной, Долу, к тихим берегам, Сам он, бог любви прелестной, Проведет нас по цветам. В тот Элизий, где все тает Чувством неги и любви, Где любовник воскресает В полях блистает май веселый! Ручей свободно зажурчал, И яркий голос филомелы Угрюмый бор очаровал. Все новой жизни пьет дыханье! Певец любви, лишь ты уныл! Ты смерти верной предвещанье В печальном сердце заключил; Ты бродишь слабыми стопами В последний раз среди полей, Прощаясь с ними и с лесами Пустынной родины твоей. « Простите, рощи и долины, Родные реки и поля! Весна пришла, и час кончины Неотразимый вижу я! Так! Эпидавра прорицанье Вещало мне: в последний раз Услышишь горлиц воркованье И гальционы тихий глас ; Зазеленеют гибки лозы, Поля оденутся в цветы, Там первые увидишь розы И с ними вдруг увянешь ты. С новым пламенем в крови, Уж близок час. Цветочки милы, Где, любуясь пляской граций, Зачем так рано увядать? Нимф, сплетенных в хоровод, Закройте памятник унылый, С Делией своей Гораций Где прах мой будет истлевать; Гимны радости поет. Закройте путь к нему собою Там, под тенью миртов зыбкой, От взоров дружбы навсегда. Нам любовь сплетет венцы Но если Делия с тоскою И приветливой улыбкой Встретят нежные певцы. К нему приблизится, тогда Исполните благоуханьем Вокруг пустынный небосклон И томным листьев трепетаньем Мой сладко очаруйте сон! В полях цветы не увядали, И гальционы в тихий час Стенанья рощи повторяли; А бедный юноша…погас! И дружба слез не уронила На прах любимца своего, И Делия не посетила Пустынный памятник его. Лишь пастырь в тихий час денницы, Как в поле стадо выгонял, Унылой песнью возмущал Молчанье мертвое гробницы. Н. Гнедич (1784 – 1833) Перуанец к испанцу Долгими слогами гекзаметра переводчик Гомера устами перуанского короля вещает о злодействах завоевателя своей страны и утверждает свое человеческое право на мщение. Так, варвар, ты всего лишить меня возмог; Но права мстить тебе ни ты, ни сам твой бог, Хоть громом вы себя небесным окружите, Пока я движуся – меня вы не лишите.. Так, в правом мщении тебя я превзойду; До самой подлости, коль нужно, низойду; Яд в помощь призову, и хитрость, и коварство, Пройду все мрачное смертей ужасных царство И жесточайшую из оных изберу, Да ею грудь твою злодейску раздеру! Ф. Глинка (1786 – 1880) Патриотическая струя не только в призывах к защите своего отечества, но и в чувствах проистекающей любви. Сон русского на чужбине Отечества и дым нам Сладок и приятен! Державин Свеча, чуть теплясь, догорала, Камин, дымяся, погасал; Мечта мне что-то напевала, И сон меня околдовал… Уснул – и вижу я долины В наряде праздничном весны И деревенские картины Заветной русской стороны!.. Играет рог, звенят цевницы, И гонят парни и девицы Свои стада на влажный луг. Уж веял, веял теплый дух Весенней жизни и свободы От долгой и крутой зимы. И рвутся из своей тюрьмы И хлещут с гор кипучи воды. Пловцов брадатых на стругах Несется с гулом отклик долгий; И широко гуляет Волга В заповедных своих лугах… Поляны муравы одели, И, вместо пальм и пышных роз, Густые молодеют ели, И льется запах от берез!.. И мчится тройка удалая В Казань дорогой столбовой. И колокольчик – дар Валдая – Гудит, качаясь под дугой… Младой ямщик бежит с полночи: Ему сгрустнулося в тиши, И он запел про ясны очи, Про очи девицы-души: « Ах, очи, очи голубые! Вы иссушили молодца! Зачем, о люди, люди злые, Зачем разрознили сердца? Теперь я горький сиротина!» И вдруг махнул по всем по трем… Но я расстался с милым сном, И чужеземная картина Сияла пышно предо мной Немецкий город…все красиво, Но я в раздумье молчаливо Вздохнул по стороне родной… П. Катенин (1792 – 1853) Руководство к жизни хранящему честь и чистоту. Сонет Кто принял в грудь свою язвительные стрелы Неблагодарности, измены, клеветы, Но не утратил сам врожденной чистоты И образы богов сквозь пламя вынес целы; Кто, терновым путем идя в труде, как пчелы, Сбирает воск и мед, где встретятся цветы, Тому лишь шаг – и он достигнул высоты, Где добродетели положены пределы. Как лебедь восстает белее из воды, Как чище золото выходит из горнила, Так честная душа из опыта беды: Гоненьем и борьбой в ней только крепнет сила; Чем гуще мрак кругом, тем ярче блеск звезды, И чем прискорбней жизнь, тем радостней могила. К. Рылеев (1795 – 1826) Категоричная резкость в оценках адресатов, людей в стихотворениях, одах, сатирах, исторических песнях-сказаниях. На переднем плане не личное, а общественная жизнь. Гражданин до мозга костей. К N. N. Ты посетить, мой друг, желала Уединенный угол мой, Когда душа изнемогала В борьбе с болезнью роковой. Твой милый взор, твой взор волшебный Хотел страдальца оживить, Хотела ты покой целебный В взволнованную душу влить. Твое отрадное участье, Твое вниманье, милый друг, Мне снова возвращают счастье И исцеляют мой недуг. Я не хочу любви твоей, Я не могу ее присвоить; Я отвечать не в силах ей, Моя душа твоей не стоит. Полна душа твоя всегда Одних прекрасных ощущений, Ты бурных чувств моих чужда, Чужда моих суровых мнений. Прощаешь ты врагам своим – Я не знаком с сим чувством нежным И оскорбителям моим Плачу отмщеньем неизбежным. Лишь временно кажусь я слаб, Движеньями души владею; Не христианин и не раб, Прощать обид я не умею. Мне не любовь твоя нужна, Занятья ждут меня иные: Отрадна мне одна война, Одни тревоги боевые. Любовь никак нейдет на ум: Увы! моя отчизна страждет, Душа в волненье тяжких дум Теперь одной свободы жаждет. А. Бестужев (1797 – 1837) Революционность активного декабриста прямо отражается и в его поэзии, в частности в агитационных песнях, написанных вместе с К.Рылеевым, руководившим думой Северного общества. Нас поборами царь Иссушил, как сухарь; То дороги, То налоги, Разорил нас вконец. И в деревне солдат, Хоть и, кажется, наш брат, В ус не дует И воюет, Как бы в вражеской земле. А под царским орлом А под царским орлом Ядом потчуют с вином. И народу Лишь на воду Велят вчетверо платить. Чтобы нас наказать Господь вздумал ниспослать Поселенье В разоренье Православным на беду. Уж так худо на Руси, Что и боже упаси! Всех затеев Аракчеев И всему тому виной. Он царя подстрекнет, Царь указ подмахнет. Ему шутки, А нам жутко, Тошно так, что ой – ой – ой! А до бога высоко, До царя далеко, Да мы сами Ведь с усами, Так мотай себе на ус. В. Кюхельбекер (1797 – 1846) Ненадолго поэт пережил своих лицейский друзей и собратьев по перу, Дельвига и Пушкина. В одиночестве тоскует, разлучившись навеки с ними. 19 октября Блажен, кто пал, как юноша Ахилл, Прекрасный, мощный, смелый, величавый, В средине поприща побед и славы, Исполненный несокрушимых сил! Блажен! Лицо его, всегда младое, Сиянием бессмертия горя, Блестит, как солнце вечно золотое, Как первая эдемская заря.. А я один средь чуждых мне людей Стою в ночи, беспомощный и хилый, Над страшной всех надежд моих могилой, Над мрачным гробом всех моих друзей. В тот гроб бездонный, молнией сраженный, Последний пал родимый мне поэт… И вот опять Лицея день священный; Но уж и Пушкина меж нами нет. Не принесет он новых песен вам, И с них не затрепещут перси ваши, Не выпьет с вами он заздравной чаши: Он воспарил к заоблачным друзьям. Он ныне с нашим Дельвигом пирует; Он ныне с Грибоедовым моим: По них, по них душа моя тоскует; Я жадно руки простираю к ним! Пора и мне! Давно судьба грозит Мне казней нестерпимого удара: Она того меня лишает дара, С которым дух мой неразрывно слит. Так! перенес я годы заточенья, Изгнание, и срам, и сиротство; Но под щитом святого вдохновенья, Но здесь во мне пылало божество! Теперь пора! Не пламень, не Перун Меня убил; нет, вязну средь болота, Горою давят нужды и забота, И я отвык от позабытых струн. Мне ангел песней рай в темнице душной Когда-то созидал из снов златых; Но без него не труп ли я бездушный Средь трупов столь же хладных и немых? А. Одоевский (1802 – 1839) Идея славянской общности – одна из программных у певцадекабриста. Славянские девы Песнь первая. Славянские девы Нежны и быстры ваши напевы! Что же не поете, ляшские девы, В лад ударяя легкой стопой? Сербские девы! Песни простые Любите петь, но чувства живые В диком напеве блещут красой. Кто же напевы чехинь услышит, Звучные песни сладостных дев, Дышит любовью, славою дышит, Помня всю жизнь, и песнь и напев. Девы! согласно что не поете Песни святой минувших времен, В голос единый что не сольете Всех голосов славянских племен? Боже! когда же сольются потоки, В реку одну, как источник один? Да потечет сей поток-исполин, Ясный, как небо, как море широкий, И, увлажая полмира собой, Землю украсит могучей красой! Песнь вторая. Старшая дева Старшая дочь в семействе славяна Всех превзошла величием стана, Славой гремит, но грустно поет, В тереме дни проводит, как ночи, Бледно чело, заплаканы очи, И заунывно песни поет. Что же не выйдешь в чистое поле, Не разгуляешь грусти своей? Светло душе на солнышке-воле! Сердцу тепло от ясных лучей! В поле спеши с меньшими сестрами, И хоровод веди за собой! Дружно сплетая руки с руками, Сладкую песнь с ними запой! Боже! когда же сольются потоки В реку одну, как источник один? Да потечет сей поток-исполин, Ясный, как день, как море широкий, И, увлажая полмира собой, Землю украсит могучей красой! П. Вяземский (1792 – 1878) « Русский бог» - объективное, вне личностное, но самоустав до преклонных лет в творчестве – «Молиться. Любить. Петь». Русский бог Нужно ль нам истолкованье, Что такое русский бог? Вот его вам начертанье, Сколько я заметить мог. Бог метелей, бог ухабов, Бог мучительных дорог, Станций – тараканьих штабов, Вот он, вот он, русский бог. Бог голодных, бог холодных, Нищих воль и поперек, Бог имений недоходных, Вот он, вот он, русский бог. Бог грудей и (…) отвислых, Бог лаптей и пухлых ног, Горьких лиц и сливок кислых, Вот он, вот он, русский бог. Бог наливок, бог рассолов, Душ, представленных в залог, Бригадирш обеих полов, Вот он, вот он, русский бог. Бог всех с анненской на шеях, Бог дворовых без сапог, Бар в санях при двух лакеях, Вот он, вот он, русский бог. К глупым полон благодати, К умным беспощадно строг, Бог всего, что есть некстати, Вот он, вот он, русский бог. Бог всего, что из границы, Не к лицу, не под итог, Бог по ужине горчицы, Вот он, вот он, русский бог. Бог бродяжных иноземцев, К нам зашедших за порог, Бог в особенности немцев, Вот он, вот он, русский бог. Любить. Молиться. Петь Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье Души, тоскующей в изгнании своем, Святого таинства земное выраженье, Предчувствие и скорбь о чем-то неземном, Преданье темное о том, что было ясным, И упование того, что будет вновь; Души, настроенной к созвучию с прекрасным, Три вечные струны: молитва, песнь, любовь! Счастлив, кому дано познать отраду вашу, Кто чашу радости и горькой скорби чашу Благословлял всегда с любовью и мольбой И песни внутренней был арфою живой. Е. Баратынский (1800 – 1844) Философия внутренней душевной жизни скрыта от других и еле касается, точно летящая над озером чайка своим белым крылом воды, – внешнего мира. Такова и муза поэта - внешне неприметная, но наполненная глубоким прекрасным содержанием. Смерть Смерть дщерью тьмы не назову я И, раболепною мечтой Гробовый остов ей даруя, Не ополчу ее косой. О дочь верховного эфира! О светозарная краса! В руке твоей олива мира, А не губящая коса. Когда возникнул мир цветущий Из равновесья диких сил, В твое храненье всемогущий Его устройство поручил. И ты летаешь над твореньем, Согласье прям его лия, И в нем прохладным дуновеньем Смиряя буйство бытия. Ты укрощаешь восстающий В безумной силе ураган, Ты, на брега свои бегущий, Вспять возвращаешь океан. Даешь пределы ты растенью, Чтоб не покрыл гигантский лес Земли губительною тенью, Злак не восстал бы до небес. А человек! Святая дева! Перед тобой с его ланит Мгновенно сходят пятна гнева, Жар любострастия бежит. Дружится праведный тобою Людей недружная судьба: Ласкаешь тою же рукою Ты властелина и раба. Недоуменье, принужденье – Условье смутных наших дней, Ты всех загадок разрешенье, Ты разрешенье всех цепей. Муза Не ослеплен я музою моею: Красавицей ее не назовут, И юноши, узрев ее, за нею, Влюбленною толпой не побегут. Приманивать изысканным убором, Игрою глаз, блестящим разговором Ни склонности у ней, ни дара нет; Но поражен бывает мельком свет Ее лица необщим выраженьем, Ее речей спокойной простотой; И он, скорей чем едким осужденьем, Ее почтит небрежной похвалой. А. Дельвиг (1798 – 1831) Просто, ясно и неплохо! К мальчику Мальчик, солнце встретить должно С торжеством в конце пиров! Принеси же осторожно И скорей из погребов В кубках длинных и тяжелых, Как любила старина, Наших прадедов веселых Пережившего вина. Не забудь края злотые Плющем, розами увить! Весело в года седые Чашей молодости пить, Весело, хоть на мгновенье, Бахусом наполнив грудь, Обмануть воображенье И в былое заглянуть. Н. Языков (1803 – 1846) Певец свободы человека. Причем его песни воспринимаются как музыкальные и без музыки, то есть и без непременного сопровождения музыкальными инструментами, как принято с положенными на музыку.. Пловец Нелюдимо наше море, День и ночь шумит оно; В роковом его просторе Много бед погребено. Смело, братья! Ветром полный, Парус мой направил я: Полетит на скользки волны Быстрокрылая ладья! Облака бегут над морем, Крепнет ветер, зыбь черней, Будет буря: мы поспорим И помужествуем с ней. Смело, братья! Туча грянет, Закипит громада вод, Выше вал сердитый встанет, Глубже бездна упадет. Там, за далью непогоды, Есть блаженная страна: Не темнеют неба своды, Не проходит тишина. Но туда выносят волны Только сильного душой!... Смело, братья, бурей полный, Прям и крепок парус мой. Вечер Застывший живописный пейзаж, как бы созданный природой исключительно для воспроизведения красками, в данном случае словами в рамки картины - стихотворения. Поразивший поэта пейзаж в яви передан в стихотворении доподлинно. Ложатся тени гор на дремлющий залив; Прибрежные сады лимонов и олив Пустеют; чуть блестит над морем запад ясный, И скоро божий день, веселый и прекрасный, С огнистым пурпуром и золотом уйдет Из чистого стекла необозримых вод. И. Козлов (1779 – 1840) Достойно удивления – «Вечерний звон», широко распространенная в России песня, перевод песни английского поэта, современника Байрона, Томаса Мура, настолько мастерский перевод нашего поэта И.Козлова, что пьеса воспринимается, как народное создание. Вечерний звон Вечерний звон, вечерний звон! Как много дум наводит он О юных днях в краю родном, Где я любил, где отчий дом. И как я с ним, навек простясь, Там слышал звон в последний раз! Уже не зреть мне светлых дней Весны обманчивой моей! И сколько нет теперь в живых, Тогда веселых, молодых! И крепок их могильный сон; Не слышен им вечерний звон. Лежать и мне в земле сырой! Напев унылый надо мной В долине ветер разнесет; Другой певец по ней пройдет, И уж не я, а будет он В раздумье петь вечерний звон! А. Полежаев (1804 – 1838) Или погибающего, или плененного, или мысли приговоренного к казни – генеральная тема высвечивает немилостивую судьбу самого поэта, не раз находившегося на грани смерти и умершего после позорной экзекуции в 34 года. Русская песня Разлюби меня, покинь меня, Доля-долюшка железная! Опротивела мне жизнь моя, Молодая, бесполезная! Не припомню я счастливых дней – Не знавал я их с младенчества! Для измученной души моей Нет в подсолнечной отечества! Слышал я, что будто божий свет Я увидел с тихим ропотом, А потом житейских бурь и бед Не избегнул горьким опытом. Рано, рано ознакомился Я на море с непогодою; Поздно, поздно приготовился В бой отчаянный с невзгодою! Закатилася звезда моя, Та ль звезда моя туманная, Что следила завсегда меня, Как невеста нежеланная! Не ласкала, не лелеяла, Как любовница заветная, Только холодом обвеяла, Как изменница всесветная! Д. Веневитинов (1805 – 1827) Поэт чистых звуков и возвышенных певческих мотивов. Я чувствую, во мне горит Святое пламя вдохновенья, Но к темной цели дух парит… Кто мне укажет путь спасенья? Я вижу, жизнь передо мной Кипит, как океан безбрежный… Найду ли я утес надежный, Где твердой обопрусь ногой? Иль, вечного сомненья полный, Я буду горестно глядеть На переменчивые волны, Не зная, что любить, что петь? Открой глаза на всю природу, Мне тайный голос отвечал, Но дай им выбор и свободу, Твой час еще не наступал: Теперь гонись за жизнью дивной И каждый миг в ней воскрешай, На каждый звук ее призывный – Отзывной песнью отвечай Когда ж минуты удивленья, Как сон туманный, пролетят И тайны вечного творенья Ясней прочтет спокойный взгляд, Смирится гордое желанье Весь мир объять в единый миг, И звуки тихих струн твоих Сольются в стройные созданья. Не лжив сей голос прорицанья, И струны верные мои С тех пор душе не изменяли. Пою то радость, то печали, То пыл страстей, то жар любви И беглым мыслям простодушно Вверяюсь в пламени стихов. Так соловей в тени дубров, Восторгу краткому послушный, Когда на долы ляжет тень, Уныло вечер воспевает И утром весело встречает В румяном небе светлый день. С. Шевырев (1808 – 1864) Поэт славит вселенскую мощь духа-творца, согласуемую с человеком, с его помыслами, деяниями во всеохватном мире. Глагол природы Гром грянул! Внемлешь ли глаголу Природы гневной – сын земли? Се! духи и горе и долу Ее вещанья разнесли! Она язык свой отрешает, Громами тесный полнит слух И человека вопрошает: Не спит ли в нем бессмертный дух? Мой дух – не спи!- на зов природы Ответ торжественный воспой, Что ты, небесный страж слободы, Не дремлешь, праздный и немой. И с благозвучными громами Земные песни согласи И вместе с горними духами Ее глаголы разнеси. Проснитесь, негой усыплены! В великий испытанья миг. О, горе! вас глагол вселенный В дремоте леностной застиг. Вы вняли, вы затрепетали, Страшитесь – не на суд ли вас? Какой бы вы ответ сказали, Когда б пробил вам грозный час? Мой дух! там он сидит за тучей! Завесу неба раздери И прямо с верою могучей К престолу славы воспари. И, в огневую багряницу Облекшись, ангелом сияй, И громконосную десницу У милосердного лобзай. Тяжелый поэт Явный противовес с друзьями по Парнасу. Как гусь, подбитый на лету, Влачится стих его без крылий; По напряженному лицу Текут слезы его усилий. Вот после муки голова Стихами тяжко разродилась: В них рифма рифме удивилась, И шумно стреснулись слова. Не в светлых снах воображенья Его поэзия живет; Не в них он ловит те виденья, Что в звуках нам передает; Но в душной кузнице терпенья, Стихом, как молотом, стуча, Кует он с дюжего плеча Свои чугунные творенья. А.Хомяков (1804 – 1860) Поэтическая публицистика идеолога-славянофила – какой быть, а такая и есть Россия. Раскаявшейся России Не в пьянстве похвальбы безумной, Не в пьянстве гордости слепой, Не в буйстве смеха, песни шумной, Не с звоном чаши круговой; Но в силе трезвенной смиренья И обновленной чистоты На дело грозного служенья В кровавый бой предстанешь ты. О Русь моя! как муж разумный, Сурово совесть допросив, С душою светлой, многодумной, Идет на божеский призыв. Так, исцелив болезнь порока Сознаньем, скорбью и стыдом, Пред миром станешь ты высоко, В сиянье новом и святом! Иди! тебя зовут народы! И, совершив свой бранный пир, Даруй им дар святой свободы, Дай мысли жизнь, дай жизни мир! Иди! светла твоя дорога: В душе любовь, в деснице гром, Грозна, прекрасна, - ангел бога С огнесверкающим челом! Сподвижничество на подвиг Подвиг есть и в сраженье, Подвиг есть и в борьбе; Высший подвиг в терпенье Любви и мольбе. Если сердце заныло Перед злобой людской, Иль насилье схватило Тебя цепью стальной; Если скорби земные Жалом в душу впились,С верой бодрой и смелой Ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, И взлетишь ты на них Без труда, без усилья Выше мраков земных, Выше крыши темницы, Выше злобы слепой, Выше воплей и криков Гордой черни людской. Далее стихи, песни, ставшие народными. Н.Цыганов (1797 - 1831) «Не шей ты мне, матушка, Красный сарафан. Не входи, родимая, Попусту в изъян! Рано мою косыньку На две расплетать! Прикажи мне русую В ленту убирать! Пущай, не покрытая Шелковой фатой, Очи молодецкие Веселит собой! То ли житье девичье, Чтоб его менять, Торопиться замужем Охать да вздыхать? Золотая волюшка Мне милей всего! Не хочу я с волюшкой В свете ничего!» «Дитя мое, дитятко, Дочка милая! Головка победная, Неразумная! Не век тебе пташечкой Звонко распевать, Легкокрылой бабочкой По цветам порхать! Заблекнут на щеченьках Маковы цветы, Прискучат забавушки Стоскуешься ты! А мы и при старости Себя веселим: Младость вспоминаючи На детей глядим. И я молодешенька Такова была, И мне те же в девушках Пелися слова!» М. Суханов (1801 – 1843) Не велят Ване по улице ходить: Не велят ему красавицу любить. Вечер Ванюшка задумавшись сидел И частехонько на улицу глядел. Дожидался мила друга своего И кручинился, не видевши его. «Ах, ужель меня сердечный друг забыл? – Он, вздыхая, сам с собою говорил. – Нет, не хочет красоты своей казать! Без меня она не хочет здесь играть! Не выходит в резвый сельский хоровод, Не вмешается в гуляющий народ. Знать, ей скучно, Знать, печаль одна со мной! Ах, скорее покажись, друг милый мой!» Ф. Туманский (1799 – 1843) Птичка Вчера я растворил темницу Воздушной пленнице моей: И рощам возвратил певицу, Я возвратил свободу ей. Она исчезла, утопая В сиянье голубого дня. И так запела, улетая, Как бы молилась за меня. А.Вельтман (1800 – 1870) ( Из повести в стихах «Муромские леса».) Что отуманилась, зоренька ясная, Пала на землю росой? Что ты задумалась, девушка красная, Очи блеснули слезой? Жаль мне покинуть тебя черноокую! Певень ударил крылом. Крикнул…Уж полночь!.. Дай чару глубокую Вспень поскорее вином! Время! Веди мне коня ты любимого, Крепче веди под уздцы! Едут с товарами в путь из Касимова Муромским лесом купцы! Есть для тебя у них кофточка шитая, Шубка на лисьем меху! Будешь ходить ты, вся златом облитая, Спать на лебяжьем пуху! Много за душу свою одинокую, Много нарядов куплю! Я ль виноват, что тебя, черноокую, Больше, чем душу, люблю! С. Стромилов – сведений о жизни почти не сохранилось То не ветер ветку клонит, Не дубравушка шумит,То мое сердечко стонет, Как осенний лист дрожит. Извела меня кручина, Подколодная змея!.. Догорай, моя лучина, Догорю с тобой и я! Не житье мне здесь без милой: С кем теперь идти к венцу? Знать, судил мне рок с могилой Обручиться молодцу. Расступись, земля сырая, Дай мне, молодцу, покой. Приюти меня, родная, В тесной келье гробовой. Мне постыла жизнь такая. Съела грусть меня, тоска… Скоро ль, скоро ль гробовая Скроет грудь мою доска! Н.Кукольник (1809 – 1868) Жаворонок Между небом и землей Песня раздается, Неисходною струей Громче, громче льется. Не видать певца полей, Где поет так громко Над подружкою своей Жаворонок звонко? Ветер песенку несет, А кому - не знает. Та, к кому она, поймет, От кого – узнает. Лейся ж, песенка моя, Песнь надежды сладкой… Кто-то вспомнит про меня И вздохнет украдкой. А. Подолинский (1806 – 1886) И на людей и на природу Гляжу в бесчувствии немом, Черствея сердцем год от году, Смеюсь ребячеству во всем, Себе, другим я в тягость ныне, Не знаю, чем себя развлечь, Средь многолюдства, как в пустыне, Не жду ни с кем желанных встреч, И что же? К жизни не привязан, Я сбросить жизнь бы не хотел, Как будто в будущем указан Какой-то лучший мне удел. Но сердца тяжкое бесстрастье С надеждой самою в борьбе, И, если б мог создать я счастье, Его не создал бы себе! А.Ротчев (1806 – 1873) ( Из книги «Подражания Корану») Уж близок день, когда печаль наляжет На дикое преступника чело; Когда ему гремящий голос скажет, Куда его безумье завлекло! Убив навек дни радости живые, Не утолит он глада своего, А кости лишь преступника сухие Провозгласят о бытии его: Из них огонь струею разольется, И из него взвивающийся дым, О гибели предвозвещая злым, На высотах далеко пронесется! Но в сей же день, при стройном шуме вод, Под тенью мирт, на ложе отдыхая, Блаженный муж, беспечный, познает Все радости, все наслажденья рая! И гурия, блестящая красой, Его дарит любви святой приветом, И юноша, жемчужною рукой, Ему несет златой сосуд с щербетом. В. Бенедиктов (1807 – 1873) Спираль вечности человеческого бытия – страстей, пороков, праведничества. И ныне Над нами те ж, как вдревле, небеса, И также льют нам благ свои потоки, И в наши дни творятся чудеса, И в наши дни являются пророки. Бог не устал: бог шествует вперед; Мир борется с враждебной силой змия. Там – зрит слепой; там – мертвый восстает, Исайя жив, и жив Иеремия. Не истощил господь своих даров, Не оскудел духовной благодатью: Он все творит, – и Библия миров Не замкнута последнею печатью. Кто духом жив, в ком вера не мертва, Кто сознает всю животворность Слова, Тот всюду зрит наитье божества И слышит все, что говорит Егова, И, разогнав кудесничества чад, В природе он усмотрит святость чуда, И не распнет он Слово, как Пилат, И не продаст он Слово, как Иуда, И брата он, как Каин, не сразит, Гонимого с радушной лаской примет, Смирением надменных пристыдит И слабого и падшего подымет. Не унывай, о малодушный род! Не падайте, о племена земные! Бог не устал: бог шествует вперед; Мир борется с враждебной силой змия. П. Ершов (1815 – 1869) Конек- горбунок Русская сказка в трех частях Веселая как бы народная сказка с забавными приключениями Ивана-дурака, его преданного всемогущего конька-горбунка, прихотливого старого царя, своевольной Царь-девицы, Чудо-кита, забияки всезнайки Ерша, единственного знавшего, где ключ от счастья, заветный перстенек Царь-девицы, который царь приказал под страхом смерти раздобыть Ивану, чтобы жениться на юной царевне. Вдруг дельфины услыхали, Где-то в маленьком пруде Крик неслыханный в воде. В пруд дельфины завернули И на дно его нырнули, Глядь: в пруде, под камышом Ерш дерется с Карасем. «Смирно! черти б вас побрали! Вишь, содом какой подняли, Словно важные бойцы!» «Ну, а вам какое дело? – Ерш кричит дельфинам смело, Я шутить ведь не люблю, Разом все переколю!» «Ох ты, вечная гуляка! И крикун, и забияка Все бы, дрянь, тебе гулять, Все бы драться и кричать Дома – нет ведь, не сидится! Ну, да что с тобой рядиться; Вот тебе царев указ, Чтоб ты плыл к нему тотчас». Тут проказника дельфины Подхватили за щетины И отправились назад. Ерш ну рваться и кричать: «Будьте милостивы, братцы! Дайте чуточку подраться. Распроклятый тот Карась Поносил меня вчерась При честном при всем собранье Неподобной разной бранью…» Долго Ерш еще кричал, Наконец и замолчал; А проказника дельфины Все тащили за щетины, Ничего не говоря, И явились пред царя. К. Аксаков (1817 – 1860) Сила свободного слова в мире человека. Философия лирики славянофилов, придерживающихся традиций исконно русской ориентации. Свободное слово Ты чудо из божьих чудес, Ты мысли светильник и пламя, Ты луч нам на землю с небес, Ты нам человечества знамя! Ты гонишь невежества ложь, Ты вечное жизнию ново, Ты к свету, ты к правде ведешь, Свободное слово! Лишь духу власть духа дана, В животной же силе нет прока: Для истины – гибель она, Спасенье – для лжи и порока. Враждует ли с ложью – равно Живит его жизнию новой… Неправде опасно одно – Свободное слово1 Ограды властям никогда Не зижди на рабстве народа! Где рабство, там бунт и беда; Защита от бунта – свобода. Раб в бунте опасней зверей, На нож он меняет оковы… Оружье свободных людей – Свободное слово! О, слово, дар бога святой!.. Кто слово, дар божеский, свяжет, Тот путь человеку иной – Путь рабства преступный – укажет На козни, на вредную речь; В тебе ж исцеленье готово, О духа единственный меч, Свободное слово! А. Кольцов (1809 – 1842) Что говорить, крестьяне, соль народа, в своем собственном соку, как они есть, представлены поэзией, речью, чувствами, строем души от первого лица. Без опосредственного представления. Поэт показывает народную жизнь такой, какова она в их глазах, суждениях, вне зависимости от посторонних точек зрения, совершенно самостоятельно, лично. Молодая жница Высоко стоит Солнце на небе, Горячо печет Землю-матушку. Душно девице, Грустно на поле, Нет охоты жать Колосистой ржи. Всю сожгло ее Поле жаркое, Горем-горма все Лицо белое. Голова со плеч На грудь клонится, Колос срезанный Из рук валится… Не с проста ума Жница жнет не жнет, Глядит в сторону, Забывается Ой, болит у ней Сердце бедное, Заронилось в нем Небывалое! Она шла вчера Нерабочим днем, Летом шла себе По малинушку. Повстречался ей Добрый молодец; Уж не в первый раз Повстречался он. Разминется с ней Будто нехотя И стоит, глядит Как-то жалобно. Он вздохнул, запел Песню грустную; Далеко в лесу Раздалась та песнь. Глубоко в душе Красной девицы Озвалась она И запала в ней… Русская песня Обыкновенная счастье, отрадная доля, безыскусней, проще некуда. Так и рвется душа Из груди молодой! Хочет воли она, Просит жизни другой! То ли дело – вдвоем Над рекою сидеть, На зеленую степь, На цветочки глядеть! То ли дело - вдвоем Зимню ночь коротать, Друга жаркой рукой Ко груди прижимать; Поутру, на заре, Обнимать-провожать, Вечерком у ворот Его вновь поджидать! Ф. Тютчев (1803 – 1873) Природа у него живет, играет красками, звуками восхищения ею. Идет с создателем в гармонии, не выскакивая, не опережая первородства, своего сотворителя. Все-таки форс-мажорная непревзойденность - это Весенняя гроза Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, Вот дождик брызнул, пыль летит, Поникли перлы дождевые, И солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, В лесу не молкнет птичий гам, И гам лесной и шум нагорный – Все вторит весело громам. Ты скажешь: ветреная Геба, Кормя Зевесова орла, Громокипящий кубок с неба, Смеясь, на землю пролила. Сверх стихотворных природных картин. Последняя любовь О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней… Сияй, сияй, прощальный свет Любви последней, зари вечерней! Полнеба обхватила тень, Лишь там, на западе, бродит сиянье, Помедли, помедли, вечерний день, Проснись, проснись, очарованье. Пускай скудеет в жилах кровь, Но в сердце не скудеет нежность… О ты, последняя любовь! Ты и блаженство и безнадежность. К. Павлова (1807 – 1893) Вера в свой стих, в поэзию при душевных бурях, сшибках, смятении, людской лжи и вражде – так находишь дорогу к спасению, возрождению, к надежде плыть прежним руслом. Salut, salut, consolatrice! Ouvre tes bras, je viens chanter! Musset * Ты, уцелевший в сердце нищем, Привет тебе, мой грустный стих! Мой светлый луч над пепелищем Блаженств и радостей моих! Одно, чего и святотатство Коснуться в храме не могло, Моя напасть! мое богатство! Мое святое ремесло! Проснись же, смолкнувшее слово! Раздайся с уст моих опять; Сойди к избраннице ты снова, О роковая благодать! Уйми безумное роптанье И обреки все сердце вновь На безграничное страданье, На бесконечную любовь! -------------------------------------------------------------------Привет, привет, утешительница! Раскрой объятия, я запою! Мюссе (франц.) Е. Гребенка (1812 – 1848) Песня, слывущая народной. Молода еще девица я была, Наша армия в поход куда-то шла. Вечерело. Я стояла у ворот – А по улице все конница идет. К воротам подъехал барин молодой. Мне сказал: «Напой, красавица, водой!» Он напился, крепко руку мне пожал, Наклонился и меня поцеловал… Он уехал…долго я смотрела вслед, Жарко стало мне, в очах мутился свет, Целу ноченьку мне спать было невмочь: Раскрасавец барин снился мне всю ночь. Вот недавно – я вдовой уже была, Четырех уж дочек замуж отдала – К нам заехал на квартиру генерал, Весь простреленный, так жалобно стонал… Я взглянула – встрепенулася душой: Это он, красавец барин молодой; Тот же голос, тот огонь в его глазах, Только много седины в его кудрях. И опять я целу ночку не спала, Целу ночку молодой опять была. И Мятлев (1786 – 1844) Розы Обычно цитируют первые строки. Вот все стихотворение. Как хороши, как свежи были розы В моем саду! Как взор прельщали мой! Как я молил весенние морозы Не трогать их холодною рукой! Как я берег, как я лелеял младость Моих цветов заветных, дорогих; Казалось мне, в них расцветает радость; Казалось мне, любовь дышала в них. Но в мире мне явилась дева рая, Прелестная, как ангел красоты; Венка из роз искала молодая, И я сорвал заветные цветы. И мне в венке цветы еще казались На радостном челе красивее, свежей; Как хорошо, как мило соплетались С душистою волной каштановых кудрей! И заодно они цвели с девицей! Среди подруг, средь плясок и пиров, В венке из роз она была царицей, Вокруг ее вилась и радость и любовь. В ее очах веселье, жизни пламень, Ей счастье долгое сулил, казалось, рок. И где ж она?.. В погосте белый камень, На камне – роз моих завянувший венок. Э. Губер (1814 – 1847) Новгород Горечь от утраты истинно русским городом прежнего величия. Время пролетело, Слава прожита, Вече онемело, Сила отнята. Город воли дикой, Город буйных сил, Новгород великий Тихо опочил. Слава отшумела, Время протекло, Площадь опустела, Вече отошло. Вольницу избили, Золото свезли, Вече распустили, Колокол снесли. Порешили дело… Все кругом молчит, Только Волхов смело О былом шумит. Белой плачет кровью О былых боях И поет с любовью О старинных днях. Путник тихо внемлет Песне ярых волн И опять задремлет, Тайной думы полн. Е. Ростопчина (1811 – 1858) Насильный брак Диалог Старого барона и Молодой жены приобрел политическую окраску и понимался, как судейский спор Российского царя с порабощенной Польшей. Старый барон Сбирайтесь, слуги и вассалы, На строгий господина зов! Судите, не боясь опалы, Я правду выслушать готов. Судите спор вам всем известный: Хотя могуч и славен я, Хотя всесильным чтут меня – Не властен у себя я дома: Все непокорна мне она, Моя мятежная жена… Жена Раба ли я или подруга – То знает бог! Я ль избрала Себе жестокого супруга? Сама ли клятву я дала? Жила я вольно и счастливо, Свою любила волю я; Но победил, пленил меня Соседей злых набег хищливый. Я предана, я продана – Я узница, а не жена!.. И. Тургенев (1818 – 1883) Великий прозаик начинал стихотворениями, правдиво рисующими внешнее пейзажное окружение, проникнутыми струями движений души. Осень Как грустный взгляд, люблю я осень. В туманный, тихий день хожу Я часто в лес и там сижу – На небо белое гляжу Да на верхушки темных сосен. Люблю, кусая кислый лист, С улыбкой развалясь ленивой, Мечтой заняться прихотливой Да слушать дятлов тонкий свист. Трава завяла вся…холодный, Спокойный блеск разлит по ней… И грусти тихой и свободной Я предаюсь душою всей… Чего не вспомню я? Какие Меня мечты не посетят? А сосны гнутся, как живые, И так задумчиво шумят… И, словно стадо птиц огромных, Внезапно ветер налетит И в сучьях спутанных и темных Нетерпеливо прошумит. Н. Огарев (1813 – 1877) Целиком до конца своих дней отдался неотступно доминирующей идее свободы. Свобода ( 1858 года) Когда я был отроком тихим и нежным, Когда я был юношей страстно мятежным, И в возрасте зрелом, со старостью смежным, - Всю жизнь мне все снова и снова, и снова Звучало одно неизменное слово: Свобода! Свобода! Измученный рабством и духом унылый, Покинул я край мой родимый и милый. Что было мне можно, насколько есть силы, С чужбины до самого края родного Взывать громогласно заветное слово: Свобода! Свобода! И вот на чужбине, в тиши полунощной, Мне издали голос послышался мощный… Сквозь вьюгу сырую, сквозь мрак беспомощный, Сквозь все завывания ветра ночного Мне слышится с родины юное слово: Свобода! Свобода! И сердце, так дружное с горьким сомненьем, Как птица из клетки, простясь с заточеньем, Взыграло впервые отрадным биеньем, И как-то торжественно, весело, ново Звучит теперь с детства знакомое слово: Свобода! Свобода! И все-то мне грезится – снег и равнина, Знакомое вижу лицо селянина, Лицо бородатое, мощь исполина, И он говорит мне, снимая оковы, Мое неизменное, вечное слово: Свобода! Свобода! Но если б грозила беда и невзгода И рук для борьбы захотела свобода, Сейчас полечу на защиту народа, И если паду я средь битвы суровой, Скажу, умирая, могучее слово: Свобода! Свобода! А если б пришлось умереть на чужбине, Умру я с надеждой и верою ныне; Но в миг передсмертный – в спокойной кручине Не дай мне остынуть без звука святого, Товарищ, шепни мне последнее слово: Свобода! Свобода! А. Плещеев (1825 – 1893) Единственное оптимистическое стихотворение, песня, почти гимн, из грустно лирической череды о бедности, страданиях, безутешной сирой старости. Вперед! без страха и сомненья На подвиг доблестный, друзья! Зарю святого искупленья Уж в небесах завидел я! Смелей! дадим друг другу руки И вместе двинемся вперед. И пусть под знаменем науки Союз наш крепнет и растет. Жрецов греха и лжи мы будем Глаголом истины карать, И спящих мы от сна разбудим И поведем на битву рать! Не сотворим себе кумира Ни на земле, ни в небесах; За все дары и блага мира Мы не падем пред ним во прах!.. Провозглашать любви ученье Мы будем нищим, богачам И за него снесем гоненье, Простив безумным палачам! Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой, В заботах тяжких истощил; Как раб ленивый и лукавый, Талант свой в землю не зарыл! Пусть нам звездою путеводной Святая истина горит; И, верьте, голос благородный Не даром в мире прозвучит! Внемлите ж, братья, слову брата, Пока мы полны юных сил: Вперед, вперед и без возврата, Что б рок вдали нам не сулил! А. Майков (1821 – 1897) Святая прозрачность простых вещей, явлений, - всего, достойного высокой поэзии. Мечтания Пусть пасмурный октябрь осенней дышит стужей, Пусть сеет мелкий дождь или порою град В окошки звякает, рябит и пенит лужи, Пусть сосны черные, качаяся, шумят, И даже без борьбы, покорно, незаметно, Сдает угрюмый день, больной и бесприветный, Природу грустную ночной холодной мгле, Я одиночества не знаю на земле. Забившись на диван, сижу; воспоминанья Встают передо мной; слагаются из них В волшебном очерке чудесные созданья, И люди движутся, и глубже каждый миг Я вижу души их, достоинства их мерю, И так уж наконец в присутствие их верю, Что даже кажется, их видит черный кот, Который, поместясь на стол, под образами, Подымет морду вдруг и желтыми глазами По темной комнате, мурлыча, поведет… ----------------------Поле зыблется цветами… В небе льются света волны… Вешних жаворонков пенья Голубые бездны полны. Взор мой тонет в блеске полдня… Не видать певцов за светом… Так надежды молодые Тешат сердце мне приветом… И откуда раздается Голоса их, я не знаю… Но, им внемля, взоры к небу, Улыбаясь, обращаю. ---------------------Мысль поэтическая, - нет! – В душе мелькнув, не угасает! Ждет вдохновенья много лет И – вспыхнув вдруг – как бы в ответ Призыву свыше – воскресает… Дать надо времени протечь, Нужна, быть может, в сердце рана – И не одна, - чтобы облечь Мысль эту в образ и извлечь Из первобытного тумана… А. Фет ( 1820 – 1892) Ходит по свету певец, смотрит зорким оком, слышит чутким ухом и вливает впечатления в строки, диктуемые сиюминутным чувством. Рисунок его техники сложения стихов неуловим. Да и есть ли стандарты техники у соловьиного горла? Ива Сядем здесь, у этой ивы, Что за чудные извивы На коре вокруг дупла! А над ивой так красивы Золотые переливы Струй дрожащего стекла! Ветви сочные дугою Перегнулись над водою, Как зеленый водопад; Как живые, как иглою, Будто споря меж собою, Листья воду бороздят. В этом зеркале под ивой Уловил мой глаз ревнивый Сердцу милые черты… Мягче взор твой горделивый… Я дрожу, глядя, счастливый, Как в воде дрожишь и ты. Приметы И тихо и светло – до сумерек далеко; Как в дымке голубой и небо и вода, Лишь облаков густых с заката до востока Лениво тянется лиловая гряда. Да, тихо и светло; но ухом напряженным Смятенья и тоски ты крики разгадал: То чайки скликались над морем усыпленным И, в воздухе кружась, летят к навесам скал. Ночь будет страшная, и буря будет злая, Сольются в мрак и гул и небо и земля… А завтра, может быть, вот здесь волна седая На берег выбросит обломки корабля. А. Григорьев (1822 – 1864) «Борьба» Цикл из 18 стихотворений, навеянных мучительной безответной любовью к одной женщине. 10 Прощай, прощай! О. если б знала ты, Как тяжело, как страшно это слово… От муки разорваться грудь готова, А в голове больной бунтует снова Одна другой безумнее мечты. Я гнал их прочь, обуздывая властью Моей любви, глубокой и святой; В борьбу и в долг я верил, веря счастью; Из тьмы греха исторгнут чистой страстью, Я был царем над ней и над собой. Я, мучася, ревнуя и пылая, С тобою был спокоен, чист и тих, Я был с тобою свят, моя святая! Я не роптал – главу по прах склоняя, Я горько плакал о грехах своих. Прощай, прощай!.. Вновь осужден узнать я На тяжкой жизни тяжкую печать Не смытого раскаяньем проклятья… Но, испытавший сердцем благодать, я Теперь иду безропотно страдать. Я. Полонский (1819 – 1898) Умеренная красота чувств, мыслей, поведения персонажей его лирики. Вызов За окном в тени мелькает Русая головка. Ты не спишь, мое мученье! Ты не спишь, плутовка! Выходи ж ко мне навстречу! С жаждой поцелуя К сердцу сердце молодое Пламенно прижму я. Ты не бойся, если звезды Слишком ярко светят : Я платком тебя одену Так, что не заметят! Если сторож нас окликнет – Назовись солдатом; Если спросят, с кем была ты, Отвечай, что с братом! Под надзором богомолки Ведь тюрьма наскучит; А неволя поневоле Хитрости научит! Лебедь Пел смычок – в садах горели Огоньки – сновал народ – Только ветер спал да темен Был ночной небесный свод; Темен был и пруд зеленый, И густые камыши, Где томился бедный лебедь, Притаясь в ночной тиши Умирая, не видал он – Прирученный нелюдим, Как над ним взвилась ракета И рассыпалась над ним; Не слыхал, как струйка билась, Как журчал прибрежный ключ, Он глаза смыкал и грезил О полете выше туч. Как в простор небес высоко Унесет его полет И какую он там песню Вдохновенную споет! Как на все, на все святое, Что таил он от людей, Там откликнутся родные Стаи белых лебедей. И уж грезит он: минута, Вздох – и крылья зашумят, И его свободной песни Звуки утро возвестят. Но крыло не шевелилось, Песня путалась в уме: Без полета и без пенья Умирал он в полутьме. Сквозь камыш, шурша по листьям, Пробирался ветерок… А кругом в садах горели Огоньки и пел смычок. А. Толстой (1817 – 1875) Многое из его лирики положено на музыку замечательными композиторами. Разнообразят поэзию графа, поэта , писателя, драматурга, эпического склада стихотворения и баллады и пародии. Средь шумного бала, случайно, В тревоге мирской суеты, Тебя я увидел, но тайна Твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, А голос так дивно звучал, Как звон отдаленной свирели, Как моря играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий И весь твой задумчивый вид, А смех твой, и грустный и звонкий, С тех пор в моем сердце звучит. В часы одинокие ночи Люблю я, усталый, прилечь – Я вижу печальные очи, Я слышу веселую речь. И грустно я так засыпаю, И в грезах неведомых сплю… Люблю ли тебя – я не знаю, Но кажется мне, что люблю! Сидит под балдахином Китаец Цу – Кин – Цын И молвит мандаринам: «Я главный мандарин! Велел владыко края Мне ваш спросить совет: Зачем у нас в Китае Досель порядка нет?» Китайцы все присели, Задами потрясли, Гласят:«Затем доселе Порядка нет в земли, Что мы ведь очень млады, Нам тысяч пять лишь лет; Затем у нас нет складу, Затем порядку нет! Клянемся разным чаем, И желтым и простым, Мы много обещаем И много совершим!» « Мне ваши речи милы, Ответил Цу – Кин – Цын, Я убеждаюсь силой Столь явственных причин. Подумаешь: пять тысяч, Пять тысяч только лет!» И приказал он высечь Немедля весь совет. Козьма Прутков (Братья Жемчужниковы, А. Толстой) Веселые пародии передразнивают эпигонов. Карикатуры на амбиции сочинителей, возомнивших себя поэтами. Немецкая баллада Барон фон Гринвальдус, Известный в Германье, В забралах и латах На камне пред замком, Пред замком Амальи, Сидит, принахмурясь, Сидит и молчит. Отвергла Амалья Баронову руку!.. Барон фон Гринвальдус От замковых окон Очей не отводит; Не пьет и не ест. Года за годами Бароны воюют, Бароны пируют; Барон фон Гринвальдус, Сей доблестный рыцарь, Все в той же позицье На камне сидит. Пастух, молоко и читатель Басня Однажды нес пастух куда-то молоко, Но так ужасно далеко, Что уж назад не возвращался. Читатель! Он тебе не попадался? И. Аксаков (1823 – 1886) Пейзаж, с которым теснее всего сживается беглый крестьянин – бродяга, это дорога. Из поэмы «Бродяга» Прямая дорога, большая дорога! Простору немало взяла ты у бога, Ты вдаль протянулась, пряма, как стрела, Широкою гладью, как скатерть, легла! Ты камнем убита, жестка для копыта, Ты мерена мерой, трудами добыта!.. В тебе что ни шаг, то мужик работал: Прорезывал горы, мосты настилал; Все с дружною силой и с песнями взято, Вколачивал молот, и рыла лопата, И дебри топор вековые просек. Куда как упорен в труде человек! Чего он ни сможет, лишь было б терпенье, Да разум, да воля, да божье хотенье!.. А с каменкой рядом, поодаль немножко, Окольная вьется, живая дорожка! Дорожка, дорожка, куда ты ведешь, Без званья ли ты иль со званьем слывешь? Идешь, колесишь ты, не зная разбору, По рвам и долинам, чрез реку и гору! Немного ты места себе отняла: Простором тележным легла, где могла! Тебя не ровняли топор и лопата, Мягка ты копыту и пылью богата, И кочки местами, и взрежет соха… Грязна ты в ненастье, а в вёдро суха!.. Л. Мей (1822 – 1862) Чувства к невесте, к несомненной, никуда не уйдешь, будущей жене. Не знаю, отчего так грустно мне при ней? Я не влюблен в нее: кто любит, тот тоскует, Он болен, изнурен любовию своей. Он день и ночь в огне – он плачет и ревнует… Я не влюблен…при ней бывает грустно мне – И только…Отчего – не знаю. Оттого ли, Что дума и у ней такой же просит воли, Что сердце и у ней в таком же дремлет сне? Иль от предчувствия, что некогда напрасно, Но пылко мне ее придется полюбить? Бог весть! А полюбить я не хотел бы страстно: Мне лучше нравится – по-своему грустить. Взгляните, вот она: небрежно локон вьется, Спокойно дышит грудь, ясна лазурь очей – Она так хороша, так весело смеется… Не знаю, отчего так грустно мне при ней? Н. Щербина (1821 – 1869) Антологическая (античная) тематика о главном – о любви. Стыдливость Я лукаво смотрел на нее, Говорил ей лукавые речи, Пожирая глазами ее Неприкрытые белые плечи. Я ее не любил; но порой, Когда, взор свой склоняя стыдливо, Грудь и плечи дрожащей рукой Одевала она торопливо И краснела, и складки одежд Так неловко она разбирала, И, готовая пасть из-под вежд На ресницу, слезинка дрожала, И аттический звук ее слов, Как на лире струна, прерывался, Развязаться был пояс готов, И нескоро камей замыкался, В этот миг все движенья ее, Как невольник, безмолвно следил я, И полно было сердце мое… В этот миг беспредельно любил я! А. Разоренов (1819 – 1891) Неукротимое чувство – не порок. Не брани меня, родная, Что я так люблю его. Скучно, скучно, дорогая, Жить одной мне без него. Я не знаю, что такое Вдруг случилося со мной, Что так бьется ретивое И терзается тоской. Все оно во мне изныло, Вся горю я, как огнем, Все немило мне, постыло, Все страдаю я по нем. Мне не надобны наряды, И богатства всей земли… Кудри молодца и взгляды Сердце бедное зажгли… Сжалься, сжалься же, родная, Перестань меня бранить. Знать, судьба моя такая – Я должна его любить! И. Никитин (1824 – 1861) Плачевна в нужде, голоде, нищете участь крестьянина, его жены, деток, но лучи солнца, надежды согревают и бедняцкие души, оживляют и держат их на жизни, какой беспросветной она бы ни была. Зимняя ночь в деревне Весело сияет Месяц над селом; Белый снег сверкает Синим огоньком. Как начнут шататься По дворам чужим Мудрено ль связаться С человеком злым!.. Месяца лучами Божий храм облит: Крест над образами, Как свеча, горит. А уж тут дорога Не к добру лежит: Позабудут бога, Потеряют стыд. Пусто, одиноко Сонное село: Вьюгами глубоко Избы занесло. Господи, помилуй Горемык-сирот! Дай им разум-силу, Будь ты им в оплот!.. Тишина немая В улицах пустых. И не слышно лая Псов сторожевых. И в лампадке медной Теплится огонь. Освещая бледно Лик святых икон. Помоляся богу, Спит крестьянский люд, Позабыл тревогу И тяжелый труд. И черты старушки, Полные забот, И в углу избушки Дремлющих сирот. Лишь в одной избушке Огонек горит: Бедная старушка Там одна лежит. Вот петух бессонный Где-то закричал; Полночи спокойной Долгий час настал. Думает-гадает Про своих сирот: Кто их приласкает, Как она умрет? И бог весть отколе Песенник лихой Вдруг промчался в поле С песней удалой, Горемыки - детки, Долго ли до бед! Оба малолетки, Разуму в них нет! И в морозной дали Тихо потонул И напев печали И тоски разгул. Н. Добролюбов (1836 – 1861) Разночинец, демократ – образец честного служения идее. Еще работы в жизни много, Работы честной и святой. Еще тернистая дорога Не залегла передо мной. Еще пристрастьем ни единым Своей судьбы я не связал И сердца полным господином Против соблазнов устоял Я ваш, друзья, - хочу быть вашим. На труд и битву я готов, Лишь бы начать в союзе нашем Живое дело вместо слов. Но если нет – мое презренье Меня далеко оттолкнет От тех кружков, где словопренье Опять права свои возьмет. И сгибну ль я в тоске безумной Иль в мире с пошлостью людской, Все лучше, чем заняться шумной, Надменно-праздной болтовней. Но знаю я – дорога наша Уж пилигримов новых ждет, И не минет святая чаша Всех, кто ее не оттолкнет. М. Михайлов (1829 – 1865) Познавший тюрьму, ссылку, каторгу – верой в свободу и жив. Только помыслишь о воле порой, Словно повеет оттуда весной. Сердце охватит могучая дрожь; Полною жизнью опять заживешь. Мир пред тобою широкий открыт, Солнце надежды над далью горит. Ждет тебя дело великое вновь, Счастье, тревога, борьба и любовь . Снова идешь на родные поля, Труд и надежды с народом деля. Пусть будет снова боренье со злом, Пусть и падешь ты, не сладив с врагом. Пусть будут гибель, страданья, беда, Только б не эта глухая чреда. В. Курочкин (1831 – 1875) Первостатейная сатира, не знающая пощады, без завиральностей, с нетерпением и удовольствием читаемая всеми. Весенняя сказка Здоровый ум дал бог ему, Горячую дал кровь, Да бедность гордую к уму, А к бедности любовь. А ей – подобью своему – Придав земную плоть Любовь дал, так же как ему, И бедность дал господь. Обманом тайного сродства И лет увлечены, Хоть и бедны до воровства, Но были влюблены. Он видел в ней любви венец И ей сиял лучом, И – наших дней концов конец – Стояли под венцом. Он не согнулся от трудов, Но так упорно шел, Что стал, как истина, суров, Как добродетель, зол. Она – в мороз из теплых стран Заброшенный цветок – Осталась милой – как обман, И доброй - как порок. Что сталось с ним, что с ней могло б Случиться в добрый час – Благополучно ранний гроб Закрыл навек от нас. Д. Минаев (1835 – 1889) Ирония и сатира в каждом стихотворном сочинении, даже и в упоминании о прискорбных событиях. Столь же язвительно отгорожен юмор от сатиры, пропитавшей поэта до последней косточки. Юмористам Юмористы! Смейтесь все вы, Только пусть ваш стих, Как улыбка юной девы, Будет чист и тих. Будьте скромны, как овечка, Смейтесь без тревог, Но от желчного словечка Сохрани вас бог!.. Без насмешки, без иголок, Весело для всех, Смейтесь так, чтоб не был колок Безобидный смех; Чтоб ребенок в колыбели Улыбнуться мог… От иной гражданской цели Сохрани вас бог!.. Смейтесь… ну хоть над природой, Ей ведь нет вреда, Над визитами, над модой Смейтесь, господа; Над ездой в телеге тряской Средь больших дорог… От знакомства с свистопляской Сохрани вас бог!.. Пойте песнь о стройном фронте, О ханже, хлыще, Только личностей не троньте, Смейтесь – вообще… И от кар, от обличений Вдоль и поперек, От новейших всех учений – Сохрани вас бог!.. В. Богданов (1837 – 1886) Дубинушка Песня о тривиальной дубине, побуждающей к активности. Много песен слыхал я в родной стороне, Как их с горя, как с радости пели, Но одна только песнь в память врезалась мне, Это – песня рабочей артели : «Ухни, дубинушка, ухни! Ухни, березова, ухни! Ух.!..» За работой толпа, не под силу ей труд, Ноет грудь, ломит шею и спину… Но вздохнут бедняки, пот со лба оботрут И, кряхтя, запевают дубину : «Ухни, дубинушка, ухни! Ухни, березова, ухни! Ух!..» Англичанин-хитрец, чтоб работе помочь, Вымышлял за машиной машину; Ухитрились и мы: чуть пришлося невмочь, Вспоминаем родную дубину : «Ухни, дубинушка, ухни! Ухни, березова, ухни! Ух!..» Да. Дубинка, в тебя, видно, вера сильна, Что творят по тебе так поминки; Где работа дружней и усердней нужна, Там у нас, знать, нельзя без дубинки : «Ухни, дубинушка, ухни! Ухни, березова, ухни! Ух!..» Эта песня у нас уж сложилась давно; Петр с дубинкой ходил на работу, Чтоб дружней прорубалось в Европу окно, И гремело по финскому флоту: «Ухни, дубинушка, ухни! Ухни, березова, ухни! Ух!..» Прорубили окно…Да, могуч был напор Бессознательной силы…Все стали Эту силу ценить и бояться с тех пор… Наши ж деды одно напевали: «Ухни, дубинушка, ухни! Ухни, березова, ухни! Ух!..» И от дедов к отцам, от отцов к сыновьям Эта песня пошла по наследству; Чуть на лад что нейдет, так к дубинушке там Прибегаем, как к верному средству: «Ухни, дубинушка, ухни! Ухни, березова, ухни! Ух!..» Эх, когда б эту песню допеть поскорей! Без дубины чтоб спорилось дело И при тяжком труде утомленных людей Монотонно б у нас не гудело: «Ухни, дубинушка, ухни! Ухни, березова, ухни! Ух!..» П .Вейнберг (1831 – 1908) Короткий романс о непреодолимой пропасти между бедными и богатыми. Он был титулярный советник, Она – генеральская дочь; Он робко в любви объяснился, Она прогнала его прочь. Пошел титулярный советник И пьянствовал с горя всю ночь, И в винном угаре носилась Пред ним генеральская дочь. Л. Пальмин (1841 – 1891) Святой памяти павших борцов. Requiem Не плачьте над трупами павших борцов, Погибших с оружьем в руках, Не пойте над ними надгробных стихов, Слезой не скверните их прах! Не нужно ни гимнов, ни слов мертвецам, Отдайте им лучший почет: Шагайте без страха по мертвым телам, Несите их знамя вперед! С врагом их под знаменем тех же идей, Ведите их бой до конца! Нет почести лучшей, нет тризны святей Для тени достойной борца! А. Жемчужников (1821 – 1908) Основа популярнейшей в 50-60-х годах прошлого, советского, века песни, исполняемой белоэмигрантом П. Лещенко Осенние журавли Сквозь вечерний туман мне, под небом стемневшим, Слышен крик журавлей все ясней и ясней… Сердце к ним понеслось, издалека летевшим, Из холодной страны, с обнаженных степей. Вот уж близко летят и, все громче рыдая, Словно скорбную весть мне они принесли… Из какого же вы неприветного края Прилетели сюда на ночлег, журавли? Я ту знаю страну, где уж солнце без силы, Где уж савана ждет, холодея, земля И где в голых лесах воет ветер унылый, То родимый мой край, то отчизна моя. Сумрак, бедность, тоска, непогода и слякоть, Вид унылых людей, вид печальной земли … О, как больно душе, как мне хочется плакать! Перестаньте рыдать надо мной, журавли!.. А. Амосов (1823 – 1866) Элегия Из кавказской жизни «Хас-Булат удалой! Бедна сакля твоя; Золотою казной Я осыплю тебя. И играла река Перекатной волной, И скользила рука По груди молодой. Саклю пышно твою Разукрашу кругом, Стены в ней обобью Галуном твой бешмет Мне она отдалась До последнего дня И аллахом клялась, Что не любит тебя!» Разошью по краям И тебе пистолет И с персидским ковром. Мой заветный отдам. Крепко шашки сжимал Хас-Булат рукоять И, схватясь за кинжал, Стал ему отвечать: Дам старее тебя Тебе шашку с клеймом, Дам лихого коня С кабардинским тавром. «Князь! Рассказ длинный твой Ты напрасно мне рек, Я с женой молодой Вас вчера подстерег. Дам винтовку мою, Дам кинжал Базалай Лишь за это свою Ты жену мне отдай. Береги, князь, казну И владей ею сам, За неверность жену Тебе даром отдам. Ты уж стар, ты уж сед, Ей с тобой не житье, На заре юных лет Ты погубишь ее. Ты невестой своей Полюбуйся поди Она в сакле моей Спит с кинжалом в груди. Тяжело без любви Ей тебе отвечать И морщины твои Не любя целовать. Я глаза ей закрыл, Утопая в слезах, Поцелуй мой застыл У нее на губах». Видишь, вон Ямман-Су Моет берег крутой, Там вчера я в лесу Был с твоею женой. Голос смолк старика, Дремлет берег крутой; И играет река Перекатной волной. Под чинарой густой Мы сидели вдвоем, Месяц плыл золотой Все молчало кругом. А. Навроцкий (1839 – 1914) Утес Стеньки Разина Ставшая популярной песней славная легенда о народном герое. Есть на Волге утес, диким мохом оброс Он с боков от подножья до края, И стоит сотни лет, только мохом одет, Ни нужды, ни заботы не зная. На вершине его ни растет ничего, Там лишь ветер свободный гуляет, Да могучий орел свой притон там завел И на нем свои жертвы терзает. Из людей лишь один на утесе том был, Лишь один до вершины добрался; И утес человека того не забыл И с тех пор его именем звался. И хотя каждый год по церквям на Руси Человека того проклинают, Но приволжский народ о нем песни поет И с почетом его вспоминает. Раз ночною порой, возвращаясь домой, Он один на утес тот взобрался И в полуночной мгле на высокой скале Там всю ночь до зари оставался. Много дум в голове родилось у него, Много дум он в ту ночь передумал, И под говор волны средь ночной тишины, Он великое дело задумал. И задумчив, угрюм от надуманных дум, Он наутро с утеса спустился И задумал идти по другому пути – И идти на Москву он решился. Но свершить не успел он того, что хотел, И не то ему пало на долю; И расправой крутой да кровавой рекой Не помог он народному горю. Не владыкою был он в Москву привезен, Не почетным пожалован гостем, И не ратным вождем, на коне и с мечом, А в постыдном бою с мужиком-палачом Он сложил свои буйные кости. И Степан будто знал - никому не сказал, Никому своих дум не поведал; Лишь утесу тому, где он был, одному Он те думы хранить заповедал. И поныне стоит тот утес и хранит Он заветные думы Степана; И лишь с Волгой одной вспоминает порой Удалое житье атамана. Но зато, если есть на Руси хоть один, Кто с корыстью житейской не знался, Кто неправдой не жил, бедняка не давил, Кто свободу, как мать дорогую, любил И во имя ее подвизался, Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет И к нему чутким ухом приляжет, И утес-великан все, что думал Степан, Все тому смельчаку перескажет. П. Лавров (1823 – 1900) Новая песня Революционный поток – призыв к кровавой борьбе ради народного счастья. Отречемся от старого мира! Отряхнем его прах с наших ног! Нам враждебны златые кумиры; Ненавистен нам царский чертог! Мы пойдем в ряды страждущих братий, Мы к голодному люду пойдем; С ним пошлем мы злодеям проклятья, На борьбу мы его позовем: Вставай, подымайся, рабочий народ! Вставай на борьбу, брат голодный! Раздайся крик мести народной! Вперед! … Не довольно ли вечного горя? Встанем, братья, повсюду зараз! От Днепра и до Белого моря, И Поволжье, и дальний Кавказ! На воров, на собак – на богатых! Да на злого вампира-царя! Бей, губи их, злодеев проклятых! Засветись лучшей жизни заря! и т. д. И. Федоров (Омулевский) (1836 – 1883) Не борьба на уничтожение правящих верхов, а безустанная работа на ниве народной. Светает, товарищ!.. Работать давай! Работы усиленной Требует край… Работай лишь с пользой На ниве людей Да сей только честные Мысли на ней. Работай руками, А там уж что будет, Работай умом, То будет пускай… Работай без устали Так ну же работать мы Ночью и днем! Дружно давай, Не думай, что труд наш Работать руками, Бесследно пройдет; Работать умом, Не бойся, что дум твоих Работать без устали Мир не поймет… Ночью и днем! Л. Трефолев (1839 – 1905) Песня о камаринском мужике Исстрадавшийся Касьян невпопад правит свои именины раз в четыре года, 29 февраля, и доводит себя до смерти. 5 Темной тучей небо хмурится. Вся покрыта снегом улица: А на улице Варваринской Спит…мертвец, мужик камаринской, И, идя из храма божьего, Ухмыляются прохожие. Но нашелся, наконец, из них один, Добродетельный, почтенный господин, На Касьяна сердобольно посмотрел: «Вишь, налопался до чертиков, пострел!» И потыкал нежно тросточкой его: «Да уж он совсем …того, того, того!» Два лица официальные На носилки погребальные Положили именинника. Из кармана два полтинника Вдруг со звоном покатилися И…сквозь землю провалилися. Засияло у хожалых «рождество»: Им понравилось такое колдовство, И с носилками идут они смелей, Будет им ужо на водку и елей; Марта первого придут они домой, Прогулявши ночь… с кумой, с кумой, с кумой. И. Суриков (1841 – 1880) Детство Светлая пора в беспросветной горькой бедняцкой доле. Вот моя деревня; Вот мой дом родной; Вот качусь я в санках По горе крутой; Вот свернулись санки, И я на бок – хлоп! Кубарем качуся Под гору, в сугроб. И друзья-мальчишки, Стоя надо мной, Весело хохочут Над моей бедой. Все лицо и руки Залепил мне снег… Мне в сугробе горе, А ребятам смех! Но меж тем уж село Солнышко давно: Поднялася вьюга, На небе темно. Весь ты перезябнешь, Руки не согнешь, И домой тихонько, Нехотя бредешь. Ветхую шубенку Скинешь с плеч долой; Заберешься на печь К бабушке седой. И сидишь, ни слова… Тихо все кругом; Только слышишь: воет Вьюга за окном. В уголке, согнувшись, Лапти дед плетет; Матушка за прялкой Молча лен прядет Избу освещает Огонек светца; Зимний вечер длится, Длится без конца… И начну у бабки Сказки я просить; И начнет мне бабка Сказку говорить. Как Иван-царевич Птицу-жар поймал, Как ему невесту Серый волк достал. Слушаю я сказку – Сердце так и мрет; А в трубе сердито Ветер злой поет. Я прижмусь к старушке… Тихо речь журчит, И глаза мне крепко Сладкий сон смежит. И во сне мне снятся Чудные края И Иван-царевич – Это будто я. Вот передо мною Чудный сад цветет, В том саду большое Дерево растет. Золотая клетка На сучке висит; В этой клетке птица, Точно жар, горит; Прыгает в той клетке, Весело поет, Ярким, чудным светом Сад весь обдает. Вот я к ней подкрался И за клетку – хвать! И хотел из сада С птицею бежать. Но не тут-то было! Поднялся шум, звон; Набежала стража В сад со всех сторон, Руки мне скрутили И ведет меня… И, дрожа от страха, Просыпаюсь я. Уж в избу, в окошко, Солнышко глядит; Пред иконой бабка Молится, стоит. Весело текли вы, Детские года! Вас не омрачили Горе и беда. С Дрожжин (1848 – 1930) Самоучка, из самых крестьянских низов. Вошел в советскую эпоху, можно сказать, из крепостнической России. Я для песни задушевной Ценою жгучих слез и муки, Взял лесов зеленый шепот, И у Волги в жар полдневный Темных струй подслушал ропот; Взял у осени ненастье, У весны - благоуханье; У народа взял я счастье И безмерное страданье. Среди томительных ночей, Купил я вас, живые звуки, У бедной родины моей. Не будьте ж в мире сиротами, Идите, скорбные, в народ, Который чуткими сердцами Вас приласкает и поймет. Д. Садовников (1847 – 1883) Народ устами поэта второе столетие поет о лихом атамане. Из-за острова на стрежень, На простор речной волны Выбегают расписные Острогрудые челны. На переднем Стенька Разин, Обнявшись с своей княжной, Свадьбу новую справляет И веселый и хмельной. А княжна, склонивши очи, Ни жива и ни мертва, Робко слушает хмельные, Неразумные слова. «Ничего не пожалею! Буйну голову отдам!» Раздается по окрестным Островам и берегам. « Ишь ты, братцы, атаман-то Нас на бабу променял! Ночку с нею повозился – Сам наутро бабой стал… Ошалел…» Насмешки, шепот Слышит пьяный атаман – Персиянки полоненной Крепче обнял полный стан. Гневно кровью налилися Атамановы глаза, Брови черные нависли, Собирается гроза… «Эх, кормилица родная, Волга – матушка-река! Не видала ты подарка От донского казака!.. Чтобы не было зазорно Перед вольными людьми, Перед вольною рекою, На, кормилица…возьми!» Мощным взмахом поднимает Полоненную княжну И, не глядя, прочь кидает В набежавшую волну… « Что затихли, удалые?.. Эй ты, Фролка, черт, пляши!.. Грянь, ребята, хоровую За помин ее души!..» А. Боровиковский 1844 – 1905) К судьям Обращение по поводу судебного процесса над народовольцами . Мой тяжкий грех, мой умысел злодейский Суди, судья, но проще, но скорей: Без мишуры, без маски фарисейской, Без защитительных речей… Крестьянскую дерюгу вместо платья Одев и сняв «преступно» башмаки, Я шла туда, где стонут наши братья, Где вечный труд и бедняки. Застигнута на месте преступленья, С «поличным» я на суд приведена… Зачем же тут «свидетели» и «пренья»? Ведь я кругом уличена! Оставь, судья, ненужные вопросы… Взгляни – я вся в уликах: на плечах Мужицкая одежда, ноги босы, Мозоли видны на руках. Тяжелою работой я разбита… Но знаешь ли, в душе моей, на дне, Тягчайшая из всех улик сокрыта: Любовь к родимой стороне. Но знай и то, что, как я ни преступна, Ты надо мной бессилен, мой судья… Нет, я суровой каре недоступна, И победишь не ты, а я. «Пожизненно» меня ты погребаешь, Но мой недуг уж написал протест… И мне грозит – сам видишь ты и знаешь Лишь кратковременный арест… И я умру все с тою же любовью… И, уронив тюремные ключи, С молитвою приникнут к изголовью И зарыдают палачи!.. П. Якубович (1860 – 1911) Несломленность поэта-революционера, непоколебимость, прежняя вера в свои идеалы, хотя принесли они много страданий. Ни о чем не жалею я в прошлом, друзья, Ни одной бы черты в нем не вычеркнул я… Боль и слезы его – звучной песни слова: Слово выкинешь вон – и вся песня мертва! Там, за каждой слезой, в каждом сумрачном дне Солнца яркого луч вспоминается мне: Это солнце я в сердце горячем носил – Я одними страданьями с родиной жил! Жизнь мелькнула волшебным, сверкающим сном… Ни о чем не жалею, друзья, ни о чем! В. Фигнер (1852 – 1942) Матери Послание из тюрьмы на волю с просьбой – горем дочери себя не точить. Если, товарищ, на волю ты выйдешь, Всех, кого любишь, увидишь, обнимешь, То не забудь мою мать! Ради всего, что есть в жизни святого, Чистого, нежного, нам дорогого, Дай обо мне ты ей знать! Ты ей скажи, что жива я, здорова, Что не ищу я удела иного – Всем идеалам верна Было мне трудно здесь первое время: Страшно разлуки тяжелое бремя… Думала – сломит она. Но не сломила…Теперь не бледнею, Что уж надежды в душе не имею Мать дорогую обнять!.. Мать не прошу я любить: сердце чует, Что и без просьб она любит, горюет, Образ мой в сердце хранит. Но пусть не плачет, меня вспоминая: Я весела…я бодра…Пусть родная Горем себя не томит! Пусть лишь в молитвах меня поминает, Пусть лишь крестом издали осеняет – Дочь трудный путь да свершит!.. А. Барыкова (1839 – 1893) У кабака Равнодушие мира, окружающего обескровленную мать с тощим грудным ребенком. Я не могу забыть ужасного виденья. Страшней всего в нем то, что это не был сон, Не бред болезненный, не блажь воображенья: Кошмар был наяву и солнцем освещен. Оборвана, бледна, худа и безобразна, Бесчувственно пьяна, но, верно, голодна, У двери кабака, засаленной и грязной, На слякоти ступень свалилася она – Кормилица и мать. Живой скелет ребенка Повиснул на груди иссохшей и грызет Со злобой жадного, голодного волчонка И вместо молока дурман и смерть сосет. Кругом галдит народ на площади базара, И в воздухе висит над серою толпой Ругательства и смрад промозглого товара. Спокойно на углу стоит городовой, А солнце-юморист с улыбкой властелина Из синей пустоты сияет так светло, Лаская, золотя ужасную картину Лучами ясными эффектно и тепло. А Апухтин (1840 – 1893) Слезы сокрушенной любви. Мне не жаль, что тобою я не был любим, Я любви недостоин твоей! Мне не жаль, что теперь я разлукой томим, Я в разлуке люблю горячей; Мне не жаль, что и налил и выпил я сам Унижения чашу до дна, Что к проклятьям моим, и к слезам, и к мольбам Оставалася ты холодна. Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, Мое сердце сжигал и томил, Но мне жаль, что когда-то я жил без любви, Но мне жаль, что я мало любил! К. Случевский (1837 – 1901) Магия настоящего искусства. Одушевление того, что фактически давно не существует, но воскресает, стоит картиной благодаря стиху, рифме, сочетанию звуков, казалось бы, вздорных и лишенных, что очевидно, плоти. Ты не гонись за рифмой своенравной И за поэзией – нелепости оне: Я их сравню с княгиней Ярославной, С зарею плачущей на каменной стене. Ведь умер князь, и стен не существует, Да и княгини нет уже давным – давно; А все как будто, бедная, тоскует, И от нее не все, не все схоронено. Но это вздор, обманное созданье! Слова не плоть… Из рифм одежд не ткать! Слова бессильны дать существованье, Как нет в них также сил на то, чтоб убивать… Нельзя, нельзя…Однако преисправно Заря затеплилась; смотрю, стоит стена; На ней, я вижу, ходит Ярославна, И плачет, бедная, без устали она. Сгони ее! Довольно ей пророчить! Уйми все песни, все! Вели им замолчать! К чему они? Чтобы людей морочить И нас, то здесь, то там, тревожить и смущать! Смерть песне! Смерть! Пускай не существует! Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!.. А Ярославна все-таки тоскует В урочный час на каменной стене Венец спора императора, отрекшегося от христианства, с Иисусом Христом…Признание побежденного перед смертью. Часто с тобой мы спорили… Умер! Осилить не мог Сердцем правдивым и любящим Мелких и крупных тревог. Кончились споры. Знать, правильней Жил ты, не вкривь и не вкось! Ты победил, Галилеянин! Сердце твое порвалось… Н. Минский ( 1855 – 1937) Любовь к ближнему Доктрина от противного. Если не верен, то есть не применим к тебе посыл, то соответственно - исходящее переворачивается, приобретает значение, обратное первоначальному. Но заповеди не исправляют! Любить других, как самого себя… Но сам себя презреньем я караю. Какой-то сон божественный любя, В себе и ложь и правду презираю. И если человека я любил, То лишь в надежде смутной и чудесной Найти в другом луч истины небесной, Невинность сердца, мыслей чистый пыл. Но каждый раз, очнувшись от мечтаний, В чужой душе все глубже и ясней Я прозревал клеймо своих страстей, Свою же ложь, позор своих страданий. И всех людей, равно за всех скорбя, Я не люблю, как самого себя. В. Соловьев (1853 – 1900) Негасимое постоянство любви держит человека. Бедный друг! Истомил тебя путь, Темен взор, и венок твой измят, Ты войди же ко мне отдохнуть Потускнел, догорая, закат. Где была и откуда идешь, Бедный друг, не спрошу я, любя; Только имя мое назовешь – Молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и Время царят на земле – Ты владыками их не зови; Все, кружась, исчезает во мгле, Неподвижно лишь солнце любви. С. Надсон (1867 – 1887) Дитя города на просторе природы, вырвавшись из каменных тисков цивилизации. Довольно я кипел безумной суетою, Довольно я сидел, склонившись за трудом, Я твой, родная глушь, я снова твой душою, Я отдохнуть хочу в безмолвии твоем!.. Не торопись, ямщик,- дай надышаться вволю!.. О, ты не испытал, что значит столько лет Не видеть ни цветов, рассыпанных по полю, Ни рощи, пеньем птиц встречающей рассвет! Не радостна весна средь омута столицы, Где бледный свод небес скрыт в дымных клубах, Где задыхаешься, как под плитой гробницы, На тесных улицах и в каменных домах! А здесь – какой простор! Как весело ныряет По мягким колеям гремящий наш возок, Как нежно и свежо лесок благоухает, Под золотом зари березовый лесок… Вот спуск…внизу ручей. Цветущими ветвями Душистые кусты поникли над водой, А за подъемом даль, зелеными полями Раскинувшись, слилась с небесной синевой. К. Фофанов (1862 – 1911) Прославление весны, поднимающей душу до заоблачных высот. На волне колокольного звона К нам плывет голубая весна И на землю из божьего лона Сыплет щедрой рукой семена. Проходя по долине, по роще, Ясным солнцем роняет свой взор И лучом отогретые мощи Одевает в зеленый убор. Точно после болезни тяжелой, Воскресает природа от сна, И дарит всех улыбкой веселой Золотая, как утро, весна. Ах, когда б до небесного лона Мог найти очарованный путь, На волне колокольного звона В голубых небесах потонуть!.. М. Лохвицкая (1863 – 1905) Экспрессивное выражение максимальных желаний девушки. Я хочу быть любимой тобой Не для знойного сладкого сна, Но – чтоб связаны вечной судьбой Были наши навек имена. Этот мир так отравлен людьми, Эта жизнь так скучна и темна… О. пойми, - о, пойми, - о, пойми, В целом свете всегда я одна. Я не знаю, где правда, где ложь, Я затеряна в мертвой глуши. Что мне жизнь, если ты оттолкнешь Этот крик наболевшей души? Пусть другие бросают цветы И мешают их с прахом земным, Но не ты, - но не ты, - но не ты, О властитель над сердцем моим! И навеки я буду твоей, Буду кроткой, покойной рабой, Без упреков, без слез, без затей. Я хочу быть любимой тобой. Л. Радин (1861 – 1900) Смело, товарищи, в ногу… Решительный призыв к роковой классовой борьбе. Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе, В царство свободы дорогу Грудью проложим себе. Время за дело приняться, В бой поспешим поскорей, Нашей ли рати бояться Призрачной силы царей? Вышли мы все из народа, Дети семьи трудовой. «Братский союз и свобода» Вот наш девиз боевой! Все, чем держатся их троны, Дело рабочей руки… Сами набьем мы патроны, К ружьям привинтим штыки. Долго в цепях нас держали, Долго нас голод томил, Черные дни миновали, Час искупленья пробил! Свергнем могучей рукою Гнет роковой навсегда И водрузим над землею Красное знамя труда! Франция Жорж Санд ( 1804 – 1876) Мопра Роман построен, как воспоминание о своей жизни восьмидесятилетнего Бернара Мопра, «человека крепкого здоровья, прямого стана, твердой поступи и отсутствия каких бы то ни было признаков старческой немощи». Рассказывается о дворянском некогда знатном роде Мопра, двух ее ветвях, старшей, Мопра-душегубах, и младшей, Мопра - сорвиголовах. Выросший среди разбойников, в кругу Мопра-душегубов, Бернар влюбился при первой встрече в Эдме, двоюродную сестру. Кузина случайно оказалась в зловещем замке ненавистных Мопра. Юноша спас ее от замышляемой коварными родственниками гибели, после разгрома королевскими стражниками родового гнезда злодеев был усыновлен отцом Эдме, вошел как член семьи в дом добропорядочных Мопра. Любовь Бернара и Эдме, преображение молодого человека из дикаря в образованного и воспитанного Эдме и ее окружением и есть главная тема романа. Бернар вступает в повстанческую армию США, уезжает в Америку, возвращается на родину через шесть лет, становится жертвой происков уцелевших Мопра-душегубов, покушающихся на Эдме, подвергается суду, как якобы убийца невесты. В конце концов справедливость воцаряется, побеждает воспитание добрых начал в человеке при непосредственном содействие взаимной любви, всепрощающей и целительной. « Она была единственной женщиной, которую я любил; никогда другая не привлекла моего взора и не испытала страстного пожатия моей руки. Таков я от природы: то, что я люблю, я люблю вечно – в прошлом, настоящем и будущем, - завершает свое повествование главный герой. - Не верьте в абсолютную неотвратимость рока, дети мои, и все же не отрицайте некоторой доли влияния, которое оказывают на человека его инстинкты, его способности, впечатления, окружающие его с колыбели, первые картины, поражающие его детское воображение, одним словом – весь внешний мир, так как он и определяет развитие нашей души. Помните, что мы не всегда бываем вполне свободны в выборе между добром и злом, не забывайте об этом, если только хотите быть терпимы к виновному, то есть справедливы, как само небо, ибо суд господень исполнен милосердия; иначе правосудие божие было бы несовершенным. То, что я сейчас сказал, может быть, и не вполне согласуется с буквой христианской религии, но заверяю вас, мысль моя вполне отвечает духу христианства, ибо она истинна. Человек не рождается злым; не рождается он и добрым, как полагает Жан-Жак Руссо , старый учитель моей дорогой Эдме. Человек от рождения наделен теми или иными страстями, теми или иными возможностями к их удовлетворению, большей или меньшей способностью извлекать из них пользу или вред для общества. Но воспитание может и должно исцелять от всякого зла; в том и заключается великая задача, ждущая своего решения, - речь идет о том, чтобы найти такую форму воспитания, которая бы отвечала натуре каждого отдельного человека. Всеобщее и совместное образование представляется необходимым; но следует ли отсюда, что оно должно быть одинаковым для всех? Если бы меня десяти лет от роду отдали в коллеж, я бы, конечно, вырос вполне приемлемым для общества человеком; но разве удалось бы таким путем избавить меня от неистовых желаний и научить их обуздывать, как это сделала Эдме? Сомневаюсь. Каждый испытывает потребность быть любимым, это поднимает его в собственных глазах; но людей нужно любить поразному: одного – с бесконечной снисходительностью, другого – с неослабной строгостью. А пока будет решена проблема воспитания, общего для всех и одновременно приспособленного к особенностям каждого, старайтесь сами исправлять друг друга. Вы спросите меня, каким образом? Ответ мой будет краток: возлюбите друг друга всем сердцем. Тогда нравы станут воздействовать на законы, и вы придете к уничтожению самого отвратительного и самого безбожного из всех законов – закона возмездия, к уничтожению смертной казни; ведь смертный приговор представляет собой не что иное, как признание власти рока над людьми, ибо такой приговор полагает виновного неисправимым, а небо – беспощадным». Орас «Его звали Орас Дюмонте; он был сыном мелкого провинциального чиновника с жалованием в полторы тысячи франков, который, женившись на богатой деревенской наследнице, обладавшей почти шестью тысячами экю, оказался, как говорится, держателем ренты в три тысячи франков. Его будущее – то есть продвижение в обществе – зависело от его трудолюбия, здоровья и хорошего поведения – иными словами, от слепого повиновения всем установлениям и порядкам существующего строя. Не удивительно, что при таком ненадежном положении и ограниченном достатке господин и госпожа Дюмонте, отец и мать моего друга, решив дать сыну образование, поместили его в провинциальный коллеж, где он получил диплом бакалавра, а затем отправили в Париж обучаться в высшей школе, с тем чтобы через несколько лет он стал адвокатом или врачом… …Вам нелегко будет постичь тайну характера Ораса, ибо его трудно определить, трудно справедливо оценить даже мне, так долго его изучавшему. Это была смесь притворства и естественности, столь искусно соединенных, что невозможно было различить, где начиналось одно и кончалось другое; так в некоторых блюдах или духах ни по вкусу, ни по запаху невозможно распознать их составные элементы. Я видел людей, которым Орас сразу же внушал безмерную антипатию, он казался им высокомерным и напыщенным. Другие же пленялись им немедленно, не могли им нахвалиться, утверждали, что такого чистосердечия и непринужденности не найти нигде. Должен вас заверить, что и те и другие ошибались, вернее, и те и другие были правы : Орас был естественным притворщиком. Разве не знаете вы подобных людей? Они так и рождаются с заимствованным характером и манерами, и кажется, будто они играют роль, тогда как в действительности разыгрывается драма их собственной жизни. Они копируют самих себя. Это пылкие умы, назначенные природой любить великое; пусть среда, окружающая их, обыденна – зато стремления романтичны; пусть их способность к творчеству ограниченна – зато замыслы безмерны; и потому такой человек всегда драпируется в плащ героя, созданного его воображением. Но герой этот не кто иной, как он сам, - его мечта, его творенье, его внутренняя, вдохновляющая сила. Реальный человек живет рядом с человеком идеальным; и подобно тому как в расколотом надвое зеркале мы видим собственное отражение двойным, так и в этом как бы удвоенном человеке мы различаем два образа, неразделимых, но совершенно несходным между собой. Именно это мы понимаем под выражением «вторая натура», ставшим синонимом слова «привычка». Таков был Орас. Потребность показывать себя в наиболее выгодном свете была у него так сильна, что он всегда был изысканно одет, наряден и блестящ. Природа, казалось, помогала ему в этой неустанной работе. Он был красив, держался изящно и непринужденно. Правда, не всегда в его одежде и манерах проявлялся безупречный вкус, однако художник мог бы в любую минуту подметить в нем какую-нибудь эффектную черту. Он был высокого роста, хорошо сложен, плотен, но не толст. Лицо его привлекало благородной правильностью черт, - однако в нем не было утонченности. Утонченность - нечто совсем иное. Благородство черт дается природой, утонченность – искусством; первое рождается вместе с нами, второе приобретается. Утонченность предполагает сознательно выработанное поведение, вошедшее в привычку выражение лица. Густая черная борода Ораса была подстрижена с щегольством, сразу выдававшую его принадлежность к Латинскому кварталу, а пышные и черные, как смоль, волосы рассыпались в буйном изобилии, которое истинный денди постарался бы слегка обуздать. Но когда он порывисто проводил рукой по этой темной волне, растрепавшиеся волосы не делали его смешным и не портили прекрасного лба. Орас отлично знал, что может безнаказанно ерошить прическу хоть двадцать раз на день, ибо, как он сам невзначай при мне обмолвился, волосы его лежали восхитительно. Одевался он с некоторой изысканностью. Его портной, малоизвестный и не имеющий представления о подлинном светском тоне, понял его стиль и отваживался изобретать для него более широкие обшлага, более яркий жилет, более выпуклый пластрон, более смелый покрой фрака, чем для других молодых клиентов. Орас был бы совершенно смешон на Гентском бульваре; но в Люксембургском саду или в партере театра Одеон он был самым элегантным, самым непринужденным, самым щеголеватым, самым блестящим молодым человеком, как принято писать в журналах мод. Шляпа его была надвинута набок, но в меру, трость была не слишком тяжела, но и не слишком легка. В его одежде отсутствовала та мягкость линий на английский лад, которая отличает истинную элегантность; зато в его движениях было столько гибкости, а свои негнущиеся лацканы он носил с такой свободой и естественной грацией, что дамы из аристократических кварталов, особенно молодые, нередко удостаивали его взглядом из глубины ложи или из окна кареты. Орас знал, что он красив, и не упускал случая дать это почувствовать, хотя у него хватало такта никогда не говорить о своей внешности. Зато он всегда обращал внимание на внешность других людей. Он мгновенно и придирчиво отмечал все погрешности, все недостатки чужой наружности и, естественно, своими ироническими замечаниями побуждал нас мысленно сравнивать его внешность с внешностью его жертвы. В таких случаях он становился язвительным. Обладая превосходно очерченным носом и чудесными глазами, он был безжалостен к некрасивым носам и невыразительным глазам. Он испытывал какое-то болезненное сострадание к горбунам; всякий раз, когда он указывал мне на одного из этих несчастных, я невольно бросал взгляд анатома на стройную спину Ораса и чувствовал, что по ней пробегает дрожь от втайне ощущаемого удовольствия; а между тем на лице его играла улыбка, выражавшая полное равнодушие к столь пустому преимуществу, как хорошее телосложение. Если комунибудь случалось заснуть в неловкой или смешной позе, Орас первый начинал смеяться. И невольно я обращал внимание – когда он ночевал у меня или когда я заставал его спящим дома, - что сам он всегда спал красиво, откинув руку или подложив ее под голову, как бы подражая античной статуе; и вот это, казалось бы, невинное наблюдение помогло мне понять его естественное, иными словами, врожденное притворство, о котором шла речь. Даже во сне, даже без свидетелей и без зеркала Орас старался принимать благородную позу. Один из наших товарищей ехидно утверждал, что он позирует даже перед мухами». Юношество Ораса. Сложности жизни с прекрасной Мартой, бедной, образованной, духовно развитой девушкой. Эгоистичный деспотизм молодого человека и разрыв – девушка не выдержала и сбежала от любовника. Влечение Ораса к виконтессе, к женщине из света. Попытки выгодно жениться. Встреча с родившей от него ребенка Мартой, обретшей и давно любящего ее Арсена и добившейся положения в обществе, твердый источник существования на поприще актрисы в театре. Трагедия, разыгранная Орасом перед прощанием в комнатке Марты, и окончательный разлад с действующими лицами романа, благоволившими к главному герою. Россия Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826 – 1888) История одного города Город Глупов, но глуповцы – обыватели, населяющие весь, не народ сочинителя-сатирика, издателя, и не глумление над своим народом его история, летописание, а издевается автор явно над градоначальниками, правителями Глупова, подминающими под свои непререкаемые индивидуальности предмет своего управления, вверенного им правительством. Каждый высокий начальник кратко представлен летописцем в общей описи и далее развит в главах поотдельно и колоритно язвительно и безудержно под стать своей сути. Так вот о Фердыщенко, наиболее терпимом, лояльном, нейтральном. « Фердыщенко, Петр Петрович, бригадир. Бывший денщик князя Потемкина. При не весьма обширном уме, был косноязычен. Недоимки запустил; любил есть буженину и гуся с капустой. Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедения». И развернутое представление, как его карикатурно уродует безграничное властолюбие, что и человеческого не оставляет ни капли. «1776-й год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых шесть лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенка. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенной настойчивостью остановиться на этом качестве, как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления. Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями, охотно захаживал в кабаки покалякать с целовальниками, по вечерам выходил в замасленном халате на крыльцо градоначальнического дома и играл с подчиненными в носки, ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик». - А ну, братик-сударик, ложись! – говорил он провинившемуся обывателю. Или: - А ведь корову-то, братик-сударик, у тебя продать надо! потому, братик-сударик, что недоимка – это святое дело! Понятно, что после затейливых действий маркиза де Санглота, который летал в городском саду по воздуху, мирное управление престарелого бригадира должно было показаться и «благоденственным» и «удивления достойным». В первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить «без утеснения» не в пример лучше, чем жить «с утеснением». - Нужды нет, что он парадов не делает да с полками на нас не ходит, - говорили они, - зато мы при нем, батюшке, свет узрили! Теперича, вышел ты за ворота: хошь – на месте сиди; хошь – куда хошь иди! А прежде, сколько одних порядков было – и не приведи бог! Но на седьмом году правления Фердыщенку смутил бес. Этот добродушный и несколько ленивый правитель вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности: скинул замасленный халат и стал ходить по городу в вицмундире. Начал требовать, чтоб обыватели по сторонам не зевали, а смотрели в оба, и к довершению всего устроил такую кутерьму, которая могла бы очень дурно для него кончиться, если б, в минуту крайнего раздражения глуповцев, их не осенила мысль: «А ну как, братцы, нас за это не похвалят!» Дело в том, что в это самое время, на выезде из города, в слободе Навозной, цвела красотой посадская жена Алена Осипова. Повидимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, а чувствует, что все его существо потихоньку тает. При среднем росте, она была полна, бела и румяна; имела большие серые глаза навыкате, не то бесстыжие, не то застенчивые, пухлые вишневые губы, густые, хорошо очерченные брови, темно-русую косу до пят и ходила по улице «серой утицей». Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной и был тоже под стать жене: молод, крепок, красив. Ходил он в плисовой поддевке и в поярковом грешневике, расцвеченном павьими перьями. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души в Дмитрии. Частенько похаживали они в соседний кабак и, счастливые, распевали там вместе песни. Глуповцы же просто не могли нарадоваться на их согласную жизнь. Долго ли, коротко ли они так жили, только в начале 1776 года, в тот самый кабак, где они в свободное время благодушествовали, зашел бригадир. Зашел, выпил косушку, спросил целовальника, много ли прибавляется пьяниц, но в то самое время увидел Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку. - Хочешь, молодка, со мною в любви жить? – спросил бригадир. - А на что мне тебя…гунявого? – ответила Аленка, с наглостью смотря ему в глаза, - у меня свой муж хорош! Только и было сказано между ними слов; но нехорошие это были слова». Дальше бригадир по своей неукротимой прихоти мужа Аленкина упек в Сибирь, принудил Аленку к сожительству и .. « Все изменилось с тех пор в Глупове. Бригадир, в полном мундире, каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил. Даже Аленка начала походя тащить, и вдруг, ни с того ни сего, стала требовать, чтоб ее признавали не за ямщичиху, а за поповскую дочь. Но этого мало: самая природа перестала быть благосклонною к глуповцам. «Новая сия Иезавель, - говорит об Аленке летописец, навела на наш город сухость». С самого вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в межень, и вплоть до Ильина дня, не выпало ни одной капли дождя…» Господа Головлевы Неотвратимая, без признаков просвета в чьей-либо судьбе из героев беспощадного романа, деградация, «умертвие» дворянского рода Головлевых. Апофеоз конца – последние дни «головлевского барина» Порфирия Владимировича, или Иудушки, Головлева, оставшегося на закате своей жизни с племянницей Аннинькой, спившейся бывшей провинциальной актрисой, неизлечимо болевшей чахоткой. «Иудушка в течение долгой пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что тут же, о бок с его существованием, происходит процесс умертвия. Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да богу помолясь, и отнюдь не предполагал, что именно из этого-то и выходит более или менее тяжелое увечье. А, следовательно, тем меньше мог допустить, что он сам и есть виновник этих увечий. И вдруг ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и неотвратимый факт. Вот он состарелся, одичал, одной ногой в могиле стоит, и нет на свете существа, которое бы приблизилось к нему, «пожалело» бы его. Зачем он один? зачем он видит кругом не только равнодушие, но и ненависть? отчего все, что ни прикасалось к нему, - все погибло? Вот тут, в этом самом Головлеве, было когда-то целое человечье гнездо – каким образом случилось, что и пера не осталось от этого гнезда? Из всех выпестованных в нем птенцов уцелела только племянница, да и та явилась, чтоб надругаться над ним и доконать его. Даже Евпраксеюшка – уж на что простодушна – и та ненавидит. Она живет в Головлеве, потому что отцу ее, пономарю, ежемесячно посылают отсюда домашний запас, но живет, несомненно ненавидя. И ей он, Иуда, нанес тягчайшее увечье, и у ней он сумел отнять свет жизни, отняв сына и бросив его в какую-то безыменную яму. К чему же привела вся его жизнь? Зачем он лгал, пустословил, притеснял, скопидомствовал? Зачем с материальной точки зрения, с точки зрения «наследства» - кто воспользуется результатом этой жизни? кто? Повторяю: совесть проснулась, но бесплодно. Иудушка стонал, злился, метался и с лихорадочным озлоблением ждал вечера не для того только, чтобы бестиально упиться, а для того, чтобы утопить в вине совесть. Он ненавидел «распутную девку», которая с такой холодной наглостью бередила его язвы, и в то же время неудержимо влекся к ней, как будто не все еще между ними было высказано, а оставались еще и еще язвы, которые тоже необходимо было растравить. Каждый вечер он заставлял Анниньку повторять рассказ о Любинькиной смерти, и каждый вечер в уме его больше и больше созревала идея о саморазрушении. Сначала эта мысль мелькнула случайно, но, по мере того как процесс умертвий выяснялся, она прокрадывалась глубже и глубже и, наконец, сделалась единственною светящеюся точкой во мгле будущего. К тому же и физическое его здоровье резко пошатнулось. Он уже серьезно кашлял и по временам чувствовал невыносимые приступы удушья, которые, независимо от нравственных терзаний, сами по себе в состоянии наполнить жизнь сплошной агонией. Все внешние признаки специального головлевского отравления были налицо, и в ушах его уже раздавались стоны братца Павлушки-тихони, задохшегося на антресолях дубровинского дома. Однако ж эта впалая, худая грудь, которая, казалось, ежеминутно готова была треснуть, оказывалась удивительно живучею. С каждым днем вмещала она все большую и большую массу физических мук, а все - таки держалась, не уступала. Как будто и организм своей неожиданной устойчивостью мстил за старые умертвия. «Неужто ж это не конец?» - каждый раз с надеждой говорил Иудушка, чувствуя приближение припадка; а конец все не приходил. Очевидно, требовалось насилие, чтобы ускорить его. Одним словом, с какой стороны ни подойди, все расчеты с жизнью покончены. Жить и мучительно, и не нужно; всего нужнее было бы умереть; но беда в том, что смерть не идет. Есть что-то изменнически подлое в этом озорном замедлении умирания, когда смерть призывается всеми силами души, а она только обольщает и дразнит…» Сказки Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил Тунеядцы-генералы и работяга-мужик. Имеющие власть имеют и силу эксплуатировать покорного, безропотного. Он выручает даже из самой невероятной беды. Такова мораль реальности, потому и «повесть». Дикий помещик Одичал помещик, потому что не мог терпеть мужика и разогнал своих крестьян. И так как сам толком делать ничего не умел, то и зарос грязью, на четвереньках стал перемещаться и нечленораздельные звуки издавать. « Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил. Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в клетушку и послали в уезд. И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул: - И откуда вы, шельмы, берете!! «Что же сделалось, однако, с помещиком?» - спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал. Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит». Премудрый пискарь Всю жизнь, прячась в своей норе и не высовываясь, премудрый пискарь дрожал, как бы его не съели, не погубили, и прожив более ста лет, умирая, дрожал. « Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были к него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто о его существовании вспомнит? И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто». Он жил и дрожал – только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он все дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же наконец голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования? Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы – может быть, как и он, пискари – и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился слишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает! И что всего обиднее: не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а все только распостылую жизнь свою бережет!» А многие просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит. Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает. А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы да высунулось. И вдруг он исчез. Что тут случилось – щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность, - свидетелей тому не было. Скорее всего – сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и премудрого?» Самоотверженный заяц Сцапал волк бегущего к своей невесте зайца и приговорил к растерзанию, когда закончатся у него запасы. Вымолил заяц, умирая от страха смерти, у волка отлучку – как раз нашел его у волчьего логова братец невесты и уговаривал бежать, не то невеста, почуяв беду, богу отдаст душу. Отпустил волк послушного зайца, оставив невестиного брата в аманатах и взяв с него обещание вернуться к сроку к волку. « Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется – он ее «на уру» возьмет; река – он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото – он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!» ежеминутно твердит он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть… Даже птицы быстроте его удивлялись, - говорили: «Вот в «Московских ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар – а вот он как…улепетывает! » Прибежал, наконец. Сколько тут радостей было – этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Серенькая заинька, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла….» Обделал заяц свои свадебные дела и еле успел к волку в обещанный час. « И волк его похвалил. - Вижу, - сказал он, - что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите до поры до времени, оба под этим кустом, а впоследствии я вас.. ха-ха…помилую!» Спасла зайца самоотверженность, да и не всякий волк поступится своей хищной сутью. Повезло. Бедный волк «Другой зверь , наверное, тронулся бы самоотверженностью зайца, не ограничился бы обещанием, а сейчас бы помиловал. Но из всех хищников, водящихся в умеренном и северном климатах, волк всего менее доступен великодушию. Однако ж не по своей воле он так жесток, а потому, что комплекция у него каверзная: ничего он, кроме мясного есть не может. А чтобы достать мясную пищу, он не может иначе поступать, как живое существо лишить жизни. Одним словом, обязывается учинить злодейство, разбой». Схватил его однажды медведь и стал увещевать, взывать к его совести, убеждать после доискивания до истины, что за благо он должен смерть для себя почитать. И отпустил волка на все четыре стороны с тем, чтобы он задумался над своей участью. По-прежнему волк душил, резал, убивал, чтобы прокормить себя, волчицу, волчат. Иначе никак не мог. Но к старости, как он ослаб здоровьем и проворства лишился, припомнил слова медведя. Как-то отпустил несмышленыша-ягненка, умоляющего его смилостивиться. Но продолжал разбойничать, пока его не обложили вехами охотники, почувствовал, что смерть наконец-то к нему пришла, и уже не пытался прорваться. Пошел, опустив голову, навстречу избавительнице-смерти. Медведь на воеводстве Три воеводы - Топтыгин I , II, III. Один стоил другого. Первый оскандалился тем, что съел Чижика, любимую птицу Льва. Второй упал на рогатину взорвавшихся мужиков с крыши разоренного им мужицкого дома. Третий, самый умный из трех, залег в берлогу и пролежав многие годы, своим бездействием снискал милость Льва. « Сначала Лев произвел воеводу в подполковники, потом в полковники и наконец.. Но тут явились в трущобу мужики-лукаши, и вышел Топтыгин 3-й из берлоги в поле. И постигла его участь всех пушных зверей». Вяленая вобла «Воблу поймали, вычистили внутренности (только молоки для приплоду оставили) и вывесили на веревочке на солнце: пускай провялится. Повисела вобла денек-другой, а на третий у ней и кожа на брюхе сморщилась, и голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался. И стала вобла жить да поживать. - Как это хорошо, - говорила вяленая вобла, - что со мной эту процедуру проделали! Теперь у меня ни лишних мыслей, ни лишних чувств, ни лишней совести – ничего такого не будет! Все у меня лишнего выветрили, вычистили и вывялили, и буду я свою линию полегоньку да потихоньку вести!» И превзошла вяленая вобла всех по разуму. Поучает, как жить, быть счастливым. « - Оттого я так умна, что своевременно меня провялили. С тех пор меня точно свет осиял: ни лишних чувств, ни лишних мыслей, ни лишней совести – ничего во мне нет. Об одном всечасно и себе, и другим твержу: не растут уши выше лба! не растут!» Но выявился и против правильной во всех отношениях воблы резон, нашлось противоядие. « Уши выше лба не растут!» - хорошо это сказано, сильно, а дальше что? На стене каракули-то читать? – положим, и это хорошо, а дальше что? Не шевельнуться, не пикнуть, носа не совать, не рассуждать? – прекрасно и это, а дальше что? И чем старательнее выводились логические последствия, вытекающие из воблушкиной доктрины, тем чаще и чаще становился поперек горла вопрос: «А дальше что?»… Таким образом, оказалось, что хоть и провялили воблу, и внутренности у нее вычистили, и мозг выветрили, а все-таки, в конце концов, ей пришлось распоясываться. Из торжествующей она превратилась в заподозренную, из благонамеренной – в либералку. И в либералку тем более опасную, чем благонадежнее была мысль, составлявшая основание ее пропаганды. И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал… Пестрые люди смотрели на это зрелище, плескали руками и вопили: «Да здравствуют ежовые рукавицы!» Но История взглянула на дело иначе и втайне положила в сердце своем: «Годиков через сто я непременно все это тисну!» Орел-меценат Всемогущий орел задумал жить, как некогда живали помещики. Собрал птиц всех разных пород, раздал должности. Учредил в дворовых штатах науки и искусства, но от его инспекции пошло все наперекосяк. Изгнал даже соловья, потому как в его пении холопский дух вытеснил искусство. И сам орел никак не мог осилить грамоты, простейшей арифметики. Завелась средь придворных сумятица, и разлетелся во все стороны орлиный двор. « Погнался за ними орел, да не тут-то было: сладкое помещичье житье до того его изнежило, что он едва крыльями мог шевелить. Тогда он повернулся к орлице и возгласил: - Сие да послужит орлам уроком! Но что означало в данном случае слово «урок»: то ли, что просвещение для орлов вредно, или то, что орлы для просвещения вредны, или, наконец, и то и другое вместе – об этом он умолчал». Карась-идеалист « Карась – рыба смирная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит он больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны… Сошлись ерш с карасем и сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотвичка-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается. Первым всегда задирал карась. - Не верю, - говорил он, - чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье – не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно сделается общим достоянием! - Дожидайся! – иронизировал ерш». Так был убежден в своей правоте карась, что порывался сгоряча убедить и щуку, не зная ее совершенно, но в диспуте с ней слово магическое все-таки, «глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул: - Знаешь ли ты, что такое добродетель? Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его. Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке – узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уже заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил: - Вот они, диспуты-то наши, каковы!» Верный Трезор Верность служивого пса была беспредельной. « Три раза Воротилов ( хозяин-купец) Трезорку искушал, прежде чем вполне свое имущество доверить ему. Нарядился вором ( удивительно, как к нему этот костюм шел!), выбрал ночь потемнее и пошел в амбар воровать. В первый раз корочку хлебца с собой взял, - думал этим его соблазнить, - а Трезорка корочку обнюхал, да как вцепится ему в икру! Во второй раз целую колбасу Трезорке бросил: «Пиль, Трезорушка, пиль!» - а Трезорка ему фалду оторвал. В третий раз взял с собой рублевую бумажку замасленную – думал, на деньги пес пойдет; а Трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались: стоят да дивуются, с чего это хозяйский пес на своего хозяина заливается?» И как пес с течением времени состарелся, его перевели на кухню, в тепло, но « ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость Кутьки не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидючи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи». Утопили по приказу хозяина верного его пса, который уже и передвигаться не мог. « А вскоре Арапка (преемник цепного пса) и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова ». Дурак Дурак неисправим. Чего только любящие маменька и папенька ни делали, дабы поумнел сыночек. « - Совсем он не дурак, а только подлых мыслей у него нет – от этого он и к жизни приспособиться не может. Бывают и другие, которые от подлых мыслей постепенно освобождаются, но процесс этого освобождения стоит больших усилий и нередко имеет в результате тяжелый нравственный кризис. Для него же и усилий никаких не требовалось, потому что таких пор в его организме не существовало, через которые подлая мысль заползти бы могла. Сама природа ему это дала. А впрочем, несомненно, что настанет минута, когда наплыв жизни силою своего гнета заставит его выбирать между дурачеством и подлостью. Тогда он поймет. Только не советовал бы я вам торопить эту минуту, потому что как только она пробьет, не будет на свете другого такого несчастного человека, как он. Но и тогда, - я в этом убежден, - он предпочтет остаться дураком, - говорил родителям проезжий, старинный приятель папочки, взглянувший на дурака иными глазами. И «в одно прекрасное утро дурак совсем из дома исчез… Прошли годы; старики-родители очи выплакали. Не было той минуты, в которую бы они не ждали; не было той мысли, которая бы, прямо или косвенно, не относилась к исчезнувшему дураку.. Все перезабыли старики, только об одном помнили: «Где он теперь? сыт ли? одет ли? много ли дураку нужно, чтоб погибнуть!» Не дай бог врагу испытывать эту пытку родительского сердца, которое все вины на себя берет, всеми детскими стопами, в тысячекратно раздирающемся ухе раздирается! Однако дурак воротился. Внезапно, точно так же, как и исчез. Но от прежнего цветущего здоровьем дурака не осталось и следов. Он был бледен, худ и измучен. Где он скитался? что видел? понял или не понял? – никто ничего дознаться от него не мог. Пришел он домой и замолчал. Во всяком случае, проезжий был прав: так до смерти и осталась при нем кличка: дурак». Соседи Недоумевал Иван – Богатый, как так худо живет сосед Иван – Бедный, работая не покладая рук, со всей семьей, а на столе даже в праздничные дни – пустые щи. В беседах с ним всячески старался содействовать поднять его жизненный уровень, хотя сам-то Иван – Богатый жизненных ценностей не производил, а Иван – Бедный их производил. С каждым годом не менялось положение бедного соседа, даже стало заметно хуже в неурожайный год. Богатый же Иван не бедствовал, ездил каждый год на теплые воды, нищета ему совсем не угрожала. - Отчего так? – обратились соседи за разъяснением к местному мудрецу и философу Ивану Простофиле, и вот каков был ответ: - Плант такой есть, - пояснил Простофиля, отчетливо произнося каждое слово и как бы наслаждаясь собственным прозорливством, и в оном планту значится: живет Иван – Бедный на распутии, а жилище у него не то изба, не то решето дырявое. Вот богачество и течет все мимо да скрозь, потому задержки себе не видит. А ты, Богатый Иван, живешь у самого стёка, куда со всех сторон ручьи бегут. Хоромы у тебя просторные, справные, частоколы кругом возведены крепкие. Притекут к твоему жительству ручьи с богачеством – тут и застрянут. И ежели ты, к примеру, вчера полимения роздал, то сегодня к тебе на смену целых три четверти привалило. Ты – ль денег, а деньги – к тебе. Под какой куст ты ни заглянешь, везде богачество лежит. Вот он закон, этот плант. И сколько вы промеж себя ни калякайте, сколько ни раскидывайте умом – ничего не выдумаете, покуда в оном планту так значится». Здравомысленный заяц « Притаился под кустом, чтоб не видать его было, и сам с собой разговаривает. - Всякому, говорит, зверю свое житье предоставлено. Волку – волчье, льву – львиное, зайцу – заячье. Доволен или недоволен своим житьем, никто тебя не спрашивает: живи, только и всего. Нашего брата, зайца, например, все едят – кажется, имели бы мы основание на сие претендовать? Однако, ежели рассудить здраво, то едва ли подобная претензия могла бы назваться правильною. Вопервых, кто ест, тот знает, зачем и почему ест; а во-вторых, если бы и правильно претендовали, от этого нас есть не перестанут. Сверх препорции все равно не будут есть, а сколько надо – непременно съедят». И попал он однажды в лапы лисы – не миновать конца. По плутовка дала преумному зайцу шанс – пять минут у тебя, улизнешь – твоя взяла, не успеешь - сейчас тебе резолюция готова. «Сказавши это, лиса отошла на четыре сажени вперед, предварительно посадивши зайца задом к частому-частому кустарнику, чтобы никак он не мог назад убежать, а бежал бы не иначе, как мимо нее… Урочные пять минут истекли, застав зайца неподвижным на прежнем месте и всецело погруженным в созерцание своего заячьего дела. - Ну, теперь давай, заяц, играть! – предложила лиса. Через четверть часа все было кончено. Вместо зайца остались только клочки шкуры да здравомысленные его слова: «Всякому зверю свое житье: льву – львиное, лисе – лисье, зайцу – заячье». Либерал « - Три фактора, - говорил он, - должны лежать в основании всякой общественности: свобода, обеспеченность и самодеятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самодеятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве». Либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собой все остальные блага, необходимые для развития общественности. И не только мыслил так либерал, но и дело рвался делать. Выходило все не так гладко, но сведущие люди подправляли его и учили как надо претворять идеалы: и по возможности, и в пределах и, наконец, применительно к подлости. То есть – идеалами не превозносись, а по нашему масштабу их сократи, да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы пользу увидим… И стал он действовать. И все применительно к подлости. Скоро идеалов уж и в помине не было, одна мразь осталась – и либерал все-таки не унывал. И вот однажды среди ясного дня несколько брызгов пало ему на щеку. - Что за чудо! – говорит приятелю либерал, - дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят! - А видишь, вон за углом некоторый человек притаился, - ответил приятель, -это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он, «применительно к подлости», из-за угла и плюнул; а на тебя ветром брызги нанесло». Баран -непомнящий Баран был породистый английский меринос. Привезли его из-за тридевяти земель, чтобы создал он для своего хозяина стадо тонкорунных овец. Но приснился ему однажды сон, который он затем ни объяснить, ни вспомнить не мог. В неведении он пребывал, не выполняя своей миссии, что возлагали на него, пока не зачах и не рухнул на землю замертво. - Отчего над ним такая беда стряслась? - спрашивал его хозяин Иван Созонтыч у овчара Никиты. - Стало быть вольного барана во сне увидел, - ответил Никита, увидать-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог…Вот он сначала затосковал, а со временем и издох. Все равно, как на нашего брата бывает… Но Иван Созонтыч от дальнейших объяснений уклонился. - Сие да послужит нам уроком! – похвалил он Никиту, - в другом месте из этого барана, может быть, козел бы вышел, а по нашему месту такое правило: ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно. И всего у тебя будет довольно: и травы, и сена, и месятки. И овцы к тебе будут ласковы… Так ли, Никита? - Это так точно, Иван Созонтыч! – отозвался Никита». Коняга Коняга – лошадь трудяга. « Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, и все-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном – оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собой вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас – опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти и в жизни первый и неизменный свидетель – Коняга. Для всех поле раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно – кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и все-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, и тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: «Ну, милый! ну, каторжный! ну!...» Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с уборочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде все он, все один и тот же безымянный Коняга. Целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет конца жизни – только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? Зачем она опутала Конягу узами бессмертия? Откуда она пришла и куда идет? – вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее…Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых. Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто, с первого взгляда, не скажет, что Коняга и Пустопляс – одного отца дети…И вот что говорят о Коняге пустоплясы. - Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Что такое здравый смысл? Здравый смысл, это – нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит! И покуда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит! - Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, дух жизни – что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому что он «настоящий труд» для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своей личной совестью, и с совестью масс, и наделяет его той устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда… - Смотрите-ка, смотрите-ка! смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!» Приключение с Крамольниковым (Сказка-элегия) Литератор Крамольников однажды ощутил какое-то волшебство, что его нет, что его душа запечатана и со всех сторон его обступила зияющая пустота. Все стали от него отворачиваться, шарахаться, отнекиваться от знакомства с ним, от прежних отношений. «Отчего? - спрашивал он себя. – Не от того ли, что ты был прежде раб, сознававший за собой какую-то мнимую силу, а теперь ты раб бессильный, придавленный? Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинил себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно? Из-под пера твоего лился протест, но ты облекал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал, - все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста. Твой труд был бесплоден. Это был труд адвоката, у которого язык намотался среди опутывающих его лжей. Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие. Но это было пленное раздражение мысли, - раздражение, положим, доброе, но все-таки только раздражение. Ты даже тех людей, которые сегодня так нагло отвернулись от тебя, - ты и их не сумел понять. Ты думал, что вчера они были иными, нежели сегодня. Правда, ты не способен идти следом за этими людьми; ты не способен изменить тем добрым раздражениям, которые с молодых ногтей вошли тебе в плоть и кровь. Это, конечно, зачтется тебе …где и когда? Но теперь, когда тебя со всех сторон обступила старость, с ее недугами, рассуди сам, что тебе предстоит?...» Post scriptum от автора. Все это сказка. Никакого Крамольникова нет и не было; отступники же и переметные сумы водились во всякое время, а не только в данную минуту». Христова ночь (Предание) Воскрес бог и наполнил собой вселенную. Благословил землю, воды, зверей и птиц. Обращаясь к людям, плачущим, согбенным под игом работы, загубленным нуждой, сказал: «..благословляю на новую жизнь в царстве света, добра и правды. Да не уклонятся сердца ваши в словеса лукавствия, да пребудут они чисты и просты, как доднесь, а слово мое да будет истина. Мир вам!» Встретив богатеев, мироедов, жестоких правителей, татей, душегубцев, лицемеров, ханжей и неправедных судей, господь открыл им путь к спасению – суд собственной совести. И наконец, воскресил предателя, повесившегося в лесу и осудил его на жизнь. « Ты будешь ходить из града в град, из веси в весь, и нигде не найдешь крова, который бы приютил тебя. Ты будешь стучаться в двери – и никто не откроет их тебе; ты будешь умолять о хлебе – и тебе подадут камень; ты будешь жаждать – и тебе подадут сосуд, наполненный кровью преданного тобой…Везде ты будешь слышать одно: «Предатель! будь проклят!» Ворон – челобитчик ( Сказка) «Все сердце у старого ворона изболело. Истребляют вороний род: кому не лень, всякий его бьет. И хоть бы ради прибытка, а то просто ради потехи. Да и само воронье смалодушничалось. О прежнем вещем карканье и в помине нет; осыплют вороны гурьбой березу и кричат зря: « Вот где мы!» Натурально, сейчас – паф! – и десятка или двух в стае как не бывало… Думал-думал старый ворон о проблемах вороньего рода – и надумал. Надо лететь и всю правду объявить. И полетел к высоким начальникам. Сначала к ястребу, потом к кречету, и напоследок – к коршуну. Благодушно внимали челобитчику начальники, так как были сыты. Соглашались с его доводами, но навстречу жалобщику не шли. Последнее слово коршуна было такое – «Придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна, - когда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются как дым и все мелкие личные правды. Объявится настоящая, единая и для всех обязательная Правда; придет и весь мир осияет. И будем мы жить все вкупе и влюбе. Так-то, старик! А покуда лети с миром и объяви вороньему роду, что я на него, как на каменную гору, надеюсь». Письмо М.Е. Салтыкова-Щедрина в редакцию журнала «Вестник Европы». Рецензент обвиняет сатирика, автора «Истории одного города» в глумлении над историей России и над русским народом, на что он отвечает: « Не «историческую», а совершенно обыкновенную сатиру имел я в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают ее не вполне удобною. Черты эти суть: благодушие, доведенное до рыхлости, ширина размаха, выражающаяся с одной стороны в непрерывном мордобитии, с другой – в стрельбе из пушки по воробьям, легкомыслие, доведенное до способности не краснея лгать самым бессовестным образом. В практическом применении эти свойства производят результаты, по моему мнению, весьма дурные, а именно: необеспеченность жизни, произвол, непредусмотрительность, недостаток веры в будущее и т. д. Хотя же я знаю подлинно, что существуют и другие черты, но так как меня специально занимает вопрос, отчего происходят жизненные неудобства, то я и занимаюсь только этими явлениями, которые служат к разъяснению этого вопроса». Англия Вальтер Скотт (1771 – 1832) Пуритане Исторический роман о религиозных войнах в Шотландии в XVII веке между вигами, пресвиретанами, приверженцами истинного – как они полагали – вероисповедания и их непримиримыми кровными врагами тори, добивающимися утверждения официальной, правительственной власти англиканской церкви. Красноречивы фанатики, проповедники ковенантеров (вигов), ратующих за истребление своих противников, вдохновлявших на яростную борьбу за чистоту своих идеалов в ветхозаветной библейской первооснове, единственно допускаемой и приемлемой для народа, так они считали, своей страны. « - Во имя неба, кто это? – шепотом спросил Мортон у Паундтекста; он был удивлен, потрясен и даже испуган появлением этого страшного призрака, который был скорее похож на восставшего из могилы жреца людоедов или друида, обагренного кровью человеческой жертвы, чем на смертного обитателя земли. - Это Аввакум Многогневный, - прошептал Паундтекст. – Наши враги долгое время держали его в заключении в разных замках и крепостях, и теперь рассудок его покинул, и боюсь, не вселились ли в него бесы. Несмотря на это, наши истовые и неугомонные братья, как один, утверждают, что он говорит в наитии и что речи его для них высокопоучительны. Здесь Паундтекста прервал сам Многогневный, закричавший таким пронзительным голосом, что задрожали стропила под крышей. - Кто толкует о мире и о свободном пропуске? Кто говорит о пощаде кровожадному роду злодеев? А я говорю: хватайте младенцев и разбивайте их черепа о камни; хватайте дщерей и жен дома сего и свергайте их со стен, на которые они уповали, и пусть псы жиреют от крови их, как некогда разжирели они от крови Иезавели, супруги Ахана, и пусть трупы их станут туком для земли их отцов. - Правильно! – воскликнуло несколько злобных голосов позади него. – Мы окажем плохую услугу нашему великому делу, если станем нянчиться с врагами господними. - Но ведь это предел гнусности, это дерзкое святотатство! – воскликнул Мортон, не сдержав своего возмущения. – Можно ли ждать, что господь дарует благословение тому делу, творя которое, вы прислушиваетесь к безумному и свирепому бреду? - Помолчи, молодой человек, - крикнул Тимпан, - и прибереги свои суждения для того, что тебе по силам понять! Не тебе судить, в какие сосуды может вмещаться дух божий! - Мы судим о древе по плодам его, - сказал Паундтекст, - и не можем поверить, чтобы бог внушал противоречащее законам его. - Вы, брат мой, забываете, - заметил на это Мак – Брайер, - что наступили последние дни, когда умножаются знамения и чудеса. Паундтекст вышел было вперед, чтобы ответить, но, прежде чем он смог произнести хотя бы единое слово, безумный проповедник разразился таким отчаянным воплем, что пресек всякую возможность соперничества: - Кто толкует о знамениях и чудесах? Или я не Аввакум Многогневный, чье имя ныне Магор - Миссавив, ибо я стал ужасом для самого себя и для всех, кто окружает меня. Я слышал это. Когда я слышал? Не свершилось ли это в замке Бэсс, что висит над бескрайней пустыней моря? И слышалось это в завывании ветра, и ревело это в волнах, и вопило, и свистело, и мешалось с воплями, и визгом, и свистом птиц морских, когда они парили и метались, и низвергались вниз, носясь над пучиною вод и ныряя в нее. И я это видел. Где я видел? Не было ли то на взнесенных ввысь камнях Дамбартона, когда я устремлял взор на запад, на плодородную землю, или на север, на дикие горы и пустынные холмы; когда собирались тучи, и готовилась буря, и молнии небесные полыхали полотнищами, широкими, как знамена боевых ратей? Что же я видел? Мертвые тела и раненых коней, сумятицу битвы и одежды, обагренные кровью. Что же я слышал? Голос, который воззвал: истребляйте, истребляйте, разите, истребляйте бестрепетной рукой и старого, и малого, и деву, и ребенка, и женщину, голова которой покрыта сединами; оскверните дом и наполните дворы трупами! - Мы принимаем повеление! – воскликнули многие из присутствующих.- Шесть дней он не молвил ни слова, шесть дней не преломил хлеба, и ныне дан ему голос; мы принимаем повеленье. Как он сказал, так и будем творить». Герой романа, Генри Мортон, вовлечен подневольно в безумное противостояние и подвергается невероятным испытаниям в кровопролитных схватках, охвативших всецело его родину. До конца он остается верен своим высоконравственным человеколюбивым принципам и ни разу под знаком неминуемой гибели не изменяет своей сути. Легенда о Монтрозе Та же шотландская междоусобица, распри, сражения внутри страны, но с противоположной стороны сторонников короля, нежели в романе «Пуритане», где в центре бурлящих событий – диковатые виги, ковенантеры, отстаивающие парламент, пресвитерианство. « - Вот приказ, скрепленный большой государственной печатью, на имя Джеймса Грэма, графа Монтроза, принять начальство над всеми войсками, которые будут призваны на службу его величества в шотландском королевстве. Единодушный крик одобрения огласил зал. И в самом деле, никому иному, кроме Монтроза, не согласились бы подчиниться кичливые горцы. Старинная наследственная вражда его рода и рода маркиза Аргайла служила порукой тому, что он поведет войну решительно, а его слава блестящего и бесстрашного полководца вселяла надежду на благоприятный исход кампании… Как только Монтроз закончил чтение, собравшиеся вожди одобрительными возгласами подтвердили свою готовность подчиниться воле короля. Монтроз не только выразил собранию свою признательность за столь лестный прием, - он поспешил поблагодарить каждого из присутствующих в отдельности. Все самые влиятельные предводители кланов были с давних пор знакомы ему лично, но он обратился даже к наименее знатным, обнаружив при этом отличное знание их прозвищ и знакомство с прошлым и настоящим каждого клана. Это показывало, как тщательно он изучал нравы и обычаи горцев и как давно готовился к высокой должности, которую теперь занял. Сейчас, когда граф Монтроз расхаживал по залу, подходя по очереди к каждому из присутствующих, особенно резко бросалось в глаза несоответствие между его изящными манерами, выразительными чертами лица, благородной осанкой – и грубой простотой его одежды. Как это часто бывает, лицо Монтроза было одним из тех лиц, которые ничем не поражают с первого взгляда, но становятся тем привлекательней, чем дольше в них всматриваешься. Он был немного выше среднего роста, но превосходно сложен, обладал большой физической силой и редкой выносливостью. Здоровье у него было поистине железное, и это помогало ему переносить тяготы труднейших кампаний, во время которых он, словно простой солдат, подвергал себя всем опасностям и лишениям походной жизни. Ловкий, искусный в военных упражнениях и в мирных играх, он держался с той непринужденной грацией, которая свойственна людям, привыкшим приспосабливаться к любому положению. . Его длинные каштановые волосы по обычаю, принятому среди знатных роялистов того времени, были расчесаны на прямой пробор и падали вдоль щек локонами, причем один завиток, на два или три дюйма длиннее остальных, спускался на лоб, указывая на то, что Монтроз следовал моде, против которой мистер Принн, как истый пуританин, почел своим долгом написать целый трактат под названием: «Непривлекательность локонов, долженствующих привлекать любовь». Лицо Монтроза было из тех, обаяние которых заключено не в правильности линий, а в своеобразии всего облика. Орлиный нос, большие проницательные серые глаза и здоровый румянец искупали некоторую тяжеловатость и неправильность нижней части лица, и поэтому наружность Монтроза была не лишена приятности. Но все, кому довелось видеть его в минуты, когда его взор светился вдохновением, кто слышал его пламенную речь, - восхищались его красотой, хотя, судя по сохранившимся до сего времени портретам, это было некоторым преувеличением. Во всяком случае, именно такое впечатление он произвел на собрание горных вождей, а, как известно, на вершине общественной лестницы всегда придается весьма большое значение внешности». Блестящие победы войска Монтроза, и витиеватые жизненные линии сопутствующих графу лиц из его ближайшего окружения – графа Ментейта, наемного вояки, капитана Дальгетти, Аллана МакОлея, Эннет Лайн, как складывались их судьбы в раздираемой кровавыми противоречиями суровой стране. Франция Стендаль (1783 – 1842) Красное и черное Трогательная, ровно как и трагедийная, история юноши Жюльена Сореля, из семьи крестьянина-плотника, честолюбивого, чувствительного, с феноменальными способностями развитого ума, лучшего в духовной семинарии, куда вынужден был поступить, оставив место гувернера в семье мэра, господина Реналя, из-за любовной связи с женой мэра, госпожой де Реналь. Далее он оказывается на службе у знатного аристократа, влиятельнейшего маркиза Ла – Моля, влюбляется в его дочь Матильду, доводит дело до свадьбы, но расстраивает счастливый финал разоблачающее Жюльена Сореля письмо госпожи де Реналь, написанное по наущению ее духовного наставника. Жюльен Сорель стреляет в госпожу де Реналь в церкви и приговаривается судом к гильотине. Тщательный психологизм героев романа, последовательно мотивируется движениями души каждого. «Красное и черное» буквально не растолковывается в тексте романа. Может быть, красота и траур, доминирующие контрастные краски в короткой жизни Жюльена Сореля. Из части первой «Недоверчивость и болезненная гордость Жюльена, которому именно и нужна была такая самоотверженная любовь, не могли устоять перед этим великим самопожертвованием, проявившимся столь очевидно чуть ли не каждую минуту. Он боготворил теперь гжу де Реналь. «Пусть она знатная дама, а я сын простого мастерового – она любит меня…Нет, я для нее не какой-нибудь лакей, которого взяли в любовники». Избавившись от этого страха, Жюльен обрел способность испытывать все безумства любви, все ее мучительные сомнения. - Друг мой! – говорила она ему, видя, что он вдруг начинает сомневаться в ее любви. - Пусть я, по крайней мере, хоть дам тебе счастье в те немногие часы, которые нам осталось провести вместе. Будем спешить, милый, быть может, завтра мне уже больше не суждено быть твоей. Если небо покарает меня в моих детях, тогда уже все равно, - как бы я ни старалась жить только для того, чтобы любить тебя, не думая о том, что мой грех убивает их, - я все равно не смогу, сойду с ума. Ах, если бы я только могла взять на себя еще и твою вину, так же вот самоотверженно, как ты тогда хотел взять на себя эту ужасную горячку бедного Станислава. Этот резкий душевный перелом совершенно изменил и самое чувство Жюльена и его возлюбленной. Теперь уже любовь его не была только восхищением ее красотой, гордостью обладания. Отныне счастье их стало гораздо более возвышенным, а пламя, снедавшее их, запылало еще сильнее. Они предавались любви с исступлением. Со стороны, пожалуй, могло бы показаться, что счастье их стало полнее, но они теперь утратили ту сладостную безмятежность, то безоблачное блаженство и легкую радость первых дней своей любви, когда все опасения г-жи де Реналь сводились к одному: достаточно ли сильно любит ее Жюльен? Теперь счастье их нередко напоминало преступление. В самые счастливые и, казалось бы, самые безмятежные минуты гжа де Реналь вдруг вскрикивала: - Боже мой! Вот он, ад, я вижу его! – и судорожно стискивала руку Жюльена. – Ах, какие чудовищные пытки! Но я заслужила их! – И она сжимала его в своих объятиях и замирала, прильнув к нему, словно плющ к стене. Тщетно Жюльен пытался успокоить ее смятенную душу. Она хватала его руку, осыпала ее поцелуями, а через минуту снова погружалась в мрачное оцепенение. - Ах, - говорила она, - ад, - ведь это было бы милостью для меня: значит, мне было бы даровано еще несколько дней на земле, с ним… Но ад в этой жизни, смерть детей моих. И, однако, быть может, этой ценой мой грех был бы искуплен…О боже великий, не даждь мне прощения такой страшной ценой! Эти несчастные дети, да разве они повинны перед тобой! Я, одна я виновна! Я согрешила: я люблю человека, который не муж мне. Бывали минуты, когда Жюльену казалось, что г-жа де Реналь как будто успокаивается. Она старалась взять себя в руки, не отравлять жизнь тому, кого она так любила. В этих чередованиях любви, угрызений совести и наслаждения время для них пролетало, как молния». Из части второй. «Правда, это было совсем не то душевное блаженство, которое он иной раз испытывал подле г-же де Реналь. Боже великий! Какая разница! В его ощущениях сейчас не было решительно ничего нежного. Это был просто бурный восторг честолюбия, а Жюльен был прежде всего честолюбив. Он снова стал рассказывать ей, какие у него были подозрения, какие меры предосторожности он придумал. И. рассказывая, обдумывал, как бы ему воспользоваться плодами своей победы. Матильда все еще испытывала чувство острой неловкости и, повидимому, совершенно подавленная своей выходкой, была чрезвычайно рада, что нашлась тема для разговора. Они заговорили о том, каким способом они будут видеться в дальнейшем. И Жюльен во время этой беседы не преминул снова блеснуть умом и храбростью. Ведь они имеют дело с весьма проницательными людьми. Этот юный Тамбо, разумеется, - настоящий шпион. Однако Матильда и он тоже не лишены хитрости. - Что может быть проще – встретиться в библиотеке и там обо всем условиться? - Я имею возможность, - продолжал Жюльен,- появляться, не возбуждая ни малейших подозрений, повсюду у вас в доме, вплоть до покоев госпожи де Ла – Моль. Только через комнаты г-жи де Ла – Моль и можно было пройти в комнату ее дочери. Но если Матильде больше нравится, чтобы он и впредь взбирался к ней в окно по приставной лестнице, он с наслаждением готов подвергать себя этой ничтожной опасности. Матильда, слушая его, возмущалась этим победоносным тоном. «Так, значит, он уже мой господин?» - говорила она себе. И ее терзало раскаяние. Рассудок ее восставал против той неслыханной глупости, которую она допустила. Если б только она могла, она бы сейчас убила и себя и Жюльена. Когда ей усилием воли удавалось на мгновение заглушить эти угрызения совести, чувства застенчивости и оскорбленного целомудрия причиняли ей невыносимые страдания. Никогда у нее даже и мысли не было, что это будет для нее так ужасно. « И все-таки я должна заставить себя разговаривать с ним, - сказала она себе наконец, - ведь с возлюбленным принято разговаривать». И, побуждаемая этим долгом по отношению к самой себе, она с чувством, которое проявлялось, впрочем, только в ее речах, но отнюдь не в голосе, стала рассказывать ему о том, какие противоречивые решения по поводу него она принимала и отменяла в течение этих последних дней. И вот в конце концов она решила так: если у него хватит смелости явиться к ней, поднявшись по садовой лестнице, как она ему написала, она станет его возлюбленной. Но вряд ли когда-нибудь такие любовные речи произносились столь холодным и учтивым тоном. Свидание это до сих пор было совершенно ледяным. Поистине, к такой любви можно было проникнуться омерзением. Какой поучительный урок для молодой опрометчивой девицы! Стоило ли рисковать всей своей будущностью ради такой минуты? После долгих колебаний, которые постороннему наблюдателю могли бы показаться следствием самой несомненной ненависти – с таким трудом даже твердая воля Матильды преодолевала естественные женские чувства, стыдливость, гордость, - она, наконец, заставила себя стать его любовницей. Однако, сказать правду, эти любовные порывы были несколько нарочиты. Страстная любовь была для нее скорее неким образцом, которому следовало подражать, а не тем, что возникает само собой. Мадемуазель де Ла – Моль считала, что она выполняет долг по отношению к самой себе и к своему возлюбленному. «Бедняжка проявил поистине безупречную храбрость, - говорила она себе, - он должен быть осчастливлен, иначе это будет малодушием с моей стороны». Но она с радостью согласилась бы обречь себя на вечные мучения, только бы избежать этой ужасной необходимости, которую она себе навязала. И все же, несмотря на страшное насилие, которому она себя подвергла, Матильда внешне вполне владела собой». Из последних глав «Жюльен был уже почти не в состоянии переносить тяжкий воздух каземата. На его счастье, в тот день, когда ему объявили, что он должен умереть, яркое солнце заливало все кругом своим благодатным светом, и Жюльен чувствовал себя бодрым и мужественным. Пройтись по свежему воздуху было для него таким сладостным ощущением, какое испытывает мореплаватель, когда он после долгого плавания наконец ступает на сушу. «Ничего, все идет хорошо, - сказал он себе, - я не дрожу». Никогда еще голова эта не была настроена столь возвышенно, как в тот миг, когда ей предстояло пасть. Сладостные мгновения, пережитые некогда в вержийских лесах, теснились в его воображении с неодолимой силой. Все совершилось очень просто, благопристойно и с его стороны без малейшей напыщенности. За два дня он сказал Фуке: - Какое у меня будет душевное состояние, за это я не могу поручиться; этот каземат до того отвратителен, здесь такая сырость, что меня временами бьет лихорадка и я впадаю в какое-то беспамятство: но страха у меня нет. Этого они не дождутся – я не побледнею. Он заранее уговорился, чтобы в этот последний день Фуке с утра увез Матильду и г-жу де Реналь. - Посади их в одну карету, - сказал он ему, - и вели кучеру гнать лошадей во весь опор. Они упадут друг другу в объятия или отшатнутся друг от друга в смертельной ненависти. И в том и в другом случае бедняжки хоть немного отвлекутся от своего ужасного горя. Жюльен заставил г-жу де Реналь поклясться, что она будет жить и возьмет на свое попечение сына Матильды». Швеция Август Юхан Стриндберг (1849 – 1912) «Эрик XIV» Пьеса. Неудачливый невезучий шведский король. Все губит, за что ни возьмется. Задумал возвеличить страну браком с одной из принцесс окружающих сильных государств – или невеста не приняла предложение, или сам перечеркнул свою возможную партию, отправив на помолвку женихом брата. Хватился, но исправлять оплошность было поздно, корабль брата-герцога не догнать. Тогда посватался Эрик к своей возлюбленной, от которой у него были маленькие дети, и они бы стали престолонаследниками в случае его женитьбы на Карин, дочке солдата-простолюдина, единственной, кто его мог понять, утешить, сдержать его необузданные порой страсти. Король назначает свадьбу, зовет гостей, высокородных близких родственников, и снова роковая неудача. Против Эрика созрел заговор братьев-герцогов, дабы короля-безумца сместить. За свадебными столами – голытьба, сброд с улицы. Отец невесты старается внушить народу, что король не безумец… «Я хочу сказать…Дайте же мне слово сказать! Вам бы тут не сидеть, кабы король слабоумный был. Ну, он немного чудной, странный он… но ведь он показал себя лучше иных прочих… кто … не захочет помочь бедной девушке… и за стол усадил нас, бедных… мы ведь бедные все.. стало быть, не гнушается, что невеста из низкого звания, вот!» В разгар пиршества объявляют, что замок окружен герцогами. Заговорщики входят со свитой, и королем провозглашают Юхана Третьего, одного из братьев низложенного Эрика XIV. Одинокий. Роман. В центре автобиографического произведения – писатель, которому за сорок, оказывается в городе своей юности в абсолютном одиночестве, отрешенности от друзей, знакомых. Живет он своим творчеством, читает кумира Бальзака, его наследие в пятьдесят томов, позднего Гете. Упивается Бетховеном, музыкой, блужданиями по городским улицам, сочинением стихов, анализом Лютера, Библии. Словом, всем созвучным его настроению, состоянию, отнюдь не деградирующему, не безвыходному, противоборствующему неблагосклонной судьбе и не цепляется он за какое-никакое существование и никак не отвергает светлых проявлений движущейся мимо жизни. Неясности, намеки, неопределенность со вдруг объявившимся сыном. Он ли приехал через пятнадцать лет из Америки? Благородная помощь деньгами журналисту, отпущенному из тюрьмы, пришедшему к нему домой. Совместная работа с молодым музыкантом, дистанционное не обременяющее соучастие в радостях романа юного друга с любимой девушкой, живущей в доме напротив с малолетним ребенком-племянником. Священный бык. Или торжество лжи. Здоровая кровь. Новеллы. Первая аллегорическая история о временах Древнего Египта, где «священно было все, кроме податного сословия, и на ниве религии наблюдалось неслыханное изобилие». Наткнувшись на феллаха в деревне, священнослужители приметили особые отметины на его быке, заключили, что животина – воплощение Осириса и забрали его в храм для поклонения народа. Феллах уверял, в храме столкнувшись со своим животным и кормильцем, что бык самый что ни на есть заурядный, из общинного стада. То же начал показывать и верховный жрец, человек порядочный и добросердечный, которого бесхитростный феллах задел за живое. Но толпа не приняла «ложь и святотатство» и с осквернителями храма расправилась безжалостно. Второе иносказание о бурно цветущих плодах дикого шиповника и чахнущих нежных розах, которых оживлял нож садовника, прививая им жизнестойкую поросль. Восторжествовали было вольные дички, как заболел садовник, неистово зацвели, а кровопийцы розы поникли и совсем бы извелись, если б вновь не заработал нож выздоровевшего садовника. США Марк Твен (1835 – 1910) Приключения Тома Сойера Более веселой повести нет в классике 19 века. Том Сойер, проказливый, непослушный, неугомонный мальчик, сирота, на попечении тети Поли, сестры покойной его матери, горазд на выдумки, ребячьи игры, в которые втягивает сверстников, то и дело сокрушает любимую тетку. Как при недельном побеге на «необитаемый» остров с Гекльберри Финном и Джо Гарпером, как и при столь же продолжительном блуждании с Бекки Тэтчер в пещере Мак-Дугала, изрезанной бесконечными лабиринтами. Но настоящие приключения, от которых волосы встают дыбом, поминутно страшно и серьезно рискуешь жизнью, начинаются с той ночи на кладбище, где Том с Геком стали нечаянно очевидцами убийства индейцем Джо молодого доктора, подрядившего преступника-рецидивиста Джо и пьяницу Поттера доставлять ему покойников из вырытых могил для анатомических опытов. Слежка за Джо, новая затея Тома с копанием кладов наводит мальчиков в конце концов на настоящий клад, ставший их собственностью после гибели его хозяина, индейца Джо в злополучных пещерах. « Находка Тома и Гека вызвала сильное брожение умов в захудалом городишке Сент – Питерсберге. Такая большая сумма, да еще наличными, - просто невероятно! О ней говорили без конца, завидовали, восторгались, многие горожане даже повредились в рассудке, не выдержав нездорового волнения. В городе и окрестных поселках разобрали доска за доской все дома, где было «нечисто», вплоть до фундамента, и даже земля под ними была вся изрыта в поисках клада – и не то, что мальчишками, а положительными, солидными людьми, далеко не мечтателями. Куда бы ни пошли Том с Геком, за ними везде ухаживали, восхищались ими, глазели на них. Мальчики не могли припомнить, чтобы раньше хоть ктонибудь прислушивался к тому, что они говорят, а теперь люди подхватывали и повторяли за ними каждое слово; что бы они ни сделали, все выходило у них замечательно. Они, видно, утеряли способность действовать и говорить, как обыкновенные смертные; мало того, раскопали их прошлое – и даже там оказались налицо все признаки оригинальности и таланта. Городская газетка напечатала их биографии. Вдова Дуглас положила деньги Гека в банк, а судья Тэтчер по просьбе тети Поли сделал то же самое для Тома. У каждого из мальчиков был теперь просто громадный доход – по доллару каждый день, а в воскресенье полдоллара. Столько, сколько полагалось пастору, да и то ему только обещали, а получить он столько не мог. Времена тогда были простые – за доллар с четвертью в неделю мальчик мог иметь стол и квартиру, мог учиться, одеваться да еще стричься и мыться за те же деньги. Судья Тэтчер возымел самое высокое мнение о Томе Сойере. Он говорил, что обыкновенный мальчик не вывел бы его дочь из пещеры. Когда Беки рассказала отцу по секрету, что в школе Том выдержал ради нее порку, судья был заметно тронут. А когда она стала заступаться за Тома и извинять ложь, придуманную Томом, для того чтобы розги достались ему, а не Беки, судья сказал с большим чувством, что это была великодушная, благородная, святая ложь, достойная стать наравне с хваленой правдой Георга Вашингтона насчет топорика и шагать по страницам истории рядом с ней! Беки подумала, что никогда еще ее папа не казался таким важным и внушительным, как в тот день, когда сказал эти слова, расхаживая по ковру, и топнул ногой. Она сейчас же побежала к Тому и рассказала ему все. Судья Тэтчер надеялся когда-нибудь увидеть Тома великим законодателем или великим полководцем. Он говорил, что приложит все усилия, чтобы Том попал в Национальную военную академию, а потом изучил бы юридические науки в лучшем учебном заведении страны и таким образом подготовился к той или другой профессии, а может быть, и к обеим сразу. Богатство Гека Финна, а может быть, и то, что он теперь находился под опекой вдовы Дуглас, ввело его – нет, втащило его, впихнуло его – в общество, и Гек терпел невыносимые муки. Прислуга вдовы одевала его и умывала, причесывала и приглаживала, укладывала спать на отвратительно чистые простыни, без единого пятнышка, которое он мог бы прижать к сердцу, как старого друга. Надо было есть с тарелки, пользоваться ножом и вилкой, утираться салфеткой, пить из чашки; надо было учить по книжке урок, ходить в церковь; надо было разговаривать так вежливо, что он потерял всякий вкус к разговорам; куда ни повернись – везде решетки и кандалы цивилизации лишали его свободы и сковывали по рукам и ногам. Три недели он мужественно терпел все эти невзгоды, а потом в один прекрасный день сбежал. Сильно встревожившись, вдова двое суток разыскивала его повсюду. Все приняли участие в поисках; Гека искали решительно везде, даже закидывали сети в реку, надеясь выловить мертвое тело. На третий день рано утром Том Сойер догадался заглянуть в пустые бочки за старой бойней и в одной из них нашел беглеца»… Приключения Гекльберри Финна Продолжаются приключения разбогатевших мальчиков сначала с Томом Сойером, затем с одним Гекльберри Финном, о которых он рассказывает сам. Объявляется его пьянчуга-отец, требует денег. Запрещает сыну посещать школу и увозит от вдовы, приютившей его отпрыска, на лодке за три мили вверх по реке. Приводит в старую хибарку, не отпуская ни на минуту от себя, так что Гек становится как бы его узником. Терпит до поры до времени, побои, издевательства, пока не разыгрывает разбойное нападение на их с отцом пристанище в отсутствии отца и свое убийство, а сам, собрав в лодку свои пожитки, бежит от родителя. По пути встречает беглого раба-негра сестры своей тетки Уотсон Джима, и они вместе отправляются прочь от своего городка, спасаясь от преследований. Находят плот и пускаются в плавание, пряча плот и челнок днем на попутных островах или в прибрежных зарослях, а ночью, установив сигнальный фонарь, устремляются все дальше и дальше в штаты, где отменено рабство, чтобы Джиму обрести свободу. Счастливо минуют массу опасностей по пути, благодаря своей находчивости и изворотливости, которые удесятеряются из страха перед разоблачением, скрывая свои настоящие имена и цели своего путешествия. Попадают в разные переделки, к беглецам пристают «король и герцог», бродяги-мошенники, и на долгое время Гек и Джим попадают к ним под пяту, не раз подвергают себя смертельному риску, отвязываются от жуликов, оказавшись против своей воли вблизи от родных мест. Негра Джима все-таки ловят, заковывают в цепи и сажают в каморку при хлопковой плантации Сайлиса Филпса с тем, чтобы переправить настоящим хозяевам пойманного раба. Жена Филпса, тетка Салли, принимает Гека Финна за Тома Сойера, когда беглец появляется перед ее домом. Гекльберри вновь пускается на хитрость, не признается, кто он на самом деле. Приезжает Том Сойер. Предупрежденный Геком об ошибке тетушки Салли, он выдает себя за своего брата Сида и оказывается под одной крышей со старым другом. Мальчишки разрабатывают план освобождения негра Джима. Устраивают тому побег по всем правилам, описанным в книжках про знаменитых узниках, хотя в этом нет необходимости. Тома Сойера ранят в ногу фермеры, пустившиеся в погоню за несчастным негром, который на самом деле давно отпущен на свободу своей прежней хозяйкой мисс Уотсон, как она распорядилась в завещании, которое сообщает тетя Полли, приехав к тетке Салли навестить племянника. Гек Финн также обретает свободу – отца его давно нет в живых, в чем ему признается Джим, видевший труп нерадивого отца своего лучшего друга в плывущем по реке доме как-то во время их странствий. « Том давно поправился и носит свою пулю на цепочке вместо брелока и то и дело лезет поглядеть, который час; а больше писать не о чем, и я этому очень рад, потому что если бы и раньше знал, какая это канитель – писать книжку, то нипочем бы не взялся, и больше уж я писать никогда ничего не буду. Я, должно быть, удеру на индейскую территорию раньше Тома с Джимом, потому что тетя Салли собирается меня усыновить и воспитывать, а мне этого не стерпеть. Я уж пробовал. Конец. С совершенным почтением Гек Финн». Рассказы Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса Рассказ добродушного старого болтуна Саймоса Уиллера, физиономия которого выражала подкупающее благодушие и простоту, о проповеднике Джиме Смайли, любящим заключать пари о чем угодно, лишь бы спорить, и он всегда выигрывал. Но однажды оплошал со своей дрессированной лягушкой. Спорщик, пока он вылавливал на болоте другую лягушку – соперницу, набил перепелиной дробью зоб знаменитой лягушки Смайли, и та, отяжелев, не смогла перескакать болотную лягушку. И Смайли проиграл. Куча подобных историй о чудачестве Смайли, которые не дослушал автор, откланялся и ушел. Рассказ о дурном мальчике Джиме, которому заговорщицки везло, не то что дурному мальчишке Джеймсу из книжки для воскресных школ, которого наказывало провидение за скверные проступки. «В конце концов Джим убежал из дому и нанялся матросом на корабль. Если верить книжкам, он должен был бы вернуться печальный, одинокий и узнать, что его близкие спят на тихом погосте, что увитый виноградом домик, где прошло его детство, давно развалился и сгнил. А Джим вернулся пьяный как стелька и сразу угодил в полицейский участок. Так он вырос, этот Джим, женился, имел кучу детей и однажды ночью размозжил им всем головы топором. Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние, и теперь он – самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне – пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата». Журналистика в Теннесси « Доктор сказал мне, что южный климат благотворно подействует на мое здоровье, поэтому я поехал в Теннесси и поступил помощником редактора в газету «Утренняя заря и Боевой клич округа Джонсон». Выстрелы, взрыв ручной гранаты, потасовки в кабинете ответственного редактора, затеваемые обидчиками газеты, и в результате.. «Я должен с вами проститься. ..Я приехал на Юг для поправки здоровья и уеду за тем же, ни минуту не задерживаясь. Журналистика в Теннесси слишком живое дело – оно не по мне. Мы расстались, выразив друг другу взаимные сожаления, и я тут же перебрался в больницу.». Как я редактировал сельскохозяйственную газету « Совершенно так же, как простой смертный, не моряк, взялся бы командовать кораблем». И так отредактировал, что подорвал репутацию газеты. « Ваши статьи стали позором для журналистики, и с чего вам взбрело в голову, будто вы можете редактировать сельскохозяйственную газету? Вы, как видно, не знаете даже азбуки сельского хозяйства. Вы не отличите бороны от борозды; коровы у вас теряют оперенье; вы рекомендуете приручать хорьков, так как эти животные отличаются веселым нравом и превосходно ловят крыс!» – распекал новоявленного редактора прежний, срочно вернувшийся из отпуска. - Но я увеличил тираж вашей газеты. Я сделал ее интересной для всех слоев общества, - оправдывался новичок – Но если вы меня изгоняете, то вы теряете от нашего разрыва, а не я». Он, конечно, ушел. Как меня выбирали в губернаторы «Несколько месяцев назад меня как независимого выдвинули кандидатом на должность губернатора великого штата Нью-Йорк Две основные партии выдвигали кандидатуры мистера Джона Т. Смита и мистера Блэнка Дж. Блэнка, однако я сознавал, что у меня есть важное преимущество пред этими господами, а именно: незапятнанная репутация. Стоило только просмотреть газеты, чтобы убедиться, что если они и были когда-либо порядочными людьми, то эти времена давно миновали. Было совершенно очевидно, что за последние годы они погрязли во всевозможных пороках». Но вдруг стало доставаться и независимому выдвиженцу. Газеты публиковали заметки, обвинявшие его то в лжесвидетельстве, то в воровстве там, где он никогда не бывал, то в клеветничестве, осквернении гробниц, то в пьянстве, хотя он три года не брал в рот ни пива, ни вина и вообще никаких спиртных напитков, то в грязном плутовстве, шантажировании и в ворохе других незаслуженных грязных пороках. Короче, дошло до того, что он снял свою кандидатуру. «Я не выдержал. Я спустил флаг и сдался. Баллотироваться на должность губернатора штата Нью-Йорк оказалось мне не по силам». Правдивая история, записанная слово в слово, как я ее слышал От старой негритянки, тетки Рэчел, «и хотя ей перевалило за шестьдесят, и нрав у нее был веселый и добродушный, и смеяться ей было так же легко, как птице петь.» - Неужели у тебя никогда не было горя? – спросили как-то у нее. Ее рассказ о своей семье, как разорилась их хозяйка и распродала семью, разъединив от нее мужа и семерых детей. Лишь через пятнадцать лет она узнала своего младшего сына, разыскивающего мать, по шраму на руке. – О нет, я не испытывала в жизни горя, закончила она свой рассказ. - Но и радости тоже». Мак–Вильямсы и круп ( Рассказано автору мистером Мак–Вильямсом, симпатичным джентльменом из Нью- Йорка, с которым автор случайно познакомился в дороге) Беспокойство матери о маленькой дочке, вызванное свирепствовавшей неизлечимой и ужасной болезнью круп. В страхе она не находит себе места, оттого что девочка жевала сосновую щепку и случайно проглотила занозу. Всю ночь напролет она дергала мужа, пока поднятый с постели больной доктор не прояснил, что ее опасения безосновательны. Рассказ коммивояжера О своем дядюшке-миллионере, как он заразил его идеей коллекционирования. Дядюшка стал собирать коллекцию эха, разорился и в наследство своему единственному родственникуплемяннику оставил после своей смерти карты и планы земель, где обитают эхо разных достоинств – однократное, и двукратное и даже двадцатикратное. Наследник и распродает дядюшкину коллекцию. Укрощение велосипеда « Подумав хорошенько, я решил, что справлюсь с этим делом. Тогда я пошел и купил бутыль свинцовой примочки и велосипед. Домой меня провожал инструктор, чтобы преподать мне начальные сведения. Мы уединились на заднем дворе и принялись за дело» Какие только опасности, неожиданности не подстерегали оседлавшего рогатую машину. Падения, синяки, наезды на инструктора, как садиться на велосипед, как соскакивать, как удерживать равновесие и не выписывать передним колесом восьмерки. Нелегкая задача, хотя на словах кажется легче легкого научиться укрощать велосипед, не переезжая любопытных собак, не врезываться во встречные возы, не навлекать своей неуклюжестью на себя ехидные замечания мальчишки с забора. Похищение белого слона Белого слона сиамские власти подарили английской королеве в целях урегулирования пограничного конфликта. В Нью- йоркской гавани, куда прибыл чрезвычайно дорогой подарок с целым штатом приставленной к нему прислуги, слон пропал. Человек, отвечавший за слона, кинулся в сыскную службу. Полицейские рьяно приступили к поискам. Полетели телеграммы к агентам, были растиражированы описания слона и его фотографии, печатались ежедневно заметки в газетах о ходе поисков, были обещаны крупные суммы вознаграждения в случае успеха, и в результате бедный слон оказался в том помещении, откуда он исчез,.. и сдох. Письмо ангела – хранителя Углеторговцу Эндрю Дэнгдону из небесной канцелярии от его ангела-хранителя пришло послание, в котором мотивируется, какие молитвы его удовлетворены, какие задержаны для дальнейших рассмотрений, а каким в исполнении отказано. Несколько слов о милосердии богатого торговца, дела его неуклонно идут в гору год от года. Слезы умиления в раю вызвали его подачки в два, четыре, пятнадцать долларов в разные годы родственнице, бедной вдове, обратившейся к нему за помощью. « Все твердили одно: «Чего стоит готовность благородной души, десяти тысяч благороднейших душ отдать свою жизнь за другого – по сравнению с даром в пятнадцать долларов от самой гнусной и скаредной гадины, обременявшей когда-либо землю своим присутствием!» И как они были правы! Авраам, обливаясь слезами, приготовился упокоить Вас в своем лоне и даже наклеил ярлык: «Занято и оплачено». А Петр-ключарь, утирая слезу, сказал: «Пусть он только прибудет, мы устроим ему факельцуг!» И когда доподлинно стало известно, что Вас ждут райские кущи, небывалое ликование воцарилось в раю. В аду – тоже». Банковский билет в 1 000 000 фунтов стерлингов Два пожилых англичанина, любящие поспорить, заключили пари – сможет ли иностранец без гроша в кармане просуществовать месяц в Лондоне с банковским билетом в миллион фунтов стерлингов. Выбор пал на молодого американца, волей случая оказавшегося под рукой у спорщиков. Как нашел выход из безвыходного положения бедный счастливец, и рассказывается в коротком рассказе, достойном повести, а то и романа со счастливым концом. Человек, который совратил Гедлиберг Этот человек, незнакомец, мстил Гедлибергу за обиду, нанесенную ему в этом городе. Он занес мешок с будто бы золотыми монетами, 40 тысяч долларов, супружеской чете, старичкам Ричардсам, с запиской, в которой объяснял, кому предназначен этот мешок. Тому, кто точно назовет фразу, сказанную когда-то заезжему человеку вместе с 20 долларами, врученными как подаяние. Когда об этом узнал весь город, таково было условие незнакомца, чтобы все в городе знали о таинственном мешке, обнаружилось девятнадцать семей, претендующих на золото. Далее выявилось, что вместо золота в мешке лежали свинцовые бляшки, покрытые позолотой, которые и пустили в конце концов на памятные сувениры с несколько измененной печатью. « Введи нас в искушение». Репутация города была подорвана. Путешествие капитана Стормфилда в рай Возможно, это был сон капитана, или видение, но он сам был убежден, что каждое слово его рассказа – правда. Путь от земли в рай проносится через бесконечность миров, который усопший преодолевает со скоростью мысли и оказывается среди миллиардов прибывших в рай до него с библейских времен Адама, Авеля, Авраама, Исаака и др. Пребывание в небесном раю устроено в высшей степени разумно, несомненно, совершеннее, чем на земле. О чем читатель узнает от самого рассказчика и от его собеседника, некоего Сэнди Мак - Уильяма, старого лысого ангела. В каком возрасте и как можно ангелу, то есть попавшему в рай, обращаться со своей амуницией – крыльями, нимбом, пальмовой ветвью, какая иерархия установлена в раю, какие миры затмевают земной и т.д. Словом, рай – это не нечто произвольное и неупорядочное, а традиционно организованное так, что не в пример многому на земле. Таинственный незнакомец Появился в Австрии в 1590 году в деревне Эзельдорф. Красивой наружности человек среди трех мальчишек, неразлучных друзей, и завоевал живыми увлекательными рассказами симпатии мальчишек. Это был Сатана, как он назвался сам, но просил никому о нем не рассказывать. В деревне стали случаться удивительные вещи. Священник, отец Питер, вдруг находит кошелек, полный золотых монет, Урсула, служанка в его доме, приласкала брошенного котенка, который стал ей приносить удачу, в доме появилась еда, вино, каждое утро служанка находила в своих карманах четыре зильбергроша. На отца Питера донес властям злой астролог – мол, деньги, найденные им, мои. Отца Питера засадили в тюрьму до разбирательства в суде. Сатана то и дело завораживал детей своими фокусами, рассуждениями, которым они внимали, отдавшись всецело душой, своими проделками, опытами, предсказаниями, которые обязательно сбывались. « Мне пришла в голову мысль потолковать по душам с Сатаной, уговорить его стать лучше, добрее. Я напомнил ему о том, что он натворил, и просил его впредь не действовать столь опрометчиво; не губить людей зря. Я не винил его, только просил, чтобы он перед тем, как решиться на что-нибудь, помедлил и чуть поразмыслил. Ведь если он будет действовать не столь легкомысленно, не наобум, будет меньше несчастий. Сатана нисколько не был задет моей прямотой, но видно было, что я удивил и рассмешил его. Он сказал - Тебе кажется, что я действую наобум? Я никогда так не действую. Ты хочешь, чтобы я медлил и думал о том, к чему приведет мой поступок? Зачем? Я и так точно знаю, к чему он приведет. - Почему же ты так поступаешь? - Изволь, я отвечу тебе, а ты постарайся понять, если сумеешь…Ты и тебе подобные – неповторимые в своем роде создания. Каждый человек – это машина для страдания и для радостей. Два механизма соединены одной сложной системой и действуют на основе взаимной связи. Едва успеет первый механизм зарегистрировать радость, второй готовит вам боль, несчастье. У большинства людей жизнь строится так, что горя и радостей приходится поровну. Там, где такого равновесия нет, преобладает несчастье. Счастье – никогда. Встречаются люди, устроенные так, что вся их жизнь подчинена механизму страданий. Такой человек от рождения и до самой смерти совсем не ведает счастья. Все служит для него источником боли, что он ни делает, приносит ему страдание. Ты, наверно, видел таких людей? Жизнь для них – гибельный дар. Порой за единственный час наслаждения человек платит годами страдания – так он устроен. Или ты не знаешь об этом? Нужны примеры? Изволь, я тебе приведу. Что же до жителей вашей деревни, то они для меня попросту не существуют. Ты, наверно, это заметил?» Дальнейшие проделки Сатаны, его активное участие в судьбах жителей деревни, пророчества, изумлявшие людей явления, приносящие и добро и зло, и вдруг исчезновение его навсегда, которое он предваряет монологом. « Теперь ты видишь, что такое возможно только во сне. Теперь тебе ясно, что всего лишь нелепость, порождение незрелой и вздорной фантазии, неспособной даже осознать свою вздорность: что это только сон, который тебе приснился, и не может быть ничем иным, кроме сна. Как ты не видел этого раньше? Все, что я тебе говорю – это правда! Нет бога, нет вселенной, нет жизни, Нет человечества, нет рая, нет ада. Все это только сон, замысловатый дурацкий сон. Нет ничего, кроме тебя. А ты только мысль, блуждающая мысль, бесцельная мысль, бездомная мысль, потерявшаяся в вечном пространстве. Он исчез и оставил меня в смятении, потому что я знал наверное: все, что он мне сказал, было правдой». Англия Уильям Мейкпис Теккерей (1811 – 1863) Ярмарка тщеславия Роман без героя Но главные действующие персонажи – девушки Эмилия Седли и Ребекка, только выпушенные из пансиона и их жизнь в последующие пятнадцать лет – замужество, репутация в обществе, рождение сыновей. Существенное различие в проявлении натур, разворачивании судеб. Множественное окружение Ребекки и Эмилии, среди которых и положительное лицо Доббин, но автор не причисляет его к героям. Основной же запал идеи довольно объемистого романа – отличительная черта английского света – снобизм, преклонение перед знатностью, богатством, причащение к бесспорно признанным ценностям. И презрение к не обладающим весом в среде проживания и действия. Словом, пустое тщеславие по большому счету, как полагает автор, иронически показывая читателю ярмарку движущей силы островной высоко вознесенной над другими нации 19 столетия, времени Ватерлоо, окончательного низвержения Наполеона Бонапарта, корсиканского чудовища. Но акцентированы писателем стороны обыкновенной заурядности безусловно кардинальные, осевые, предпочтительные для каждого англичанина того не столь далекого века. « Пусть любезный читатель не забывает, что наша повесть в веселой желтой обложке носит наименование «Ярмарки Тщеславия», а Ярмарка Тщеславия – место суетное, злонравное, сумасбродное, полное всяческих надувательств, фальши и притворства. И хотя изображенный на обложке моралист, выступающий перед публикой ( точный портрет вашего покорного слуги), и заявляет, что он не носит ни облачения, ни белого воротничка, а только такое же шутовское одеяние, в которое наряжена его паства, однако ничего не поделаешь, приходится говорить правду, поскольку она уж вам известна, независимо от того, что у вас на голове: колпак с бубенцами или широкополая шляпа; а раз так – на свет божий должно выйти столько неприятных вещей, что и не приведи бог... Предупреждаю моих благословенных друзей, что я намерен рассказать о возмутительной низости и весьма сложных, но – как я надеюсь – небезынтересных преступлениях. Мои злодеи не какиенибудь желторотые разини, смею вас уверить! Когда мы дойдем до соответствующих мест, мы не пожалеем ярких красок. Нет, нет! Но, шествуя по мирной местности, мы будем поневоле сохранять спокойствие. Буря в стакане воды – нелепость. Предоставим подобного рода вещи могучему океану и глухой полуночи». Россия Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) Война и мир Величайший роман во всей мировой литературе. Не по количеству страниц, а по содержанию, вбирающему и людей разных сословий и групп, и политику, и авторскую философию относительно эпохального 1812 года, и дающего перспективу развития на десять ближайших лет, столь значащих для русской жизни в историческом ее продолжении. Пристально обрисованы движения души, их гуманистическая мотивировка, высота мыслей и чувств всех действующих лиц, четко расставлен сюжет без сентенций и ошеломляющих неожиданностей. Даже, к примеру, измена Наташи Ростовой князю Андрею Болконскому предпослана как бы невидимо, не выпячено еще при первых их знакомствах, встречах, когда все дышит предстоящим неуклонным счастьем избранных и повенчанных на небесах. « В доме Ростовых царствовала та поэтическая скука и молчаливость, которая всегда сопутствует присутствию жениха и невесты. Часто, сидя вместе, все молчали. Иногда вставали и уходили, и жених с невестой, оставаясь одни, все так же молчали. Редко они говорили о будущей своей жизни. Князю Андрею страшно и совестно было говорить об этом. Наташа разделяла это чувство, как и все его чувства, которые она постоянно угадывала. Один раз Наташа стала расспрашивать про его сына. Князь Андрей покраснел, что с ним часто случалось теперь и что особенно любила Наташа, и сказал, что сын его не будет жить с ними. - Отчего? – испуганно сказала Наташа… - Я не могу отнять его у деда и потом… - Как бы я его любила! – сказала Наташа, тотчас же угадав его мысль, - но я знаю, вы хотите, чтобы не было предлогов обвинить вас и меня. Старый граф иногда подходил к князю Андрею, целовал его, спрашивал у него совета насчет воспитания Пети или службы Николая. Старая графиня вздыхала, глядя на них. Соня боялась всякую минуту быть лишней и старалась находить предлоги оставлять их одних, когда им этого не нужно было. Когда князь Андрей говорил (он очень хорошо рассказывал), Наташа с гордостью слушала его; когда она говорила, то со страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрит на нее. Она с недоумением спрашивала себя: « Что он ищет во мне? Чего-то он добивается этим взглядом? Что, как нет во мне того, что он ищет этим взглядом?» Иногда она входила в свойственное ей безумно- веселое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся, но зато когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху, и всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе к нему. Наташа была бы совершенно счастлива, ежели бы мысль о предстоящей и приближающейся разлуке не пугала ее. Накануне своего отъезда из Петербурга князь Андрей привез с собой Пьера, со времени бала ни разу не бывшего у Ростовых. Пьер казался растерянным и смущенным. Он разговаривал с матерью. Наташа села с Соней у шахматного столика, приглашая этим к себе князя Андрея. Он подошел к ним. - Вы его?ведь давно знаете Безухова? – спросил он.- Вы любите - Да, он славный, но смешной очень. И она, как всегда говоря о Пьере, стала рассказывать анекдоты о его рассеянности, анекдоты, которые даже выдумывали на него. - Вы знаете, я поверил ему нашу тайну, - сказал князь Андрей.- Я знаю его с детства. Это золотое сердце. Я вас прошу, Натали, сказал он вдруг серьезно, - я уеду. Бог знает, что может случиться. Вы можете разлю.. Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, - что бы ни случилось с вами, когда меня не будет.. - Что ж случится?.. - Какое бы горе ни было, - продолжал князь Андрей, - я вас прошу, mademoiselle Sophie, чтобы ни случилось, обратитесь к нему одному за советом и помощью. Это самый рассеянный и смешной человек, но самое золотое сердце. Ни отец, ни мать, ни Соня, ни сам князь Андрей не могли предвидеть того, как подействует на Наташу расставание с ее женихом. Красная и взволнованная, с сухими глазами, она ходила этот день по дому, занимаясь самыми ничтожными делами, как будто не понимая того, что ожидает ее. Она не плакала и в ту минуту, когда он, прощаясь, последний раз поцеловал ее руку. - Не уезжайте! – только проговорила она ему таким голосом, который заставил бы задуматься о том, не нужно ли ему действительно остаться, и который он долго помнил после этого. Когда он уехал, она даже не плакала; но несколько дней она, не плача, сидела в своей комнате, не интересовалась ничем и только говорила иногда: «Ах, зачем он уехал!» Но через две недели после его отъезда она, так же неожиданно для окружающих ее, очнулась от своей нравственной болезни, стала такая же, как прежде, но только с измененной нравственной физиономией, как дети с другим лицом встают с постели после продолжительной болезни». Развязка этого романа ( Наташи и Андрея Болконского) проходит в течение всего последующего хода общего повествования. Все логично обосновано естественным действием человеческих отношений высокоразвитого, отнюдь не по одному социальному положению тогдашнего сообщества, мира людского, искажающемуся, ломающемуся моментами богопротивной войны. Никак не направляющей, не выравнивающей. Напротив уничтожающей все надежды земные одного из главных героев Андрея Болконского, испившего до дна чашу мук и страданий подобно Христу тому определенному времени – началу девятнадцатого столетия. Война в романе – войны Европы с наполеоновской Францией в 1805, 1806 годах Ульм, Шенграбен, Аустерлиц, - четверть I и II томов, остальное - мир в близости от войны. И 1812 год – тома III и IV. Грандиознейшее в мировой истории Бородинское сражение – и панорамой от автора, и восприятием героев, Болконского, Пьера Безухова, и с позиций главнокомандующих – Кутузова и Наполеона, и в самооправдывающих мемуарах завоевателя, на что при изучении романа в учебных классах, аудиториях почти не обращают внимания. Да и как обозреть массу лиц, событий, явлений, даже в максимальном отведении на роман чуть ли не четверти всех часов по программе литературы. « Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на полях и лугах, принадлежавших господам Давыдовым и казенным крестьянам, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьяне деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на десятину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных команд людей, с испуганными лицами, с одной стороны брели назад к Можайску, с другой стороны – назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять. Над всем полем, прежде столь весело-красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте…Опомнитесь. Что вы делаете?» Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходить сомнение в том, следует ли им еще истреблять друг друга, и на всех лицах было заметно колебание, и в каждой душе одинаково поднимался вопрос: «Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делайте, что хотите, а я не хочу больше!» Мысль эта к вечеру созрела в душе каждого. Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побежать куда попало. Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего поступка, хотя они и рады бы были перестать, какая-то непонятная, таинственная сила еще продолжала руководить ими, и, запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному, на три, артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, наводили, прикладывали фитили; и ядра также быстро и жестоко пролетали с обеих сторон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершиться то страшное дело, которое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами. Тот, кто бы посмотрел на расстроенные ряды русской армии, сказал бы, что французам стоит сделать еще одно маленькое усилие, и русская армия исчезнет; и тот, кто посмотрел бы зады французов, сказал бы, что русским стоит сделать еще одно маленькое усилие, и французы погибнут. Но ни французы, ни русские не делали этого усилия, и пламя сражения медленно догорало. Русские не делали этого усилия, потому что не они атаковали французов. В начале сражения они только стояли по дороге в Москву, загораживали ее, и точно так же они продолжали стоять при конце сражения, как они стояли при начале его. Но даже если бы цель русских состояла бы в том, чтобы сбить французов, они не могли сделать это последнее усилие, потому что все войска русских были разбиты, не было ни одной части войск, не пострадавшей в сражении, и русские, оставаясь на своих местах, потеряли половину своего войска. Французам, с воспоминаниям всех прежних пятнадцатилетних побед, с уверенностью в непобедимости Наполеона, с сознанием того, что они завладели частью поля сражения, что они потеряли только одну четверть людей и что у них еще есть двадцатитысячная нетронутая гвардия, легко было сделать это усилие. Французам, атаковавшим русскую армию с целью сбить ее с позиции, должно было сделать это усилие, потому что до тех пор, пока русские , точно так же, как и до сражения, загораживали дорогу в Москву, цель французов не была достигнута и все их усилия и потери пропали даром. Но французы не сделали этого усилия. Некоторые историки говорят, что Наполеону стоило дать свою нетронутую гвардию для того, чтобы сражение было выиграно. Говорить о том, что бы было, если бы Наполеон дал свою гвардию, все равно что говорить о том, что было бы, если б осенью сделалась весна. Этого не могло быть. Не Наполеон не дал своей гвардии, потому что он не захотел этого, но этого нельзя было сделать. Все генералы, офицеры, солдаты французской армии знали, что этого нельзя было сделать, потому что упадший дух войска не позволял этого. Не один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно, но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений ( где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал), испытывали одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения. Нравственная сила французской атакующей армии была истощена. Не та победа, которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, - а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным. Французское нашествие, как разъяренный зверь, получивший в своем разбеге смертельную рану, чувствовало свою погибель; но оно не могло остановиться так же, как и не могло не отклониться вдвое слабейшее русское войско. После данного толчка французское войско еще могло докатиться до Москвы; но там, без новых усилий со стороны русского войска, оно должно было погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине, раны. Прямым следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель наполеоновской Франции, на которую в первый раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника». Из мемуарных записок Наполеона, написанных на острове Св. Елены. «Русская война должна бы была быть самая популярная в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод, война спокойствия и безопасности всех; она была чисто миролюбивая и консервативная. Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех. Система европейская была бы основана, вопрос заключался бы уже в ее учреждении. Удовлетворенный в этих великих вопросах и везде спокойный, я бы тоже имел свой конгресс и свой священный союз. Это мысли, которые у меня украли. В этом собрании великих государей мы обсуждали бы наши интересы семейно и считались бы с народами, как писец с хозяином. Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине. Я бы выговорил бы, чтобы все реки были судоходны для всех, чтобы море было общее, чтобы постоянные большие армии были уменьшены единственно до гвардии государей и т. д. Возвратясь во Францию, на родину, великую, сильную, великолепную, спокойную, славную, я провозгласил бы границы ее неизменными; всякую будущую войну защитительной; всякое новое распространение – антинациональным; я присоединил бы своего сына к правлению империей; мое диктаторство бы кончилось, и началось бы его конституционное правление… Париж был бы столицей мира, и французы предметом зависти всех наций! Потом мои досуги и последние дни были бы посвящены, с помощью императрицы и во время царственного воспитания моего сына, на то, чтобы мало-помалу посещать, как настоящая деревенская чета, на собственных лошадях, все уголки государства, принимая жалобы, устраняя несправедливости, рассевая во все стороны и везде здания и благодеяния. Из 400 000 человек, которые перешли Вислу, половина была австрийцы, пруссаки, саксонцы, поляки, баварцы, виртембергцы, мекленбургцы, испанцы, итальянцы и неаполитанцы. Императорская армия, собственно сказать, была на треть составлена из голландцев, бельгийцев, жителей берегов Рейна, пьемонтцев, швейцарцев, женевцев, тосканцев, римлян, жителей 32-й военной дивизии, Бремена, Гамбурга и т. д.; в ней едва ли было 140 000 человек, говорящих по-французски. Русская экспедиция стоила собственно Франции менее 50 000 человек; русская армия в отступлении из Вильно в Москву в различных сражениях потеряла в четыре раза более, чем французская армия; пожар Москвы стоил жизни 100 000 русских, умерших от холода и нищеты в лесах; наконец во время своего перехода от Москвы к Одеру русская армия тоже пострадала от суровости времени года; по приходе в Вильну она состояла только из 50 000 людей, а в Калише менее 18 000». Эпилог состоит из двух частей – повествовательной, относящейся непосредственно к основным действующим лицам романа и рассказывающей о семейном счастье Пьера Безухова, Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Николая Ростова, и философской, на первый взгляд, абстрактной, отвлеченной от романа, как конкретного художественного произведения. Но рассуждения писателя о предмете истории, как науки, роман-то исторической в большей мере, о силе, движущей народы, о необходимости и свободе человека, о роли выдающихся личностей и их влиянии на события, о законах, управляющих человеческим обществом, если вдуматься, теоретическая основа всего созданного писателем, мысль, движущая живыми вполне ощутимыми персонажами. И нет необходимости конкретно прилагать то или иное умозрительное логично построенное положение к тем или иным эпизодам, отрывкам, главам. Увлекаясь сюжетом, мы просто – напросто забываем необязательную излишнюю инспекцию рассудка, не преобладающего, к счастью, над читательскими чувствами, эмоциями. Анна Каренина Длинный роман с духовными нравственными подробностями об Облонских, Щербацких, Карениных, Левиных, Вронских. Героиня романа появляется не на первых страницах и как солнце при неопределенной погоде озаряет своим светом внешней красоты и внутренней гармонии, женской цельностью и законченностью жизнь вокруг себя и людей, вовлеченных в ее сферы. « Вронский пошел за кондуктором в вагон и при входе в отделение остановился, чтобы дать дорогу выходившей даме. С привычным тактом светского человека, по одному взгляду на внешность этой дамы, Вронский определил ее принадлежность к высшему свету. Он извинился и пошел было в вагон, но почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее – не потому что она была очень красива, не потому изяществу и скромной грации, которые видны были во всей ее фигуре, но потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное. Когда он оглянулся, она тоже повернула голову. Блестящие, казавшееся темными от густых ресниц, серые глаза дружелюбно внимательно остановились на его лице, как будто она признавала его, и тотчас же перенеслись на подходившую толпу, как бы ища кого-то. В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. Вронский вошел в вагон. Мать его, сухая старушка с черными глазами и букольками, щурилась, вглядываясь в сына, и слегка улыбалась тонкими губами. Поднявшись с диванчика и передав горничной мешочек, она подала маленькую сухую руку сыну и, подняв его голову от руки, поцеловала его в лицо. - Получил телеграмму? Здоров? Слава богу. - Хорошо доехали? - сказал сын, садясь подле нее и невольно прислушиваясь к женскому голосу из-за двери. Он знал, что это был голос той дамы, которая встретилась ему при входе. - Я все-таки с вами не согласна, - говорил голос дамы. - Не петербургский, а просто женский взгляд, сударыня , отвечала она. - Ну-с, извольте поцеловать вашу ручку.. - До свиданья, Иван Петрович. Да посмотрите, не тут ли брат, и пошлите его ко мне, - сказала дама у самой двери и снова вошла в отделение. - Что ж, нашли брата? – сказала Вронская, обращаясь к даме. Вронский вспомнил теперь, что это была Каренина. - Ваш брат здесь, - сказал он, вставая.- Извините меня, я не узнал вас, да и наше знакомство было так коротко, - сказал Вронский, кланяясь, - что вы, верно, не помните меня. - О, нет, - сказала она, - я бы узнала вас, потому что мы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас, - сказала она, позволяя, наконец, просившемуся наружу оживлению выразиться в улыбке. - А брата моего все-таки нет. - Позови же его, Алеша, - сказала старая графиня. Вронский вышел на платформу и крикнул: - Облонский! Здесь! Но Каренина не дождалась брата, а, увидев его, решительным легким шагом вышла из вагона. И,. как только брат подошел к ней, она движением, поразившим Вронского своей решительностью и грацией, обхватила брата левой рукой за шею, быстро притянула к себе и крепко поцеловала. Вронский, не спуская глаз, смотрел на нее, и сам, не зная чему, улыбался. Но вспомнив, что мать ждала его, он опять вошел в вагон. - Не правда ли, очень мила? – сказала графиня про Каренину. – Ее муж со мною посадил, и я очень рада была. Всю дорогу мы с ней проговорили. Ну, а ты, говорят, у тебя все еще тянется идеальная любовь. Тем лучше, мой милый, тем лучше. - Я не знаю, на что вы намекаете, maman? - отвечал сын холодно.Что ж, maman, идем. Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней. - Ну вот, вы, графиня, встретили сына, а я брата, - весело сказала она. – И все истории мои истощились; дальше нечего было бы рассказывать. - Ну, нет, милая, - сказала графиня, взяв ее за руку, - я бы с вами объехала вокруг света и не соскучилась бы. Вы одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить и помолчать приятно. А о сыне вашем, пожалуйста, не думайте: нельзя же никогда не разлучаться. Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза ее улыбались. - У Анны Аркадьевны, - сказала графиня, объясняя сыну, - есть сынок восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась и все мучается, что оставила его. - Да, мы все время с графиней говорили, я о своем, она о своем сыне, - сказала Каренина, и опять улыбка осветила ее лицо, улыбка ласковая, относившаяся к нему. - Вероятно, это вам очень наскучило, - сказал он, сейчас, на лету подхватывая этот мяч кокетства, который она бросила ему. Но она, видимо, не хотела продолжать разговора в этом тоне и обратилась к старой графине. - Очень благодарю вас. Я и не видала, как провела вчерашний день. До свидания, графиня. - Прощайте, мой дружок, - отвечала графиня, - Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико. Я просто, по-старушечьи, прямо говорю, что полюбила вас. Как ни казенна была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила и порадовалась этому. Она покраснела, слегка нагнулась, подставила свое лицо губам графини, опять выпрямилась и с тою же улыбкой, волновавшеюся между губами и глазами, подала руку Вронскому. Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившею ее довольно полное тело. - Очень мила, - сказала старушка. То же самое думал ее сын. Он провожал ее глазами до тех пор, пока не скрылась ее грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как подошла она к брату, положила ему руку на руку и что-то оживленно начала говорить ему, очевидно, о чем-то не имеющем ничего общего с ним, с Вронским, и ему это показалось досадным». Любовь графа Алексея Вронского и Анны Карениной, оставившей старше ее на двадцать лет мужа, Алексея Александровича, сановного чиновника, государственного деятеля, испытывается в обычных, не экстраординарных, проявлениях русской столичной, поместной действительности прогрессирующего XIX столетия. Пристальное внимание к помещику Константину Левину, к его глубоким размышлениям о веровании, о смысле человеческого существования, о множестве частностей, сплетающихся в общую повседневную картину, панораму реалий перед большинством ему подобных, отнюдь не сверхнеобычных, не выдуманных произвольно по капризу, прихоти писателя. Строгим реализмом проникнута каждая глава романа. Восхищает та же Анна при знакомстве со вторым главным действующим персонажем романа, с Константином Левиным. « Пройдя небольшую столовую с темными деревянными стенами, Степан Аркадьич с Левиным по мягкому ковру вошли в полутемный кабинет, освещенный одною с большим темным абажуром лампой. Другая лампа-рефрактор горела на стене и освещала большой во весь рост портрет женщины, на который Левин невольно обратил внимание. Это был портрет Анны, деланный в Италии Михайловым. В то время как Степан Аркадьич заходил за трельяж, и говоривший мужской голос замолк, Левин смотрел на портрет, в блестящем освещении выступавший из рамы, и не мог оторваться от него. Он даже забыл, где был, и, не слушая того, что говорилось, не спускал глаз с удивительного портрета. Это была не картина, а живая прелестная женщина с черными вьющимися волосами, обнаженными плечами и руками и задумчивой полуулыбкой на покрытых нежным пушком губах, победительно и нежно смотревшая на него смущающими его глазами. Только потому она была не живая, что она была красивее, чем может быть живая. - Я очень рада, - услыхал он вдруг подле себя голос, очевидно обращенный к нему, голос той самой женщины, которою он любовался на портрете. Анна вышла ему навстречу из-за трельяжа, и Левин увидал в полутьме кабинета ту самую женщину портрета в темном, разноцветно-синем платье, не в том положении, не с тем выражением, на той самой высоте красоты, на которой она была уловлена художником на портрете. Она была менее блестяща в действительности, но зато в живой было и что-то такое новое привлекательное, чего не было на портрете. Она встала ему навстречу, не скрывая своей радости увидеть его. И в том спокойствии, с которым она протянула ему маленькую и энергическую руку и познакомила его с Воркуевым и указала на рыжеватую хорошенькую девочку, которая тут же сидела за работой, назвав ее своей воспитанницей, были знакомые и приятные Левину приемы женщины большого света, всегда спокойной и естественной. - Очень, очень рада, - повторила она, и в устах ее для Левина эти простые слова почему-то получили особенное значение. – Я вас давно знаю и люблю, и по дружбе со Стивой и за вашу жену…я знала ее очень мало времени, но она оставила во мне впечатление прелестного цветка, именно цветка. И она уж скоро будет матерью! Она говорила свободно и неторопливо, изредка переводя свой взгляд с Левина на брата, и Левин чувствовал, что впечатление, произведенное им, было хорошее, и ему с ней тотчас же стало легко, просто и приятно, как будто он с детства знал ее. - Мы с Иваном Петровичем поместились в кабинете Алексея,сказала она, отвечая Степану Аркадьичу на его вопрос, можно ли курить, - именно затем, чтобы курить, - и, взглянув на Левина, вместо вопроса: курит ли он? пододвинула к себе черепаховый портсигар и вынула пахитоску. - Как твое здоровье нынче? – спросил ее брат. - Ничего. Нервы как всегда. - Не правда ли, необыкновенно хорош? – сказал Степан Аркадьич, заметив, что Левин взглядывал на портрет. - Я не видал лучше портрета. - И необыкновенно похоже, не правда ли? – сказал Воркуев. Левин поглядел с портрета на оригинал. Особенный блеск осветил лицо Анны в то время, как она почувствовала на себе его взгляд. Левин покраснел и, чтобы скрыть смущение, хотел спросить, давно ли она видела Дарью Александровну, но в то время Анна заговорила: - Мы сейчас говорили с Иваном Петровичем о последних картинах Ващенкова. Вы видели их? - Да, я видел, - отвечал Левин - Но виновата, я вас перебила, вы хотели сказать…- Левин спросил, давно ли она видела Долли. - Вчера она была у меня, она очень рассержена за Гришу на гимназию. Латинский учитель, кажется, несправедлив был к нему. - Да, я видел картины. Они мне не очень понравились, - вернулся Левин к начатому ею разговору. Левин говорил теперь совсем уже не с тем ремесленным отношением к делу, с которым он разговаривал в это утро. Всякое слово в разговоре с нею получало особенное значение. И говорить с ней было приятно, еще приятнее было слушать ее. Анна говорила не только естественно, умно, но умно и небрежно, не приписывая никакой цены своим мыслям, а придавая большую цену мыслям собеседника. Разговор шел о новом направлении искусства, о новой иллюстрации Библии французским художником. Воркуев обвинял художника в реализме, доведенным до грубости. Левин сказал, что французы довели условность в искусстве как никто и что поэтому они особенную заслугу видят в возвращении к реализму. В том, что они уже не лгут, они видят поэзию. Никогда еще ни одна умная мысль, сказанная Левиным, не доставляла ему такого удовольствия, как эта. Лицо Анны вдруг все просияло, когда она вдруг оценила эту мысль. Она засмеялась. - Я смеюсь, - сказала она, - как смеешься, когда увидишь очень похожий портрет. То, что вы сказали, совершенно характеризует французское искусство теперь, и живопись, и даже литературу.:Zola, Daudet. Но, может быть, это всегда так бывает, что сначала строят свои conceptions из выдуманных, условных фигур, а потом – все combinaisons сделаны, выдуманные фигуры надоели, и начинают придумывать более натуральные, справедливые фигуры. - Вот это совершенно верно! – сказал Воркуев. - Так вы были в клубе? – обратилась она к брату. «Да, да, вот женщина!» - думал Левин, забывшись и упорно глядя на ее красивое подвижное лицо, которое теперь вдруг совершенно переменилось. Левин не слыхал, о чем она говорила, перегнувшись к брату, но он был поражен переменой ее выражения. Прежде столь прекрасное в своем спокойствии, ее лицо вдруг выразило странное любопытство, гнев и гордость. Но это продолжалось только одну минуту. Она сощурилась, как бы вспоминая что-то. - Ну, да, впрочем, это никому не интересно, - сказала она и обратилась к англичанке: -Please, order the tea in the drawing-room. Девочка поднялась и вышла. - Ну что же, она выдержала экзамен? – спросил Степан Аркадьич. - Прекрасно. Очень способная девочка, и милый характер. - Кончится тем, что ты ее будешь любить больше своей. - Вот мужчина говорит. В любви нет больше и меньше. Люблю дочь одной любовью, ее - другою. - Я говорю Анне Аркадьевне, - сказал Воркуев, - что если б она положила одну сотую хоть той энергии на общее дело воспитания русских детей, которую она кладет на эту англичанку, Анна Аркадьевна сделала бы большое, полезное дело. - Да вот что хотите, я не могла. Граф Алексей Кириллыч поощрял меня ( произнося слова граф Алексей Кириллыч,она просительно-робко взглянула на Левина, и он невольно отвечал ей почтительным и утвердительным взглядом) – поощрял меня заняться школой в деревне. Я ходила несколько раз. Они очень милы, но я не могла привязаться к этому делу. Вы говорите – энергию. Энергия основана на любви. А любовь неоткуда взять, приказать нельзя. Вот я полюбила эту девочку, сама не знаю зачем. И она опять взглянула на Левина. И улыбка, и взгляд ее – все говорило ему, что она к нему только обращает свою речь, дорожа его мнением и вместе с тем вперед зная, что они понимают друг друга. - Я совершенно это понимаю, - отвечал Левин. – На школу и вообще на подобные учреждения нельзя положить сердца, и от этого, думаю, что именно эти филантропические учреждения дают всегда так мало результатов. Она помолчала, потом улыбнулась. - Да, да, - подтвердила она. – Я никогда не могла. Je n’ai pas le coeur assez large. ( У меня не настолько широкое сердце.), чтобы полюбить целый приют с гаденькими девочками. Cela ne m’a jamais reussi. ( Это мне никогда не удавалось.) Столько есть женщин, которые из этого делают position soziale. И теперь тем более, сказала она с грустным, доверчивым выражением, обращаясь по внешности к брату, но, очевидно, только к Левину. – И теперь когда мне так нужно какое-нибудь занятие, я не могу. – И, вдруг нахмурившись ( Левин понял, что она нахмурилась на самое себя за то, что говорит про себя), она переменила разговор. – Я знаю про вас, - сказала она Левину, - что вы плохой гражданин, и я вас защищала, как умела. - Как же вы меня защищали? - Смотря по нападениям. Впрочем, не угодно ли чаю? – Она поднялась и взяла в руку переплетенную сафьянную книгу. - Дайте мне, Анна Аркадьевна, - сказал Воркуев, указывая на книгу. – Это очень стоит того. - О нет, это все так неотделано. - Я ему сказал, - обратился Степан Аркадьич к сестре, указывая на Левина. - Напрасно сделал. Мое писанье – это вроде тех корзиночек из резьбы, которые мне продавала, бывало, Лиза Мерцалова из острогов. Она заведовала острогами в этом обществе, - обратилась она к Левину. – И эти несчастные делали чудеса терпения. И Левин увидал еще одну новую черту в этой так необыкновенно понравившейся ему женщине. Кроме ума, грации, красоты, в ней была правдивость. Она от него не хотела скрывать всей тяжести своего положения. Сказав это, она вздохнула, и лицо ее, приняв строгое выражение, как бы окаменело. С таким выражением на лице она была еще красивее, чем прежде; но это выражение было новое; оно было вне того сияющего счастьем и раздающего счастье круга выражений, которые были уловлены художником на портрете. Левин посмотрел еще раз на портрет и на ее фигуру, как она, взяв руку брата, проходила с ним в высокие двери, и почувствовал к ней нежность и жалость, удивившие его самого. Она попросила Левина и Воркуева пройти в гостиную, а сама осталась поговорить о чем-то с братом. «О разводе, о Вронском, о том, что он делает в клубе, обо мне?» - думал Левин. И его так волновал вопрос о том, что она говорит со Степаном Аркадьичем, что он почти не слушал того, что ему рассказывал Воркуев о достоинствах написанного Анной Аркадьевной романа для детей. За чаем продолжался тот же приятный, полный содержания разговор. Но только не было ни одной минуты, чтобы надо было отыскать предмет для разговора, но, напротив, чувствовалось, что не успеваешь сказать того, что хочешь, и охотно удерживаешься, слушая, что говорит другой. И все, что ни говорили, не только она сама, но Воркуев, Степан Аркадьич, - все получило, как казалось Левину, благодаря ее вниманию и замечаниям, особенное значение. Следя за интересным разговором, Левин все время любовался ею – и красотой ее, и умом, образованностью, и вместе простотой и задушевностью. Он слушал, говорил и все время думал о ней, о ее внутренней жизни, стараясь угадать ее чувства. И, прежде так строго осуждавший ее, он теперь, по какому-то странному ходу мыслей, оправдывал ее и вместе жалел и боялся, что Вронский не вполне понимает ее. В одиннадцатом часу, когда Степан Аркадьевич поднялся, чтобы уезжать ( Воркуев еще раньше уехал), Левину показалось, что он только что приехал. Левин с сожалением тоже встал. - Прощайте, - сказала она ему, удерживая его за руку и глядя ему в глаза притягивающим взглядом. – Я очень рада, gue la glase est rompue ( что лед сломан). Она выпустила его руку и прищурилась. - Передайте вашей жене, что я люблю ее, как прежде, и что если она не может мне простить мое положение, то я желаю ей никогда не прощать меня. Чтобы простить, надо пережить, пережить то, что я пережила, а от этого избави ее бог. - Непременно, да, я передам… - краснея, говорил Левин». Трагедия Анны, ее самоубийство, неприятие светом положения женщины, оставившей мужа, сына, раздражительность, придирки по каждому незначительному поводу к любящему ее посильно своей натуре Вронскому подготовлены исподволь автором, как осуществляемые предсказания судьбы, определенной свыше, и пунктирно помечены во многих местах романа, касающихся Анны. Мажорная нота в конце, Анна гибнет в предпоследней части, а последняя отдана целиком семье Левиных, его брату Сергею Ивановичу, исканиям Константином Левиным своего назначения в обыденности, в сложностях, в которые погружен нормальный в своем образовании и воспитании живущий среди себе подобных русский дворянин, работник, человек. « Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветило вдруг, как я мечтал, - так же как и чувство к сыну. Никакого тоже сюрприза не было. А вера – не вера – я не знаю, что это такое, - но чувство это так же незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе. Так же буду сердиться на Ивана-кучера, так же буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, так же будет стена между святая святых моей души и другими, даже жены моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться, - но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее – не только не бессмысленна, какою была прежде, но имеет несомненный смысл любви, который я властен вложить в нее!» Воскресение Сердитый роман, обличающий существующий государственный порядок, чиновничество, церковь, судопроизводство, тюрьмы и прочие места заключения осужденных. Роман был встречен в штыки официальными властями, Лев Толстой отлучен от церкви и предан анафеме, в частности и за эти сцены богослужения в острожной церкви. « Началось богослужение. Богослужение состояло в том, что священник, одевшись в особую, странную и очень неудобную парчовую одежду, вырезывал и раскладывал кусочки хлеба на блюдце и потом клал их в чашу с вином, произнося при этом различные имена и молитвы. Дьячок же между тем не переставая сначала читал, а потом пел попеременкам с хором из арестантов разные славянские, сами по себе мало понятные, а еще менее от быстрого чтения и пения понятные молитвы. Содержание молитв заключалось преимущественно в желании благоденствия государя императора и его семейства. Об этом произносились молитвы много раз, вместе с другими молитвами и отдельно, на коленях. Кроме того, было прочтено дьячком несколько стихов из Деяний апостолов таким странным, напряженным голосом, что ничего нельзя было понять, и священником очень внятно было прочтено место из Евангелия Марка, в котором сказало было, как Христос, воскресши, прежде чем улететь на небо и сесть по правую руку своего отца, явился сначала Марии Магдалине, из которой он изгнал семь бесов, и потом одиннадцати ученикам, и как велел им проповедовать Евангелие всей твари, причем объявил, что тот, кто не поверит, погибнет, кто же поверит, и будет креститься, будет спасен и, кроме того, будет изгонять бесов, будет излечивать людей от болезни наложением на них рук, будет говорить новыми языками, будет брать змей, и если выпьет яд, то не умрет, а останется здоровым. Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него парчовый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нем. Самое же главное действие было то, когда священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому это место богослужения было обставлено особой торжественностью. - «Изрядно о пресвятей, пречистой и преблагословенней богородице», - громко закричал после этого священник из-за перегородки, и торжественно запел, что очень хорошо прославлять родившую Христа без нарушения девства девицу Марию, которая удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы, и большей славы, чем какие-то серафимы. После этого считалось, что превращение совершилось, и священник, сняв салфетку с блюдца, разрезал серединный кусочек начетверо и положил его сначала в вино, а потом в рот. Предполагалось, что он съел кусочек тела бога и выпил глоток его крови. После этого священник одернул занавеску, отворил середние двери и, взяв в руки золоченую чашку, вышел с нею в середине двери и пригласил желающих тоже поесть тела и крови бога, находившихся в чашке. Желающих оказалось несколько детей. Предварительно опросив детей об их именах, священник, осторожно зачерпывая ложечкой из чашки, совал глубоко в рот каждому из детей, поочередно по кусочку хлеба и вине, а дьячок тут же, отирая рты детям, веселым голосом пел песню о том, что дети едят тело бога и пьют его кровь. После этого священник унес чашку за перегородку и, допив там всю находившуюся в чашке кровь и съев все кусочки тела бога, старательно обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом веселом расположении духа, поскрипывая тонкими подошвами опойковых сапог, бодрыми шагами вышел из-за перегородки. Этим закончилось главное христианское богослужение. Но священник, желая утешить несчастных арестантов, прибавил к обычной службе еще особенную. Особенная эта служба состояла в том, что священник, встав перед предполагаемым выкованным золоченным изображением ( с черным лицом и черными руками) того самого бога, которого он ел, освещенный десятком восковых свечей, начал странным и фальшивым голосом не то петь, не то говорить следующие слова: - «Иисусе сладчайший, апостолов славо, Иисусе мой, похвала мучеников, владыко всесильне, Иисусе, спаси мя, Иисусе, спасе мой, Иисусе мой краснейший, к тебе притекающего, спасе Иисусе, поминуй мя, молитвами рождшия тя, всех, Иисусе, святых твоих, пророк же всех, спасе мой Иисусе, и сладости райские сподоби, Иисусе человеколюбче!» На этом он остановился, перевел дух, перекрестился, поклонился в землю, и все сделали то же. Кланялся смотритель, надзиратели, арестанты, и наверху особенно часто забренчали кандалы. - «Ангелов творче и господи сил, - продолжал он, - Иисусе пречудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародителей избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе преблагий, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепость, Иисусе претихий, монахов радосте, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладость, Иисусе премилосердый, постников воздержание, Иисусе пресладостный, преподобных радование, Иисусе пречистый, девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение, Иисусе, сыне божий, помилуй мя», - добрался он, наконец, до остановки, все с большим и большим свистом повторяя слово «Иисусе», придержал рукой рясу на шелковой подкладке и, опустившись на одно колено, поклонился в землю, а хор запел последние слова: «Иисусе, сыне божий, помилуй мя», а арестанты падали и подымались, встряхивая волосами, остававшимися на половине головы, и гремя кандалами, натирающими им худые ноги. Так продолжалось очень долго. Сначала шли похвалы, которые кончались словами: «помилуй мя», а потом шли новые похвалы, кончающиеся словом: «аллилуйя». И арестанты крестились, кланялись, падали на землю. Сначала арестанты кланялись на каждом перерыве, но потом они уже стали кланяться через раз, а то и через два, и все были очень рады, когда все похвалы окончились и священник, облегченно вздохнув, закрыл книжечку и ушел за перегородку. Оставалось одно последнее действие, состоявшее в том, что священник взял с большого стола лежавший на нем золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах и вышел с ним на середину церкви. Сначала подошел к священнику и приложился к кресту смотритель, потом помощник, потом надзиратели, потом, напирая друг на друга и шепотом ругаясь, стали подходить арестанты. Священник, разговаривая с смотрителем, совал крест и свою руку в рот, а иногда в нос подходившим к нему арестантам, арестанты же старались поцеловать и крест и руку священника. Так кончилось христианское богослужение, совершаемое для утешения и назидания заблудших братьев. И никому из присутствующих, начиная с священника и смотрителя и кончая Масловой, не приходило в голову, что тот самый Иисус, имя которого со свистом такое бесчисленное число раз повторял священник, всякими странными словами восхваляя его, запретил именно все то, что делалось здесь; запретил не только такое бессмысленное многоглаголание, и кощунственное волхвование священников-учителей над хлебом и вином, но самым определенным образом запретил одним людям называть учителями других людей, запретил молитвы в храмах, а велел молиться каждому в уединении, запретил самые храмы, сказав, что пришел разрушить их и что молиться надо не в храмах, а в духе и истине; главное же, запретил не только судить людей и держать их в заточении, мучать, позорить, казнить, как это делалось здесь, а запретил всякое насилие над людьми, сказав, что он пришел выпустить плененных на свободу. Никому из присутствующих не приходило в голову того, что все, что совершалось здесь, было величайшим кощунством и насмешкой над тем самым Христом, именем которого все это делалось. Никому в голову не приходило того, что золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах, который вынес священник и давал целовать людям, было не что иное, как изображение той виселицы, на которой был казнен Христос именно за то, что он запретил то самое, что теперь его именем совершалось здесь. Никому в голову не приходило, что те священники, которые воображают себе, что в виде хлеба и вина они едят тело и пьют кровь Христа, действительно едят тело и пьют кровь его, но не в кусочках и в вине, а тем, что не только соблазняют тех «малых сих», с которыми Христос отожествлял себя, но и лишают их величайшего блага и подвергают жесточайшим мучениям, скрывая от людей то возвещение блага, которое он принес им. Священник с спокойной совестью делал все то, что он делал, потому что с детства был воспитан на том, что это единственная истинная вера, в которую верили все прежде жившие святые люди и теперь верит духовное и светское начальство. Он верил не в то, что из хлеба сделалось тело, что полезно для души произносить много слов или что съел действительно кусочек бога, - в это нельзя верить – а верил в то, что надо верить в эту веру. Главное же, утверждало его в этой вере то, что за исполнение треб этой веры он восемнадцать лет уже получал доходы, на которые содержал свою семью, сына в гимназии, дочь в духовном училище. Так же верил и дьячок и еще тверже, чем священник, потому что совсем забыл сущность догматов этой веры, а знал только, что за теплоту, за поминание, за часы, за молебен простой и за молебен с акафистом, за все есть определенная цена, которую настоящие христиане охотно платят, и потому выкрикивал свои «помилось, помилось», и пел, и читал, что положено, с такой же спокойной уверенностью в необходимости этого, с какой люди продают дрова, картофель, муку. Начальник же тюрьмы и надзиратели, хотя никогда и не знали и не вникали в то, в чем состоят догматы этой веры и что означает все то, что совершалось в церкви, - верили, что непременно надо верить в эту веру, потому что высшее начальство и сам царь верят в нее. Кроме того, хотя и смутно (они никак бы не могли объяснить, как это делается), они чувствовали, что эта вера оправдывала их жестокую службу. Если бы не было этой веры, им не только труднее, но, пожалуй, и невозможно бы было все свои силы употреблять на то, чтобы мучать людей, как они это теперь делали с совершенно спокойной совестью. Смотритель был такой доброй души человек, что он никак не мог бы жить так, если бы не находил поддержки в этой вере. И потому он стоял неподвижно, прямо, усердно кланялся и крестился, старался умилиться, когда пели «Иже херувимы», а когда стали причащать детей, вышел вперед и собственноручно поднял мальчика, которого причащали и подержал его. Большинство же арестантов, за исключением немногих из них, ясно видевших весь обман, который производился над людьми этой веры, и в душе смеявшихся над нею, большинство верило, что в этих золоченых иконах, свечах, чашах, ризах, крестах, повторениях непонятных слов «Иисусе сладчайший» и «помилось» заключается таинственная сила, посредством которой можно приобресть большие удобства в этой и в будущей жизни. Хотя большинство из них, проделав несколько опытов приобретения удобств в этой жизни посредством молитв, молебнов, свечей, и не получило их, молитвы их остались неисполненными, - каждый был твердо уверен, что эта неудача случайная и что это учреждение, одобряемое учеными людьми и митрополитами, есть все-таки учреждение очень важное и которое необходимо если не для этой, то для будущей жизни». В финале воскресению, то есть нравственному перерождению, оказались подвержены невинно осужденная якобы за отравление купца проститутка Катюша Маслова и князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, в молодости соблазнивший Катю Маслову, воспитанницу его помещиц – тетушек, с чего и началось падение девушки вниз. Севастополь в декабре месяце Один из очерков начинающего писателя, участника Крымской войны и обороны Севастополя, что представлял собой фронтовой военный порт, испытывавший осаду, обстрелы, бомбардировку противника. Дух защитника, русского солдата, матроса неистребим и столь будничен, что диву даешься, как простые люди иногда на грани собственной смерти спокойно и доблестно относятся к своей возвышенной исторической миссии. Два гусара Отец, Федор Иванович Турбин, и его сын, граф Турбин, - оба гусары, но абсолютно не похожи один на другого. Их разделяют более двадцати лет, даны они почти в одинаковом возрасте в повести. И у того и у другого общие знакомые – Анна Федоровна, ее брат, кавалерист Завальневский, Ильин, уланский корнет в молодости, и по прошествии лет командир уланской бригады. Не притягиваются отец и сын, гусары, друг к другу и по близкому родству, ближе не бывает родственников. Так очевидно, замечает Толстой, стремясь воплотить в своей литературе жизненную правду характеров различных эпох, поколений. « Граф Федор Турбин уже был давно убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арапником на улице; сын, две капли воды похожий на него , был уже двадцатитрехлетний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью натуры любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно: двадцати трех лет был уже поручиком… При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон». Утро помещика Дмитрий Николаевич Нехлюдов, очень молодой помещик, осуществляет свою мечту посвятить себя жизни в деревне, быть полезным для своих крестьян, делать добро, трудом и терпением исправлять зло в бедственном и жалком положении своих мужиков. Он распределяет по часам, дням, месяцам распорядок своей деятельности, обходит хозяйства бедных крестьян и с согласия мира решает, кому надо помощь оказывать. Беспросветная нужда в разваливающейся избе Ивана Чуриса. Плутовское поведение Юхванки Мудреного, изводившего с женой старуху-мать. Пухлая фигура ленивого Давыдки Белого, свалившего свое хозяйство на мать Аринку, Аришку-Бурлака, как ее прозвали в деревне. Крепкая семья богатого крестьянина Дутлова, сыновья которого занимаются извозом, и старик-отец, главный в доме, уклоняется от предложения барина вложить деньги в то, что сулит им хлебопашество в родной деревне. Впечатления воскресного утра от посещения крестьянских дворов, встреч-бесед со своими крепостными разного типа .Романтические представления о красивом сильном Илюшке Дутлове, младшим среди братьев, как он правит тройкой потных лошадей, как ему славно и весело лететь по дорогам все дальше и дальше – и завистливая мысль юного помещика – зачем он не Илюшка. Три смерти От чахотки – барыни в кругу рыдающей родни, хотя, по ее словам, никому до нее дела нет. Мужика-ямщика Федора, сильно простудившегося, в станционном доме, из дальних, ни родных, ни близких рядом с умирающим. И молодого дерева с сочными листьями, срубленного ямщиком Серегой для креста на могилу Федора. Холстомер История лошади Удивительная соразмерность лошадиной породы с приписанными сочинителем чувствами и мыслями замечательного пегого мерина, прозванного Холстомером за длинный шаг. Смерть лошади и ее любимого хозяина, обрюзгшего князя Серпуховского, отдает неприятным диссонансом, но такова окончательная суровая редакция повести. Отец Сергий Житие одного из монахов–затворников, прослывшего святым, князя Степана Касатского. Путь блестящего офицера, подающего большие надежды на военной службе при дворе Николая I, до нищего-странника, сосланного на поселение в Сибирь как беспаспортного бродягу. История, вместившая в себя и неожиданный разрыв с невестой, фрейлиной императрицы, и уход в монастырь, и заточение в скит, и славу святого – исцелителя, и сомнения в вере, и богоискательства, и необоримое искушение, и странствие с сумой по неизмеримым дорогам России с проявлением бога в себе. Хаджи – Мурат Историческая повесть любопытна и эпизодами долгой Кавказской войны XIX столетия и зарисовкой Николая I, на чье правление в основном и приходится ведение этой тягучей войны. « Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней, - несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что, для того чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-ого года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-ого года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собой, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал». За что? Постыдное для России в эпоху царствования Николая I подавление польского восстания и мрачные последствия для тысячи поляков, пытавшихся освободить свою родину. «В общем, все-таки в жизни Мигурских было больше счастья, чем несчастья. Так прожили они пять лет. Но вдруг обрушилось на них неожиданное, страшное горе. Заболела сначала девочка, через два дня заболел мальчик: горел три дня и, без помощи врачей (никого нельзя было найти), на четвертый день умер. Через два дня после него умерла и девочка. Альбина не утопилась в Урале только потому, что не могла без ужаса представить себе положение мужа при известии об ее самоубийстве. Но жить ей было трудно. Всегда прежде деятельная и заботливая, она, теперь предоставив все свои заботы Лудвиге, сидела часами без дела, молча глядя на то, что попадалось под глаза, а то вдруг вскакивала и убегала в свою каморку и там, не отвечая на утешения мужа и Лудвиги, тихо плакала, только качая головой, прося уйти и оставить ее одну. Летом она уходила на могилу детей и там сидела, раздирая себе сердце воспоминаниями о том, что было и что могло бы быть. Особенно ее мучила мысль о том, что дети могли бы остаться живы, если бы они жили в городе, где могла бы быть подана медицинская помощь. «За что? За что? – думала она.- И Юзё и я – мы ничего ни от кого не хотим, кроме того, чтоб ему жить так, как он родился и жили его деды и прадеды, а мне только – чтобы жить с ним, любить его, любить моих крошек, воспитывать их. И вдруг его мучают, ссылают, а у меня отнимают то, что мне дороже света. Зачем? За что?» - задавала она этот вопрос людям и богу. И не могла представить себе возможности какого-нибудь ответа». Россия Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883) Записки охотника Хорь и Калиныч Первый рассказ цикла о двух крепостных крестьянах Жиздринского уезда серединной России, у которых останавливался заезжий охотник, знакомый их калужского барина. « Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не было вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек… Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же – к людям и обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил на слово; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь». Ермолай и мельничиха Ермолай – охотник, «принадлежал одному из моих соседей…Ему было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревей и куропаток, а в прочем позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека ни на какую работу не годного – «лядащего», как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок – и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго – и всетаки, через несколько времени, возвращался домой одетый, с ружьем и с собакой». Подруга Ермолая, мельничиха Арина была когда-то дворовой, горничной в доме г. Зверкова, который не позволил ей выйти замуж, обвинив ее в неблагодарности к господам, давших ей все благости. Жених ее поступил в солдаты, а ее откупил, взяв хворую в жены, был он богатый мельник. Малиновая вода Так назывался ключ у речки Исты, где в августовский жаркий день охотник нашел Степушку, до которого никому не было дела, он не получал никаких пособий как дворовой разорившегося помещика, «не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. Рядом с ним удил рыбу вольноотпущенный человек графа Петра Ильича, Михайло Савельев, по прозвищу Туман, разговорившись с которым, он услышал о прошедшем своего вельможественного графа екатерининских времен. Вскоре к ним подошел Влас, мужик лет пятидесяти, у которого умер сын, не оставил ничего отцу, и он ходил в Москву к своему барину и просил его сбавить оброк или перевести на барщину, но барин его прогнал. Уездный лекарь Рассказ от первого лица, как в уездного лекаря, лечившего занемогшего от лихорадки охотника, влюбилась умирающая красивая девушка двадцати пяти лет из дальнего скудного имения. Она не знала любви и умоляла полюбить ее, не то умрет, не узнав любви. И обвенчаться пообещал ей доктор, как она выздоровеет, чему не суждено было сбыться. Мой сосед Радилов Обед в стареньком сером домике с тесовой крышей и кривым крыльцом соседа, помещика Радилова и выражение лица его золовки Ольги, сестры умершей от родов жены Радилова, дышавшей ревностью при рассказе помещика о своем горе. Внезапное исчезновение с золовкой Радилова, бросившего и дом и старушку-мать. Однодворец Овсяников «Человек полный, высокий, лет семидесяти, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерной речью, медлительной походкой… с виду он походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые. Овсяников своей важностью и неподвижностью, смышленостью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр допетровских времен…Да, это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья, однодворцы, только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика, хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого, телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсяников был исключением из общего правила, хотя и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном опрятном домике, прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, «не забывался», не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места, но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно кланялся ему пониже…К Овсяникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, примирить их и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета». Разговоры с охотником, автором, о соседях-помещиках, о размежевании, о своих приятелях, некогда однодворцах, мелких помещиках. Племянник Дмитрий, малый лет двадцати восьми, грамотный, бросивший службу, потому как ходу не было. Теперь он «просьбы крестьян сочиняет, доклады пишет, сотских научает, землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается, с бессрочными, с мещанами городскими да с дворниками на постоялых дворах знается. Долго ли тут до беды?» Круг близких знакомых Овсяникова. Франц Иванович Лежёнь, орловский помещик, бывший барабанщик в армии Наполеона, которым заканчивается рассказ. Льгов Охота завела автора и его старого приятеля Ермолая в Льгов. « Льгов – большое степное село с весьма древней каменной одноглазой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, по-орловскому - майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород: кряковых, полукряковых, шилохвастых, чирков, нырков и др. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: «фу-у!» Со здешним охотников Владимиром, вольноотпущенным из дворовых, и босоногим, оборванным и взъерошенным Сучком, лет шестидесяти, они настреляли уйму уток и в пылу охоты забыли про свою дырявую лодку, она перевернулась на середине пруда. Рыболов Сучок - кем он только не был за свою жизнь – и актером, и кучером, и поваром, и кофишенком, и сапожником – не жаловался. « И слава богу, что в рыболовы произвели, А то вот другого, такого же, как я, старика – Андрея Пупыря – в бумажную фабрику, в чернильную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть… А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный брат племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся. - Есть у тебя семейство? Был женат? - Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница – царство ей небесное! – никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! чего им надо?» - Чем же ты живешь теперь? Жалование получаешь? - Какое, батюшка, жалование!.. Харчи выдаются – и то слава тебе, господи! Много доволен. Продли бог века нашей госпоже!» Бежин луг Кульминация, макушка года, лета, - июль в средней полосе России и прямо отвечающая естеству пейзажная проза, реальное абсолютное совершенство в описании природы, захватывающее все окрест увлекающее глаз, чувства художника слова, открывающие чарующие панорамы лесисто – степной необычности истинно русской стороны. Свежесть восприятия крестьянских мальчиковподростков прелестей короткой летней ночи. « Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славился в наших околотках под названием Бежина луга….Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченною мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним. Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это были просто крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши; впереди всех, задрав хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве. Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые лозняки и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновенье, в свою очередь, добегали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабея и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах – запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума…Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной… Одни огоньки слабо потрескивали». Чудеса и мистика в простодушных разговорах и историях мальчиков у костра, подслушанных охотником, притворившимся спящим, оттеняют дивные картины природы, насквозь пронизывающие рассказ. Касьян с Красивой Мечи В поисках тележной оси вместо сломанной по дороге охотник зашел на Юдиные выселки. Одинокий мужичок Касьян, которого он нашел в одной избе из шести, составлявших поселение, был «лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя было передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд». Характеризует он себя в разговоре с охотником следующим образом: « - А что, старик, скажи правду, тебе, чай, хочется на родине-то побывать? - Да. Посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, непосед. Да и что! Много, что ли, дома-то высидишь? А вот, как пойдешь, как пойдешь, - подхватил он, возвысив голос, -и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут смотришь, трава какая растет ну, заметишь – сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься – заметишь тоже. Птицы поют небесные… А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божья-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости…И вот уж я бы туда пошел.. Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромён ходил, и в Синбирск – славный город, и в самую Москву – золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых хрестьян, и в городах побывал честных. Ну, вот пошел бы я туда… и вот… и уже и.. И не один я, грешный…много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут…да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, - вот оно что… Эти последние слова Касьян произнес скороговоркой, почти невнятно; потом он еще что-то сказал, чего я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название «юродивца», данное ему Ерофеем. Он потупился, откашлянулся и как будто пришел в себя. - Эко солнышко! – промолвил он вполголоса, - эка благодать, господи! Эка теплынь в лесу!» Бурмистр Слащавый помещик Аркадий Павлыч Пеночкин, неоправданно жестокий с дворовыми и крепостными, и управляющий принадлежавшей помещику Шипиловкой, бурмистр, «государственный человек, умная голова», мироед Софрон Яковлич. «Собака, а не человек; такой собаки до самого Курска не найдешь, - говорит про него знакомый охотнику мужик, Анпадист. – Он владеет на самом деле Шипиловкой. Крестьяне ему кругом должны; работают на него словно батраки. Земли у них нанимает двести десятин. Да не одной землей промышляет; и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем. Умен, больно умен, и богат же, бестия! Да вот чем плох – дерется. Зверь – не человек; сказано: собака, пес. Как есть пес. - Да что ж крестьяне на него не жалуются? - Экста! Барину-то что за нужда! Недоимок не бывает, так ему что? Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел. - Ну, - промолвил Анпадист, - заест он его теперь; заест человека совсем. Староста теперь его совсем забьет. Экой бесталанный, подумаешь, бедняга! И за что терпит… На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то, невтерпеж, знать, пришлось…Велико дело! Вот он его, Антипа-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пес, собака, прости, господи, мое прегрешенье, знает, на кого налечь. Стариков-то, что побогаче да посемейнее, не трогает, лысый черт, а тут вот и расходился! Ведь он Антиповых-то сыновей без очереди в некруты отдал, мошенник беспардонный, пес, прости, господи, мое прегрешенье!» Контора Абсурд, самодурство барыни Елены Николаевны Лосниковой – поразившая охотника контора при помещичьем имении, должная документировать жизнь крепостных, разбирать всевозможные происшествия и доводить до сведения барыни письменными донесениями, приказами, производимыми целым штатом конторщиков, писарей, кассиров, словом, служащих на манер городского чиновнического департамента. Бирюк « Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой запашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо, из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною. Я поблагодарил его и спросил его имя. - Меня зовут Фомой, - отвечал он, - а по прозвищу Бирюк. - А, ты Бирюк? Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись, как огня. По их словам, не было еще на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, - силен, дескать, и ловок, как бес.. И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет - не дается». Поимка Бирюком мужичка - вора, свалившего дерево в лесу. Уговаривает бедняга лесника, молит отпустить, наконец, с отчаяния от непреклонности Бирюка клянет его, угрожает, и сжалившийся лесник – по крайней нужде мужичок пошел на разбой – выталкивает его из избы. Два помещика Только оба помещики, оба холостяки, приблизительно одинакового возраста, близкого к старости. Вячеслав Илларионович Хвалынский, генерал-майор, презирает одинаковых по положению и состоянию себе людей внешне, что замечается со стороны. Мардарий Аполлоныч Стегунов, деспот с мягкими порой потешными манерами, наказывает крепостных и солидного возраста и достоинства розгами за малейшую провинность. Лебедянь На большую ярмарку в Лебедянь отправился охотник купить себе езжалых лошадей в кибитку. Как его там провели. « На ярмарочной площади бесконечными рядами тянулись телеги, за телегами лошади всех возможных родов: рысистые, заводские, битюки, возовые, ямские и простые крестьянские. Иные, сытые и гладкие, подобранные по мастям, покрытые разноцветными попонами, коротко привязанные к высоким кряквам, боязливо косились назад, на слишком знакомые им кнуты своих владельцевбарышников; помещичьи кони, высланные степными дворянами за сто, за двести верст, под надзором какого-нибудь дряхлого кучера и двух или трех крепкоголовых конюхов, махали своими длинными шеями, топали ногами, грызли со скуки надолбы; саврасые вятки плотно прижимались друг к дружке; в величавой неподвижности, словно львы, стояли широкозадые рысаки с волнистыми хвостами и косматыми лапами, серые в яблоках, вороные, гнедые». Татьяна Борисовна и ее племянник «Татьяна Борисовна – женщина лет пятидесяти, с большими серыми глазами навыкате, несколько тупым носом, румяными щеками и двойным подбородком. Лицо ее дышит приветом и лаской. Она когда-то была замужем, но скоро овдовела. Татьяна Борисовна весьма замечательная женщина. Живет она безвыездно в своем маленьком поместье, с соседями мало знается, принимает и любит одних молодых людей. Родилась она от весьма бедных помещиков и не получила никакого воспитания, то есть не говорит по-французски; в Москве даже никогда не бывала – и, несмотря на все эти недостатки, так просто и хорошо себя держит, так свободно чувствует и мыслит, так мало заражена обыкновенными недугами мелкопоместной барыни, что поистине невозможно ей не удивляться»… Ее племянник, Андрюша, взятый семь лет назад в столицу на обучение живописи хорошим знакомым Татьяны Борисовны, после смерти своего покровителя, «превратился в дюжего Андрея Иванова Беловзорова, и приехал к тетушке. Не одна наружность в нем изменилась. Щепетильную застенчивость, осторожность и опрятность прежних лет заменило небрежное молодечество, неряшество нестерпимое; он на ходу качался вправо и влево, бросался в кресла, обрушался на стол, разваливался, зевал во все горло; с теткой, с людьми обращался дерзко. Я, дескать, художник, вольный казак! Знай наших! Бывало, по целым дням кисти в руки не берет; найдет на него так называемое вдохновение – ломается, словно с похмелья, тяжело, неловко, шумно; грубой краской разгорятся щеки, глаза посоловеют; пустится толковать о своем таланте, о своих успехах, о том, как он развивается, идет вперед.. На деле же оказалось, что способностей его чуть-чуть хватало на сносные портретики… С того времени прошел год. Беловзоров до сих пор живет у тетушки и все собирается в Петербург. Он в деревне стал поперек себя толще. Тетка – кто бы мог это подумать – в нем души не чает, а окрестные девицы в него влюбляются… Много прежних знакомых перестало ездить к Татьяне Борисовне». Смерть «Удивительно умирает русский мужик! Состояние его перед кончиной нельзя назвать не равнодушием, не тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто». Смерть бедного крестьянина Максима от поваленного на него дерева. Угорелого мужика, ожидающего на лежанке в избе своего последнего часа. Мельника, надорвавшегося поднятием жернова, не в больнице, а дома. Недоучившегося студента Авенира Сороумова, прекрасного, благороднейшего человека, от скоротечной чахотки, восторженно впитывающего услышанные от других людей знания. « Детская любознательность умирающего, бесприютного и заброшенного бедняка, признаюсь, до слез меня трогала. Должно заметить, что Авенир, в противность всем чахоточным, нисколько не обманывал себя насчет своей болезни, … и что ж? – он не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намекнул на свое положение… Старушка помещица при мне умирала. Священник стал читать над ней отходную, но вдруг заметил, что больная действительно отходит, и поскорее подал ей крест. Помещица с неудовольствием отдвинулась. « Куда спешишь, батюшка, - проговорила она костенеющим языком, - успеешь… Она приложилась, засунула было руку под подушку и испустила последний вздох. По подушкой лежал целковый: она хотела заплатить священнику за свою собственную отходную… Да, удивительно умирают русские люди!» Певцы Это Яшка-Турок и рядчик. « О Якове- Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный турком, потому что действительно происходил от плененной турчанки, был по душе – художник во всех смыслах этого слова, а по званию – черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином». Их постоянные слушатели, оценщики – целовальник Николай Иваныч, его жена, Дикий Барин, Обалдуй, Моргач, мужичонок в узкой поношенной свите. Им уделяется не меньше внимания в рассказе. «Голос у рядчика был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и виляя этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской и заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование…Он пел; все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи». «Яшка- Турок глубоко вздохнул и запел…Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием, за вторым – третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. « Не одна во поле дороженька пролегала», - пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно - беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песня росла, разливалась…Он пел, совершенно позабыв о своем сопернике, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед ними, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы: глухие сдержанные рыданья внезапно поразили меня…Я оглянулся – жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего. Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; а по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился». Иван Петрович Каратаев «На вид ему было лет под тридцать. Оспа оставила неизгладимые следы на его лице, сухом и желтоватом, с неприятным медным отблеском; иссиня-черные длинные волосы лежали сзади кольцами на воротнике, спереди закручивались в ухарские виски; небольшие опухшие глазки глядели – да только; на верхней губе торчало несколько волосиков. Одет он был забубенным помещиком, посетителей конных ярмарок, в пестрый довольно засаленный архалук, полинявший шелковый галстук лилового цвета, жилет с медными пуговицами и серые панталоны с огромными раструбами, из-под которых едва выглядывали кончики нечищеных сапог. От него сильно несло табаком и водкой; на красных и толстых его пальцах, почти закрытых рукавами архалука, виднелись серебряные и тульские кольца. Такие фигуры встречаются на Руси не дюжинами, а сотнями; знакомство с ними, надобно правду сказать, не доставляет никакого удовольствия; но, несмотря на предубеждение, с которым я глядел на приезжего, я не мог не заметить беспечно доброго и страстного выражения его лица». Крепостная Матрена приглянулась ему, и увез он девушку от ее помещицы, так как не захотела та отпускать ее от себя. Кончилось тем, что Матрена сама повинилась перед госпожой и вернулась, а Петр Петрович Каратаев, продав имение, уехал служить в Москву. Свидание С начала рассказа – фон. Березовая роща в половине сентября. « С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновенье, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетание поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком; она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбнулось: тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шелка, лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались червонным золотом, а красивые стебли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных в свой осенний цвет, подобный цвету переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами; то вдруг опять все кругом слегка синело; яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеску, белые, как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца; и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела; лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли; лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок синицы. Прежде чем я остановился в этом березовом леску, я с своей собакой прошел через высокую осиновую рощу». Охотник невольно подглядел свидание молодой крестьянки с долго ожидаемым ее парнем, по всем признакам избалованным камердинером молодого богатого барина. Горькая последняя встреча перед разлукой, по всему видно, окончательной. Слезы Акулины и пресыщенное презрение ее возлюбленного. Гамлет Щигровского уезда Мучительное комплексование небогатого дворянина перед своим соседом, охотником, ночью в гостевой комнате после позднего званого обеда в имении богатого помещика « - Почему я с вами, вовсе мне незнакомым человеком, так неожиданно разговорился – господь, господь один ведает! ( Он вздохнул.) Не вследствие же родства наших душ! И вы, и я, мы оба порядочные люди, то есть эгоисты: ни вам до меня, ни мне до вас нет ни малейшего дела; не так ли? Но нам обоим не спится… Отчего ж не поболтать? Я же в ударе, а это со мной редко случается. Я, видите ли, робок, и робок не в ту силу, что я провинциал, нечиновный, бедняк, а в ту силу, что я страшно самолюбивый человек. Но иногда, под влиянием благодатных обстоятельств, случайностей, которых я, впрочем, ни определить, ни предвидеть не в состоянии, робость моя исчезает совершенно, как вот теперь, например. Теперь поставьте меня лицом к лицу хоть с самим Далай-Ламой, - я и у него табачку попрошу понюхать. Но, может быть, вам спать хочется? - Напротив, - поспешно возразил я, - мне очень приятно с вами разговаривать. - То есть я вас потешаю, хотите вы сказать… Тем лучше… Итак-с, доложу вам, меня здесь величают оригиналом, то есть величают те, которым случайным образом, между прочей дребеденью, придет и мое имя на язык. « Моей судьбой очень никто не озабочен». Они думают уязвить меня… О, боже мой! если б они знали… да я именно и гибну оттого, что во мне решительно нет ничего оригинального, ничего, кроме таких выходок, как, например, мой теперешний разговор с вами; но ведь эти выходки гроша медного не стоят, Это самый дешевый и самый низменный род оригинальности». Откровенничая, он раскрывает всю свою жизнь перед незнакомым человеком, так и не назвав своего настоящего имени, отрекомендовавшись напоследок, как Гамлет Щигровского уезда. Чертопханов и Недопюскин Небогатые мелкие помещики по нраву противоположные друг другу. Чертопханов из старинного дворянского разорившегося рода, резкий, вспыльчивый, задиристый, непомерной гордости. Его неотлучный друг, Тихон Иваныч Недопюскин - из однодворцев, получивший сельцо с 28 душами от своего благодетеля – купца, у которого состоял потешником-шутом, робкий, мягкий, боязливый, слабый, не мыслимый в своем бедняцком униженном положении без заступника, что приобрел в лице Чертопханова. Конец Чертопханова Бедствия, посыпавшиеся на дворянина Пантелея Еремеича Чертопханова : ушла от него прочь любовница, цыганка Маша, скончался его закадычный друг Тихон Иваныч Недопюскин, МалекАделя, чудо-коня, презентованного ему Мошелем Лайбой, за которого он однажды заступился и спас от дикой расправы, украли. Год искал Чертопханов любимого коня, привел той же масти лошадь, убеждал себя внутренне, что это тот самый, его МалекАдель, но когда разуверился – подлог – решил избавиться от подложного, отвел в лес, отпустил на все четыре стороны, а потом, как конь вернулся к хозяину, застрелил. Лишившись всех привязанностей в жизни, горько запил и умер на своем диване. Его единственный человек, казачонок Порфишка, да жид Мошель Лайба провожали гроб бедняги. Живые мощи Заехал как-то охотник в принадлежащий его матери хуторок, о котором и не подозревал, и там, на пасеке, в сарайчике неожиданно наткнулся на живое человеческое существо, лежащее под одеялом на подмостках. « Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая – ни дать ни взять икона старинного письма: нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать – только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечные руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое, - но страшное, необычайное. И чем страшнее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу – силится… силится и не может расплыться улыбка» Оказалась мумия - это Лукерья. «Первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которой ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я – шестнадцатилетний мальчик!... Что же за беда такая с ней случилась?... Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, лет шесть или семь. Меня тогда еще помолвили за Василия Полякова – помните, такой из себя статный был, кудрявый, еще буфетчиком у матушки вашей служил? Очень мы с Василием слюбились; из головы он у меня не выходил; а дело было весною. Вот раз ночью.. уж и до зари недалеко… а мне не спится: соловей в саду таково удивительно поет сладко! Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается… и вдруг мне почудилось: зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так: «Луша!» Я, глядь в сторону, да, знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз – да о землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому – скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри – в утробе – порвалось… С того самого случая стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже – и полно ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала и в больницу посылала. Однако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая…» Стучит! Разбойничий рассказ. Как тарантас с охотником, ехавшим в Тулу за дробью, нагнала «большущая, развалистая телега, запряженная тройкой поджарых лошадей». И сидевшие там шесть человек были пьяны – свистали, горланили, ругались. Вперед себя тарантас нагнавшие не пускали. Перед мостом великан в полушубке, правивший телегой, подошел к охотнику и его кучеру, бывшими в тарантасе, и попросил тихим ровным голосом чуточку деньжат на опохмелку после свадебки, где они «уложили своего женишка». «Стучит» - это слышимый охотником и его кучером шум погони со звоном бубенцов, стуком кованых колес по дороге, свистом, криками и песнями удалых молодцов. Лес и степь Наслаждение охотника от природы весной до зари, июльским утром, поздней осенью, в летние туманные дни - в лесу, в степи. « А каково в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным, острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверкания мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинах, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и ревом, из оврага в овраг клубятся потоки». Накануне Печальный роман об осуществленной любви русской девушкидворянки Елены Стаховой и болгарина-разночинца, революционера Дмитрия Инсарова. «Ей недавно минул двадцатый год. Росту она была высокого, лицо имело бледное и смуглое, большие серые глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатый рот и довольно острый подбородок. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во все ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, было что-то нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом, что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие: она ходила быстро, почти стремительно, немного наклонившись вперед. Она росла очень странно; сперва обожала отца, потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как с больной бабушкой; а отец, который гордился ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она какая-то восторженная республиканка, бог знает в кого! Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала « во веки веков»; требования ее ни перед кем не отступали, самые молитвы не раз мешались с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, - а суд она произносила скоро, часто слишком скоро – и уже он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу. Гувернантка приохотила ее к чтению, но чтение одно ее не удовлетворяло: она с детства жаждала деятельности, деятельного добра; нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, расспрашивала об них всех своих знакомых; милостыню она подавала заботливо, с невольной важностью, почти с волнением. Все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту; она сама кормила их, не гнушалась ими».. «Отец его был довольно зажиточный купец, родом из Тырнова. Тырнов теперь небольшой городок, а в старину это была столица Болгарии, когда еще Болгария была независимым королевством. Торговал он в Софии, имел сношения с Россией; сестра его, родная тетка Инсарова, до сих пор живет в Киеве, замужем за старшим учителем истории в тамошней гимназии. В тысяча восемьсот тридцать пятом году, стало быть восемнадцать лет тому назад, совершилось ужасное злодеяние: мать Инсарова вдруг пропала без вести; через неделю ее нашли зарезанною…Ходили слухи, что ее похитил и убил турецкие ага; ее муж, отец Инсарова, дознался правды, хотел отмстить, но он только ранил кинжалом агу…Его расстреляли. Инсарову в то время шел восьмой год. Он остался на руках у соседей. Сестра узнала об участии братниного семейства и пожелала иметь племянника у себя. Его доставили в Одессу, а оттуда в Киев. В Киеве он прожил целых двенадцать лет. Когда ему минуло двадцать лет, он пожелал вернуться на родину. Был в Софии, в Тырнове, всю Болгарию исходил вдоль и поперек, провел в ней два года. Турецкое правительство преследовало его, и он, вероятно, в эти два года подвергался очень большим опасностям; но об этом он говорить не любит. Он тоже в своем роде молчальник. Отвечает общими фразами. Он ужасно упрям. В пятидесятом году он опять приехал в Россию, в Москву, с намерением образоваться вполне, сблизиться с русскими». « Елена!» - раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров бледный, как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, смешанный с каким-то тоскливым умилением, выражался на его внезапно изменившимся лице. Елена! – произнес он, - я умираю. Она с криком упала на колени и прижалась к его груди. - Все кончено, - повторил Инсаров, - я умираю.. Прощай, моя бедная! Прощай, моя родина! И он навзничь опрокинулся на диван. Елена выбежала из комнаты, стала звать на помощь, камердинер бросился за доктором. Елена припала к мужу… Доктор приблизился к .Инсарову. - Синьора, - сказал он спустя несколько мгновений, - господин иностранец скончался». Отцы и дети Сошествие разноречивых людей, представляющих поколения «отцов и детей». Споры, конфликты. Поскольку роман – согласная , взаимно отвечающая любовь, и любовь односторонняя, без надежды на ответный шаг. Ортодоксальная натура главного героя – Базарова. Его злое упрямство, одиночество приводят к ранней смерти. Каково его родителям – отцу и матери, души не чаявшим в единственном любимом сыне. «Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравах. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили, он еще боролся. « Не хочу бредить, - шептал он, сжимая кулаки, что за вздор!» И тут же говорил: «Ну, из восьми вычесть десять, сколько выйдет?» Василий Иванович ходил как помешанный, предлагал то одно средство, то другое, и только и делал, что покрывал сыну ноги. « Обернуть в холодные простыни.. рвотное… горчишники к желудку… кровопускание», - говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолял остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то «укрепляющего - согревающего», то есть водки. Арина Власьевна сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться; несколько дней назад туалетное зеркальце выскользнуло у ней из рук и разбилось, а это она всегда считала дурным предзнаменованием…Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер… Когда же наконец он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. « Я говорил, что я возропщу, - хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то, - и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так, - рассказывала потом в людской Анфисушка, - рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень…» Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдаленных уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружающие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашенными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ощипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам…Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчем животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре. Железная ограда ее окружает; две молодые елки посажены по обоим ее концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалекой деревушки, часто приходят два уже дряхлых старичка – муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; поменяются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку елки поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нем… Неужели их молитвы и слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрывалось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной…» Англия Оскар Уайльд (1854 – 1900) Стихотворения Impression du matin ( Утренние впечатления ) Зримость городского пейзажа туманного Альбиона, откуда начинается утро над Европой, как ни с Англии, с нулевого меридиана. Пейзаж был сине-золотой, Но утром Темза серой стала; Две баржи с сеном от причала Отплыли; желтый и густой Туман с мостов стекал, как с гор, И вдоль фасадов расползался; Огромным пузырем казался Повисший в воздухе собор. Потом, стряхнув ночную тень, Вдруг стало утро шевелиться; Жизнь пробуждалась; даже птица Запела на одной из крыш. А женщина, бледна, тускла, Медлительными шла шагами Под газовыми фонарями И в сердце боль свою несла. Баллада Редингской тюрьмы Впечатления узников от убийцы – сокамерника, осужденного на казнь И шесть недель гвардеец ждал, Одет в мышиный цвет, Легко ступал он, словно шел На партию в крикет, Но боль была в его глазах, Какой не видел свет. Но боль, какой не видел свет, Плыла, как мгла, из глаз, Уставленных в клочок небес, Оставленный для нас, То розовый и радостный, То серый без прикрас… Мы в час прогулки на него Смотрели, смущены, И забывали, кем и как Сюда заключены, За что, насколько. Только мысль: Его казнить должны… Есть яма в Редингской тюрьме – И в ней схоронен стыд; Там пламя извести горит, Там человек лежит, В горючей извести зарыт, Замучен и забыт. Пускай до Страшного суда Лежит в молчанье он. Пускай ни вздохом, ни слезой Не будет сон смущен: Ведь он любимую убил, И суд над ним свершен… Любимых убивают все, Но не кричат о том, Издевкой, лестью, злом, добром, Бесстыдством и стыдом, Трус – поцелуем похитрей, Смельчак – простым ножом. Портрет Дориана Грея Художник Бэзил Холлуорд написал портрет поразительно красивого юноши Дориана Грея, ставшего его лучшей работой, и подарил свое произведение позировавшему его молодому человеку. В это время с Дорианом Греем знакомится лорд Генри, друг художника, околдовывает его своими парадоксальными суждениями настолько, что делается его как бы наставником. Идеи лорда Генри воплощает в действительность. Долгие годы Дориан Грей, будто бы никогда не стареющий лицом, оставался молодым, но старел, как он подметил однажды, портрет, запертый им в заброшенной комнате. Пороки блистательного Дориана Грея, его жертвы, первая среди них молоденькая актриса Сибила Вайн, искажают лик Дориана Грея, изображенного на полотне, до неузнаваемости, но не задевают самого натурального героя, а возмездие все же неотступно. Дориан Грей бросается с ножом на портрет… и убивает себя. Тюремная исповедь Без остановок, интервалов, пауз, без разбития текста на главы, части, 188 страниц неистового монолога писателя, пребывающего в тюремном заключении два года. Он обращается к своему молодому другу, лорду Альфреду Дугласу – именно к тому человеку, ненавистный отец которого и посадил Оскара Уайльда за решетку. Горькие сетования на неблагодарность друга, характеристика отношений с ним. Отторжение, обвинение себя, как оказался пригвожденным к позорному столбу. Покаяние, поиски путей для возвращения к жизни, дарующей наслаждения, смысл после возможного скорого выхода на волю. Идеал нравственных устремлений писателя – Иисус Христос. «Но хотя Христос и не говорил людям: «Живите ради других» - он указал, что нет никакого различия между чужой и своей жизнью. И этим он даровал человеку безграничную личность, личность Титана. С его приходом история каждого отдельного человека стала – как могла бы стать – историй всего мира… Если я когда-нибудь снова стану писать – я имею в виду художественное творчество, - то выберу только две темы: первая – «Христос как предтеча романтического движения в жизни», вторая – « Исследование жизни художника в соответствии с его поведением». И первая из них, конечно, невероятно увлекательна, потому что в Христе я вижу не только все черты, присущие высочайшему человеческому образу, но и все нечаянности, даже причуды, романтического темперамента. Он первый из всех сказал людям, что они должны жить « как цветы полевые». Он увековечил эти слова. Он назвал детей образцом, к которому люди должны стремиться. Он поставил их в пример старшим – я тоже всегда считал, что в этом – главное назначение детей, если совершенству пристало иметь назначение… Мне нужно заставить самого себя взглянуть на прошлое иными глазами, заставить мир взглянуть на него другими глазами, заставить Бога взглянуть не него другими глазами. Я не могу достигнуть этого, ни перечеркивая прошлое, ни пренебрегая им, ни хвалясь им, ни отрекаясь от него. Достигнуть этого можно, только признав его в полной мере неизбежной частью эволюции моей жизни и характера; только склонив голову перед всем, что я выстрадал. Мне еще далеко до истинного душевного покоя, - тому свидетельство это письмо с его переменчивыми, неустойчивыми настроениями, с его гневом и горечью, с его стремлениями и невозможностью осуществить эти стремления. Но не забывая, в какой ужасной школе я получаю свои уроки. Если во мне еще нет совершенства, нет цельности, ты все же можешь многому у меня поучиться. Ты пришел ко мне, чтобы узнать Наслаждения Жизни и Наслаждения Искусства. Может быть, я избран, чтобы научить тебя тому, что намного прекраснее - смыслу Страдания и красоте его. Твой преданный друг Оскар Уайльд». Англия Редьярд Киплинг (1865 – 1936) Стихотворения Эпитафии Жертвам Первой мировой войны, молодым парням, среди которых был и сын писателя. Неисходная и язвительная горечь в коротких строках. Политик Я трудиться не сумел, грабить не посмел, Я всю жизнь свою с трибуны лгал доверчивым и юным, Лгал – птенцам. Встретив всех, кого убил, всех, кто мной обманут был, Я спрошу у них, у мертвых, - бьют ли на том свете морду Нам – лжецам. Эстет Я отошел это сделать не там, где вся солдатня. И снайпер в ту же секунду меня на тот свет отправил. Я думаю, вы не правы, высмеивая меня, Умершего принципиально, не меняя своих правил. Командир морского конвоя Нет хуже работы – пасти дураков, Бессмысленно храбрых - тем более. Но я их довел до родных берегов Своею посмертною волею. Бывший клерк Не плачьте! Армия дала Свободу бывшему рабу. За шиворот приволокла Из канцелярии в судьбу, Где он, узнав, что значит смерть, Набрался храбрости – любить, И полюбив – пошел на смерть, И умер. К счастью, может быть. Новобранец Быстро, грубо и умело за короткий путь земной И мой дух и мое тело вымуштровала война. Интересно, что способен сделать бог со мной Сверх того, что уже сделал старшина. Ординарец Я знал, что мне он подчинен и чтоб спасти меня – умрет. Он умер, так и не узнав, что надо бы все наоборот! Двое А. – Я был богатым, как раджа. Б. – А я был беден. Вместе. – Но на тот свет без багажа Мы оба едем. Бремя белого человека Неси это гордое Бремя – Родных сыновей пошли На службу тебе подвластным Народам на край земли – На каторгу ради угрюмых Мятущихся дикарей, Наполовину бесов, Наполовину людей. Неси это гордое Бремя Будь ровен и деловит, Не поддавайся страхам И не считай обид. Простое ясное слово В сотый раз повторяй – Сей, чтоб твой подопечный Щедрый снял урожай. Неси это гордое Бремя – Воюй за чужой покой Заставь Болезнь отступиться И Голоду рот закрой; Но чем ты к успеху ближе, Тем лучше распознаешь Языческую Нерадивость, Предательскую Ложь. Неси это гордое Бремя Не как надменный король К тяжелой черной работе, Как раб себя приневоль; При жизни тебе не видеть Порты, шоссе, мосты – Так строй их, оставляя Могилы таких, как ты! Неси это гордое Бремя – Ты будешь вознагражден Придирками командиров И криками диких племен: «Чего ты хочешь, проклятый, Зачем смущаешь умы? Не выводи нас к свету Из милой Египетской Тьмы!» Неси это гордое Бремя – Неблагодарный труд, Ах, слишком гордые речи Усталость твою выдают! Тем, что ты уже сделал И сделать еще готов, Молчащий народ измерит Тебя и твоих Богов. Неси это гордое Бремя – От юности вдалеке Забудешь о легкой славе, Дешевом лавровом венке – Теперь твою возмужалость И непокорность судьбе Оценит горький и трезвый Суд равных тебе! Рассказы Дело об одном рядовом Доведенный измывательствами сослуживцев солдат Симмонс однажды застрелил самого ненавистного врага и открыл пальбу по солдатам прямо на плацу в нестерпимо жаркий вечер. Его в конце концов остановили, повязали и предали казни - повесили в расположении воинской части. «Ворота ста печалей» Так называлась опиумная курильня китайца Фун Чина, и скудно рассказывается со слов ее обитателя о других завсегдатаев курильни, о ее хозяине, старике- китайце, его племяннике Цинн Лине, унаследовавшим скудное заведение после смерти старика и подмешивающим в черное курево отруби. Жизнь Мухаммеда Дина Короткая жизнь малыша, сына слуги рассказчика, играющего в саду сахиба в свои немудреные игры, и его неожиданная смерть от лихорадки. Свинья В переносном и несколько в прямом смысле подложил свинью один почтенный джентльмен другому в Индии, изощренно отомстив за старую обиду. Бими История с орангутангом растерзавшим молоденькую хорошенькую жену вырастившего его французского натуралиста. Азасфер Джон Хай, спасаясь от заклятий призрака в скорой смерти, принялся объезжать с востока земной шар, дабы обогнать время, а затем стал висеть на веревках под потолком над тонким листом стали, уничтожающим земное притяжение, и позволял круглой земле свободно вертеться под ним. Так он выигрывал день на день, уподобляясь неумирающему солнцу. Моти - Гадж, мятежник Лучший из слонов, выкорчевывающий пни на кофейной плантации и его хозяин, махаут, беспутный малый, Диса, как-то отлучился на десять дней попьянствовать для успокоения души, а слон его было взбунтовался, но на одиннадцатый день хозяин вернулся, и слон успокоился, не наделав бед. Джорджи – Порджи Как колониальный чиновник в Бирме женился на бирманке, заплатив ее отцу определенную плату, а затем ему захотелось английскую жену и, взяв отпуск и отправив бирманку в дом отца, он уехал в Англию. Там осуществив свои планы с женитьбой, по возвращении со второй женой устроился на службу в Индии, но первая жена, бирманка, таки добралась до нового дома мужа… и заплакала. Всего лишь субалтерн Произведенный в офицеры, субалтерн Бобби Вик в Индии вместе с полком, который должен быть стать по наставлениям отца, и стал прежде всего родным, подвергается испытаниям эпидемии холеры. До последней минуты он бодрствовал, не поддавался повальной болезни, буквально вытаскивал с того света смертельно заболевших, но заразился и умер, вопреки надеждам однополчан, что смерть от него отступит. Мэ – э, паршивая овца Панча и Джуди, малолетних детей, отец и мать вынуждены были оставить на чужих людей. И хватил горя премного от опеки грозной тетки Анни-Розы «отъявленный лгунишка» Панч, которого все пять лет унижали, третировали, наказывали за каждую провинность. Он не только ожесточился и позабыл нежные материнские ласки, человечность по отношению к себе, но и почти ослеп, скрытно читая книги, приносящие какую-то радость, в полутемных укромных местах. Подгулявшая команда Уволившийся из армии бывший рядовой Мелвени вспоминает, как учил молоденького лейтенанта приводить в чувство и успокоил подгулявшую команду отслужившихся солдат, возвращающихся из Индии в Англию. Не сделай он этого, пол-округи бы снесли здоровенные парни, одуревшие от спиртного. Воскресение на родине Брызжущая юмором история, как восторженный отзывчивый американец-врач в поезде на Плимут по ошибке оперативно оказал помощь громадному землекопу, то есть напоил его средством, которое требовалось вовсе не ему. В наводнение Рассказ переправщика через яростную индийскую реку в половодье. В молодости он ради Любви, свидания с будущей женой непроглядной, темной ночью в наводнение переплывает бушующую реку, набитую трупами животных, домашнего скота, сваленных деревьев для встречи с любимой. И помог ему преодолеть реку не кто иной, как труп его соперника, которого он живым не видел ни разу. Как голосованием признали землю плоской Тщательно разработанная и мастерски исполненная газетчиками несуразица по выставлению в дураках судьи, пэра Томаса Инселя и его городка Хакли за вопиющую несправедливость к ославленным вынужденным заговорщикам. «Жена моего сына» Фрэнкуэл Мидмор, городской молодой человек получает в наследство от умершей тетки имение, дающее в год двести пятьдесят четыре фунта чистого дохода. Постепенно втягивается в хозяйствование своей собственности и в роковые сутки, когда дожди и поднявшаяся вода соседнего пруда заливают его владения, сводится с зеленоглазой дочерью своего адвоката, как никто другой посвященный в дела своего доверителя. Воинские почести Бобби Тривет и Имс, субалтерны, весьма почтенные молодцы, проучили заносчивого и много о себе возомнившего младшего офицера, закончившего университет и постоянно их поучающего. Завязали его в мешок и бросили в гараже своего наставника, подполковника. Потерпевший оскорбительное унижение грозился подать рапорт в самые армейские верха, и друзья подполковника, которому досталось бы в первую очередь, уламывают пострадавшего отплатить обидчикам той же монетой – обряжают их в шутовские наряды и представляет офицерскому Собранию. Беспроволочный телеграф Сто лет назад изобретение Маркони воспринималось как поразительное чудо науки и техники. Холодной осенней ночью люди в аптеке ждут передачи сигнала через добрую половину Южной Англии. В принятом сообщении была полнейшая неразбериха, словно на спиритическом сеансе, какие-то обрывки послания, доносящиеся невесть откуда отдельные слова. И между делом аптекарь слагал стихи, будто из прошлых времен принимались строки, написанные когда-то Китсом . « Они» Вероятно, это плод грез слепой одинокой незамужней женщины в дальнем уголке графства, куда на автомобиле проник рассказчик. Он почувствовал сразу близкое присутствие детей всюду вокруг себя – в тени деревьев, в кустах, в травах в саду, в комнатах хозяйского дома и ни разу не увидел их воочию, полагая, что они от него прячутся. Стратегия пара Суматошный денек двух друзей в отпуску и рассказчика, кому принадлежал автомобиль. Дорожные приключения, захват полицейского – вымогателя, умопомрачительная гонка по самому невообразимому маршруту, своенравие железной машины. Миссис Батерст Воспоминания моряков в вагоне на самом южном берегу Африки о всевозможных перипетиях морских плаваний, о необычных людях, о миссис Батерст, молодой вдове, держащей небольшую гостиницу близ Окленда, которая «завсегда всем нам услужить старалась и в убытке не бывала ни разу – получала сполна, до последнего пенни». Странная симпатия мичмана Викари к ней, многократный просмотр киножурнала, где сняли миссис Батерст, таинственное исчезновение Викари, за полтора года до пенсии 007 Это новенький локомотив о восьми ведущих колесах, поступивший в паровозное депо, на службу. Его знакомство с другими паровозами, работа на сортировочной. Боевое крещение по расчистке после крушения товарняка. Объявление на собрании локомотивов в депо полноправным членом Объединенного братства локомотивов и возведение в степень скоростного локомотива. Аллегория, как у живых людей. «Хлеб, отпущенный по водам» Честного судового механика Макфи, дорожившего своей репутацией, пароходная компания увольняет за отказ вести судно, чреватое аварией, по новому расписанию с целью наживы под видом экономии. Уволенного берет на сухогруз промышляющий случайными фрахтами хозяин другой пароходной компании «Слепой Дьявол», старик Макриммон, И случается так, что большой сухогруз «Гроткау», принадлежащий прежним хозяевам Макфи, обуреваемым жадностью, отправляется в рейс на свой страх и риск с незаделанной трещиной на конце баллера. Терпит крушение, экипаж и пассажиры в открытом море пересаживаются в шлюпки, а идущий рядом сухогруз Макфи по хитрым расчетам Макриммона берет на буксир брошенное судно, приводит в порт и получает большие деньги, делающие Макфи и его капитана богатыми. США Генри Лонгфелло (1807 – 1882) Песнь о Гайавате Гайавата – североамериканский индеец из племени Оджибуэев сын небесной звезды Нокомис и западного Ветра. Обыденная жизнь семьи охотника и земледельца перемежается с легендарным и необычным. Не всегда за явным преимуществом доброе побеждает силы Тьмы и зла. Гибнут самые близкие друзья Гайаваты- певец Чайбайабос и могучий силач Квазинд. В голодный год умирает жена героя –Миннегага. В двух последних частях Песни предвещается заселение Америки бледнолицыми из далеких стран Востока. Гайавата уходит. Ясен и чист как вода в горных индейских ручьях русский перевод Песни И. Буниным. США Уолт Уитмен (1819 – 1892) Стихотворения и поэмы Вопреки утверждению Козьмы Пруткова «Нельзя объять необъятное» Уолт Уитмен делает попытки опровержения. То есть докладывает мысли, ощущения, представления того, что вокруг, что было и что будет. Получается поэтическая панорама современника американца середины 19 столетия во всеми исходящими мыслимыми и сложно вообразимыми суждениями. Ребенок сказал: «Что такое трава?» -и принес мне полные горсти травы, Что мог я ответить ребенку? Я знаю не больше его, что такое трава. Может быть, это флаг моих чувств, сотканный из зеленой материи – цвета надежды. Или, может быть, это платочек от бога, Надушенный, нарочно брошенный нам на память, в подарок, Где-нибудь в уголке есть и метка, чтобы, увидя, мы могли сказать чей? Или, может быть, трава и сама есть ребенок, выращенный младенец зелени. А может быть, это иероглиф, вечно один и тот же, И, может быть, он означает: «Произрастая везде, где придется, Среди чернокожих и белых людей, И канука, и токахо, и конгрессмена, и негра, я принимаю одинаково, всем им даю одно». А теперь она кажется мне прекрасными нестрижеными волосами могил. Кудрявые травы, я буду ласково гладить вас, Может быть, вы растете из груди каких-нибудь юношей, Может быть, если бы я знал их, я любил бы их, Может быть, вы растете из старцев или из младенцев, только что оторванных от материнского чрева, Может быть, вы и есть материнское лоно. Эта трава так темна, она не могла взрасти из седых материнских голов, Она темнее, чем бесцветные бороды старцев, Она темна и не могла возникнуть из бледно-розовых уст. О, я вдруг увидал: это все языки, и эта трава говорит, Значит, не зря вырастает анна из человеческих уст. Я хотел бы передать ее невнятную речь об умерших юношах и девушках, А также о стариках, и старухах, и о младенцах, только что оторванных от матерей. Что, по вашему, сталось со стариками и юношами? И во что обратились теперь женщины и дети? Они живы, и им хорошо, И малейший росток есть свидетельство, что смерти на деле нет, А если она и была, она вела за собою жизнь, она не подстерегает жизнь, чтобы ее прекратить. Она гибнет сама, едва лишь появится жизнь. Все идет вперед и вперед, ничто не погибает. Умереть – это вовсе не то, что ты думал, но лучше. Думал ли кто, что родиться на свет – это счастье? Спешу сообщить ему или ей, что умереть – это такое же счастье, и я это знаю. Я умираю вместе с умирающими и рождаюсь вместе с только что обмытым младенцем, я весь не вмещаюсь между башмаками и шляпой. Я гляжу на разные предметы: ни один не похож на другой, каждый хорош. Земля хороша, и звезды хороши, и все их спутники хороши. Я не земля и не спутник земли, Я товарищ и собрат людей, таких же бессмертных и бездонных, как я ( Они не знают, как они бессмертны, но я знаю). Афористично короткое раннее стихотворение – Послание « Штатам» Говорю всем Штатам, и каждому из них, и любому городу в Штатах: «Побольше противься – подчиняйся поменьше». Неразборчивое послушание – это полное рабство, А из полного рабства, нация штат или город не возвратится к свободе Полно прекрасных надежд «Странствуя утром» Странствуя утром, Выплыв из ночи, из мрачных мыслей, думая о тебе, Мечтая о тебе, гармоничный Союз, о тебе, божественно поющая птица, О тебе, переживающий дурные времена мой край, удушаемый черным сознанием, всяким коварством, изменой, Чудо узрел я - дроздиху, кормящую своего птенца, Песнопевца-дрозда, чьи восторженные звуки, полные радости и веры, Всегда укрепляют мой дух, согревают его. И тогда я подумал и почувствовал: Если черви и змеи, и мерзкие личинки могут превратиться в сладостное, одухотворенное пение, Если можно всякую гадкую тварь так преобразить, нужной, благодетельной сделать, Тогда я могу верить в тебя, в твои судьбы и дни, о родина; Кто знает – может, эти уроки годны и для тебя? Быть может, благодаря им когда-нибудь твоя песня поднимется радостной трелью, И ей будет предназначено прозвенеть на весь мир . Настоящий памятник «Тем, кто потерпел поражение» Тем, кто потерпел поражение, не осуществив широких своих стремлений, Безымянным солдатам, упавшим первыми в первых рядах, Спокойным, преданным своему делу механикам – страстным путешественникам – лоцманам на кораблях, Многим песням и картинам, полным высоких мыслей, но не признанным, я воздвиг бы памятник, увенчанный лаврами, Высоко, выше всех остальных – памятник всем, безвременно скошенным, Охваченным пламенем каких-то странных томлений духа, Потушенным ранней смертью , США Эмили Дикинсон (1830 -1886) Ее поэзия соткана из неразрешимых загадок, что еще более влечет читателя Мне – написать картину? Нет – радостней побыть С прекрасной невозможностью – Как гость чужой судьбы. Что пальцы чувствовать должны – Когда они родят Такую радугу скорбейТакой цветущий ад? Мне – говорить – как флейты? Нет – покоряясь им – Подняться тихо к потолку – Лететь – как легкий дым – Селеньями эфира – Все дальше – в высоту. Короткий стерженек – мой пирс К плавучему мосту. Мне – сделаться Поэтом? Нет – изощрить мой слух. Влюблен – бессилен – счастлив – Не ищет он заслуг – Но издали боготворит Безмерно грозный дар! Меня бы сжег Мелодий Молнийный удар. Я вызвала целый мир на бой – Камень - в руке моей. Крепче меня был пастух Давид – Но я была вдвое смелей. Я камень метнула – но только себя Ударом на землю смела. Был ли слишком велик Голиаф – Или я чересчур мала? Немногословных я страшусь – Молчит – что скрыто в нем? Я краснобая обгоню – Болтаю с болтуном. Покуда мы последний грош Впустую извели – Молчальник взвешивал слова – Боюсь – что он велик. Радость радужней всего Сквозь кристалл муки. Прекрасно то – что никогда Не дается в руки. Вершина дальняя горы Вся в янтарях. Приблизься – и Янтарь уплыл – И там Заря.