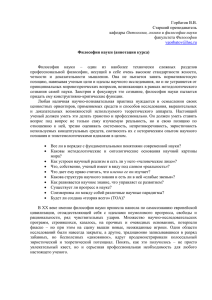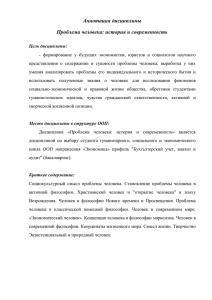Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по
advertisement
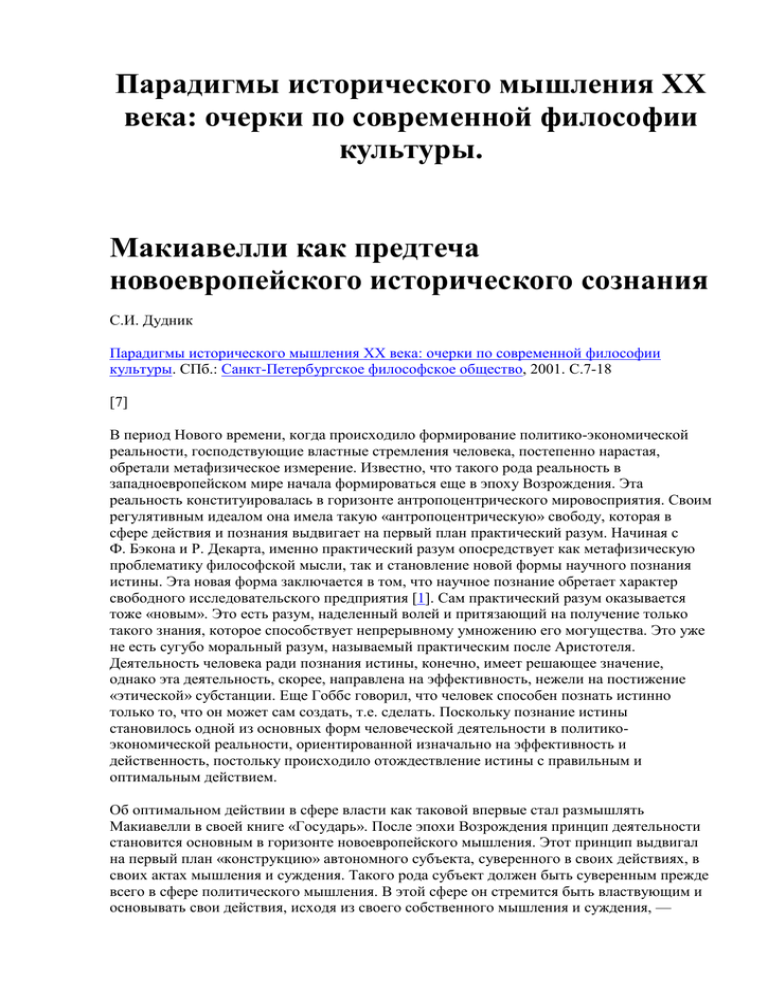
Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. Макиавелли как предтеча новоевропейского исторического сознания С.И. Дудник Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.7-18 [7] В период Нового времени, когда происходило формирование политико-экономической реальности, господствующие властные стремления человека, постепенно нарастая, обретали метафизическое измерение. Известно, что такого рода реальность в западноевропейском мире начала формироваться еще в эпоху Возрождения. Эта реальность конституировалась в горизонте антропоцентрического мировосприятия. Своим регулятивным идеалом она имела такую «антропоцентрическую» свободу, которая в сфере действия и познания выдвигает на первый план практический разум. Начиная с Ф. Бэкона и Р. Декарта, именно практический разум опосредствует как метафизическую проблематику философской мысли, так и становление новой формы научного познания истины. Эта новая форма заключается в том, что научное познание обретает характер свободного исследовательского предприятия [1]. Сам практический разум оказывается тоже «новым». Это есть разум, наделенный волей и притязающий на получение только такого знания, которое способствует непрерывному умножению его могущества. Это уже не есть сугубо моральный разум, называемый практическим после Аристотеля. Деятельность человека ради познания истины, конечно, имеет решающее значение, однако эта деятельность, скорее, направлена на эффективность, нежели на постижение «этической» субстанции. Еще Гоббс говорил, что человек способен познать истинно только то, что он может сам создать, т.е. сделать. Поскольку познание истины становилось одной из основных форм человеческой деятельности в политикоэкономической реальности, ориентированной изначально на эффективность и действенность, постольку происходило отождествление истины с правильным и оптимальным действием. Об оптимальном действии в сфере власти как таковой впервые стал размышлять Макиавелли в своей книге «Государь». После эпохи Возрождения принцип деятельности становится основным в горизонте новоевропейского мышления. Этот принцип выдвигал на первый план «конструкцию» автономного субъекта, суверенного в своих действиях, в своих актах мышления и суждения. Такого рода субъект должен быть суверенным прежде всего в сфере политического мышления. В этой сфере он стремится быть властвующим и основывать свои действия, исходя из своего собственного мышления и суждения, — независимо ни от каких внешних инстанций. Никакие внешние авторитеты не допускаются, включая мораль и религию, в план его мышления, выражающего себя в собственных оценках и суждениях. Все проистекает только из его деятельности, которая обосновывает саму себя эффективностью и оптимальным характером, поскольку речь идет о власти как таковой. Другими словами, истина становится стратегией и тактикой мышления как деятельности, направленной на эффективность и экономичность, [8] т.е. на выгоду и полезность. Речь идет прежде всего о «прагматике» в стратегии и тактике получения и достижения власти в непрерывно формирующейся политико-экономической реальности. В феодальной организации общества власть имела знаково-символическое облачение. С одной стороны, это власть непрерывных междоусобиц и столкновений между сеньорами, власть грабежа и взимания податей. С другой стороны, власть — это знаки верности сеньорам, церемониям и ритуалам. Макиавелли же создает «новую» науку власти, которая выдвигает на первый план оптимальность и эффективность сугубо политических действий. Он поднимает на пьедестал новую «технику власти», которая получила свое выражение уже при монархическом правлении в период Нового времени. Эта «техника» была менее расточительна с экономической точки зрения и менее рискованной с политической точки зрения, чем «технология» власти, присущая феодальному обществу, которое относилось терпимо к разного рода произволу, проистекающему из признанных заранее сословных и поместных привилегий. Ясно, что феодальная власть была изначально насильственной. Насильственный характер имел и институт монархической власти, который формировался в период средневековья и был призван к тому, чтобы устранять территориальную раздробленность и постоянные столкновения между субъектами феодальной власти. Монархия полагала себя как власть, способную не только устранять поместные столкновения и местные войны, но и как власть, призванную объединить весь народ в единую целокупность национального государства. Она нередко осознавала себя в терминах теологии как высшей науки знания, и поэтому апеллировала к церковному авторитету Рима. Политическая «наука» Макиавелли не признает не только никаких церковных инстанций, но и любых нравственных ограничений. Для утверждения, распространения и сохранения государственной власти приемлемы какие угодно средства, если они действенны и оптимальны в вышеуказанном смысле. Характерно, что на то же самое притязала затем и новоевропейская «эпистема», которая в лице Ф. Бэкона и Р. Декарта провозглашает свободу разума. Макиавелли, следуя правилам политического разума, таким образом наставляет правителей: «Государи должны обладать великим искусством притворства и одурачивания, потому что… человек, умеющий хорошо лгать, всегда найдет достаточно легковерных людей, охотно поддающихся обману… Государям, следовательно, нет никакой надобности обладать в действительности хорошими качествами… но каждому из них необходимо показывать вид, что он всеми ими обладает» [2]. В другом месте Макиавелли говорит о том, что правителям «надо помнить, что князь, и особенно князь новый, не может соблюдать все, что дает людям добрую славу, так как он часто вынужден ради сохранения государства поступать против верности, против любви к ближнему, против человечности, против религии» [3]. При этом Макиавелли одобряет и ставит в пример другим образ действий [9] Цезаря Борджа: «Цезарь Борджа слыл беспощадным, тем не менее его жестокость восстановила Романью, объединила ее, вернула ее к миру и верности» [4]. И далее: «…князь не должен бояться, что его ославят безжалостным, если ему надо удержать своих подданных в единстве и верности. Ведь, показав, в крайности, несколько устрашающих примеров, он будет милосерднее тех, кто по своей чрезмерной снисходительности допускает развиться беспорядкам, вызывающим убийства или грабежи..» [5]. Однако в каждой сфере практической активности (в том числе и политической) человек может осуществить только то, что он действенно знает. Знание и могущество человека, по словам Ф. Бэкона, совпадают [6]. Именно об этом говорит следующее его наставление: «Первое предписание: человек — мастер своей судьбы — должен умело пользоваться своей линейкой и правильно прилагать ее, т.е. заставить свой ум определять значение и ценность всех вещей в зависимости от того, насколько они способствуют достижению им своих целей и своего счастья, заботясь об этом непрестанно, а не от случая к случаю. Удивительное дело, и тем не менее это неоспоримый факт, что существует очень много людей, у которых логическая часть ума (если можно так выразиться) действует хорошо, математическая же — очень плохо, т.е. эти люди способны достаточно умно судить о тех последствиях, которые могут вытекать из того или иного поступка или действия, но они совершенно не знают цену вещам» [7]. То же самое говорит и Декарт, когда он провозглашает, что «можно достичь знаний, весьма полезных в жизни, и что вместо умозрительной философии, преподаваемой в школах, можно создать практическую, с помощью которой, зная силу и действие огня, воды, воздуха, звезд, небес и всех прочих окружающих нас тел, так же отчетливо, как мы знаем различные ремесла наших мастеров, мы могли бы, как и они, использовать и эти силы во всех свойственных им применениях и стать, таким образом, как бы господами и владетелями природы» [8]. В период Возрождения происходит распространение рыночной стихии, в которой решающее значение обретает практический разум. Этот разум, отвергающий любого рода границы и препятствия ради достижения своих целей, всегда, в конечном счете, ориентирован на «беспредел». Такой разум раскрывает свой характер в расчетливом планировании тех или иных действий, заранее выверяемых, а также в предвосхищении того или иного положения вещей ради безошибочных решений и правильных суждений. Изменяется тем самым само понимание истины. Истина теперь относится только к таким суждениям, которые должны соответствовать реальному положению вещей и дел. Поскольку практический разум заранее все рассчитывает и оценивает, постольку логика истины оказывается логикой адекватных в ситуационном плане суждений. Поэтому уже в лице Гоббса логика сводится к знаковому исчислению, а в лице Лейбница она становится комбинаторикой. Но еще ранее Ф. Бэкон создает «Новый органон» мышления, а Р. Декарт — [10] «Правила для руководства ума». Стремление к могуществу определяет теперь природу истины и характер ее познания. Когда Ф. Бэкон подчеркивает, что знание должно быть силой, уже тогда политико-экономические реалии выдвигались на первый план не только в сфере человеческой жизнедеятельности, но и в практике научного познания всего сущего. Следует прояснить данное обстоятельство в силу всегда наличной опасности вульгарного социологизма. Политология как наука, основателем которой следует считать Макиавелли, возникла в определенных исторических условиях. Это суждение ныне является «общим местом» и совершенно тривиально. Однако здесь важно восстановить тот исторический контекст, в котором феномен «макиавеллизма» становится наглядно зримым. К самому Макиавелли этот феномен можно относить с такой же достоверностью, с какой материализм, скажем, — Фалесу или Демокриту. В Италии ХV столетия «проявляется дух современного европейского государства, впервые свободно предоставленный собственным внутренним устремлениям...» Этот дух демонстрирует себя ничем не ограниченным эгоизмом «в его наиболее устрашающем виде, пренебрегая любым правом...» Но там, где этот дух преодолевается, «в истории появляется нечто новое: государство как сознательно задуманное построение, как произведение искусства» [9]. Но именно в эту эпоху слово «политика» получает значение коварства, интриги и предательства. Эпоха Возрождения в Италии — это не столько разгул страстей и своеволия, сколько период деморализации [10]. Служители церкви содержат кабаки, публичные и игорные дома. В монастырях предаются оргиям и читают «Декамерон». В церквях пьянствуют, пируют и убивают. Папа Александр VI охотится за куртизанками для своих ночных оргий. В Риме в конце XV столетия насчитывалось около семи тысяч проституток; в Венеции их было более десяти тысяч. Этому ремеслу посвящаются трактаты и диалоги. Женщин такого рода поведения привозили из Германии. Хиромантией и врачеванием славились венецианки и женщины из Испании. Так называемая, «французская болезнь», которая появилась в Испании в конце XV столетия, распространилась по всей Западной Европе, и жертвами ее стали не только высокопоставленные светские лица, но также властители клира. Внутренние раздоры в различных итальянских городах определяют всю эпоху Возрождения. Убийства и погромы, заговоры и грабежи, казни и изгнания следуют друг за другом. В тоже время мало кто из властителей умирал своей смертью. Утверждалось, что не только Л. Медичи, но и Пико делла Мирандола были просто отравлены. В Италии, начиная с XIII столетия, появляются кондотьеры, т.е. предводители наемных шаек, которые определяли характер власти в таких городах, как Сиена, Болонья, Перуджа, не говоря уже о Парме, Генуе и Милане. Уже с конца XIII века в Милане воцаряется род Висконти, прославившийся всякого рода насилием. Властитель Неаполя Феранти (14581494) сажал своих врагов в клетки, тучно их [11] откармливал, затем отрубал им головы, а их тела засаливал. О нем передают, что стоило ему только напомнить о его жертвах, как он тут же заливался смехом. Даже Л. Медичи, при котором собиралась платоновская Академия и который вошел в историю как великий покровитель наук и искусств, так же казнил, вешал и охотился за красивыми девушками. Он никогда не пренебрегал интригами и по возможности использовал яд и кинжал. В те годы было обычным делом, когда врагов и заговорщиков вешали на окнах монастырей. Бандиты, состоявшие на службе родовитых семейств устраивали сражения на открытых площадях города. Убивали на церковных празднествах и службах, где все власть имущие должны были присутствовать. «Было почти невозможно добраться до хорошо охраняемого властителя иначе, чем во время торжественных церковных процессий; к тому же семейство князя никогда нельзя было встретить собравшимся вместе по иному поводу. Так, жители Фабриано (1435 г.) убили правящее семейство тиранов Кьявелли во время богослужения и по уговору при словах молитвы “Credo” “Et incarnatus est” [11]. В Милане (1412 г.) герцог Джован Мария Висконти был убит при входе у церковь Сан Готтардо, герцог Галеаццо Мария Сфорца (1476 г.) — в церкви Сан Стефано. А Людовико Моро (1484 г.) избежал кинжалов приверженцев овдовевшей герцогини Боны только потому, что вошел в церковь не через тот вход, у которого его ждали заговорщики» [12]. Это было время, «когда человек должен был быть либо молотом, либо наковальней и личность оказывала большее воздействие, чем обретенное право» [13]. Другими словами, в описываемом обществе исчезала всякого рода легитимность, поскольку все теперь решали только хитрость и сила той или иной личности. Само слово «личность» утрачивает отныне всякое религиозное значение. Речь идет уже не столько о личности как таковой, сколько о «персоне» и индивидууме. Если Августин подчеркивал, что личность дороже всего телесного космоса, то в эпоху Ренессанса личность редуцируется к человеческому индивидууму, обретающему значимость при наличии богатства и власти. Нет уже ни у кого никаких прав, если нет в своем распоряжении средств защиты и нападения. По этому принципу формировалась Западная Европа в период Возрождения; и тот же самый принцип был положен в основу создания Соединенных Штатов Америки (романтизация «ковбоя»). Там, где индивидуальность подменяет личностное отношение ко всему сущему и происходящему, неизменно появляются законченные злодеи, которые не просто аморальны; они скорее демоничны, поскольку совершают преступления не для достижения определенных целей, а для собственного, так сказать, самовыражения. Если преступление совершается ради него самого или как средство для достижения целей, выходящих за пределы всякой социально-психологической нормы, то это и есть явный признак деморализации. В ее условиях всегда найдется повод и любое средство ради какого угодно преступления; тут даже праздность формирует подлинную страсть к убийствам ради острых [12] ощущений и развлечений. «Враг Бога, сострадания и милосердия», — так было начертано на серебряной нагрудной медали кондотьера Вернера из Урслингена, своеобразного героя своего времени. В период разрушения «социальной ткани», скрепляющей общество в сословной или какой-либо иной гражданственности, полностью эмансипирующийся человеческий индивидуум оказывается всегда деморализованным, поэтому злодеем и преступником. Уже само презрение к церковному отлучению освящало индивидуальность зловещим, можно сказать, даже мертвенно-жутким светом. Деморализованное положение человека взывает к преднамеренной жестокости, поскольку основной целью оказывается всеобщее устрашение. Здесь страх и мстительность неотделимы от человека. Для погубления людей ради утверждения собственной индивидуальности используется также разного рода магия. Появляется жажда крови, стремление к дьявольским удовольствиям, к разрушению всего и вся. Именно это мы обнаруживаем в индивидуальности Цезаря Борджа, «жестокость которого в значительной степени превосходила преследовавшиеся им цели. Далее, наслаждение злом как таковым наблюдается у Сиджизмондо Малатеста… епископа из Фано» [14]. Когда личность в ее религиозно-нравственном измерении уступает место индивидуальности, которая отрывается сначала внутренним образом от социальности как таковой, так как государственность оказывается в основном тиранической и нелегитимной, тогда в каждом отдельном случае чувство собственной независимости подменяет всякие соображения рассудка и на первый план выступают страсть, мстительность и самовлюбленность. Средние века, внимая так или иначе Богу, имели своим источником социальных отношений христианскую веру и церковь как выражение внешней власти Бога. Когда в период Возрождения происходила деградация церкви, то вместе с ее вырождением происходило развращение рыцарства, а в конечном счете и самой личности. Личность преобразуется в индивидуальность, Наряду с этим развивалось блестящее поэтическое слово, получившее свое завершение в гениальной поэтике Данте, и великолепное искусство живописи, скульптуры и архитектуры, которые восхваляли индивидуальность так, как на это не могли притязать ни античность, ни средневековье. Разрушается та «этическая субстанция», которая лежала в основе средневековья и которая всегда присутствовала в греческой и римской античности. Данное обстоятельство требует пояснения. Нормальным состоянием классического греческого полиса было открытое столкновение экономических, политических, дипломатических и прочих интересов. Это состояние имело как бы «игровой» характер; т.е. стремление к открытости полиса имело гораздо большее значение, чем стремление к властвованию одного полиса над другим. Дух игры и соревнования — вот, что характеризует классический греческий полис [15]. Когда разрушаются социальные связи между людьми, когда происходит война всех [13] против всех, тогда наступает период «бездомности» человеческого существования. В такие периоды человек лишается своего мира и присущей ему в его мире природы. Человек, лишенный природы, одержим жаждой самоутверждения. Гибель царей, неспособных отстоять свою царственность перед «новыми» греками, переход привилегий и почестей от одних к другим были выражением всего а-политического в архаическое время, о чем рассказывают «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Но уже при Сократе полис строится греками по типу природы (fЪsij) и с помощью особого рода «логоса» (lТgoj). Полис устанавливается как собирающее и сохраняющее начало гражданской жизни греков. Греческий полис, подобно природе, есть прежде всего единая и гармоническая совместимость всех свободных людей, наделенных статусом гражданства. Гармонизация полярных сил и настроений осуществляется на основе общего для всех правосудия, т.е. на «агоре». Греческий полис создается прежде всего как общность, единая для всех совместимость, способная объединять, а не разъединять и рассеивать. В греческом полисе человек сохраняется в своей природе, которая имела свой собственный «логос» и которая оберегала всех свободных граждан от опасности исчезновения в непрерывно изменяющихся обстоятельствах, т.е. от утраты своего присутствия в мире как едином для всех космосе. Человеческое бытие имело космологический характер в отличие от политико-экономического, присущего нашему времени. Человек есть микрокосм всего космоса. Впрочем, греки не говорили о человеке как «микрокосме» — для них это было само собой разумеющимся. Определяя человека как zoon politikon, Аристотель постигал его как такое живое существо, которое вне полиса есть либо бог, либо зверь. Полисная организация человеческой жизни формировала особый «этос», способный дух вражды и ненависти подчинить взаимной согласованности интересов свободных граждан, чтобы, в конечном счете, следовать самой природе, обретающей свою гармонию в космическом обстоянии всех вещей. Вот почему в античности не могло быть никакой политологии, социологии и психологии как отдельных и самостоятельных сфер знания. Для греков образ жизни и мысли должен быть прежде всего прекрасным. И только в силу этого обстоятельства он мог быть поучительным. Жить прекрасной жизнью и в согласии со всем сущим — таково было основное стремление греков, а не сама по себе моральность. Этическое не отделялось от эстетического, поскольку пафос греков выражался в желании быть достойным такой жизни, которую современники и потомки могли бы считать прекрасной, а не просто моральной. Вот почему этическое мышление греков было связано прежде всего с эстетикой человеческого существования [16]. Дружба, согласно Аристотелю, означала возможность и необходимость взаимного признания свободных граждан, образующих полисную организацию общества. Согласно Цицерону, дружба как раз и есть высшая добродетель, дающая наслаждение от взаимного признания и уважения, коль скоро она выражает [14] высшее искусство жизни. В этом искусстве важно было уметь всегда владеть самим собой. Поэтому для греков и римлян на первый план выступала «техника» жизни как таковой, а не моральность. Платон в «Алкивиаде» подчеркивает: вы обязаны заботиться о самом себе, чтобы не быть рабом собственных желаний. Греческая «техника» жизни заключалась в том, чтобы стать полностью господином самого себя. Другими словами, наслаждение самой жизнью, в которой человек не является рабом собственных вожделений, — именно в этом заключается сущность «этической» субстанции древних греков и римлян в период республиканского правления. Когда разрушается эта субстанция, тогда римская доблесть лишается гражданской основы и именно тогда христианство получает все более и более широкое распространение. В христианском мировосприятии «природное» в человеке означает то, что следует всегда подавлять и взнуздывать. Христианский универсум — прежде всего моральный. Человеческое грехопадение означало извращение морально-благостного миропорядка, т.е. всего ens creatum. Поэтому от каждого человека требовалось соблюдение соответствующих норм церковного вероучения, которое было неотделимо от обязательной для всех и каждого моральности, включающей в себя строгую и бескомпромиссную аскетику. В период распространения христианства было общепринятым мнение, что на этой грешной земле человек является всего лишь странником. В трактате «О Граде Божием» Августин порицает всех тех, кто сугубо земной план жизни предпочитал небесному. Все мирское ставилось в противовес священному. Мирская изворотливость и ловкость «пользователей мира», превозносящих частный интерес выше Бога, осуждалась церковным сознанием. Церковь и светское общество осмысливались как атрибуты «единого мистического Тела Христова». Поэтому светская власть была подсудна каноническому праву, а само «политическое тело» общества было в постоянной зависимости от церкви. В непрерывных столкновениях светской власти с церковной в период средневековья все большее значение получала власть как таковая, а не сама по себе церковь с ее приходами верующих. Уже в 1215 году королевской власти в Англии была навязана Великая хартия вольностей. В эпоху Возрождения принцип habeas corpus («можете взять тело») защищался как принцип автономности человеческого существа от сугубо церковной власти и как принцип гражданских прав, ограждающих каждого от произвола королевской власти. Формировалась новая политическая организация социума, которая уже не требовала от человека того, чтобы внимать само-стоянию природы как таковой (античный полис); или заповедям Бога, заключающим в себе весь замысел сотворенного Им мира. Новая форма политической организации общества была призвана решать задачи предвосхищения и планирования событий, с тем чтобы упреждать их заранее, контролировать и управлять ими, даже если они происходят стихийно. Эта форма требовала построения [15] государства как художественного произведения. Государство как произведение искусства тем самым скорее неявно, чем явно, противопоставлялось божественному творению мира из ничего. Последнее обстоятельство требует пояснительных рассуждений. Устранение церковного миропорядка с присущей ему изначально моральностью в эпоху Возрождения сопровождалось постоянной апелляцией к античному гражданству, т.е. к демократическому полису греков и республиканскому Риму, к античной эстетике жизни как таковой. Именно в этом состоял основной пафос ренессансного сознания, обретающего свою основу в антропоцентрическом мировосприятии. Ренессанс снова выдвигает на первый план эстетику существования в противовес моральному миропорядку. Этика и моральное поведение лишаются своего священного значения в сравнении с «техникой» искусства, т.е. техникой живописи, ваяния и архитектуры. Другими словами, исчезала этическая субстанция, в которой не нуждались ни Леонардо да Винчи, ни Микеланджело, ни Б. Челлини, ни тем более Н. Макиавелли. Идея возможного изобилия и справедливости в период формирования политико-экономической реальности обретала, можно сказать, навязчивый характер. Основной становилась идея о том, что в сугубо земных условиях, причем только человеческими усилиями, можно устроить благоденствие и гарантировать тем самым каждому человеку спасение, устранить состояние «бездомности» и снова превратить мир в родной дом человеческого бытия. С этой целью поощрялась предприимчивость, разумно-расчетливая деятельность, которая при экспансии рыночных отношений требовала устранения всяких запретов и границ. Таким образом, происходила десакрализация мира, которая приводила к подчинению церковного сообщества (universitas fidelium) политико-экономической реальности. Макиавелли, по сути дела, основатель политологии как науки, о чем говорилось выше, объявляет этическую субстанцию средневекового миропорядка враждебной человеку в его гражданском достоинстве. Он настаивает на том, что политическое «кредо», необходимое для конституирования устойчивого гражданского общества в условиях политико-экономических реалий, должно отвергать морально-религиозное требование. Давая рекомендации по практическому захвату власти, Макиавелли предлагает следующее: «…овладевая государством, захватчик должен обдумать все неизбежные жестокости и совершить их сразу… Дело в том, что обиды следует наносить разом, напротив, благодеяния надо делать понемногу, чтобы они лучше запечатлелись» [17]. И далее: «Я никогда не побоюсь сослаться на Цезаря Борджа и его образ действия» [18]. Властвующий разум должен быть прежде всего действенным, поэтому он оказывается вне религии и морали, коль скоро религиозно-моральная мысль теряла свое эффективное значение. Макиавелли впервые осознал политико-экономическую реальность в ее собственной самодостаточности. Он отделяет политику от религиозных верований и сугубо моральных поучений, поскольку в его время [16] политика как таковая уже становилась не только искусством, но и «наукой», имеющей свой собственный метод. Для Макиавелли важным является не столько моральное совершенствование, сколько ясность ума, т.е. осознание всех своих действий и проектов. Он формулирует ясные и отчетливые правила для руководства политического ума. В них религиозно-нравственные принципы принимаются лишь в той мере, в какой они способствуют утверждению и сохранению власти как таковой: не требуется уже никакой морали, чтобы познать истину своих проектов; любые проекты истинны, если они действенны и осуществляемы. Известно, что Декарт с его учением о методе является основателем новоевропейской науки как mathesis universalis. Однако эта наука в ее «правилами для руководства ума» уже предвосхищается Макиавелли, поскольку именно он создает правила для властвующего ума, которые открыли совершенно новую сферу знания: знания-какдействия в политико-экономической реальности. Сам Макиавелли об этом пишет так: «Хотя по причине завистливой природы человеческой открытие новых политических обычаев и порядков всегда было не менее опасно, чем поиски неведомых земель и морей, ибо люди склонны скорее хулить, нежели хвалить поступки других, я тем не менее, побуждаемый естественным и всегда мне присущим стремлением делать, невзирая на последствия, то, что, по моему убеждению, способствует общему благу, твердо решил идти непроторенной дорогой, каковая, доставя мне докуки и трудности, принесет мне также и награду от тех, кто благосклонно следил за этими моими трудами» [19]. Далее он говорит: «И если из-за скудости ума, недостаточной искушенности в событиях нынешних и слабого знания событий древних попытка моя окажется безуспешной и не слишком полезной, она все-таки откроет путь кому-нибудь другому, кто, обладая большею силою духа, большим разумом и рассудком, доведет до конца этот мой замысел...» [20]. Создание государства как художественного произведения требует особой «техники» власти. Искусство и техника все еще неотделимы друг от друга. Всякое искусство изобретает свои собственные правила и средства для создания своего творения. Макиавелли в этой связи говорил: «… в Италии… достаточно материала, которому можно придать любую форму» [21]. Но не хватает людей, способных оформить Италию в единое государство как высшее художественное творение. Вот почему в «Государе», посвященном Лоренцо Медичи, Макиавелли создает правила построения государства как такого устроения подлинной гражданской жизни людей, в котором человеческие дарования и доблести не столько бы все расстраивали и сеяли смуту, сколько способствовали бы объединению всех людей в их гражданском согласии. По этим правилам должны быть заложены прочные основания для государства как художественного произведения. Если такие основания не заложены заранее, пишет Макиавелли, то тем не менее при наличии великой virtu, т.е. доблести, «это можно сделать и впоследствии, хотя бы ценой многих усилий зодчего...» [22]. [17] Можно утверждать, что во Флоренции XV столетия формируется новоевропейское политическое сознание. В этой связи Я. Буркхардт отмечает, что Флоренция этого столетия заслуживает наименования «первого современного государства мира». «Здесь весь народ совершает то, что в княжеских государствах является делом одной семьи. Удивительный дух Флоренции, остро рассуждающий и одновременно художественно творящий, беспрерывно меняет политическое и социальное состояние общества и столь же беспрерывно описывает и судит его. Так Флоренция стала родиной политических доктрин и теорий, экспериментов и интриг, но также, наряду с Венецией, и родиной статистики и прежде всего первой — ранее всех государств мира — родиной исторического изображения в современном смысле слова. К этому присоединилось впечатление от Древнего Рима и знание его историков..» [23]. На протяжении многих столетий человек формировался и оставался тем, чем он был для Аристотеля, а именно: живым существом, способным к полисному существованию. Начиная с Возрождения, человек становится существом, в политике которого его жизнь как живого существа ставится под вопрос. И в императорском Риме, и в эпоху эллинизма вообще жизнь в политике всегда была неопределенной. Политика представляла себя во всем своем смертоносном блеске, поскольку уже тогда закон полностью стирался, а институты правосудия заключали в себе тенденцию к исчезновению. В период Возрождения ставится вопрос о человеке в его достоинстве и величии. Подлинное основание этого вопроса следует искать не столько в специфике человека как живого существа и в его отношении ко всему иному сущему, сколько в новом способе отношения к жизни и истории, к церкви и искусству. «Окрестности» человеческого существования, пронизанные особой «техникой» знания и власти, выдвигают на первый план историю «био-власти». Другими словами, сущность человека, включая и сексуальность, определяется уже богатством и понимается в терминах потребностей и интересов, т.е. в терминах осуществления тотальности всего возможного. Особое значение придается ценности Тела в политико-экономической реальности. Через эту ценность происходит политическая упорядоченность человеческой жизни. Если «дворянская аристократия утверждала особость своего тела, но это было утверждение покрови, т.е. по древности родословной и по достоинству супружеских союзов», то буржуазия, с другой стороны, «дабы снабдить себя телом, напротив, смотрела с точки зрения потомства и здоровья своего организма» [24]. Господство буржуазии, ее собственное самоутверждение зависело от безграничной экспансии силы, жизни и воли к власти; «она стремится дать себе некоторую сексуальность и на ее основе конституировать себе специфическое тело — «классовое» тело со своими особыми здоровьем, гигиеной, потомством и своей породой...» [25]. Если история постигается Макиавелли как художественная реальность, в которой не столько судьба, сколько человек является творцом [18] своей собственной жизни, и в силу этого государство должно быть и строится как художественное произведение, создаваемое по определенным канонам и неотъемлемым правилам, то именно на этом основании он говорит о монархической власти, понимая властителя как суверенного творца и искусного изобретателя. Как раз этим обстоятельством обусловлены его «правила для руководства политического ума». Макиавеллизм вовсе не есть аморальность как таковая. Макиавеллизм не есть беспринципность, если речь идет о сугубо нравственных отношениях или социальнополитических идеалах. Макиавеллизм есть выражение властвующей воли, озабоченной установлением гражданского устройства общества как такого художественного произведения, которое может быть создано по каким угодно правилам, лишь бы эти правила способствовали устранению социального «беспредела» и утверждению законного порядка. Разумеется, эти правила выражают волю к могуществу в политико-экономической реальности. Такого рода волю утверждал Наполеон во всех своих предприятиях. О ней говорил Маркс, выдвигая на первый план революционизм как таковой. Метафизику этой воли создавал Ницше. Такой метафизике труда и власти подчинял свое мышление Ленин. Ее воплощал и Мао Цзэдун в своей «культурной революции». В минувшем столетии она подкреплялась завистливым и криминальным мышлением. Речь не идет о тех или иных доктринах, призванных поучать и наставлять. Речь идет о тактике и стратегии знания как власти, которое устраняет всякие препятствия ради собственного самоутверждения. В этом суть «макиавеллизма» и всей новоевропейской цивилизации. Макиавеллизм не отделим ни от новоевропейского монархизма, ни от новоевропейского революционизма, ни от большевистской революции и сталинизма, ни от «американизма», который пронизывает уже не только Западную Европу, но и современную Россию. Вне феномена макиавеллизма невозможна вообще теория современной политологии, коль скоро она задается вопросом создания государства как искусства, восстанавливающего по особым правилам власти законность, гражданский порядок и согласие, утраченные из-за всеобъемлющей экспансии классовой борьбы. Метафизика культуры: проблема онтологического статуса культуры С.И. Дудник Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.19-28 [19] Обсуждение вопросов, относящихся к данной теме, наталкивается на серьезные трудности, возникающие с самого начала и затрудняющие не только ее исследование, но и понимание исходных представлений. Первые из них — смыслового происхождения. Многообразие употребления понятия культура и свободакак слов или терминов, разъясняющих широчайший спектр научных, жизненных, социальных и человеческих проблем — столь необозрим что исчезают реальные основания добиться хотя бы внешней упорядоченности в их употреблении. Только для термина «культура», используемого в рамках научных разработок, специалисты насчитывают около полутораста определений, ориентирующих связанные с ними исследования, на соответствующее количество направлений. Подобным же образом обстоит дело и с понятием «свобода». Поэтому начинать дело с определения представляется малоперспективной задачей. Ограничимся лишь некоторыми методологическими замечаниями, чтобы блокировать возможные упреки со стороны представителей «точного» знания: естественных, математических, технических, инженерных и других прикладных наук, касающихся общей природы научного знания. Определенные черты развития современной цивилизации проходят под знаком господства того типа мышления и руководствующегося им поведения, которым занимались под названием сциентизма. Его можно истолковать как общую склонность или ориентированность на принятие стандартов естественных и «точных» наук для подхода к пониманию и решению всей совокупности проблем, встающих перед обществом и человеком. Сюда же относится и склонность искать в науке, и главным образом в ней, ответы и способы решения всего того, что занимает человека. Наука мыслится при этом как единственно возможная форма воплощения возможностей разума, а рациональность и критерии последней — универсальными по своим возможностям. Однако, под научностью в каждый конкретный период обычно подразумевают не науку вообще, во всей совокупности ее отделов, дисциплин и видов, а строго говоря, лишь некоторые лидирующие ее направления. Когда-то предпочтение отдавалось математике, и идеалом правильного мышления представлялись умственные построения по ее предписаниям: знаменитый принцип «универсальной математики», возникший еще в позднее средневековье и господствовавший в XVII — XVIII веках. Известно, что и в этом случае мыслилась не математика вообще, а только ее раздел — геометрия, как образец научного мышления. В свою очередь, Лейбниц полагал, что правильное мышление это то, которое построено как счисления, то есть по формально-логическому методу развиваемой им новой логики, основанной на символизации основных логических процедур («всеобщая характеристика»), положившей начало развитию математической [20] логики. В начале двадцатого века вообще мыслилось, что именно такая логика, операции которой составляют основу методов дедуктивных наук, является основой всякой правильно построенной научной теории. Постепенно в естественных науках утвердился сциентический подход, ориентирующийся на математическое естествознание (современную физику) как образец методологически правильного мышления. Не будем продолжать примеры. Заметим только, не сомневаясь в обоснованности подобной установки, что она имеет силу только для определенных видов наук и знания, учитывающих специфику их содержания и предмета. Принцип единства знания и наук не может быть сведен к их унифицированию по образцу математики или физики (физикализм). Все подобные унитарные подходы неизбежно оказывались ограниченными, их программы жесткими, не учитывающими ни многообразия предметного мира знания, ни сложности познавательных способностей человека. Даже в пределах естествознания они обнаруживают свою ограниченность, иначе не было бы длящихся десятилетиями философско-методологических дискуссий о предмете физики или математики, неясностей с такими ключевыми понятиями, как «число», «сила» и проч. Необходимо учитывать, что определением предмета служит не некоторое короткое логическое выражение, а вся теория о нем, все имеющееся знание. Научная рациональность, разработанная в «строгих» или «точных» науках, есть огромное и ценное достижение разума, но не является единственным, а лишь частным выражением его познавательной природы. Разум не гомоморфен, а сложен по своей структуре, обнаруживая все новые свои способности, фиксируемые в различных приобретениях познания. Поэтому науки строятся по-разному, и мы обнаруживаем в них различные критерии рациональности и определения сущности предмета. Математика как бы задает себе свой предмет, вводя первичные представления о нем в системе исходных определений, аксиом и правил. Физика (теоретическая) тоже в значительной степени конструктивна и построена на сложной познавательной диалектике исходных теоретических допущений и определений с эмпирическими данными и их обобщениями. Научная картина мира в значительной мере есть конструкт ума, а не только — и не столько — то, что родилось из непосредственного опыта как его обобщения. Естествознание в целом — это науки законопостигающие (нонстатические), то есть нацеленные на открытия устойчивых существенных зависимостей, выявление общей природы в частных опытно фиксируемых проявлениях естественного мира. С конца XIX века за ними утвердилось понятие «наук о природе». Разработанные в них методы простираются так далеко, насколько сохраняется представление о некоем внеположенном предмете, позволяющем применить к нему всегда воспроизводственные с одинаковым (сопоставимым) результатом процедуры исследования, исключающие значимый учет особенностей познающего субъекта (человека). Под них подпадают не только объекты природного мира, но [21] и человеческого, социального, в той мере, к какой в отношении к ним может сохраниться установка «естественного предмета». Социологи изучают социальные феномены вполне объективно, с использованием математического аппарата и сложной техники. Экономика в своих многообразных ответвлениях также изучает объективно сложнейшие процессы хозяйственной жизни человека. Археологии, этнографии, антропологии присущ в значительной мере этот же подход, хотя эти науки движутся к познанию чрезвычайно своеобразных сторон глубинных процессов человеческой жизни, истории и культуры, где подобная «естественная» установка оказывается не только недостаточной, но и существенно искажающей саму структуру познания. Можно сказать (принимая сказанное как существенное огрубление), что сформированная на подобном подходе сциентическая установка предполагает наличие некоторого «внешнего» предмета познания, удовлетворяющего заданным довольно четким и жестким критериям его существования (устойчивость, неискажающее воздействие исследовательских процедур и проч.), с преобладанием аналитических методов с последующим синтезом, восстанавливающем знание о нем как систему. Итоги фиксируются в научной теории как идеальной модели объекта познания, дающей объяснение его. Является ли подобный подход к пониманию процесса познания единственно верным? Представляется, что нет. Мы уже отметили негомоморфность постигающего разума. Из этого допущения следует и негомоморфность, неунифицируемость и результатов его деятельности, то есть познания. Оно может фиксироваться в различных типах знания, дающих результаты разной степени важности, но равно необходимые. Даже в структуре знания, которое соответствует требованиям сциентичной установки, различают типы законов и типы наук (объясняющие, описательные, классифицирующие и проч.). Мы полагаем целесообразным выделить понятие «инструментальный разум», чтобы зафиксировать ситуацию, когда познание подчиняется некоторым особенным требованиям, например, чтобы оно давало некоторый положительный практический результат, решало бы какие-то проблемы, интересующие общество. Это познание и осуществляющий его разум инструментальны в том смысле, что с ними связаны представления о них как орудиях, посредством которых достигаются цели, находящиеся за пределами собственно познания. В этом смысле они — инструменты. В то же время, когда был выделен тип «знания о природе», было дано обоснование существования и иного типа знания и присущих ему наук: так называемые «науки духа», «науки о культуре», «науки об истории». Несмотря на многие неясности этого деления и вызванную им критику, подразделение на два типа знания приобрело характер классичности. В основе этого деления действительно лежат веские соображения. Рассмотрим некоторые из них. Несмотря на интенсивную экспансию методов естествознания в сферу культурноисторической и вообще человеческой жизни и деятельности, [22] занявшую почти весь XIX век, и особенно связанную со сциентическим оптимизмом позитивизма и других версий рационализма, продолжало сохраняться положение, когда оставались без ответа важнейшие вопросы существования человека. Становилась очевидной ограниченность утилитаризма в этике, социальной науки как эмпирической дисциплины, культурной антропологии (Морган, Тейлор), эмпирической психологии и других дисциплин, конструируемых с явной ориентацией на модель эмпирического естествознания. Следует обратить внимание на следующий момент: возникновение подобных наук неизбежно должно было проявить себя в этих областях. Всякий принцип исследования, чтобы обнаружить свою продуктивность, мощь и познавательные пределы обнаруживает стремление выйти за пределы той среди, в которой он возник и привел к продуктивным результатам. Такова диалектика познания. Никакие предварительные критические рассуждения по этому поводу, как свидетельствуют история науки, не принимаются в расчет до тех пор, пока в результате подобного методологического гипертрофизма не возникнут кризисные ситуации в науке, противоречия и разочарования. Примеров этого можно привести много. Особенно часты они в эпоху безраздельного влияния какой- либо научной позиции или корпоративной замкнутости наук. Достаточно напомнить ситуацию конца XVIII — первой трети XIX века, когда спекулятивная натурфилософия усиленно диктовала свои принципы опытному естествознанию. Ныне ученый, представляющий естественнонаучный рационализм, избалован интеллектуальным комфортом. За его спиной стоят колоссальные успехи науки. Он избавлен от сомнительного удовольствия искать объект своего исследования и обосновывать его наличие. Все, что достойно познания, мыслится ему находящимся в пределах его компетенции и рамках тех методов, которые созданы в естествознании. Совершено иная позиция у ученых, имеющих дело с феноменом культуры и духовной жизни человека. С точки зрения онтологических интуиций ученого-естественника они как бы не существуют, если не овеществлены и не воплотились в предметности, которые можно объективно зафиксировать. При этом не принимается во внимание, что культурные (и подобные им) феномены существуют в ином смысле, чем предметы естественного мира. В обстановке господства естественнонаучного рационализма и свойственных ему принципов определения существования объекта исследования, культура, если она не овеществлена, лишена статуса существования. Культуролог понуждаем постоянно искать, обосновывать и доказывать наличие своего предмета исследования, и нередко ему оказывается свойственен хронический недуг, который можно назвать «натуралистическим редукционизмом». Его сущность видится в осознанном или неосознанном тяготении сводить проблемы существования своего предмета исследования к тому виду, в каком как она принята в естествознании. Итак, выделим важнейшую проблему науки о культуре: проблему ее онтологической данности. Как существуют [23] феномены культуры? Что есть культурный факт? Как соотносится духовные и вещественные элементы в культурном предмете? Натуралистический редукционизм помимо онтологического аспекта имеет еще и методологический. Его сущность состоит в неустанном стремлении теоретика культуры приладить методологию естественных и «точных» наук к познанию собственного предмета, продлить их методологические принципы и подходы на ту сферу, которая не совпадает с естествознанием, наконец, в понимании самого процесса и целей познания культуры и человека по критериям, соответствующим наукам о природе. Именно методы последних чаще всего склонны трактовать как общенаучные. Подобный подход также имеет солидную родословную. Корни ее мы можем обнаружить в трудах основателей позитивизма (Дж. Милль, О. Конт), или европейского неореализма (Ф. Брентано). Последний крупнейший философ конца XIX начала XX веков, основатель «австрийской школы философии», сформировал постулат: «Метод философии тот же, что и метод естествознания». Именно он трактовал психологию как точную эмпирическую науку и создал предпосылки для понимания культурных феноменов как особых предметностей (труды его ученика А. Мейнонга). Итак, возникает другая важнейшая проблема — методологически-познавательное своеобразие знания о культуре. Что и как мы можем знать о культурном феномене? — вот его другая версия. Если в одном онтологическом смысле теоретику культуры приходится, преодолевая натуралистический редукционизм, искать особую аргументность, объясняющую специфическую сущность культуры, то в методологическом смысле он стремится развить методологическую программу, объясняющую, как осуществляется его постижение и в какой теоретической форме предстают полученные результаты. Чтобы представить механизм возможного решения указанных проблем, изложим некоторые из существующих представлений и сформируем свою позицию по этому вопросу. Упоминавшиеся выше немецкий философы В. Дильтей и Г. Риккерт, представители известной в свое время баденско-фрайбургской школы неокантианства, вводя описанное выше различие двух типов наук, обосновали его и онтологически (предметно), и методологически. Они утверждали, что культура и история существуют не так, как предметы естествознания, и постигаются совершенно иными способами. Однако главным образом они, особенно Г. Риккерт, уделяли внимание познавательно-мыслительным формам, в которых конституируется знание о культуре (науки о культуре). Онтологический аспект, представленный у них слабее, имеет тем не менее разработанность у иных представителей философии культуры. Сейчас хорошо известна историческая этимология термина и понятия «культура». Мы можем не останавливаться на этом поучительном материале, но обратим внимание на ряд выводов из истории слова. Как [24] древнегреческий термин «пайдейа», так и его латинский эквивалент «культура» в философских текстах истолковывается как особенности, состояния, качества человека и духа. Культура (пайдейа) — это прежде всего техника и сфера усилий личного совершенствования человека через систему воспитания и упражнений духа и тела. Об этом говорит и Аристотель, и стоики, трактовавшие культурность как заботу о духе и побуждения к его усовершенствованию. Цицерон, говоря о философии, трактует ее как «культуру души». Таким образом, изначально термин не субстатизирует то, что им именуется, а употребляется как характеристика качества иного предмета (человека, души), как выражение достоинства, его развитости. В субстанциональном смысле употребил его Пуффендорф (XVII в.), именно как определенное состояние, в котором может находиться человек в историческом развитии. Ему он противопоставил «естественное состояние», в коем отсутствует производящие совершенствование силы. В дальнейшем Гердер, сохранив субстанционализм Пуффендорфа, соединил представления о культуре с учением о ее историчности, то есть о наличии в ней сил развития, обеспечивающих переход от одной культурной эпохи к другой. Эта справка нужна, чтобы зафиксировать важный момент: факт культурного человека был зафиксирован в научной мысли раньше, чем факт культурного феномена как некоей субстанциональности (самостоятельной данности). Следует сделать еще одно замечание. Именно в связи с проблемой культурного человека стоит проблема свободы уже в античное время. Аристотель (и не он один) видит превосходство человека над животным в том, что ему даны разум и способность к труду с помощью которых создается то, что мы сейчас именуем культурой. Но не всякий труд формирует достойного человека, а только тот, который создает красоту жизни, не вызван пользой и необходимостью. Итак, культурный человек — это человек свободный. Свобода и культура оказываются связанными и в последующей истории проблемы. Она выразится позже в безусловно принятом положении; культура есть воплощение свободы, ее своеобразная мера. Только свободный человек творит красоту культурных. Человек под принуждением (раб, крепостной) может быть только орудием, с помощью которого нечто может быть реализовано, но творческим агентом культуры выступает только свободный человек (человек с момента своей освобожденности). Коль скоро мы ввели дополнительную тему — тему свободы, сделаем одну оговорку, аналогичную той, которую сделали вначале относительно термина «культура». Свобода — понятие столь же неопределимое, хотя представляется более фундаментальным, чем первое, ибо нет философской системы, в которой бы оно не было представлено в своеобразной трактовке. Следовательно, оно нагружено огромными неясностями и не может быть использовано без огромного числа оговорок. Мы сделаем лишь две. Понятие свободы мы связываем лишь с человеческой деятельностью, [25] которую называют творчеством. Все те термины, которые используются в естественных и технических науках, кроме однозвучия и некоторых приблизительных аналогий не имеют с ним ничего общего. Они выражают лишь естественные, определенного типа детерминистические или адетерминистические отношения и казуальные связи и поведения сложных систем. Второе замечание имеет в виду специфически русский лингвистический момент. Иногда синонимом термину «свобода» признается термин «воля». Мы считаем необходимым иметь в виду различия между ними. Слово «свобода» прежде всего выражение положительного смысла, означающее обладание некоторым качеством, в том числе и волей (свободная воля); слово «воля» в повседневном обиходе содержит указание на смысловые аспекты произвола, неопределенного и непредсказуемого поведения, безответственности, стихийного самовыражения, широкого, даже безграничного неконтролируемого самовыражения, отбрасывая эти смысловые нюансы на соприкосновенное с ним слово «свобода» и тем дискредитируя его положительный смысл. Обращаясь к основной теме — конституирования понятия «культура» как обозначающего некую реальность, отметим значение представлений об историзме в этом процессе. У Дильтея историзм и культура оказываются тождественными понятиями. Это оказывается возможным только в том случае, если смысл первого выражения видеть не в простой хронологической упорядоченной череде фактов и событий, а в том понимании, которое связано с философией немецкого романтизма. Согласно ей только дух находится в историческом измерении. Истинная история — это жизнь духа, создающего культуру. Он переходит из одного своего творческого состояния в другое, порождая типы и стадии культуры. Философия, сориентированная на проблемы духа, суть исторична, сама история. В итоге сложились две основные тенденции (середина XIX века): «натурализм», направленный на естественные науки и соответствующее знание; и «историзм», ориентирующийся на выражения духа, то есть культуру. К концу XIX века эти две тенденции закрепились в указанной вначале дихотомии наук. Каковы возможные перспективы решения проблемы определения онтологического статуса культуры? Освещая этот вопрос, мы выделим два важнейших подхода, находящихся за пределами религиозной постановки вопроса. Разумеется, ими не исчерпывается весь спектр возможных решений. Первый подход предлагают философы культуры, исходящие из некоторых естественнонаучных предпосылок. Таковы воззрения Тейяра де Шардена, В.И. Вернадского, П.А. Флоренского. Их особенность заключается в истолковании реальности культуры как некоторой универсальной сферы, возникающей на определенной стадии развития человечества и его духовности. Именно этот культурфилософский аспект прочитывается в учении о ноосфере. Ноосфера предстает как способ существования некоей духовной силы (разума) жизни, имеющей [26] космическое происхождение и несводимой ни к чему неорганичному и неживому. Такие представления связаны с общими ориентациями на учение о полях и на энергетизм в сочетании, как в случае П.А. Флоренского, с мистико-религиозной направленностью восточной патристики, восходящей к платонизму. Излагая в положительном смысле некоторые аспекты религиозной антропологии Григория Нисского, он пишет: «Духовная сила всегда остается в частицах тела, ею оформленного, где бы и как бы они не были рассеянны и смешанны с другим веществом». Если иметь в виду, что эта духовная сила есть культуротворческий элемент, то в этом случае культура приобретает статус изначальности. Конкретизируя свою позицию, Флоренский выдвигает идею о иневматосфере (сфере духа), расположенной на или вбиосфере, представляющейся в виде «особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, в круговорот духа. Несводимость этого круговорота к общему круговороту жизни едва ли подлежит сомнению» [26]. Гипотеза Флоренского, как и теория Вернадского, еще слишком общи и не проработанны, но общее направление представленного ими понимания, где искать объективную данность культуры (особые поля), не оставляет сомнений. Второй подход имеет чисто философское основание. Он связан с тем, что получило название онтологического плюрализма, — философским учением, отрицающим универсальность трактовки существования так, как она была сформулирована в классической науке. Согласно ему имеется большое разнообразие типов реальности, для каждого из которых существование присущих им предметов определяется специфическим образом. Следовательно, скажем, то, что реально в физическом ли и математическом смысле, не имеет онтологического статуса в мире ценностей этического, эстетического или иного происхождения. Иначе говоря, типу предмета соответствует свой тип бытия и способ его данности. Предметы культуры даны нам иначе именно в силу своего иного онтологического состояния, чем предметы природы. Они имеют природную основу, в которой, преобразуя ее, они овеществляются, но не она определяет их основное качество. Общетеоретические аргументы в пользу онтологического плюрализма представил ученик Ф. Брентано А. Мейнонг (начало XX века) в своей «жизни предметов». Она имеет свои корни, в философии неореализма и его логической версии — теории типов Б. Рассела; ее принципы именно в культурологическом аспекте развил польский философ Л. Хвистек в 30-е годы как концепцию «множественности реальностей». Для развития этого подхода целесообразным кажется привлечь идущую от И. Канта идею об условном модусе существования культурных установлении, принимаемого однако академично в реальном жизненном процессе. Это так называемый принцип «как если бы», в начале этого века давший основание «философии функционализма» (Г. Файхингер). Кант полагал, что многие принципиальные для человека [27] основания его жизни и деятельности (например, идея Бога) либо не имеют объективного онтологического основания, либо таковое не может быть ни доказано, ни опровергнуто. В этом случае мы полагаем их существующими «как бы» реально и строим свою деятельность относительно их как реально существующих фактов жизни. Файхингер, по сути, отнес к фикциям весь духовно-культурный мир человека. Фикционализм как крайняя субъективно-идеологическая теория не был принят в своей полной части, но оказал существенное влияние именно на трактовку статуса духовных элементов культуры. Если принять смягченный вариант принципа «как если бы», то мы обязаны задать вопрос о том, каким образом возникают эти условности, имеющие статус устойчивых культурных ценностей, приобретающих для нас значение общеобязательных объективированных нормативов, регуляторов отношений и породителей культурной деятельности. Самый общий ответ состоит в том, что все это продукты ума, эмоций человеческой преобразующей деятельности и т.д. Но он неудовлетворителен именно из-за своей общности. Представляется, что есть конкретизация его именно в учении о воображении, об его созидательно-творческом значении. Оно имеет очень глубокие корни, но в том аспекте, который мы имеем в виду, то есть не сужающим его до психического феномена, тождественного фантазии, мы встречаем его впервые также у И. Канта. Напомним, что он различал продуктивное и репродуктивное воображения. Первое он истолковывал как способность синтеза, благодаря которому из отдельных элементов знания образуется целостное знание. «Синтез вообще (…) есть исключительно действие способности воображения, слепой, хотя и необходимой функции души; без этой функции мы не имели бы никакого знания, хотя мы и редко осознаем ее», — писал он. Хотя в понимании Канта воображение не связано прямо с установкой «как если бы», но если в ней проявляется синтезирующая деятельность, тогда оно обнаруживает свою активность. Мы хотели бы оценивать функцию воображения значительно шире, именно как конституирующую способность, благодаря которой устанавливается мир культурной предметности (ценностей). К этому подталкивают исследования имагинативной способности Я. Голосовкера (см. его «Логика мифа»), Ч.Р. Миллса («Социологическое воображение») и других. С помощью деятельности воображения конституируется культурная картина человека; он активизирует эффективное действие ценностей, не имеющих наличного бытия, создает механизмы транспортизации ценностей в традиции и хранит образноценностную структуру культурных отношений, делая их значимыми как реальность. Но деятельность воображения прямо ставит возможность об условиях его возникновения и проявления его творческой силы. Решающим условием является свобода. Но это такое условие, которое неизбежно входит в саму деятельность воображения, в творческий процесс культурной деятельности, и таким образом, является по сути онтологическим [28] параметром культуры. Свобода определяет цели и направления имагинативного процесса и самодетерминирования лишь в той мере, в какой самодетерминирована культура, и в этом выражении он непрерывен. Гуманитарные науки соединяют в себе две функции: они постигают культуру, но, постигая, творят. Они вырабатывают видение, на основе которого культуролог обозревает мир, формирует его понимание. Но тем самым они в определенной мере и создают свой объект. Мир культуры был беднее и примитивнее до того, как в нем появился культуролог. Размышляя о нем, мы его творим. Волевое начало в новом историческом сознании: Фридрих Ницше С.И. Дудник Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.29-43 [29] «Когда-нибудь все будет иметь свой конец — далекий день, которого я уже не увижу, тогда откроют мои книги и у меня будут читатели. Я должен писать для них, для них я должен закончить мои основные идеи. Сейчас я не могу бороться — у меня нет даже противника». Эти слова были написаны, когда Ницше принялся за работу над своей книгой «Воля к власти» (Wille zur Macht). Начиная с июля 1886 года, Ницше составил себе точный план написания этой книги. «Мне нужно собрать все мои силы — здоровье, уединение, хорошее настроение…». Ницше выбирает Геную, где он прежде написал «Утреннюю зарю» и «Веселую науку» (Gaya Scienza), чтобы там уединиться для написания своей фундаментальной работы. Однако Корсика привлекает его больше: «Там был зачат Наполеон, и разве это место не предназначено для того, чтобы в нем предпринять переоценку всех ценностей? И для меня тоже настало время зарождения новых мыслей» [27]. «Наполеоновское» произведение должно быть составлено именно на Корсике и приводить всех в ужас. Какова сущность того, что должно приводить в ужас и пугает даже самого Ницше? Приступая к переосмыслению всех устоявшихся ценностей, Ницше обнаруживает волю к власти как праоснову бытия всего сущего в целом. В сердце природы заложена завоевательная, жадная к собственному самоутверждению сила. Всякий поступок, который не соответствует вполне этой силе, свидетельствует о лживости устремления и слабости воли. Ницше ставит вопрос именно таким образом: человек достигает своей предельной величины только тогда, когда соединяет быстроту и утонченность ума с известной суровостью и прирожденными природными жестокими инстинктами. Ницше подчеркивает, что именно таким образом древние греки понимали свою добродетель и таков смысл древнеримской “virtu” (добродетели и мужества). То же самое можно сказать и о французских политиках XVIII века. Фридрих II, Наполеон и Бисмарк, как утверждает Ницше, поступают согласно максиме воли к власти: «Надо иметь мужество проповедовать психологическую обнаженность» [28]. Ницше крепко держится этой отрывочной и наводящей на него ужас истины. Он решает задачу определения природы самых сильных людей. Учителя — идеал и пример жизни которых он теперь предпочитает — Наполеон и Цезарь Борджа. Тем не менее Ницше не едет на Корсику, он направляется в местечко Руту, неподалеку от Рапалло. Там он много читает, особое внимание уделяя современным авторам. Среди его книг: «Опыт морали вне обязательства и санкции», книги французских декадентов, Мопассана, Золя и др. Идея одна — основать на экспансивных началах жизни новую мораль. В этой связи его интересует религиозно-философская мысль Достоевского, которую он оценивает не как явление слабости, а как волю к власти, волю противостоять господству и принуждению [30] современного общества. Характеризуя общее состояние современной эпохи, Ницше говорил: «Европа никогда не была так богата людьми, идеями, вдохновением, никогда не была настолько подготовленной к осуществлению великих дел, как она является сейчас, и нужно вопреки всякой очевидности надеяться на все от этих масс, отвратительное рабское подчинение которых убивает всякую надежду» [29]. Подобное духовное состояние Европы Ницше определяет словом «нигилизм»: «Нигилизм стоит за дверями, этот самый жуткий из всех гостей» [30]. Если бытие определяется как воля к власти, к власти не ради смысла, а опять-таки ради власти, то все сущее в конечном счете превращается в материал для его последующей переделки и потребления. Всему назначается цена, с тем чтобы соотнести и контролировать его в мире практических потребностей человека. Все объявляется ценностью и служит для утверждения воли к власти. Как считает Ницше, все высшие ценности, правившие доселе жизнью и определявшие смысл человеческого бытия, потерпели крушение. Это значит, что они не могут уже служить усилению воли к могуществу. Человек современности стал сплошным противоречием, выражением изолганности мировоззрения: «христиане» века всеобщей воинской повинности, парламентаризма и идеологической культуры толкуют о «грехе», «искуплении», «потусторонности», «смерти на кресте». Три иллюзии, полагает Ницше, воздвигла себе человеческая надежда и мысль. И все они рухнули одна за другой. Во-первых, современная эпоха уверовала, что существуют определенные цели, поставленные мировому процессу, и строила целые ряды гипотез о смысле этих целей; но теперь она потеряла веру в цель вообще, и даже последняя из гипотез, выставленная пессизмом, выдававшим за цель уничтожение этого бесцельного мира, и она уже не находит себе «правдивых» душ. Современная эпоха верила в великое целое, благо которого требует самопожертвования отдельного человека; но этого целого она уже не видит теперь перед собой. Наконец, презрев этот реальный мир, не имеющий ни цели, ни целостности, современная эпоха начала создавать себе ряд фиктивных и измышляемых миров, видя в них «истину» бытия; но один за другим, полые внутри, падали эти миры; и тогда она потеряла веру в самую «истину» мира, веру в разум, благодаря которому воздвигались эти миры и благодаря которому сформировались метафизические системы немецкого идеализма. Попытки немецкой классической философии, начиная с И. Канта, спасти смысл мира, связав его с рационалистическим морализмом, неизбежно должны были при наступившем разочаровании в метафизике привести к потере всякой жизненной почвы под ногами, к обращению к «темной» основе жизни, к так называемой «гипофизике». Это общее и коренное разочарование порождает житейский пессизм и беспочвенность, своего рода всеобщий апофеоз без-основности, охвативший всю Европу. Ценности этого мира, подчеркивает Ницше, как построенные на потусторонних и сверхчувственных предпосылках, лежащих вне [31] жизни, и могли только привести к осуждению жизни и свойственной ей волевой энергии. Итак, налицо только осуждающие оценки и суждения: бытие, мир, деятельность потеряли смысл, жизнь изолгана. Жизнь в своей глубине есть творчество, а цели и ценности для такого творчества еще не произведены. Не переставая продлевать непрерывный процесс жизни, человечество в какой-то момент оказалось перед лицом «Ничто». Однако феномен нигилизма, подчеркивает Ницше, стал симптомом прежде всего физиологического упадка. В европейском нигилизме, который есть кризис жизни, сказалось отсутствие высшего типа человека, того редкого типа, творческая мощь которого и неисчерпаемая плодотворность поддерживали в прошлом в человечестве веру в свое особое предназначение. Низший тип человека («стадо», «масса», «общество»), отказавшись от свободы самостояния, возвел свои материальные потребности в ранг глобальных и метафизических ценностей и тем самым перестал соответствовать волевому началу бытийности. Низший тип человека захвачен миром идеальных проектов, которые ему навязываются в качестве «руководств к действию». Жизнь как таковая вульгаризируется, упрощается, поскольку властвует именно масса (См.: В. Райх. Психология массы). Властвующая масса взывает к тиранам и тиранизирует исключения, так что всякая исключительная личность теряет веру в себя и обращается к нигилизму. Однако сам по себе нигилизм, согласно Ницше, может быть показателем повышенной мощи духа. Активный нигилизм, направленный на разрушение — это предтеча нового строительства. Именно в этом смысле Ницше называл себя первым нигилистом, до конца исчерпавшим это направление. Поэтому его огорчало то, что прежняя тюбингенская традиция философствования воспринимала его исключительно как представителя нигилизма, отрицающего бытие как сознание. Однако творчество Ницше не сводится исключительно к разрушению метафизической традиции. Следуя основным положениям работы Шеллинга «О сущности человеческой свободы», он переводит ее в новое измерение воли как праосновы бытия и в связи с этим утверждает и разрабатывает культ нового человека, способного осилить все не-человеческое, с тем чтобы присутствовать и осуществлять себя в условиях господства воли к власти. Ницше писал: «Силе преклоняются на коленях, по старой привычке рабов и, тем не менее, когда нужно определить степень почитаемости, то обращаются к степени разумного начала в силе; надо измерить, в какой степени самая сила подчинена какому-нибудь высшему началу и обращена в его средство и служебное оружие. Но подобных мерил еще существует слишком мало, может быть, глаз и оценка гения считается даже богохульством. Таким образом все самое прекрасное погружено, может быть, в вечную темноту, тотчас же вслед за рождением. Я говорю здесь о расцвете той силы, которую гений обращает не на свои произведения, а на самого себя, как на творческое произведение, [32] иначе говоря, на обуздание себя, на очищение своей фантазии, на внесение порядка и выбора среди прилива идей и проблем. Великий человек остается невидимым, как далекая звезда, в том, что является наиболее замечательным в победе над силой, которая остается без свидетелей, не прославленной, не воспетой…» [31]. Согласно Ницше, на первый план выдвинулась задача фундаментальной переоценки устоявшихся ценностей. Прежде всего нужно подвергнуть решительной критике все прошлое философии, дабы раз и навсегда покончить со старыми ценностями и расчистить дорогу для переоценки всех ценностей. Философия искони была направлена против жизни, против всех тех чувств и инстинктов, которые возвеличивали жизнь и мирились с жизнью, против всякого искания смысла жизни в самой жизни. Ее главными врагами были приемлющие этот мир и становящиеся на его защиту. Все усилия метафизики были направлены на построение такого мира, который стоял бы по возможности в наиболее резком противоречии с миром действительности и воли. «Философия, — замечает Ницше, — была доселе великой школой клеветы» [32]. В подобном контексте Сократ для него выступает как представитель отвлеченной и умозрительной добродетели и справедливости. Своим вкрадчивым и злохитрым мышлением он разрушал великую народно-религиозную трагическую мысль греков. Вместо трагедии на первое место он поставил логику и стремление к рассудочной и сознательной «истине», направив их на борьбу с инстинктами и страстями, т.е. с основными элементами жизни. Именно Сократ отождествил мораль с логикой, разум с добродетелью и с блаженством и тем лишил моральные ценности их природного характера, положив начало искажению и обеднению «природного человека», т.е. волевого и властного. Платон продолжил дело Сократа, придав его философии окончательную форму на долгие века. Вплоть до наших дней Платон определил значение и характер враждебного жизни трансцендентного идеализма. Он перенес последние цели (causa finalis) нашей воли за пределы жизни и создал фикцию «истинного мира». Из философов последних столетий к врагам всего жизненного Ницше относит Канта с его идеей «категорического императива». Для Ницше кантовский императив — формула общеобязательного, безличного морального закона. Эта формула равенства — опаснейшая формула для жизни, которая, по сути дела, есть неравенство и борьба, и даже война всех против всех, сильных против слабых. Ведь жизнь восходит к высшим типам путем предельной дифференциации. Отрицая прежние ценности, приведшие к упадку жизни, Ницше стремится открыть и определить новые моральные ценности, которые должны занять место повергнутых. Осуществляя эту задачу, он набрасывает план своей будущей книги о воле к власти: 1) первая тема — европейский нигилизм; 2) вторая тема — критика высших ценностей; 3) третья тема — принцип новой оценки; 4) четвертая тема — дисциплина и подбор. В другом месте, уточняя мотивы своего произведения, [33] Ницше поясняет: «Третья книга: гипотеза законодателя. Связать заново беспорядочные силы таким образом, чтобы, сталкиваясь между собой, они больше не уничтожали друг друга; быть внимательным к реальному возрастанию этой силы» [33]. Это возрастание есть признак порядка, признак естественной иерархии. «Я отвергаю, — пишет Ницше, — идеализацию мягкости, которую называют добром, и поношение энергии, называемое злом, но существует история человеческого сознания, а знают ли моралисты о ее существовании? Эта история открывает нам множество других моральных ценностей, других способов быть добрым, других средств быть злым, она дает многочисленные оттенки чести и бесчестия. Здесь реальность обманчива и инициатива свободна: надо искать, надо измышлять» [34]. В центр своего исследования ценностей Ницше полагает разницу между двумя моралями: одной, продиктованной господами, другой — рабами, надеясь, что путем чисто филологического изыскания станет ясен смысл таких слов, как «добро» и «зло». Bonus, buonus, говорит Ницше, происходит от duonus, что значит воинственный; malus происходит от древнегреческого melas, что значит черный. Эллины, будучи белокурыми, определяли этим словом обычные поступки своих рабов и подданных из покоренных ими племен «черных людей». Вопрос о новых ценностях в горизонте нового определения низкого и благородного оказывается одним из сложнейших для Ницше вопросов. Он пишет: «Все науки заранее должны приготовить задачу философа будущего, состоящую в том, чтобы разрешить проблему ценностей и установить иерархию ценностей» [35]. По мере того как для мира обесцениваются прежние высшие ценности, сам мир все же не перестает существовать: именно этот, лишившийся ценностей, мир неизбежно будет настаивать на полагании новых ценностей. Коль скоро прежние высшие ценности рухнули, то новое полагание ценностей неминуемо становится по отношению к ним «переоценкой всех ценностей». «Нет» прежним ценностям проистекает из «да» новым ценностям. Для того чтобы обеспечить безусловность нового «да», предотвратив возврат и возможность компромисса с прежними ценностями, т.е. для того чтобы обосновать утверждение новых ценностей как движение против старых, Ницше новое полагание ценностей продолжает именовать «нигилизмом», но таким нигилизмом, через посредство которого обесценивание завершается приходом к новым ценностям, единственно теперь задающим меру истинности и ложности всего сущего. В другом случае Ницше нигилизм отождествляет с пессимизмом. При этом имеется в виду пессимизм силы, а не слабости, трагическая мудрость жизни. Пессимизм силы не строит себе иллюзий, видит опасности, не желает ничего затушевывать; он есть незамутненный, здоровый взгляд на вещи. Он требует ясного осознания тех условий и сил, которые, несмотря ни на что, все же позволяют совладать с исторической ситуацией и обеспечивают успех. Осознание принципов мира в [34] пессимистическом духе есть условие для ответа на вопрос об источнике нового полагания ценностей. «Проблема, — говорит Ницше, — заключается в том, чтобы возможно больше утилизировать человека и чтобы по мере возможности приблизить его к машине, которая, как известно, никогда не ошибается; для этого его надо вооружить добродетелями машины, его надо научить переносить огорчения, находить в тоске какое-то высшее обаяние; надо, чтобы приятные чувства ушли на задний план. Машинальная форма существования, рассматриваемая как наиболее благородная, наиболее возвышенная, должна обожать сама себя. Высокая культура должна зародиться на обширной почве, опираясь на благоденствующую и прочно консолидированную посредственность. Единственной целью еще очень на много лет должно бытьумаление человека, так как сначала надо построить широкое основание, на котором бы могло возвыситься сильное человечество. Умаление европейского человека это великий процесс, которого нельзя остановить, но который надо еще более ускорить. Активная сила дает возможность надеяться на пришествие более сильной расы, которая в изобилии будет обладать теми самыми качествами, которых именно не хватает настоящему человечеству (воля, уверенность в себе, ответственность, способность поставить себе прямую цель)» [36]. Ницше пытается открыть существование социального класса, нации, расы или части человечества, которые давали бы надежду на появление более благородного человека. Рассматривая данную проблему, он говорит о современном европейце: «Может ли сильная человеческая раса от него освободиться? Раса с классическими вкусами? Классический вкус — это желание упрощенности, акцентировки, мужество психологического обнажения… Чтобы возвыситься над этим хаосом и придти к подобной организованности, надо быть приневоленным необходимостью. Надо не иметь выбора: либо исчезнуть, либо возложить на себя известную обязанность. Властная раса может иметь только ужасное и жестокое происхождение. Проблема: где варвары ХХ века? Ясно, что они могут появиться и взять на себя дело только после потрясающих социальных кризисов; это будут элементы, способные на самое продолжительное существование по отношению к самим себе и гарантированные в смысле обладания самой «упорной волей»» [37]. Но если современный европейский человек демонстрирует упадок воли, возможно ли усмотреть в современной Европе элементы, предназначенные к этой победе? В этой связи Ницше говорит: «Самые благоприятные преграды и лучшие средства против современности: во-первых: 1) Обязательная военная служба, с настоящими войнами, которые прекратили бы всякие шутки. 2)Национальная узость, которая упрощает и концентрирует». И далее: «Поддержка военного государства — это последнее средство, которое нам осталось или для поддержания великих традиций, или для создания высшего типа человека, сильного типа. Все обстоятельства, которые поддерживают неприязнь, расстояние между [35] государствами, находят себе таким образом оправдание…» [38]. Ницше указывает на границы двух значительных и здоровых группировок, которые он рассматривает как организованные и дисциплинированные силы, предназначенные к тому, чтобы открыть трагическую эру в Европе: «Партия мира, ничуть не сентиментальная, которая запрещает и себе, и своим членам вести войну; она запрещает также своим членам обращаться к судам; она возбуждает против себя пререкания, гонения; по крайней мере, на время она становится партией угнетаемых; вскоре же она превратится в великую партию, свободную от чувства злобы и мести. Партия войны, которая с той же логичностью и строгостью к самой себе действует в обратном порядке» [39] (см.: Освальд Шпенглер «Закат Европы»). Социальный переворот и производящие его классы имеют своим условием волевое начало, которое господствует и правит в бытии всего сущего. Волить, согласно Ницше, значит хотеть стать господином. Воля пребывает даже в воле слуги. Она присутствует у него не в том смысле, что благодаря ей слуга способен выйти из роли слуги и сам сделаться господином. Суть дела прежде всего состоит в том, что слуга как слуга всегда хочет, чтобы был некто стоящий ниже его, кому он мог бы отдавать приказания. Тогда он, будучи слугой, все равно является господином. Быть слугой, оказывается, также означает хотеть быть господином. Властная воля — это не какое-то произвольное и случайное желание и не просто неопределенное стремление к чему-то, но воля сама в себе есть приказание. Сущность же приказывания состоит в том, что отдающий приказания — господин. Он — господин, потому что со знанием распоряжается возможностями действования. В то же время ожидающий приказания выше самого себя, поскольку он, повинуясь, рискует самим собой. Приказывать, повелевать не то же самое, что раздавать команды налево и направо. Приказывать — значит сознательно преодолевать самого себя, — приказывать труднее, чем подчиняться. Волить — значит собираться в кулак. Лишь тому, кто не может слушаться самого себя и рисковать самим собой, приходиться особо приказывать. К тому, чего волит воля, она не стремиться как к такому, чего у нее еще нет. То, чего воля волит, у нее уже есть в самом акте воления. Ибо воля, превышая саму себя, приводит себя в подчинение себя, т. е. волит саму себя. Акцентируя этот момент, Ницше пишет: «Вообще волить — это то же, что хотеть стать сильнее, хотеть расти» [40]. «Сильнее» здесь значит — «больше власти», а «больше власти» значит «власть и власть». Сущность власти в том состоит, чтобы стать господином на уже достигнутой ступени власти. В этой связи Ницше подчеркивает, что власть остается властью лишь до тех пор, пока она остается постоянным возрастанием власти. «Бытие власти!» — такова сущность воли. Ницше принимает такую постановку вопроса. Мир представляет из себя вечное и абсолютное становление, в котором нет ни пребывающей, ни становящейся [36] субстанции, ни конечной цели, к которой бы стремилась эволюция. Действительный мир — это хаос, в котором нет ни единства, ни порядка, ни логики, ни целесообразности. Во многом мысль Ницше созвучна мысли его предшественника А. Шопенгауэра, программное сочинение которого так и называлось «Мир как воля и представление». Ведь именно воля привносит порядок в хаос, являясь «достаточным основанием» мира представления. Воля — это отнюдь не конечное стремление, поскольку возрастание власти бесконечно и остановиться на известной ступени власти означает потерю и ослабление власти. Всякое конечное стремление, равно как и становление в объективном мире, являются производными от воли к власти. Они лишены всякого смысла, о них нельзя сказать, что они разумны или, напротив, неразумны, добродетельны или беспощадны, моральны или безнравственны. Они в высшей степени безразличны и аморальны и не преследуют никакой цели. Более того, они не подчинены необходимости и не детерминированы никаким смыслом. Они не покорствуют никакому закону и не следуют никакому правилу. Поэтому стремление и становление как таковые, по сути дела, не доступны никакому разумному пониманию и истолкованию. Человеческая мысль не может охватить их. Все, что можно сказать о них, так это то, что они, в конечном счете, являются результатом состязания между энергиями, другими словами, между соперничающими волями, подавляющими друг друга непрестанно борющимися за превосходство друг над другом. В противовес стремлению и процессу становления власть вечно находится на пути к самой себе, не теряя саму себя из виду. Тезис Ницше о «вечном возвращении к тому же самому» говорит о том, что воля к власти присуща всякому становлению и представляет бытийную основу всего сущего в целом. Воля к власти — это наиболее элементарный факт, не допускающий никакого дальнейшего объяснения. Воля к власти оказывается основополагающей чертой всего действительного и действенного. Согласно Ницше, сущность воли к власти как основополагающую черту времени нельзя установить посредством психологического, социологического или какого-либо другого рода наблюдения. Такое наблюдение говорит в пользу исторического прогресса человечества; однако человечество, заключает Ницше, продвигалось и продвигается до сих пор не столько к прогрессу, сколько к дегенерации и декадансу. То же самое можно сказать и о всей природе в целом. «Все животное и растительное царство не развивается от низшего к высшему, — но все в нем идет вперед одновременно, спутанно, вперемежку и друг на друга». Идея прогресса вообще есть «идея современная, то есть ложная» [41]. В случае с психологией последняя обретает свою истинную сущность, т.е. способность полагать свой предмет и познавать его, лишь через посредство воли к власти. Согласно этому принципу психология определяется Ницше как «морфология и эволюционное учение о воле к власти» [42]. Понятая через призму воли к власти психология выясняет [37] следующее: чтобы воля стала возрастать, она должна иметь перспективы и возможности, которые укажут путь возрастанию власти. Постигаемый таким образом верховный принцип возрастания власти гласит: нет самосохранению или постоянству энергии; сила стремится не к устойчивости, а к росту; всякий атом силы и всякое специфическое тело желает распространить свою власть на пространство во всем его объеме. Наталкиваясь на такое же усилие со стороны других атомов и тел и вступая в некоторое соглашение с теми, которые обладают достаточными для такого объединения средствами, они совместно предпринимают дальнейшую борьбу за власть, и так до бесконечности. Таким образом возникают системы сил, правящие центры, сохраняющие свою устойчивость на более или менее долгое время. Само человеческое тело — одна из таких сложных группировок систем сил, непрестанно борющаяся за возрастание власти. Ницше поясняет: «Вообще волить — то же самое, что хотеть стать сильнее, хотеть расти, — а для всего этого еще и хотеть средств» [43]. Мир как таковой есть совокупность действий каждой из сил на целое всех остальных сил и систем сил. «Где ни находил я живое, — говорит Ницше, — везде я находил волю к власти: даже и в воле услужающего я находил волю господствовать» [44]. В противоположность Канту Ницше не признает, что пространство и время суть сугубо субъективные, т.е. сугубо человеческие, формы восприятия всего являющегося, так или иначе раскрывающегося человеку. Так как сумма сил, т.е. возможностей проявления воли к власти ограничена, а время, в котором проявляется эта воля, бесконечно, то через громадные промежутки времени должны наступать в мироздании все те же комбинации сил, все те же констелляции основных элементов, и картина жизни будет повторяться в вечности бесчисленное число раз. Этой идее Ницше придавал громадное значение. Она отмечена во всех планах его последней работы. «Вечное возвращение» есть «религия религий». «Слабый ищет в жизни смысла, цели, задачи, предустановленного порядка; сильному она должна служить материалом для творчества его воли. Сильный любит нелепость жизни и радостно приемлет свою судьбу» [45]. Необходимо, подчеркивает Ницше, решительным актом воли принять эту жизнь, как она дана, со всеми ее страданиями и муками, со всей ее бессмыслицей. С этой точки зрения идея «вечного возвращения» есть конкретное выражение пафоса приятия жизни, категорический императив, поставленный нашей воле, устремление не к данной и сущей цели, но к заданному нами себе идеалу непрестанного возрастания власти. Многие полагают, исследуя философию «воли к власти», что Ницше без всякого основания посчитал возможным приписать себе и выдать за свое личное и капитальное открытие старую, неоднократно высказанную мысль (о «вечном возвращении» говорили Пифагор, Платон, Аристотель, стоики, Лукреций). Другие указывают на научную необходимость «вечного возвращения», совсем не обоснованную у Ницше и [38] допускают возможность серьезных математических и механических возражений (Зиммель и др.). Однако сам Ницше в идее «вечного возвращения» продумывал сущность того человечества, которое волей к власти определяется к перенятию господства над миром. «Вечное возвращение» есть поэтому идея по существу своему религиозная. Она может быть понята до конца как ведущий «догмат» «религии вечности» Ницше. Идея «вечного возвращения» неотделима от другой идеи Ницше — идеи «сверхчеловека». Сущность эпохи в образе «сверхчеловека» входит в фазу своего завершения и окончательного раскрытия. Под «сверхчеловеком» Ницше понимает вовсе не некую отдельную особь, в которой способности и намерения всем известного обычного человека гигантски умножены и возвышены. «Сверхчеловек» — это и не та людская разновидность, что возникает лишь на путях развертывания философии жизни Ницше. «Сверхчеловек» — это тот, кто самой бытийностью всего сущего, т.е. волей к власти, поставлен перед задачей перенять господство над миром; тогда как «прежний» человек в своем внутреннем существе вообще еще не подготовлен к бытию, которое между тем начинает властно править во всем сущем. В поставленной так задаче о себе властно заявляет и правит необходимость того, чтобы человек поднимался над «прежним» человеком — не из любопытства и не ради простого произвола, но исключительно ради бытия как такового. Но тогда возникает вопрос: какова сущность сверхчеловека? В понимании Ницше идея сверхчеловека — не охранная грамота для буйствующего и слепого произвола. Это есть закон длинной цепи величайших самоопределений, в течение которых человек постепенно созревает для бытия-как-воли. Отживающий вместе с эпохой «человек» потому именуется «прежним», что его сущность хотя и определена волей к власти как основополагающей чертой времени, однако он все еще не постиг и не перенял волю к власти в качестве такой основополагающей черты. Поднимающийся над прежним человеком сверхчеловек вбирает волю к власти в свое собственное воление. На осознание этой новой реальности человека и направлена прежде всего «переоценка ценностей», провозглашенная Ницше. Вместе с тем Ницше мыслил свое дело и как освобождение зарождающейся сверхчеловеческой жизни от губительных иллюзий, отвращающих взор человека от подлинной сути его бытия. Так формула общеобязательного, безличного морального закона, ценности сверхчувственного мира, утратившие для жизни силу действенности, не пробуждающие и не несущие на себе жизнь, суть опаснейшая угроза для его жизни, которая по существу есть неравенство и борьба, достижение высшего антропологического типа путем высшей дифференциации. Об этом свидетельствуют такие слова Ницше, как: «У нас искусство — для того, чтобы мы не погибали от истины» [46]. «Но истина не считается высшей мерой ценности, тем более наивысшей властью» [47]. Один из разделов «Сумерек кумиров» озаглавлен следующим [39] образом: «Как «истинный» мир стал в конце концов басней. История одного заблуждения». Здесь в сжатой форме излагается краткий смысл отрицания за истиной абсолютной ценности. Более того, данное изложение претендует на то, чтобы выразить весь смысл истории философии. «1. Истинный мир доступен мудрецу, благочестивому, добродетельному, — он в нем живет, он сам есть этот мир. (Старейшая форма этой идеи, относительно разумная, простая, убедительная. Описательная форма положения: «я, Платон, есть истина».) 2. Истинный мир здесь пока недоступен, но обетование его дано мудрецу, благочестивому, добродетельному («грешнику, принесшему покаяние») (Шаг вперед идеи: она становится тоньше, замысловатее, непостижимее, — она становится женщиной, становится христианкой…) 3. Истинный мир недостижим, недоказуем, не может быть обещан, но уже как мысль он утешение, обязательство, императив. (То же солнце, в сущности, но видимое сквозь туман и скепсис; идея стала возвышенной, бледной, северной, кенигсбергской) 4. Итак, истинный мир недостижим? Как бы то ни было, но — он не достигнут. А как недостигнутый он и неведом. Следовательно, в нем не может быть и ничего утешительного, искупляющего, обязывающего: к чему могло бы нас обязать нечто неведомое? (Серое утро. Первый зевок разума. Петушиный крик позитивизма.) 5. «Истинный мир» — идея, ни на что более не нужная, даже ни к чему более не обязывающая, — идея, ставшая бесполезной, лишней,следовательно, идея опровергнутая, так отделаемся же от нее! (Белый день; завтрак; возвращение здравого смысла и веселости; краска стыда на лице Платона; чертовский шум всех свободных духом.) 6. От истинного мира мы отделались: какой же мир еще остался? Может быть, мир кажущийся?.. Но нет!Вместе с истинным миром мы отделались и от мира кажущегося! (Полдень; минута кратчайшей тени; конец дольше всего длившегося заблуждения; высшая точка человечества; incipit Zarathustra.)» [48]. Конечной целью всех стремлений человека, согласно Ницше, является не польза, и не удовольствие, и не истина как таковая, а исключительно жизнь. На языке Ницше воля к власти, становление, жизнь и бытие в самом широком смысле — все это одно и то же. В пределах становления жизнь, т.е. все живое, складывается в соответствующие центры воли к власти. Такие центры — образования, осуществляющие господство и власть. В качестве таковых Ницше подразумевает искусство, государство, религию, науку, гражданское общество. Поэтому он говорит: «Ценность — это, по существу, точка зрения увеличения или убывания этих центров господства (увеличение или убывание относительно их функции господствования)» [49]. И далее: «Ценности и их изменение пропорциональны росту власти у полагающего ценности» [50]. Таким образом нет безусловно истинной ценности, и нет безусловно ценной истины. Соответственно мораль, поскольку она есть здоровое жизненное явление, всегда инстинктивна, и истина есть только одно из [40] звеньев в системе средств к осуществлению новых ценностей, поставляемых к осуществлению волей к власти. Приступая к работе над книгой «Воля к власти» уже после создания образа Заратустры, Ницше подошел к систематическому изложению всех оснований своих зрелых воззрений на жизнь и поставленные ею цели, предпослав этому изложению новую и углубленную критику тех ценностей, которые долгие века властвовали над человечеством и определяли его духовное бытие. Еще в «Веселой науке» Ницше подверг исторической критике господствующие ценности, блокирующие волю как бытийное измерение всякого сущего. В качестве главнейшей из них он считал христианского Бога. В «Веселой науке» (афоризм 343) говорится о смерти этого Бога: «Величайшее из событий новейшего времени — «Бог мертв». Вера в христианского Бога сделалась неправдоподобной, — оно начинает отбрасывать теперь свою тень на Европу» [51]. Мысль о смерти Бога и о смерти богов была знакома уже раннему Ницше. В одной из записей, относящихся ко времени работы над первым своим сочинением «Рождение трагедии», записано: «Верую в издревле германское: всем Богам должно будет умереть». Еще раньше до него молодой Гегель писал о «чувстве, на которое опирается вся религия нового времени, о чувстве: сам Бог мертв…». Ницше смело заявляет о том, что боги умерли, теперь должен жить «сверхчеловек». Вот его слова: «Безумец…, что среди бела дня зажег фонарь, отправился на площадь и там без передышки кричал: «Ищу Бога! Ищу Бога!» А там как раз толпилось много неверующих, которые, заслышав его крики, принялись громко хохотать: Он что — потерялся? А безумец ринулся в самую толпу, пронзая их своим взглядом. «Куда подевался Бог? — вскричал он. — Сейчас я вам скажу! Мы его убили - вы и я! Все мы его убийцы!» [52] Можно было бы предположить, что эти слова — «Бог мертв» — выражают мнение атеиста Ницше, чисто личное и потому одностороннее, — тогда нетрудно опровергнуть его ссылкой на то, что в наше время очень многие посещают храмы, перенося свои беды и тяготы на основе христианской веры в Бога. Однако остается вопрос, правда ли, что приведенные слова Ницше — лишь экзальтированный взгляд мыслителя, о котором не преминут напомнить, что напоследок он сошел с ума? Иными словами, не содержат ли выражения о смерти Бога неких предельных формулировок метафизического значения? Поскольку Ницше бытийность всего сущего постигает как волю к власти, его мышление движется в направлении ценностей, вопрос о ценности для него является основным и ведущим. Положение о том, что Бог мертв, как и сама истина суть образы господства воли к власти. Само учение о воле к власти Ницше называет «принципом нового ценностного полагания». Этот принцип постигается им в смысле подлинного завершения нигилизма, где нигилизм есть не просто обесценивание высших ценностей, но и выступает как форма преодоления всякого нигилизма, поскольку воля к власти мыслится им как источник и мера [41] нового полагания ценностей. Новые ценности непосредственно начинают определять человеческое представление и равным образом вдохновлять человеческие поступки и дела. Человеческое поднимается в иное измерение событий — таково главное открытие философии жизни Ницше. В «Веселой науке» безумец о людском деянии, об убийстве людьми Бога, т.е. о деянии, вследствие которого обесценился весь прежний сверхчувственный мир, говорит следующее: «Никогда еще не свершалось деяние столь великое — благодаря ему кто бы ни родился после нас, он вступит в историю более возвышенную, нежели все бывшее в прошлом» [53]. С осознанием того, что «Бог мертв» и что лишь господствующий утверждает «справедливость», начинается осознание радикальной переоценки прежних высших ценностей. С таким осознанием сам человек переходит в иную историю, в историю высшую, поскольку в ней принцип всякого ценностного полагания — воля к власти — особым образом постигнут и воспринят как действенность и реальность всего действительного. В этой новой истории человек волит господство над всей сферой сущего в качестве возможного материала тотального объективирования. Именно поэтому метафизика воли Ницше есть такое же выражение сущностного полагания ценностей, как и метафизика труда Маркса. Характерно, что если для Ницше религия и истина оказываются оружием рабов и черни, а в самом христианстве находит свое выражение «ненависть» черни, «прежнего» человека к благородным, в бытии которых сосредоточена и собрана вся воля мира и воля которых не ограничена волей несуществующего Бога, то для марксизма религия и общечеловеческая истина являются оружием господствующих классов в их борьбе против масс. Согласно Ницше, иудейско-христианская традиция основывается на мести, а символ креста является изощренным выражением мстительного духа Израиля, причем эта традиция тождественна «восстанию рабов в морали» [54], согласно же Марксу, религия есть «опиум народа» [55]; Ленин же назовет религию «духовной сивухой». По словам Ницше, первоначальной почвой христианства были «низшие сословия,подонки античного мира» [56]. И далее: «Анархист и христианин одного происхождения… Сравнимхристианина и анархиста: их цель, их инстинкт ведет только к разрушению… Христианин и анархист: оба dйcadents, оба — инстинкт смертельной ненависти против всего, что возвышается, что велико, что имеет прочность…» [57]. В «Веселой науке» Ницше риторически вопрошает: «Что прежде всего перенимают нынче дикари у европейцев? Водку и христианство, европейские наркотики. — А от чего они скорее всего погибнут? — От европейских наркотиков» [58]. Согласно Марксу, «…человеческая сущность не обладает истинной действительностью и потому получает иллюзорное осуществление в боге» [59]. Энгельс говорит о том, что «всякая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, — отражением, в котором земные силы принимают формы неземных» [60]. В другом месте [42] он говорит: «Фантастические образы, в которых первоначально отражались только таинственные силы природы, приобретают теперь также и общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил. На дальнейшей ступени развития вся совокупность природных и общественных атрибутов множества богов переносится на одного всемогущего бога…» [61]. Подобное оперирование ценностями осуществляется Ницше и марксизмом в горизонте отрицания истины и бытия. Сам Ницше понимал свою философию как введение к началу новой эпохи. Свое время он оценивал как начало такой эпохи, чьи сдвиги не будут поддаваться сравнению с прежде известными. Исчезновение и обесценивание прежних ценностей воспринимается уже не как голое уничтожение, ущерб или утрата, но приветствуется как освобождение, поощряется как решительное приобретение и понимается как завершение (слова М. Хайдеггера о том, что ныне состояние войны и состояние мира потеряли всякий смысл). Нигилизм как отрицание истины и бытия, включая и бытие Бога, есть приходящая к господству мысль относительно глобальной переоценки всех ценностей, т.е. уничтожение и разрушение прежних ценностей, низведение сущего до голого ничто и бесперспективность человеческой истории имеют своей оборотной стороной решимость изменить вид и направленность полагания ценностей, определение их сути. В этом смысле вся прежняя традиция оценки не просто обесценивается — лишается корней сама потребность в ценностях прежнего рода. Поэтому искоренение прежних потребностей всего надежнее произойдет путем воспитания растущей к ним нечувствительности и утверждения «диктатуры» маргинального мышления. Его назначение в том, чтобы «взращивать» новые ценностные потребности и изгладить из памяти прежнюю историю посредством переписывания ее основных моментов. Ценностное мышление — всегда мышление властное. Полагаемые новые ценности только тогда явно могут быть условиями власти, когда они сами имеют черты власти для осознанного исполнения воли к власти. В связи с этим Ницше писал: «Ценность есть высший квант власти, который может вобрать в себя человек — человек: не человечество. Человечество гораздо скорее еще средство, чем цель. Дело идет о типе: человечество просто подопытный материал, чудовищный избыток неудачников: руины» [62]. Теперь речь идет уже об утверждении нового антропологического типа, способного осуществить переоценку всех ценностей. В новых условиях, открытых метафизикой воли Ницше, истина как бытие есть «последнее облачко испаряющейся реальности» [63]. Соответственно и предшествующее развитие метафизики как вопрошания о бытии и истине ставится под вопрос: «Сознательное мышление, именно мышление философское, есть наиболее бессильный, а потому относительно более спокойный и ровный вид размышления: так что именно философ легче всего может быть приведен к ошибочному суждению о [43] природе нашего познания» [64]. «Философу, ввиду аскетического идеала улыбается optium условий высшей и смелой отвлеченной мысли; аскетическим идеалом он не отрицает существования; наоборот, им он утверждает свое существование и только свое существование, и это, по всей вероятности, в такой степени, что он не далек от дерзновенной мысли — pereat mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fiam» [65], т.е. пусть гибнет мир, да будет философия, да будет философ. Да будет. Говоря словами одного из героев «Записок из подполья» Достоевского, чтоб свету провалиться иль мне чай не пить. Этим, как полагает Ницше, в современную эпоху определяется сущность высших человеческих стремлений. Э.Юнгер: опыт первоначального понимания жизни и творчества Ю.Н. Солонин Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.44-75 [44] Когда готовилась данная глава, пришло известие, что Эрнст Юнгер скончался. Печальное событие произошло 17 февраля 1998 года. Этот прискорбный факт мы специально подчеркиваем, поскольку в ряде русских изданий, посвященных крупнейшему немецкому писателю и мыслителю двадцатого века, утвердилось неверное представление о его гораздо ранней кончине [66]. Психологическим объяснением этой научной бестактности может служить то обстоятельство, что Эрнст Юнгер прожил почти 103 года. Он родился 29 марта 1895 года в славном университетском городке Гейдельберге. Его отец, Эрнст Георг Юнгер, химик по профессии, имел неплохую возможность осуществить научную карьеру, опекаемый известным ученым-химиком Виктором Майером, профессором Гейдельбергского университета, под руководством которого он защитил докторскую диссертацию. Но он отказался от карьеры ученого, предпочтя ей удел аптекаря. Эрнст-младший был первенцем, за ним вскоре последовали рождения еще шестерых детей. Из них нам следует назвать только Фридриха Георга (1 сентября 1898-20 июля 1977 гг.), ставшего известным поэтом и писателем, а также и социальным философом. С Фридрихом Георгом Эрнста связывала всю жизнь искренняя дружба, устанавливающаяся обычно между соратниками и исповедниками сходных учений, далеко превысившая крепость родственных уз. Судьбе было угодно, чтобы из всего многочисленного семейства Юнгеров дольше всех довелось прожить именно старшему сыну. Его жизнь удивительна не только своей длительностью), не только исключительной биологической выносливостью, позволившей Э. Юнгеру провести ее в полном здравии, несмотря на все опасности, которым он ее подвергал, и обеспечившей работоспособность, ясность ума и память до самой последней черты земного бытия, но и невероятной творческой потенцией, сохраненной им, как и здоровье, до самой кончины. В этом смысле Юнгер — несомненно легенда немецкой культуры XX века. Таковы основные биографические вехи его жизни. Германия конца прошлого века, на который приходится рождение и раннее детство Э. Юнгера, представляла собой величественное явление в концерте европейских государств. Пруссия, в результате победоносных войн и хитроумно-напористой политики Бисмарка, объединив до той поры разрозненные и копошащиеся в мелочной династической политике прежние немецкие королевства, герцогства и княжества в единое государство, неожиданно предстала перед миром великой державой, присвоившей себе гордое право именоваться «второй империей» германского народа. Ее политические амбиции и притязания, особенно питаемые тщеславием Вильгельма II, не знали меры. Если до середины XIX века Германия виделась европейцам страной, овеянной мечтательным [45] романтическим консерватизмом, родиной отвлеченной, лишенной практического смысла философии, обществом скромных, строгих правил общежития и ревностной бытовой набожности, то к концу века в этом образе происходит решительное изменение. Немецкая техническая мысль делает впечатляющий рывок и выводит научную мысль страны на лидирующие позиции в мире. Германия становится страной ученых и изобретателей. На этой почве бурно развивается индустрия стали, машин, химии и электричества, внося существенные изменения в традиционно крестьянский средневековый пейзаж страны. Прусская военно-бюрократическая система становится эталоном организации не только всей государственной, но и общественной жизни. Утверждается дух субординации, дисциплины, ответственности, долга, самоконтроля; они включаются в кодекс основных личных и гражданских добродетелей, становятся мерилом человеческого достоинства. Армия, бывшая главным орудием единения нации и упрочения национального достоинства, возводится в символ гордости нации, а военная служба признается почетной обязанностью истинного немца. С этого момента европейцы стали все чаще сталкиваться с новым духовным комплексом — германским милитаризмом как особой формой национального самосознания. Его самоуверенная горделивость нередко плохо скрывала обывательскую кичливость; он упорно поднимал голову, и настало время, когда пангерманизм бросил вызов самой владычице морей и владетельнице колоссального колониального мира — Англии. Германия ставит перед собой задачу оспорить ее морское военное могущество и приступает к созданию грандиозного флота. Настороженность вызывали и территориальные притязания немцев на колониальных континентах; в Африке им удается прибрать к рукам территории, в несколько раз превышающие своими размерами метрополию. Семена европейского и мирового раздора, возбужденные германскими притязаниями, прорастали, давали исподволь всходы, но серьезные грозы казались невероятными миру, упивавшемуся плодами цивилизации, науки и техники. Европа вкушала удовольствие комфорта, верила в разум и исповедовала культ прогресса. В конце века проблемами большими, чем политические, европейскому интеллектуалу представлялись процессы в сфере культуры. Казалось, что именно здесь таятся самые важные заботы европейского человека. На фоне хорошо устроенного быта конца века беспокойство вызывали безрадостные эксцессы духовного порядка. В своей совокупности они были обозначены как явления декаданса и модернизма. Вычурное эстетство бросало вызов несомненным по своей пользе во мнении большинства положительным буржуазным добродетелям жизни, посягало на нравственные устои общества и церкви. Появились новые выражения и парадоксы, эпатирующие общественное мнение сомнительными смыслами, прежде недопустимыми в публичном общении. Они рождались в периферийных социальных сферах, общение с которыми, если не табуировалось полностью, согласно критериям буржуазной [46] морали, то, во всяком случае, жестко регламентировалось. Поэты, художники, писатели все чаще становятся возмутителями общественной нравственности. Они вносят скепсис, третируют добродетели обеспеченного скромного существования, пророчествуют о человеке-герое грядущих времен. И мир философии оказался подточенным новыми тенденциями. Из мрака забвения и непризнания выходит философия Шопенгауэра. Она несет с собой необычные сюжеты, понятия и видение прежде таких естественных и беспроблемных вещей. Все, что было добыто философской мыслью и наукой прежних эпох, — представления о хорошо организованном порядке мира, подвластного строго и прочно установленным наукой законам, о сфере естественных процессов, безупречно объясняемых достоверными научными методами, учения об общественных организмах, постепенно цивилизующихся и обретающих правильную социальную организацию, которые неуклонно втягиваются в процесс совершенствования, именуемого прогрессом, и многое другое, — все это с точки зрения новой философии оказывалось мнимостью, поверхностной и лишенной понимания истинного смысла искусственной рациональной конструкцией. В действительности же миром правят силы, которым не свойственны ни порядок, ни разумный смысл, ни цель, ни четкая организация. Они тревожно дремлют под коркой косного бытия, но их разрушительная мощь безгранична, и настанет время, когда они пробудятся и сокрушат мировой порядок. Они неведомы и непостижимы. Смысла и истины нет не только во внешнем мире, не только в социальном устройстве и истории, но их нет и в самой индивидуальной человеческой жизни. Чувства беспокойства, катастрофы и тревоги постепенно подтачивают европейский разум. Если к философии Шопенгауэра европейская мысль еще как-то приспосабливалась, смягчая свой ригоризм, то такое явление, как книга Эдуарда фон Гартмана «Философия бессознательного» (1869, рус. пер. 1902), породила бурю возмущения защитников академической науки, общественной нравственности и культуры. Дух иррациональности мощно потеснил принцип разумного, вызвав к жизни новые мировоззренческие установки. Они утверждали первенство ценности негативной, согласно прежним нормам, морали и жизненной ориентации. От жизни требовали порыва, выхода за пределы докучливой рутины повседневности, расчета с нею по ее действительной цене. А она оказывалась ничтожной. Ныне напрочь забытый эпигон Шопенгауэра Филипп Майнлендер (настоящее имя — Филипп Батц) в своей книге «Философия избавления» (1876) указал эту цену не только философским способом, но и личным примером — самоубийством. Жизнь бессмысленна и ничтожна во всех своих формах. Космос, с которым она слита, всеми своими проявлениями устремлен к одной цели — к смерти. Таким образом, если существует смысл бытия, то он в достижении абсолютного Ничто, в отрицательности, в аннигиляции жизни. Признав эту истину [47] разумом, нельзя уклониться от ее осуществления на деле. Идея смерти в своем особом, прежде немыслимом эстетическом модусе вошла в культурное сознание европейца. Конечно, для обывательского большинства этот способ следования призывам философского учения был неприемлем. Но дух скепсиса, анархическое бунтарство, эпатаж, томление по сокровенному, порывы в неизведанное и необычное, рождавшее страсть к экзотике, к разрыву с обыденностью, стали важными чертами физиогномического рельефа европейской культуры конца XIX — начала XX столетья. В настоящее время за эпохой, характеризуемой вышеуказанными признаками, закрепилось наименование модернизм. Шопенгауэр, Гартман, Ницше были только ее провозвестниками, предложившими философскую увертюру; основное же действие, развертывание культуры модернизма пришлось на период конца XIX начала XX веков, закончившийся Первой мировой войной. Изучение модернизма не относится к актуальным темам истории духовной жизни. Доныне не утвердилось понимание его как целостной и относительно самостоятельной эпохи, пережитой Европой за три десятилетия до первой мировой войны и генетически с нею связанной. Этот короткий и чрезвычайно интенсивный период по своему значению превосходит эпоху романтизма, что до конца и не признано. Тем не менее, если не по своей длительности, то по обширности охвата всех сфер и сторон западной цивилизации, по интенсивности духовных процессов, по масштабу и количеству выработанных им ценностей, модернизм — несомненно важнейшая культурная эпоха современной истории. Главнейшие события ХХ столетия, как и специфический строй его уклада останутся недоступными верному пониманию без признания решающего значения для них духовного переворота, совершенного модернизмом. Наиболее продвинутыми оказались исследования модернизма в сфере искусства и художественной культуры, — отчего он нередко сводится до категории художественной практики и литературы. Другие области культуры и общества, в особенности социальная, политическая, материальное производство, структура индивидуальной и общественной жизни оказались вне поля исследования под углом зрения воздействия на них установок модернизма. По этой причине оказывается невозможным восприятие его как целостного феномена. Модернизм произвел принципиальные изменения в самом характере мышления европейского человека, создав особый тип сознания, постепенно оказавшего преобразующее воздействие и на строй жизни, подчинившейся влиянию новых ценностей. Не создав мировоззренческой системы в традиционном понимании, подобной идеологии Просвещения или позитивистски-материалистическому мировоззрению XIX века, модернизм на основе синтеза тех элементов и тенденций европейской культуры, которые признавались [48] маргинальными, породил сложный комплекс особого миропонимания и мироотношения, внешне отмеченный несистематизированностью, зыбкостью, подвижностью и принципиальной логической непроработанностью своих составных частей. Эти признаки следует воспринимать как сущностные свойства модернистского мышления, отбросившего предшествовавшие ему формы рациональной культуры. Они ни в коем случае не должны соотноситься с эклектикой. Модернизм отказался от языка науки в определении своих собственных установок, притязаний и программы, заменив дефиниторные формулы метафорикой, символами, намеками, отвлеченными описаниями, предпочтя художественный язык и нетрадиционную метафизику, основанную на стимуляции глубинных возможностей интуиции и визионерства. Категориальная структура этой метафизики была ориентирована на иные сферы человеческого опыта, чем те, которые были канонизированы наукой и общественным сознанием XIX века. Само восприятие человека и мира, предложенное модернизмом, вступало в противоречие со всем строем предшествующего ему мышления и философии. Модернизм проявил исключительное внимние к духовным и жизненным практикам человека, до тех пор подвергавшимся различным запретам, вытеснениям и дискредитации. В социальной метафизике базовыми категориями, на которых стали строиться понимание сущности человека и его ситуации в мире, стали понятия расы, народа, почвы, крови, жизни и др. Традиционная социальная философия столкнулась с соперницей в лице философии культуры и стала вытесняться последней, бывшей прежде специфической принадлежностью романтической философии. Даже тогда, когда сохранялись обычные понятия, как государство, общество и др., они насыщались совершенно иным смыслом и им давалось иное толкование, преимущественно в духе идущего от романтизма органицизма (А. Мюллер) и специфических целостностей, наделенных особой жизненной энергией (О. Шпанн). Наряду с философией культуры получают признание философия жизни, философия смысла, философия человека, тесня соответствующие им отделы социальной философии и социологии. Различие между вновь возникшими науками тематически и методологически почти неразличимо и все они существенно совпадали с философией культуры. В силу этого сдвига прежде маргинальные типы метафизики и философии природы, в частности, гетеанского стиля, приобрели культурную и интеллектуальную легитимность. Не менее радикально изменился и исторический компонент философской картины мира. Традиционный историзм, культивировавший положительные идеалы постепенного улучшения, организационного совершенствования общества и всех сфер жизнедеятельности человека, исповедовавший культ системности, упорядоченности, предсказуемости результатов, строгую методичность всех процедур мышления и деятельности, историзм, отдававший безусловное предпочтение [49] скромному реальному результату в противоположность рискованному социальному проекту, каковыми бы манящими ни были его предсказания, был отброшен. Историзм модернизма выражался в смысловых экспликациях категорий катастрофы, метаморфозы, порыва к жизни, воли, власти и подобных им. Эти экспликации фиксировались в теориях борьбы, революции, жертвенности, творческого взрыва, ставших основой новой философии действия, наделенной весьма внушительной суггестивной установкой. Продуктивной систематической деятельности, этике скромного труда и связанных с ним добродетелей, философии малых дел была противопоставлена философия бунта, разрушения рутинных социальных основ человеческой жизни для предоставления простора выражению героизма, энергии созидания, порыва в неизведанные сферы творческой жизни индивида, не скованной условностями обязательств, долга, ответственности и порядка. Теориям организованного общества был программно противопоставлен социальный анархизм, проросший в сферу нравственности и интеллектуализма. «Переоценка ценностей» из деклараций абстрактной моральной философии постепенно превращалась в основу социальных программ деятельности партий, группировок и отдельных личностей. Общим местом стала критика «буржуазной морали»; борьба с условностями «буржуазного быта» приобрела статус необходимого элемента новых общественных движений и стала содержанием вновь возникающей литературы и искусства. Не случайно, что «безбытность» стала характерным признаком жизни культурных и общественных деятелей эпохи модернизма. Традиционные формы жизни заменило общение в клубах, салонах, бесчисленных кафе, редакциях, гостиницах и проч. Оседлость, семья, забота о детях — все это отвергалось как условия, мешающие проявлению творческих устремлений личности. Аморализм из деклараций входил в структуру жизни людей. Его проводниками выступала творческая интеллигенция и близко с нею связанные круги революционной молодежи и профессиональных революционеров. Новая мораль, новый быт, о которых неустанно твердило искусство и литература, оставались, напротив, неясными ценностями, интенсивно эксплуатировавшими призрачные смыслы понятий свободы, творчества, независимости. Особое внимание следует обратить на оценочные сдвиги в восприятии и отношении к таким фундаментальным категориям человеческого существования как жизнь и смерть. Первая утверждается как ценность, только если она насыщена творчеством, борьбой, жертвенностью, если она посвящена осуществлению неких трансцендентных идеалов, которые только и наполняют ее смыслом. Эта героизация жизни с неизбежностью вела к дискредитации иных форм человеческого существования, формировала презрительное отношение к обыденности и в целом [50] создавала условия, при которых неадекватное восприятие жизни социальными и интеллектуальными маргиналами превращалось в некую норму преображенного существования человека. Грани между фиктивной, измышленной в воображении, жизнью и возможностью ее реализации стирались. Революция мыслилась как естественное средство снятия последних препон воплощению утопии. Особое значение приобретает категория смерти. Никогда прежде она не имела такого эстетизированного смысла, как в модернизме. Можно сказать, что он весь был пропитан и дышал ароматом смерти как в ее непосредственных, так и изощренных формах выражения. Отпечаток конца, изломы проявления танатоса, хрупкость форм, подчеркивающих неустойчивость жизни, темы вырождения, крайностей эротической жизни, оканчивающейся смертью, благоухание разложения и проч. Все эти сюжеты, темы и контексты наполнили философию, искусство и литературу времени модернизма. В этом пункте он вошел в специфическую конфронтацию с религиозной позицией и установками церкви, посягнув на узурпацию фундаментального принципа существования, прежде безраздельно относившегося к санкции Бога. Добровольный уход из жизни получил не только оправдание, но и провозглашался желанным концом жизни (Ф. Майнлендер), нуждавшемся в соответствующем эстетическом оформлении. В контексте подобного понимания соотношения жизни и смерти получила неожиданное положительное выражение философия войны. Ей приписали значение модуса проявления космического жизненного начала, высшей формы проявления воли и т.п. Вхождение новой культуры в эпоху военных катаклизмов таким образом имело существенное философско-эстетическое приуготовление (Э. Юнгер). Наконец следует обратить внимание на еще одну сторону моральной философии модернизма, на учение о «новом человеке». В ней мы находим основания последующих социальных педагогик всех тоталитарных порядков ХХ века, нацеленных на создание особого типа индивидуума, способного осуществлять исключительное призвание утверждать новый строй жизни, новое общество, новую культуру. Хотя корни учения о новом человеке теряются в социальной философии XVIII — начала XIX веков, но в своем истинном масштабе оно развернулось в ХХ столетии. Модели и исходные основания этого учения были весьма различны. В них сконденсированы были и протест против бесцветной, лишенной индивидуальной мощи духа, буржуазной личности, неприятие всей структуры массовой жизни господствующей цивилизации, основанной на расчете, выгоде и практицизме, подавляющей естественные чувства, подчиняющую человека безличным стандартам и проч. Тема героической личности, провидца новых ценностей и смыслов жизни, бескорыстного героя, подчиненного порывам благородного риска и подвига, презирающего толпу и безопасное бытие ничтожества, пропитала всю нравственность эпохи. Она толкала человека в [51] рискованные ситуации, облагораживала бесчеловечность, формировала презрение к нормальной жизни и снимала с него бремя социальной и личной ответственности. Уходящий век в полной мере смог пожать плоды этой теории в ее фашистской и коммунистической версиях с их бесконечными оттенками в террористических движениях. Все вышесказанное в какой-то, притом крайне неполной мере, призвано передать ту духовную обстановку, на которую пришлось детство, ранняя юность и становление первичных мироощущений Эрнста Юнгера. Родившись в расцвет вильгельмовской эпохи, Э. Юнгер стал свидетелем не просто заката, а сокрушительного краха «второй империи», которой прочили существование ничуть не менее длительное, чем «первой». Буря «первой империалистической» войны и последовавшие за ней революции смели все основные монархические системы континентальной Европы. Затем в Германии недолгий республиканский строй Веймарской республики сменился нацистским режимом «Третьего рейха». И снова Э. Юнгер — свидетель невиданно быстрого подъема военно-промышленной мощи своей родины. И снова он свидетель и участник второй на его веку мировой войны. Гибель фашизма, расчленение Германии, повторный опыт прививки буржуазного демократизма вошли в его жизнь болезненно-противоречивым опытом, освоить который казалось уже не было духовных сил. Однако Э. Юнгер не только его осваивает, но и превращает в новые духовные ценности, не позволившие предать забвению их создателя, каково бы ни было общественное и художественное значение творчества Юнгера на закате его жизни. Это удивительно, но Юнгеру суждено было пережить все великие трагедии нашего века дважды. Пережить не немым свидетелем, а воспроизвести силой своего творческого воображения как особый, не имеющий даже приблизительного подобия опыт самосознания европейской культуры. Этот принцип двойственности срабатывал иногда парадоксальным образом. Вскоре после рождения в семье Юнгеров самого младшего сына, Вольфганга (1908 г.), Европа наслаждалась зрелищем кометы Галлея (1910 г.), и отец предрек, что именно он увидит ее вторично. Пророчество сбылось, но только на самом старшем — Эрнсте, который наблюдал ее спустя 75 лет, совершив для этого длительное путешествие на Восток, так как в Европе комета была невидима. Последние годы жизни радовали Юнгера не только знаками общеевропейского признания, но, прежде всего, демонстрацией нового величия на этот раз демократической Германии, ставшей не только крепким социально-экономическим организмом, но и вновь обретшей единство. Его сердце старого консервативного националиста не могла не радовать эта картина, хотя едва ли демократизм был той политической формой, к которой тяготели государственное сознание и политические привязанности престарелого летами писателя и мыслителя. Даже эта схема его жизни способна задеть воображение. Обратимся к некоторым ее реальным фактам. Это обращение мотивировано [52] прежде всего тем, что как ни у кого творческая индивидуальность немецкого писателя в высшей степени производна от его духовной и политической биографии. Эта особенность творчества Юнгера является самым фундаментальным, конструктивным принципом, отгородившим все его произведения от замыкания в самодовлеющем эстетизме. Она выражена в том, что подавляющая часть его литературного наследия, сюжеты его книг и эссе, включая социально-политические, являются не чем иным, как воспроизведением личной жизни, чувств и мыслей, основанных на обстоятельствах биографии и среды. Но этот биографизм особого свойства. Он напрочь лишен тех черт субъективизма, которые превращают его в сентиментальное самолюбование, кропотливое описание ничтожных переживаний, способных удовлетворить только притязание мелочного эгоизма их носителя. Напротив, он отличен бесстрастностью холодного, но яркого света, в котором индивидуальность растворяется до состояния объективированных форм жизни. Как наиболее адекватная литературная форма Э. Юнгером выбран жанр дневника, путевых записок, размышлений. Если в чем нет разноголосицы, когда говорят об Э. Юнгере, так это в том, что он в XX веке выступил изумительным мастером жанра интеллектуального дневника и довел его стилистические характеристики до совершенства. Вся его жизнь воспроизведена в них, но тем не менее дневники Юнгера — это не простой источник сведений об их создателе, чем бы ни изобиловала его личная жизнь, а художественные шедевры, с исключительной энергией проясняющие судьбу европейского человека, в обрамлении судьбы создавших его культуры и общества. Поэтому они — не документ индивидуальной жизни и ее перипетий, а художественный образ времени, своими объективными структурами вошедший в субъективные формы личных свидетельств. Подавляющая часть исполинской так называемой “Jünger philologie” посвящена раскрытию природы той магической силы, которая сконцентрирована в кратких, прозрачных, выраженных безукоризненным словесным строем записях, поражающих тем не менее своей метафизической глубиной и богатством смысловых трансформаций. Под их впечатлением находились философы такой меры, как Хайдеггер, Ясперс, культурфилософ Кайзерлинг, европейские интеллектуалы Моравиа, Борхес и др. Как художественные вещи они ценны сами по себе, и все же без учета эмпирической жизни, выраженной в фактах сухого биографизма, они не раскрываются полностью [67]. Возьмем такой пример. Осенью 1913 года, не окончив школу, юноша принял неожиданное решение бежать в поисках приключений в Африку. Мотивы его поведения в этом случае были в чем- то схожи с мотивами вербовки в иностранный легион. Этот внешне немотивированный поступок в действительности являлся глубоко обусловленным всем духом времени, в котором новый человек в поисках выхода из одуряющего однообразия разумно организованной жизни устремлялся в неизведанные миры. Такого [53] рода поступки отмечены в жизни Артура Рембо. В жизни русского поэта Николая Гумилева африканская одиссея занимает впечатляюще важное место. В бесконечных странствиях провел большую часть своей жизни Иван Бунин. Из вереницы бесконечных путешествий по всему миру состояла вся жизнь знаменитого культурфилософа Германна фон Кайзерлинга. Говоря в целом, человек эпохи модернизма постоянно находился в мнимом или реальном путешествии в поисках недостижимых идеалов, в стремлениях перешагнуть грань, отделяющую реальность от восхитительного вымысла. Африка, какой она предстала перед глазами молодого Юнгера, оказалась безжизненной пустыней, лишенной каких-либо прелестей и уже изрядно загаженной цивилизацией. Значительно позднее неудачное африканское приключение станет сюжетной основой книг «Дерзновенное сердце» и «Африканские игры» [68]. Что в этом шаге было безумным, а что было неизбежным выражением протеста против механики однообразного бытия, безрефлективно воспроизводимого тысячами представителей, сменявших друг друга человеческих когорт? «Юнгероведы» внимательно всматриваются в этот первый важный акт самостоятельного выражения личности Юнгера, справедливо находя в нем основные истоки последующих решений и проявлений его индивидуальности. Но одно принципиальное следствие испытания должно быть отмечено сразу: возвратился домой человек, переживший впечатления, поставившие под вопрос значимость воображения как основания формирования жизненного проекта. Демифологизация идеала заронила еще неясное представление о наличии двух принципиально разных родов жизни: реальной и внутреннего переживания. Последнее может основываться на чистом воображении, фиктивных образах, разрушаясь от соприкосновения с жизнью. Подчиниться ему полностью невозможно и катастрофично по следствиям. Не здесь ли основание позднейшей, развитой до совершенства способности к объективно холодному, эмоционально отстраненному воспроизведению самых трагических и фантастических событий, которыми прославится проза Юнгера? Эстетизация ужасного и жестокого — одно из проявлений этой способности. Не будем голословными и приведем одно знаменитое описание бомбардировки Парижа союзной авиацией в 1944 году, которое Юнгер наблюдал с крыши гостиницы «Рафаэль». Оно в работах о Юнгере стало антологичным: «Целью атаки были мосты через реку. Способ и последовательность ее проведения указывали на светлый ум. При втором налете в лучах заходящего солнца я поднял бокал бургундского, в котором плавали ягоды земляники. Город с его башнями и куполами лежал в величественной красоте, подобно бутону, замершему в ожидании смертельного оплодотворения. Все было зрелищем» [69]. Другим важным фактором жизни Юнгера была Первая мировая война. Она пришлась на время благополучного окончания затянувшейся и нудной гимнастической учебы. Способность принимать быстрые решения [54] сказалась и здесь: он немедленно записывается вольноопределяющимся. Конечно, внешне шаг довольно обычный. Тысячи молодых людей в обоих воюющих лагерях, движимые патриотическим порывом, заполнили призывные пункты в первые дни войны. Но у Юнгера был еще один важный мотив, побуждавший его к этому шагу: воспользоваться шансом войти в принципиально новое бытие, столь противоположное удручающему тону однообразной жизни, царящей в обыденном мире. Ограниченный поверхностный патриотизм, быстро остывший в головах и душах большинства его сверстников, ставших солдатами, у Юнгера сменился на более прочное духовное основание, что явилось в последующем спасением для него от душевного маразма, приведшего многих в ряды фашизма и оголтелого шовинизма. Отправка на фронт, сопровождаемая восторгами и энтузиазмом народа: цветы, речи, пение патриотических песен, улыбки и поцелуи девушек — все это было выражено в полной мере, искренно принято и представлялось праздником. При рассмотрении физиогномического ландшафта ХХ столетия мы, современники его конца, фатально не принимаем во внимание первую мировую войну, которая в сознании ее участников — вольных и невольных — утверждалась как Великая война. Они — лучше чем мы, удаленные от нее пластами революций, разрух, трагедий лагерей, второй мировой, трагедиями правового террора, националистических войн, ядерных угроз, — ощутили ее пороховой характер. Именно она разорвала культурно-историческую континуальность совершенствования цивилизации и миропорядка. Перейдя по законам формальной хронологии из XIX в ХХ столетие, европейский человек не ощутил никаких перемен. Он все так же верил в ненарушимость законов развития и совершенствования общественных систем, в расширение сферы господства разумных начал бытия, в нравственное улучшение человеческих отношений, основанных на благоразумии, здоровом эгоизме и сотрудничестве. Науки открывали полезные свойства природы и законы управления ею, изобретения одно за другим создавали удобные улучшения жизни и облегчали труд. Жизнь шла, как хорошо отлаженная машина, что особенно явственно ощущалось в Германии с ее отлаженным бытом. И кого могло особенно волновать то, что иногда происходило среди художников и поэтов, о чем иногда появлялись книги людейфилософов, чувства и мысли которых всегда отличались странностями и неуемной страстью к шокирующим сюжетам. А между тем структуры жизни XIX столетия незримо сбивались с предначертанных им способов движения, группировались в какие-то странные формы, законы которым никакая наука установить не могла. Общественная мысль их не воспринимала. Но именно они питали мысль и воображение тех людей, чьи суждения не принято было считать достойными внимания. Среди них были именно творцы нового искусства, создатели нового философствования, борцы за новый строй жизни. Все [55] они были бунтарями если не по нраву, то по смыслу того, чем они занимались. Крайне не согласные между собой в идеалах, они представляли единство в том, что касалось оценок действительности, осознания катастрофичности разрешения противоречий мира в борьбе, революциях, крушениях и смертях. Они знали, что надвигаются потрясения. Нежданно нагрянувшая война стала первым звеном в цепи этих потрясений, перевернувших социальный порядок Европы и только таким образом введших ее в новый век. Все самые важные интеллектуальные открытия наступившего века были связаны с этой войной. Именно под ее воздействием социальной философии пришлось отказаться от идеи прогресса, а в сменяющих ее философиях культуры мощно утвердилась логика абсурда жизни, истории и человеческой экзистенции. Первая мировая война во многих отношениях оказалась явлением более значительным, чем вторая, хотя последняя принесла больше разрушений, выявила более глубокие, запредельные глубины падения человека. В этом последнем пункте вторая мировая несомненно дала абсолютный опыт дегуманизации, который еще был не под силу ее предшественнице, — она только начала эксперименты с человеческим материалом. Но лишь после 1945 г. фундаментальный культурный итог истории был подведен словами Т. Адорно: «После Освенцима истории больше не существует». Интеллектуал потерял моральное право мыслить. Другое дело, что он предпочитал не замечать этого запрета, продолжая поучать и звать. Из опыта первой мировой войны и в результате нее в социальный мир был введен принцип тотальности: тотальное разрушение, тотальное господство, тотальная идеология, тотальная война и т. д. Здесь не место принимать в расчет тонкие суждения о философской генеалогии этого принципа, имеющих, впрочем, впечатляюще немецкие корни. Без опыта первой великой войны ХХ в. он бы не вышел из интеллектуальных пробирок европейской философии. Смысл принципа — не в слиянии имеющихся потенций и сил индивида и частных сообществ в единство ради достижения желательного результата, это удел коллективизма, коммунализма, наконец, кооперации. Тоталитаризм состоит в том, что выражающий его принцип захватывает человека целиком с корнями его бытия и извлекает из него те силы, о существовании которых он и не ведал, а их потеря лишает человека его сущностного измерения, переводя их в план инструментального бытия. Именно эта война положила конец рационалистическому оптимизму. И сколько бы раз в течение последующих десятилетий он ни возрождался, он всегда имел несколько рахитичный вид, уродливо выдаваясь какой-то односторонностью, — сциентизмом, технократизмом и пр. Но вместе с тем закончилась и классическая эпоха буржуазной Европы, родившей этот рационализм с идеей прогресса, организации и эффективного взаимодействия. Констатируя этот факт, все тот же Адорно замечает: «Ужас в том, что у буржуа не нашлось наследника». Здесь имеется в виду исторический, метафизический ужас при осознании того, [56] что социальные парадоксы классического общества распались. Их последовательная смена в исторических трансформациях общества остановилась. Вместе с этим стали меняться социальные основы господства и сам его механизм. Социальная философия и политическая мысль создали квазисоциальных заместителей, легитимирующих господство или идею господства выводить из сферы социальной практики в иные порядки реальности. Здесь уместно обмолвиться о том, что Э. Юнгер был одной из ключевых фигур в этой интеллектуальной работе. Под впечатлением войны изменилось представление о сущности человека и его месте в универсальном порядке вещей. Реальный в своей повседневности человек перестал интересовать политика, мыслителя, художника. Он стал для них слишком банальным. Литература XIX в. пришла к проблеме «маленького человека». Его частная жизнь, наполненная треволнениями и заботами, состоящая из таких ничтожных, но таких важных событий, стала источником свойственного ей попечительного и сострадательного гуманизма. Новый век отметил свое отношение к обыденному человеку в своеобразной терминологии: «массовый человек». Его культура — массовая, его общение — это массовые коммуникации, через них приходит доступная ему массовая идеология. Истинной философией нового века стал не марксизм (глубокое заблуждение!), а психоанализм с его бесчисленными производными и ответвлениями. Он безапелляционно и с величайшим упорством доказывает насельнику ХХ в., что все его возвышенные мечты и устремления, все изысканнейшие плоды культуры и художеств, благороднейшие порывы души и сердца суть не что иное, как коренящиеся на первичной энергии эротического переживания сублимации (отклонение и переключение). Основным подходом к человеку отныне стали его декомпозиция, деконструкция, имеющие установку на разрушение облагораживающей магии возвышенного и нравственного. Их место занимает брутальное и низменное как истинные основы сущности человека. Но потеря интереса к реальному историческому человеку немедленно компенсировалась усиленным вниманием к долженствующему человеку. Европейская мысль энергично пошла по пути специфической педагогической утопии — теории создания нового человека. Он стал объектом попечения всех тотальных идеологий XX столетия, но и гуманизм вне политических рамок удeлил этой проблеме немало внимания. Идеал новой личности культивировался и в эстетических салонах, и в кружках вроде окружения Стефана Георге, и в «школе мудрости» культур-философа Г. Кайзерлинга. Мечтания о нем изложил в арийской теории Х.С. Чемберлен, к этому же сюжету подойдет в свое время и Э. Юнгер. Но все эти следствия войны станут реальностью много десятилетий спустя после ее окончания, а в начале августа 1914 г. ее объявление было воспринято как очистительная буря, после которой вновь должны были наступить безмятежные дни спокойной обеспеченной жизни. Необходимо было отстоять великую немецкую культуру, дать отпор [57] варварам, посягающим на ее высшие и нетленные достояния. Энтузиазм охватывает и еще вчерашнего гимназиста Э. Юнгера. Его описанию будут посвящены первые страницы его дневников, а также их литературная версия «В стальных грозах». Известно, что доброволец Э. Юнгер — позже этим же путем пойдет и его младший брат Фридрих — был приписан к 73-му фузильерскому полку, в котором он и провел всю войну, временно покидая его только из-за ранений. О всех обстоятельствах фронтовой жизни мы знаем из многочисленных дневниковых записей Юнгера, обработанных и опубликованных далеко не в полном объеме, а только так, как их представил сам автор. На фронт прибыл не только восторженный патриот, искатель необыкновенной героической жизни, но и человек, приготовившийся к наблюдению и пониманию происходящего. Первая часть его личности постепенно растворялась и трансформировалась в череде кровавых повседневных трудов и превратностях тяжкой солдатской жизни. Из восторженного юнца получился опытный, отважный окопный боец, у которого храбрость, соединенная с хладнокровным расчетом и дерзостью, сформировала исключительный психический склад, в последующие годы производивший неизгладимое впечатление на всех, кто встречался с Э. Юнгером. Исключительная воиская доблесть Юнгера удостоена многими военными наградами, из которых наиболее значительным был орден «За доблесть» («Pour le Merite»). Это высшая военная награда Германии, учрежденная еще Фридрихом II, чрезвычайно редкая в германской армии, особенно трудно и нечасто достававшаяся младшим чинам пехоты. (Всего 14 человек из рядового состава пехоты были отмечены ею в годы первой мировой войны.). Орден, фронтовая слава и военный авторитет Юнгера в годы нацистского режима оказались ему надежной, хотя и не единственной, защитой, не раз спасавшей героя Германии от преследований и, возможно, от гибели. Орден придавал ему и вес в кругах военной элиты, позволял стоять вровень с наиболее родовитыми ее представителями. Начиная с 50-х годов, когда возрождались имя и слава Э. Юнгера, его голову и плечи осыпало немало наград, отличий, почестей как немецких, так и международных: литературных, научных, государственных, общественных, но ни одна не придавала ему столько достоинства и чести, как эта, военная. Вторая же часть личности, напротив, углублялась и изощрялась. Из простого наблюдателя и фиксатора событий скоро сформировался мыслитель, с удивительной способностью выходящий за пределы беспорядочных импульсов впечатлений и потрясений в сферу объективированных структур переживаний и состояний людей и событий. В годы войны оформился характер Юнгера. Целеустремленность, соединенная с огромным трудолюбием, умение работать в самых неподходящих условиях, самодисциплина и развитая до совершенства техника самоанализа легли в основу его личности. Им не овладели ни цинизм, [58] ни отчаяние, ни разочарование или безразличие, ставшие основным психическим комплексом людей поколения первой мировой войны. Не будучи лириком по природе, он умел ценить и хранить верность дружбе и товарищескому долгу, не раз для своего проявления требовавших гражданского мужества. В этот период происходило и духовное развитие его личности. Всю войну ему сопутствовали книги. Дневники содержат внушительный список авторов, чьи произведения были им прочитаны и продуманы. Следует отметить его необычный состав. Еще до войны он стал изучать Ницше, и «Воля к власти» многое определит в мировоззрении и социальной философии Юнгера в будущем. Но среди писателей не только немецкие имена. «Приключения Тристрама Шенди» Л. Стерна не просто прочитаны им в окопах, но изучен стиль и освоены некоторые писательские приемы английского автора. Столь же важен для него и Стендаль. Из русских писателей это, конечно, Достоевский и Толстой; необычным может показаться интерес к Тургеневу. Однако следует напомнить, что «Отцы и дети» особенно значимы для традиций европейского нигилизма, к которому Юнгер, как мы теперь знаем, имел прямое отношение. Но в эти годы, переживания которых еще решительно опосредованы юношеским опытом, проблема самоопределения, вычленение себя как личности из рутинного порядка культуры отцов, видимо, подспудно мотивировала духовные интересы и поиски, на пути которых встретился роман Тургенева. Но в особенности примечательно внимание к Гоголю. Значение этого писателя для развития некоторых важных явлений художественной и умственной жизни Германии начала века представляется недостаточно учтенным и изученным, особенно для понимания судеб немецкого экспрессионизма. Экспрессионистские тенденции и корни литературного и мыслительного облика Юнгера несомненны, но вот их истоки рассмотрены без должной широты подхода. Слитость, закономерная взаимоопределенность абсурда и реальности в мире человеческой жизни и того, что ее организует — общества — вот важнейшее духовное открытие, которым великая русская литература поделилась с Европой, жившей в атмосфере натуралистического французского и немецкого бытового романа конца XIX века. Но и помимо экспрессионизма, Гоголь оказал влияние на художественную мысль эпохи модернизма своей мистической двусмысленностью, колдовским символизмом и вниманием к таинственному в жизни и в человеке. В этом аспекте он осваивался русским символизмом (А. Белый). В немецкоязычных странах эссеист и философ Рудольф Касснер (1873-1959) стоит в первом ряду культурфилософов, воспринявших Гоголя не только как литературное явление своеобразной национальной культуры. Р. Касснер входил в сложную систему литературно-художественных и философских связей начала века, охватывавших культурную элиту почти всей Европы и включавших круг Стефана Георге, представителей венской интеллектуальной элиты (С.Х. Чемберлен, Р.М. Рильке), мыслителей космополитической ориентации, [59] подобных Герману Кайзерлингу, французов А. Жида, П. Валери и многих других. C окончанием войны завершается важный период жизни Э. Юнгера — период сопряжения жизни и воображения, в котором высветились основные свойства личности будущего писателя, подведены первые итоги, убеждавшие Юнгера, что вне расчетливого контроля рассудка чувство — плохой руководитель жизни. Как бы ни важно было для Э. Юнгера интеллектуальное и духовное самообразование в годы войны, по своему значению, однако, оно не идет ни в какое сравнение с силой воздействия опыта самой войны. Выражением этого воздействия стало то, что личностно-эмоциональный способ восприятия и реакций постепенно отодвинулся на второй план, уступив место тому, что можно назвать отстраненным созерцанием, формировавшим ту минимально необходимую объективную установку разума, с которой все события, и война в их числе, стали восприниматься как знаки и проявления жизни иных таинственных и могущественных сущностей, относительно которых человек являет собой лишь средство и орудие властвующих над ним и определяющих его судьбу сил. Присутствие их в человеке делает его значимым и сущностно определенным. Немецкая культурфилософская мысль, ведущая свое родословие от Гете и романтиков, нашла и словесно-понятийный способ обозначить структуры этой явленности жизни космоса в эмпирически доступных нам формах. Мы имеем в виду ставшее знаменитым, благодаря главным образом О. Шпенглеру, выражение «гештальт», не имеющее однозначного смыслового эквивалента ни в одном европейском языке и в силу этого вошедшее в них без перевода. Пришел к нему в своей социальной философии и Юнгер, желавший придать особый онтологический статус тому феномену единства организации, силы, целеустремленности и творчества, который, подчиняясь возможностям обыденного языка, он вынужден был обозначить термином «рабочий» (der Arbeiter). Конец войны застал Э. Юнгера в госпитале, где он и получает уже упомянутую награду. Это время кратко, но впечатляюще описано им в первой книге военных дневников «В стальных грозах». Итак, «В стальных грозах». Первое сочинение никому не известного в литературном мире человека, — новичка в самом точном смысле слова, лишенного всякой литературной выучки. И сразу же удача. В чем ее причина? Из необозримой литературной массы, художественными средствами осваивавшей необыкновенный опыт войны и появившейся сразу после ее окончания, лишь очень немногое осталоcь в памяти нашего века. Художественным вещам повезло больше. Некоторые их создатели в свое время были кумирами. Стоит назвать только имена Э.М. Ремарка и Э. Хемингуэя, владевших воображением людей моего поколения. Иное дело — мемуарная, хроникальная, документальная и дневниковая литература. Казалось бы, события, переданные в ней с фактической точностью и неподдельной эмоциональностью непосредственного переживания, [60] должны были произвести большее впечатление и тем самым обеспечить этому жанру прочное положение в литературной истории. Однако этого не случилось. Литература этого рода оказалась более подверженной забвению, чем те художественные фикции, которые своим происхождением нередко были обязаны не столько непосредственному опыту их создателей, сколько использованию чужих документальных свидетельств чужих впечатлений, страданий и горестей. К этому редкому исключению принадлежат и юнгеровские военные дневники. Но дневники ли это? В строгом смысле слова дневниками были те окопные тетради, которые Э. Юнгер вынес вместе со своим фронтовым скарбом. То, что нам известно теперь под несколько претенциозным названием «В стальных грозах», явилось литературной обработкой первичных записей, выборочных событий и их специфической акцентовки. Но даже этих обработок было несколько. Кажется, только фантастический роман «Гелиополис» (1949) да еще «Рабочий» не подвергались правкам и переработкам при их последующих переизданиях. Все остальные свои вещи, готовя их к новому изданию, Э. Юнгер в той или иной мере подвергал правкам. А те из них, которые покоились на дневниковых материалах, нередко представляли собой существенно другие произведения. Уже второе издание, последовавшее в 1922 г., подверглось переработке, а вышедшее в 1935 г. шестнадцатое (!) издание представляло собой уже четвертую версию первоначального текста [70].Таким образом, мы имеем перед собою не дневники в точном смысле этого слова, хотя читатель и увидит материал, расположенный в хронологической последовательности и, следовательно, не подвергнутый каким-то формальным внешним ухищрениям, в результате которых порядок событий иногда представляет собой причудливую фантастическую связь или комбинацию смещенных временных блоков. Но эта внешняя незатейливость архитектоники текста — от записи первых фронтовых впечатлений новичка в декабре 1914 г. до сдержанно-патетического аккорда последней фразы, представляющей собой телеграмму начальника дивизии, извещающего находящегося в тыловом госпитале автора о присвоении ему высшего ордена Германии, — лишь условная рамка, ибо структура текста держится не на внешней хронологии, а на том внутреннем сцеплении событий, на той эмпирически неуловимой детерминации разворачивающегося деяния, имя которому — война. Подчиняясь ей, люди преображаются, в их душах незримо прорастает смысл их приобщенности к магии неведомого трагического и величественного процесса. Разгадке этого первого и самого главного в художественном отношении произведения Э. Юнгера посвящено много работ. Росло мастерство Э. Юнгера, накапливался писательский опыт, обреталась большая художническая свобода, в результате которых появились, возможно, более совершенные произведения, но ни одному из них не суждено было потеснить этот первый его шедевр. Исследователи пытались [61] ответить и на вопрос о его жанре. Возможно, в специальном смысле вопрос этот и немаловажен. Но дневниковая форма не должна вводить нас в заблуждение. Э. Юнгер менее всего хотел предстать в роли исторического свидетеля великого события. В столь же малой степени он претендовал на представление психологического портрета участников войны, на проникновение во внутренние психические комплексы людей, для которых убийство и смерть стали их долгом. Наконец, Э. Юнгер не стремился быть и не стал бытописателем фронтовых окопных будней. Именно эта установка обрекла на забвение основную массу авторов военных очерков и воспоминаний. Для тех, кто пережил войну, узнаваемость собственных ощущений в этой литературе была излишней, а переживания, которые они хранили в глубинах своей души и памяти, никем не могли быть воспроизведены ни в своей интенсивности, ни в своей сущности. Интимность и нераскрываемость стали для многих не чем иным, как единственным залогом своей человеческой ценности, значимости и достоинства. Насколько социальная стоимость этих характеристик была ничтожна, настолько они были значимы как основание духовной жизни соответствующей эпохи. Таким образом, записи о войне человека, занимавшего в ней столь ничтожное место, рисковали быть вообще незамеченными. Но этого не случилось. Они были выделены и вошли в литературную и духовную историю нашего века. И причиной этому была не их историческая достоверность. За дневниковой формой тогдашний, да и нынешний, читатель угадывает совсем иной род произведения, говорящий о чем-то несравненно более существенном, чем индивидуальная судьба фронтового офицера. Эта существенность заключена в некой незримой внутренней ткани, которая угадывается за экспрессивной своеобразной поэтикой юнгеровских записей. Ее мы обозначили как метафизику войны, данную в личном опыте. И если этот личный опыт идентифицирован сотнями тысяч людей, то тем самым признан сущностно верным глубинный смысл их совокупного дела, к которому они были приобщены поневоле, которое существовало в них и через них, распадаясь на бесчисленное множество мелких рутинных поступков и действий, но которое тем не менее подчиняло их и делало исполнителями независимо от их воли. Юнгер эту метафизику еще только угадывает, она не дана ему в полноте своего проявления и еще долго не могла быть в такой же полноте им осознана. Но она насыщала эстетику его произведения и выводила из сферы литературной заурядности. Говоря о «Стальных грозах», ощущаешь давление какой-то апофатики. Естественнее и легче указывать, чем они не обладают. В них нет морализаторства, докучливой нравоучительности. Они лишены поучений, дотошных анализов правильности командирских решений, суждений о правилах боя, об ошибках и неверных планах, нет, наконец, «социальных выводов» и назидательности. Война уже в прошлом. Но она [62] дана как всегда настоящее событие, поэтому оказываются невозможными оценки, которым мы никогда не верим, ибо они относятся к тому, что уже безразлично к ним как прошлое, и поэтому лишены смысла. Центральной фигурой является сам автор, т. е. Эрнст Юнгер. Но произведение не носит характера размышлений о себе, ностальгических воспоминаний, преломления событий сквозь кристалл личной восприимчивости, хотя все элементы этих признаков дневникового жанра здесь присутствуют. Именно отсюда мы черпаем сведения о некоторых реальных биографических фактах, о семье Эрнста Юнгера; здесь названы реальные лица, описаны реальные события. И тем не менее у нас нет оснований считать автора представителем «субъективного жанра». В книге нет колорита объяснений, поиска причин, копания в догадках, мусора мелочных наблюдений; автор нашел такую форму бесстрастного отношения к ужасам войны, к факту уничтожения и смерти, что его нельзя обвинить ни в цинизме, ни в безразличии. И это при всем том, что в произведении нет проклятий войне, таких типичных для социального и интеллигентного гуманизма, нет подчеркнутой демонстрации сочувствия или жалости к страдающему человеку. Но нет и апофеоза войны в духе популярного в те годы вульгарного ницшеанства, хотя причины, приведшие Э. Юнгера на фронт, были во многом типичны для восторженной массы его однолеток и современников. Они сменились, но не разочарованием и пессимизмом, обычно следующими за восторженными аффектациями, а некой иной установкой, которую можно было бы назвать установкой «работника войны», если учесть смысл в последующие годы созданной Э. Юнгером интерпретации гештальта, или образа рабочего, в трактате «Рабочий». Современный русский исследователь германской истории конца первой мировой войны и 20-х годов невольно ловит себя на сопоставлении с катаклизмами, постигшими СССР и Россию с конца 80-х годов и не утихающими по сие время. Действительно, судьба Германии тех лет предстает едва ли не самым развернутым прообразом того, что сейчас переживает русское общество. В нем налицо все основные структурные элементы нашего разложения, чтобы ни говорилось об уникальности, неповторимости, исключительности любых исторических явлений. Крах великой империи, мыслившей свое существование категориями тысячелетий, унижение гордой нации, культурное разложение и распад общества, повлекший малоудачную революцию и затяжную фазу хозяйственного развала. С горизонта духовных ориентиров общества исчезли нравственные ценности; прежде четкие представления об устойчивости и гарантированном расцвете как исторической перспективе Германии сменились чувством безысходности, разочарования и отчаяния. Пессимизм и бесперспективность жизни стали важнейшими основаниями общественной психологии. Разбереженное сознание становилось легкой добычей всевозможных прорицателей, пророков, визионеров, политических и духовных шарлатанов. Массы жаждали [63] быстрого и решительного изменения положения, с презрением относились к парламентским болтунам и бесцветным фигурам политиков, толкавшихся в министерских коридорах, когда одно правительство суетливо сменяло предшествующее и столь же незаметно стушевывалось перед последующим. Политические убийства, сепаратизм, путчи, митинги на фоне застылых доменных печей и остановленных заводов — разве это не наши будни 90-х годов? Да, но это и Германия конца 10-х — первой половины 20-х. Национальное сознание немцев было поставлено перед роковым испытанием, и мы теперь знаем, что оно его не выдержало. Свою мыслительную работу оно замкнуло на самосознании, самоопределении немцев и двигалось, теряя конкретную историческую почву, в направлении конструирования космического мифа Германии и немца как самодовлеющих сущностей, через судьбы которых преображается мир и человечество. Национализм и мистический провиденциализм оказались важными показателями наступающего культурного маразма Германии, ведшего к фашизму. Но о будущем позоре никто не мог и помыслить. Реальность казалась пределом всякого возможного падения, и любой решительный шаг представлялся выходом в лучшее. Не оставим вышеуказанное без литературной иллюстрации, взятой, правда, не у Юнгера, а у Альфреда Розенберга, разумеется, мы имеем в виду мрачной известности сочинение «Миф XX века». Его основные идеи, по свидетельству Розенберга, оформились уже в 1917 году, а к 1925 получили законченное выражение. «Все нынешние внешние столкновения сил являются выражением внутреннего развала. Уже в 1914 году рухнули все государственные системы, хотя, отчасти еще формально, они продолжали свое существование. Но обрушились также и всякие социальные, церковные, мировоззренческие знания, все ценности. Никакой верховный принцип, никакая высшая идея больше не владеют безусловно жизнью народов. Группы борются против групп, партии против партий, национальная идея против интенационального принципа, жесткий империализм против всеохватывающего. Деньги золотыми путами обвивают государства и народы, хозяйство, подобно кочевому стану, теряет устойчивость, жизнь лишается корней. Мировая война как начало мировой революции во всех областях вскрыла трагический факт, что миллионы пожертвованных ей жизней оказались жертвой, которой воспользовались силы иные, чем те, за которые полегли целые армии. Павшие на войне — это жертвы катастрофы обесценившейся эпохи, но вместе с тем — и оно началось с Германии, даже если это понимает ничтожное число людей — они и первые мученики нового дня, новой веры. Кровь, которая умерла, вновь начинает пульсировать жизнью. Под ее мистическим знаком происходит построение новых клеточек немецкой народной души… История и будущее не означает отныне борьбу класса против класса, сражения между церковными догмами, а столкновение крови с кровью, расы с расой, народа с народом. Расовое понимание истории скоро станет самоочевидным знанием… Однако [64] понимание ценности расовой души, которая как движущая сила лежит в основании новой картины мира, еще не стало жизнетворческим сознанием. Душа — это внутреннее состояние расы, это — раса, понимаемая изнутри. И наоборот, это внешнее проявление души. Душа расы пробуждается к жизни, утверждается ее высшее достоинство… Задачей нашего столетия стало создать из нового жизненного мифа новый тип человека» [71]. Идеи и словесный способ их выражения не новы. До Розенберга они высказывались представителем «органической теории государства» романтиком А. Мюллером; расовую идею Х.С. Чемберлен считал принципом, даже не XX, а XIX века. Новое, скорее, сказалось в том сгущении энергии и пафоса, с которыми они были представлены немецкому обществу в 20-е годы. Постепенно, но неуклонно овладевшая Юнгером страсть к литературному творчеству, и, наряду с этим, просыпавшиеся политические амбиции обесценивали в глазах Юнгера прелести возможной военной карьеры. Созрело решение расстаться с многообещающей военной службой. Это решение в глазах окружающих предстало неоправданным риском, если учесть, что в последние годы войны и за время службы в рейхсвере у Юнгера завязались обширные знакомства и связи в кругах немецкой военной элиты, составившей несколько позднее ядро фашистского вермахта.Прекращение военной карьеры Юнгера по времени совпало с провалом фашистского мюнхенского путча (1923 год). В уходе Юнгера пытаются видеть определенную форму протеста, выражение нежелания служить парламентскому государству. Таким образом, хотя он не участвовал в активных действиях, но своей отставкой, во мнении окружающих, солидаризировался с требованиями радикального возрождения Германии. У Юнгера уже к этому времени вполне определились националистические, праворадикальные воззрения антидемократического толка. Неприятие буржуазного демократизма было свойственно ему всегда, и в обратном он не мог (да, кажется, и не брался) убедить никого, даже живя в почете в Федеративной Германии, осыпаемый знаками признания и отличий либералами и демократами. В нем не осталось и еще обычной в те годы монархической ностальгии. Его упрочившемуся в годы войны элитарно-аристократическому самоощущению претил вильгельмовский порядок, с которым были связаны первые негативные впечатления юности. Удивительный психологический феномен! Сын аптекаря и бюргера вполне средней руки, получивший весьма заурядное образование и воспитание, смог не только взрастить в себе претензии на аристократизм, но и убедить даже ближайшее окружение в подлинности этого духа. Он закрепился в стиле личной жизни, роде занятий и увлечениях, манифестировался разными жестами и позициями настолько интенсивно, что это создало вокруг Юнгера атмосферу особенной дистанцированности и сдержанности, граничащей со снобизмом. [65] Любитель изящных библиофильских редкостей, хороших вин, избранного общества, энтомолог-любитель, владелец огромной коллекции жуков, гербариев, живущий в уединенном месте в старинном, похожем на замок особняке, избегающий прессы и других атрибутов демократической открытости — таков перечень особенностей жизни Юнгера, которые можно было бы поставить ему в упрек. Но все эти особенности стиля личной жизни оформятся постепенно с годами и утвердятся лишь в конце 30-х годов. Он окончательно определился в желании вести свободную, не обремененную обязательной службой жизнь интеллектуала. Укреплению этого желания, видимо, содействует и проснувшаяся в нем наклонность к духовному лидерству, интенсивная работа в кружках с политической ориентацией, ставящих целью возрождение Германии и немецкого духа. Эта наклонность, будучи индивидуальной по специфике своего проявления, тем не менее была весьма отличительной чертой духовной жизни раздробленного, хаотичного интеллектуального мира Германии. Претензии на лидерство — духовное или политическое — заявляются многими и часто. Природа этого феномена также заслуживает специального рассмотрения, ибо частота, с какой он проявляется в структуре психики выдающихся деятелей немецкой науки, литературы и искусства тех лет, свидетельствует об ее существенной значимости. Притязания на вождизм стали стойкой симптоматикой отношений, складывавшихся между людьми, группами и объединениями с конца XIX века. Они проникли из сферы борющихся политических групп и партий даже в художественную и интеллектуальную элиту Германии. Вождизм мы прослеживаем в стиле взаимоотношений выдающегося поэта Стефана Георге не только со своими адептами, составляющими ядро его кружка, но и с лицами, лишь временно, случаем обстоятельств, вступивших с ним в общение. «Будьте мне верным», — обращается он к Гуго фон Гофмансталю, исключая тем самым любую иную форму отношений двух поэтов [72]. В той или иной мере эту претензию к занятию позиции духовного, а нередко и более значимого вождя можно отметить у Мёллера ван дер Брука, Л. Клагеса, Г. Кайзерлинга и других интеллектуалов, а в более тонкой форме — у О. Шпенглера, Т. Манна, М. Хайдеггера. Вождизм вел на первых порах к раздроблению групп и к их ожесточенной конкуренции, нередко переходящей в прямую борьбу. Шаг за шагом он создавал потребность в постепенной кристаллизации особой идеологии, вел к учению о фюрерстве не только как о лидерстве по отношению к массе, народу, нации, но выстраивал универсальную концепцию об иерархической модели соотношений рас, социальных групп, культур, государств. «Fuhrersprinzip» становился центральной частью особой политической философии, тяготевшей к метафизическому укоренению в смысле принципа космического значения. Политическая публицистика и духовная активность Юнгера в эти годы достигает своего пика. Ободренный успехом первого своего [66] писательского опыта Юнгер приступает (1921) к работе над вторым произведением, связанным с военным прошлым. Им стала вышедшая в 1922 году книга «Борьба как внутреннее переживание». Событийная сторона в ней перестает играть существенную роль. Война предстает как реконструкция внутреннего опыта человека. Задача заключалась в том, чтобы избежать обыденной психологизации, что Юнгеру удается сделать, нащупав особый метод объективизации событий, который он затем разовьет с небывалой силой. Следующим опытом в этом направлении стала книга «Огонь и кровь» (1925). После выхода этих книг в свет, в обстоятельствах растущей политической активности и ожидаемых в связи с нею перспектив Юнгер окончательно погружается в особую атмосферу жизни активного политического публициста, заняв «крайнюю правую» позицию. Контакт с правым экстремизмом, как мы сказали, произошел гораздо ранее. Но теперь Юнгер пытается не просто определить свое место в массе разнородных правонационалистических уклонов, но старается сделать это особым образом, возглавив их объединенные силы в идейном отношении. В «юнгероведении» присутствует проблема: насколько он желал ограничить это лидерство только теоретикоидеологическими рамками, не претендуя на практически-политическое руководство националистическим экстремизмом. Мы считаем излишним вдаваться здесь в такие тонкости, ограничившись вышеуказанными наблюдениями несомненно честолюбивых устремлений. Что собой представляло это движение, когда Юнгер вошел в него со своими представлениями и притязаниями? В западной литературе по политической истории Германии 20-х годов эта тема раскрыта довольно полно и подкреплена солидной документационной базой. У нас сделано несравненно меньше по причинам, которые требуют более точного, а не идеологического объяснения, как это принято в наши дни. Неясно, в какой мере эта тема была табуирована, а в какой она представлялась не имеющей важного значения для понимания европейской политической истории XX века как истории краха демократических институтов буржуазных государств, происходящего нередко в форме обращения к крайним средствам «господства средствами террора». Это имело место в Германии того времени, чтобы предотвратить крушение системы под натиском поднимающегося революционного движения. Важно понять, что развитие крайнего экстремизма правого толка, одной из форм или вариаций которого в Германии оказался национал-социализм, имело свои собственные причины, а их развитие определило относительно независимую историю этого движения. Борьба с коммунизмом и большевизмом, что особенно подчеркивалось у нас в качестве главной цели германского правого экстремизма, в представлении самих участников этого движения мыслилась нередко как составляющая часть более общего сопротивления дряхлому, лишенному истинных ценностей буржуазному строю, который как раз и породил [67] коммунизм и подобные ему явления. Поэтому далеко не всегда в фашизме и националсоциализме (в некоторых случаях различие между ними было важным) следует видеть именно орудия противостояния победоносному шествию коммунистической революции. Во всяком случае, участники этих движений таковыми себя не считали. Перед ними стояли в особом свете собственные национальные задачи. Более того, есть основание говорить, что успехи большевистской революции в России побуждали их перенимать опыт и уроки большевистских партий, внимательно изучать технологию политической работы и революции, способ партийной организации, в чем-то подражать им, провозглашая иногда возможность антибуржуазного союза национализма, фашизма и большевизма. В Германии такое явление в 20-е годы получило название «национал- большевизм», главным теоретиком которого выступил Эрнст Никиш (1889-1967), с которым Юнгер близко сходится. Германский национал-социализм вышел из очень сложного политико-идеологического и социального месива начала 20-х годов, которое несло на себе совершенно иную, часто меняющуюся терминологическую маркировку. Оно именовалось одними иногда как «консервативный национализм», другими — как «новый национализм», а его поступательное развитие нередко мыслилось как эпоха «консервативной революции». Словари приводят еще ряд других терминов. Платформу этого весьма неоднородного в идейном отношении течения составили мечтания о национальном возрождении могучей Германии в силе и славе, сплоченной и гармонически устроенной в социальном отношении. Восстановление монархии не рассматривалось как желательный политический шаг: вильгельмовский режим был отягощен виной за поражение, за потакание буржуазности, за разложение нации и пр. Но главными противниками в национальном масштабе пока считались Веймарская республика как олицетворение буржуазной демократии и либерализма и левые движения. Истоки «нового национализма» можно найти в традициях консервативного романтизма 20-30 годов прошлого века (А. Мюллер), развившего органическую теорию общества и государства, воспринятую и развитую, между прочим, в социальной философии австронемецкого философа и государствоведа Отмара Шпанна уже в XX столетии. Но главную стимулирующую роль сыграло переживание войны и ее последствий для нации во всех выражениях. Оно было выражено не только в трудах политических теоретиков или в политической публицистике, наполненной прорицаниями, предчувствиями и ожиданиями. Его трансформировали соответственно специфике языка и технике выражения идей литераторы, художники, музыканты, философы, религиозные деятели. Помимо О. Шпанна можно было бы указать также на Э. Шпрангера, Л. Клагеса, Г. Дриша, не уклонившихся в свое время от искуса внести лепту в развитие националистических настроений. О том, что наступило «время решений», писал О. Шпенглер, однако его соответствующая [68] книга, вышедшая после прихода к власти нацистов, уже не казалась достаточно радикальной, ясной и прочно связывающей национальные надежды с руководящей ролью Гитлера. И тем не менее идеология «нового национализма» была неопределенной, в этом сказалась его социальная нефундированность и политическая разнородность. Эрнст Юнгер был одним из многих, претендовавших на идеологическое и, вообще, духовное лидерство в этом движении и порождавших дух соперничества, интриги, закулисных маневров, нередко заканчивавшихся политическими убийствами. Следовало бы назвать помимо Э. Никиша, юриста и социального философа Карла Шмитта (Carl Schmitt, 1888-1985), также находящегося с Юнгером в тесном общении. Впрочем, все они были слишком интеллектуализированными, слишком индивидуалистически ориентированными. Им не хватало политического прагматизма, политического цинизма, беззастенчивости и необходимой дозы аморализма. Э. Юнгер полагал, что может внести определенность в формирование доктрины консервативного национализма, прояснить его цели и средства их достижения. Основной ареной своей деятельности он выбирает журналы и газеты, представлявшие различные уклоны национализма, а средствами — политическую публицистику. Первая его публикация такого рода появилась в газете «Народный наблюдатель» («Volkischer Beobachter») — пресловутом центральном органе нацист-ской партии. Произведения печатались почти десять лет в разнообразной периодике. Едва ли публицистические выступления Юнгера могли быть той силой, вокруг которой сплотился бы новый немецкий консерватизм. Этого и не произошло. Но авторитет Юнгера в его кругах был несомненно высок, ему удалось создать кружок единомышленников, связи с которыми долго не прерывались. Основная проблематика Юнгера-публициста — народ, государство, сущность власти и ее универсальные основания. Вся она фокусируется в идее национализма. Трактовки «нового национализма», содержавшиеся в публицистике Юнгера, едва ли отличались конкретностью и проясняли дело. Так, он писал в 1926 году: «Национализм есть воля жить среди нации как сверхординарной сущности, существование которой является более важным, чем существование индивида». Или: «Национализм не движение, а движущая воля». Еще: «Национализм — это чистая и необусловленная воля быть сопричастным к нации, воспринимаемой и чувствуемой всеми силами и средствами, находящимися в нашем обладании» [73]. Однако существенными оказываются два момента. Первый состоит в том, что, определяя национализм как глубинное, невыразимое в своей полноте чувство сопричастности, принадлежности к нации, Э. Юнгер определил саму нацию не в терминах биологии, социал-дарвинизма или расовой теории, а как духовную сущность. Нация есть некая сверхчувственная сила, дающая определенность всякому чувствующему свое [69] отношение к ней, или ее наличие в себе. В этом смысле она приобретает значение ядра некоторой секуляризованной религии. Отношение к нации является своего рода тайной, мистерией и не может быть выражено рациональным образом. Без наличия чувства мистической сопричастности народ и любая общность явятся только простой механической массой, скопищем чуждых друг другу единиц. Второй момент состоит в том, что идею национализма «новый национализм» не культивирует в узких рамках национальных задач возрождения Германии, а понимает как феномен общеевропейского масштаба. Он родился и поднялся из войны, и охватил все страны. «Новые националисты» порой видели возрождение Германии не как исключительную задачу германского народа, а считали ее всеевропейским делом. Брат Эрнста Юнгера, Фридрих Георг, также принявший участие в этом движении, именно так понимал суть нового дела. Национализм преодолевает партийные различия и государственные границы, ибо, будучи чистой идеей, он не имеет определенного отечества. Согласно этому принципу, национализм не разделяет народы Европы, а объединяет. Национальная революция и будет состоять в этом объединяющем движении. Таким образом, революционные представления Эрнста Юнгера оказываются связанными не с задачами социального, политического или экономического порядка, а с воплощением националистических идей в форме националистического государства. Быть националистом — значит подчинить созданию нации всё и в этом видеть свою высшую задачу и ценность. В национализме заключены основы всякого права, и он есть выражение человеческой воли. Хотя при создании националистического государства вопрос о политических формах имеет второстепенное значение, тем не менее адекватным выражением национального стремления является сила. Юнгерианская публицистика быстро теряет свой смысл после 1933 года. Возникает острый вопрос: в каком отношении Эрнст Юнгер находился к реальному фашистскому движению и его вождям? Несмотря на казалось бы наличие бесспорных фактов, позволяющих вполне определенно ответить на него, определенности нет. Отношения эти, конечно, не того свойства, что в случае с Хайдеггером, связь которого с национал-социализмом в начальной фазе его господства хотя и не была чисто случайным эпизодом, однако вылилась в чисто формальные отношения. Юнгер был крупнейшим идеологом сил, из недр которых вырос фашизм. Имеются свидетельства его высокой оценки роли и личности Гитлера, его заслуг в отношении Германии. Юнгер видит его в ряду великих революционеров. На поднесенном Гитлеру экземпляре книги «Огонь и кровь» («Feuer und Blut», 1926) написано: «Национальному вождю — Адольфу Гитлеру! — Эрнст Юнгер». Можно собрать еще несколько подобных свидетельств. И в последующие годы вплоть до самой смерти Юнгер не выступал ни раскаянием, ни запоздалыми [70] проклятиями в адрес фашизма. Что это? Свидетельство гордости и нежелание унизиться ни к чему не обязывающим самобичеванием? Но известно и другое. Юнгер всячески уклонялся от почестей, которыми пытался льстить ему фашистский режим, утвердившись у власти. В этом случае он поступил подобно Стефану Георге. В проекте объединения неонационалистических сил, предложенном Юнгером, руководящая роль отводилась все же не фюреру, а узкому кругу лиц, объединенных единством идеи и исключительностью заслуг. Когда с приходом к власти национал-социалистов начались гонения на их сподвижников по прежней борьбе и пострадал один из соратников Юнгера — Никиш, веривший в возможность союза «новых националистов» и русских большевиков в противостоянии буржуазному Западу и Америке, Юнгер демонстративно принял на себя заботу о его семье, поселившись рядом с нею в глухой провинции. Короче, Юнгер превращался в персону, вызывавшую подозрения у руководителей нового режима. Раздражение вызвал отказ Юнгера занять место депутата рейхстага, предложенное ему от имени Гитлера, и отказ войти в состав фашистской академии искусств. Хотя формально, по сути, никогда не было полного запрета на издание юнгеровских книг в Германии, они выходили все реже и реже. Теперь его положение называют «внутренней эмиграцией». Едва ли это соответствует истине. Но не исключено, что неприкосновенности Юнгер во многом обязан своей легендарной славе времен первой мировой войны. Публицистика Юнгера, как видно было из вышеизложенных примеров, все более приобретала социально-философский характер. Она была важной школой отточки его идей и их адекватной понятийной выразимости. На этом пути обращает на себя внимание сборник «Война и воин» (“Krieg und Krieger”), вышедший в 1930 году и содержавший статью Юнгера «Тотальная мобилизация». Она создана на основе размышлений о сущности современного общества и характере тех сил, которые определяют его структуру, трансформационные процессы и место человека относительно их. Уже давно в поле его зрения попал феномен техники, радикально изменивший характер социальных процессов и сущность человеческой деятельности. Юнгер тяготеет к пониманию ее как космической силы, вошедшей в универсум социокультурного пространства. Новой технике должен соответствовать совершенно иной тип государственного устройства, социального устройства, социальных отношений, новые духовные ценности. Понятие «тотальная мобилизация» имеет сложный смысловой генезис. Оно выступает из глубин методологического сознания, где вызревают новые термины и понятия, настоятельно вызываемые новой общественной практикой. Начало XX века — это время колоссального трагического испытания буржуазного либерализма и правопорядка перед лицом новых условий и вызовов современности. Ответом на них оказались мировая [71] война и революции, в тигле которых выплавлялся металл тоталитарных политических порядков. Тоталитаризм вошел в жизнь европейского человека уже не как абстрактная идея, а как практический принцип организации общества, призванный мобилизовать весь его потенциал, все возможности ради достижения призрачной мечты господства, порядка и универсальной справедливости. Основания универсальности были разные, что определяло и ее размах: национальные, расовые, классовые, иногда взращенные на крепком настое искусственных мифов и эзотерики. Господство, насилие, диктатура, воля к власти, натиск — все эти силовые выражения наполняли речи отъявленных демагогов и пылких революционеров. Разница, по сравнению с прежними ницшеанско-сорелевскими утопиями, состояла лишь в том, подчеркнем еще раз, что дух насилия воплотился в реальную практику, без которой государства тоталитарного профиля существовать не могли. Насилие реализовалось в отточенной технологии разнообразнейших средств, проникло во все сферы общественной жизни и сознания, стало символом времени, — а насилие в организованной и тотальной форме представлялось шансом, вырванным у истории для утверждения прекрасной мечты человечества. Юнгер всем опытом своей жизни и строем мышления был обречен войти в самую гущу проблемы и выразить ее с впечатляющей силой, которая выразилась и в этой работе, и в целом ряде статей, вышедших до и после монументального «Рабочего». Социальнополитический опыт русского большевизма нашел в нем внимательного наблюдателя и своеобразного толкователя. Известно, что он состоял членом «Общества по изучению советской плановой экономики», вращался в кругах политиков, издателей и литераторов, где рассматривались проблемы социально-политического экспериментирования в различных странах, порывавших со старым укладом: Венгрия, Австрия, Польша, сама Германия, но главным образом Россия. Ему не чуждо понятие социализма, как и другим правым националистическим радикалам. Но с ним связаны специфические представления, в частности, новый тип выражения волевого начала народа в организации сплочения власти и подчинения. Он внимательно изучает работы Л. Троцкого, Ленина, ряда других деятелей Коминтерна. Особенно сильное впечатление на Юнгера произвела «Моя жизнь» Троцкого, которое он выразил в небольшом энергичном эссе в журнале Э. Никиша «Сопротивление» (1930). В Германии идеи плановой централизованной организации хозяйства развивал Э. Людендорф, с которым у Юнгера было идейное согласие. Но Юнгер придал этому понятию совершенно иной смысл. «Тотальная мобилизация» — это не сосредоточение людей в готовности к единому целесообразному массовому действию, а нечто иное и большее. Мобилизация концентрирует энергию и волю в несокрушимой организации. Мертвую, инертную материю необходимо превратить в источник энергии в форме, [72] соответствующей родам деятельности. Техника является тем инструментом, посредством которого материя выявляет свою энергийную способность, поэтому она не должна знать границ в своем развитии и увеличении. Через нее мобилизуется энергия мира. И все же она — средство, которое эффективно, если стоит в услужении героической силе слившегося с ней человека. Индивидуальная свобода в традиционном буржуазном смысле нелепа, не нужна и даже вредна. Свобода допустима в мере необходимой для обеспечения общих целей целого, но онтологически она не указана. Ее место занимают организация, послушание, иерархия. Диктатура, собственно, является естественной формой общества, где главной фигурой предстает рабочий. Здесь, в статье «Тотальная мобилизация», рабочий трактуется не в социально-экономическом смысле, а как тот, кто реализует всю функциональную процессуальность как жизненную стратегию общества, его метафизическое основание. В 1932 году появляется главный социально-философский труд Юнгера «Рабочий», подготовленный всем ходом эволюции, его воззрений на историю, общество, человека и технику. Пожалуй, это единственная работа, которую автор уже не переделывал, и хотя ее успех был значителен, она выдержала всего четыре издания до войны, не очень большим тиражом. В последующем появлялись лишь дополнения к ней (в издании 1932 года — «Из переписки по поводу “Рабочего”»). Следует добавить, возможно, только то, что она оказала наибольшее влияние на Хайдеггера, который признавался, что внимательно ее изучил. В остальном, воздействие этой книги на духовную культуру и философскую мысль, скорее, скрытое, чем явное. Но это воздействие такой мощи, что дало основание отнести ее к небольшому числу книг, изменивших наш мир и наше представление о нем. Юнгер дает несколько неожиданную интерпретацию понятию категории «рабочий». Он вырывает его из контекста социальной истории, т.е. перестает интерпретировать ее, как социологическое понятие, а также лишает политико-экономического смысла. Весь исторический процесс Юнгер характеризует как процесс смены гештальтов, в чем несомненно сказалось влияние Эрнста Никиша. Гештальт представляет собой сложную структуру, в которой, с одной стороны, аккумулированы принципиальные типологические характеристики некоей социально-культурной целостности, репрезентированной наиболее характерным социально-личностным носителем, а, с другой стороны, он представляет собой некоторый энергетический комплекс, одухотворяющий и оживляющий социальный процесс, придающий ему смысл через связь с универсальным космическим порядком вещей. Внимание Юнгера сосредоточено, главным образом, на двух гештальтах: гештальте буржуа и гештальте рабочего. Первый — охарактеризован Юнгером в категориях неадекватности, неполноты и незавершенности творческого смысла исторического процесса. В этом смысле его онтологические основания сомнительны и подвержены социальной эррозии. С господством гештальта буржуа заканчивается эпоха ограниченного, узко прагматического, поверхностно-утилитарного социальнокультурного бытия. Именно против такого бытия восставал человек эпохи модернизма. Буржуа — это синоним господства обыденности, ординарности, [73] утомительного и однообразного благополучия; это боязнь радикального решения всех экзистенциальных проблем, требующих для своей реализации абсолютной мобилизации всего жизненного потенциала. На смену ему приходит господство гештальта рабочего как радикальный поворот в истории, как принципиальное изменение смысла и способа существования, как выход на горизонт активности, способной осуществить все возможные предвидимости, самые отвлеченные продукты воображения. Поэтому «рабочий» в понимании Юнгера — это не социальная категория в духе, например, классической буржуазной, или марксовой, политэкономии, а некий выразитель универсального творческого начала, преобразующего мир. В нем соединены и высшая рациональность и высшая сосредоточенность и высшая концентрация энергии, какие только возможно представить воображению. В то же время, это не продукт художественной фантазии. Как уже отмечалось, Юнгер внимательно изучал опыт Советской России, в котором особое внимание особое внимание уделил принципу плановости, централизации руководства всеми сторонами общества, признанию социально-значимыми только трудовые социальные элементы, стремлению представить страну как единый трудовой лагерь, а нацию как трудовую армию. Именно в реализации этих принципов Юнгер видел объяснение впечатляющих успехов новой России. Не случайно Эрнст Никиш отмечал в свое время, что без влияния Советской России социально-философская концепция «рабочего» была бы невозможна. Тем не менее, этот труд не является теоретико-философским обобщением социалистического эксперимента, а весьма отвлеченной философско-исторической метафизикой, генетически связанной с традициями немецкого консервативного романтизма. Изучению этой метафизики, как известно, огромное внимание уделил Хайдеггер, рискнувший даже подвергнуть ее интерпретации в одном из своих университетских курсов, прочитанных вскоре после выхода трактата Юнгера. Хайдеггер еще раз вернется к истолкованию философских воззрений Эрнста Юнгера, но произойдет это уже в 60-е годы в связи с проблемой европейского нигилизма и ее представлением в статье Юнгера «Над линией». Как уже было сказано, Юнгер не вносил существенных изменений и дополнений в свою концепцию, однако более тридцати лет спустя, он публикует трактат «У стены времени», который он рассматривает как новое развитие основ своей социальной философии. Но в этом последнем трактате сказывается влияние уже совершенно нового социальноисторического опыта, который вошел в сознание Юнгера. И этот опыт был несовместим с теми социальными основаниями, на которых строился «Рабочий». Кроме этого, личные воззрения Юнгера претерпели существенные изменения. Теперь в них отразился его интерес к проблемам мифа, религии, к герметизму и оккультным практикам. Возможно также следует учесть и то психическое переживание, которое Юнгер воспринял как результат применения наркотиков и ЛСД. В последнем еще раз обнаружился в Юнгере человек эпохи модернизма. Именно для людей этого времени было характерным понимать творчество как крайнюю степень стимуляции воображения. Творцы и мыслители именно этого периода жили с особой [74] установкой выхода за пределы опыта и переживания, предоставляемых естественными человеческими чувствами и разумом. Они стремились жить в необычном и одним из путей вхождения в него стали эксперименты над психикой с помощью наркотиков. Наркотическое состояние нередко отождествлялось с творческим экстазом. Испытать его на себе стремился почти каждый, мнивший себя творческой личностью. Примеров выдающихся деятелей эпохи модернизма, творивших под воздействием наркотиков: поэтов, писателей, художников — несть числа. Так знаменитый ныне польский культурфилософ, писатель и художник Станислав Игнацы Виткевич (1884-1939), не только подвергал себя систематическому сознательному воздействию наркотиков в моменты работы над портретами, но и оставил впечатляющие описания характера этих воздействий в своей книге «Наркотики». И он был далеко не единственным. Мотивы, побудившие Юнгера войти в сферу наркотических состояний, требуют специального исследования, но их укорененность в структуре модернистского менталитета, усвоенного Юнгером еще в юности, у нас не вызывает сомнения. Наркотизация современного общества имеет совершенно иные социальные причины, скорее эскейпического свойства. После издания этого сочинения Юнгер ведет постепенно ставший для него обычным образ жизни: путешествия, издания дневников путешествий, энтомологические занятия и писательский труд в швабском местечке Вильфлинген, где он стал проживать с 1950 года до самой своей смерти. Цезурой в этой жизни стала вторая мировая война. Э. Юнгер был вновь призван, но не к активной строевой службе, а прикомандирован к штабу оккупационных войск во Франции. В период «странной войны» ему вновь довелось прошагать по тем местам, где он сражался в годы Первой мировой войны. Повторные переживания военных будней не возбудили в нем никакой ностальгии. В войну, как в высшую форму выражения жизни, Юнгер уже не верил. Зимой 1942-1943 года он совершил поездку на Восточный фронт, в район Майкопа, что отразилось в соответствующих дневниковых материалах. Покушение на Гитлера 20 июля 1944 года сказалось и на судьбе Юнгера. Его подозревали в связях с заговорщиками, но не привлекли к ответственности, а просто уволили из армии «за непригодностью к службе». Однако его связи с нацизмом в прошлом не были секретом для союзников. Английские оккупационные власти наложили запрет на публикацию его книг, впрочем, во многом фиктивный. Его книги издавались в соседней Швейцарии, а с 1950 года свободно по всей Западной Германии. Его влияние вновь упрочилось, но главным образом как выдающегося стилиста и мастера жанра путевых заметок и эссе. Почести и награды, внимание государственных мужей Европы стали одной из повседневностей жизни Э. Юнгера. Но прежнего влияния на умственную жизнь нашего времени он оказать уже не мог. Престарелому писателю, в ком не угасала творческая энергия, представлялась возможность в провинциальном уединении осваивать, и не без успеха, новые литературные жанры, путешествовать, принимать почести и прислушиваться к публицистике, [75] время от времени затевавшей спор по поводу «феномена Юнгера» или его ответственности как предтечи и идейного вдохновителя фашизма. Философский пессимизм как выражение кризиса культуры С.И. Дудник Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.79-84 [79] Судьбы европейского пессимизма — тема весьма объемистая и достойная самостоятельного исследования. Здесь мы ограничимся лишь теми ее фрагментами, которые дают примеры и его необычного философского выражения, каким является учение Г. Файхингера, и его малоизвестных выразителей, преимущественно с культурфилософской установкой, каким был Ф. Майнлендер. Самыми яркими представлениями европейского нигилизма, как известно, признаются А. Шопенгауэр и Э. фон Гартман. Действительно, сила принадлежащих им философских аргументов в пользу этого миросозерцания и жизненной программы дала мощный толчок развитию пессимистического воззрения в Европе и Азии. Однако, Шопенгауэр называл истинным родоначальником пессимистической философии жизни И. Канта. Итак, кенигсбергский мыслитель и в этой области признается первооткрывателем, отцом воззрений, поставивших под сомнение тезис об абсолютной и безусловной ценности жизни и изначальной осмысленности бытия. Именно такой взгляд на Канта был в начале 20-го столетия поддержан одним из крупнейших знатоков его трудов — упомянутым выше Г. Файхингером. Однако формы, которые пессимизм приобрел в системе воззрений последнего или в учении и жизненных решениях последователей Шопенгауэра, лишь с весьма большими оговорками и ограничениями можно согласовать с философией Канта. Говоря о культурных и интеллектуальных судьбах пессимистического мировоззрения, мы выделим две тенденции, условность различения которых достаточно очевидна и не претендует ни на что большее, как только на способ некоего упорядочения материала, хотя эти тенденции могут и облегчить понимание некоторых духовных процессов в европейской культуре. Первая тенденция представляет пессимизм преимущественно как культурфилософское воззрение, в котором находят отражение взгляды на жизнь, человека и смысл его бытия. Вторая тенденция имеет форму собственно философского учения, представляя истолкование метафизических и гносеологических вопросов, согласованных в решении установками скепсиса и пессимизма. Эпоха, с которой связывают расцвет пессимистической философии, получила именование модернизма. Хорошо известно, что наиболее впечатляюще дух этой эпохи выразился в постепенно зарождавшемся и все крепнувшем комплексе идей и представлений, в которых концептуализировались ощущения о действии прежде неведомых могущественных сил, помимо и вопреки разуму подчиняющих всю жизнь человека. Через них она связывалась с общим иррациональным космическим процессом, вовлекаясь в его непостижимые катастрофы. Для человека большее значение приобретает неведомое, сфера которого [80] неизмеримо больше, чем знание, всегда неполное, поверхностное и по сути фиктивное, удовлетворяющее лишь известные утилитарные цели. На всем, с чем имеет дело человек лежит отпечаток конечности, бессмысленности и неукорененности. Быстро текущая жизнь не раскрывает бытие, а лишь прикрывает и намекает на его бездонные всепоглощающие тайны. Неудивительно, что философы, писатели, поэты, художники, высказывавшие подобные пессимистическо-нигилистические мысли еще в середине XIX века, определенно выпадали из поля зрения общественного сознания, увлеченного прогрессистскими идеями позитивизма, естественнонаучного оптимизма и социального реформаторства. Судьба Артура Шопенгауэра весьма показательна в этом отношении. Однако, неведомый странный мыслитель уже в 70-е годы становится властителем дум. И таким, что находятся адепты, преобразовывавшие его пессимистическую философскую метафорику в реальную программу личной жизни. Таков Филипп Майнлендер (18411876), один из первых и последовательнейших учеников «франкфуртского отшельника». В свое время мы ввели понятие «биографический тип» [1], чтобы выразить интуицию, ухватывающую и доводящую до понимания смысл связи между структурой и качеством индивидуальных жизней-биографий и таковыми же особенностями той культуры, которой они принадлежат. Люди конкретной эпохи неосмысленно «следуют» ее предписаниям, точнее, в своей жизни воспроизводят основные культурные компоненты, их конфигурацию. Жизнь ныне позабытого, а некогда произведшего некоторое воздействие на впечатлительные, преимущественно артистические умы европейцев, упомянутого Ф. Майнлендера может служить тому примером [2]. Сын торговца из германского городка Оффенбах, он с ранних юношеских лет обнаружил неодолимые ярко выраженные гуманитарные наклонности, помешавшие ему наследовать надежную расчетливо-деловую профессию своего отца. Умственным исканиям впечатлительной натуры, в которой уже предчувствовалась хрупкость и капризная изломанность характера молодых людей, составивших поколение декадентов, была как бы предопределена встреча с философией Шопенгауэра. Эта роковая встреча произошла в год смерти философа — в 1860 году, отмеченном и взрывом общего интереса к его метафизической системе. Именно тогда в руки юноши случайно попал том «Мир как воля и представление». Ни один человек до этого не читал этот труд с таким жаром и лихорадочной интенсивностью, с каким поглотил его Майнлендер. И хотя после этого философские штудии Майнлендера продолжались столь же интенсивно, охватывая десятки философских имен и систем, ничто уже не могло победить в нем той зачарованности вдруг открывшимся смыслом бытия и его философской достоверности, какую он воспринял из сумрачной метафизики волевого принципа мира. «Лишь четыре имени перенесут все штормы и перемены надвигающихся времен и исчезнут только вместе со всем человечеством, имена Будды, Христа, Канта и Шопенгауэра», — [81] писал позднее Майнлендер. Характерен сплав имен! Его не следует рассматривать как эклектику, особенно если вспомнить, что и Канта эпоха воспринимала как одного из родоначальников пессимизма. Критически оценивая творчество мэтра, Майнлендер, впрочем, в философии Шопенгауэра находит нелепости, наслоения, мешающие восприятию ее основной идеи и посвящает свою жизнь ее очищению. В этом он видит и свой нравственный долг перед памятью умершего учителя. Какова же эта идея в восприятии Майнлендера? Она по сути проста — бренность бытия. Критически преодолевая и перерабатывая Шопенгауэра, он постепенно создает собственную философию — «философию избавления», под этим названием и выходит в 1876 году его главный и единственный труд [3]. Убедившись в том, что книга «пошла», Майнлендер совершает единственно возможный поступок, в его представлении согласующий необходимым образом жизнь с учением, — кончает жизнь самоубийством. Книга действительно нашла заинтересованного читателя. Нам известны три немецких ее издания XIX веке, что для труда весьма объемистого и лишенного того литературного блеска и остроумия, какими отмечены сочинения Шопенгауэра, было весьма значительным успехом. Смерть Майнлендера мыслилась как необходимая заключительная глава его теоретической системы и таковой действительно воспринималась современниками. Ее эхо прокатилось по Европе, став культурноэтическим событием, и еще долго звучало в мире. Неожиданной иллюстрацией сказанному может служить жизнь знаменитого японского писателя Акутагавы Рюноскэ, если не последователя Майнлендера, то несомненно знавшего его труд и судьбу, глубоко воспринявшего дух европейского философско-эстетического пессимизма. Ему принадлежат великолепные характеристики культуры, о которой идет речь, вскрывающие ее корни, самую суть, и формы ее выражения: «эти великолепные, словно сверкающая цветами радуги испанская мушка, цветы зла», испускающие «величественный аромат разложения». Акутагава покорен описанием «очарования смерти» Майнлендером, «не выпускающей нас из своего круга». Видимо, для самого Акутагавы оно оказалось сильнее сознания «болота декаданса», в которое погружается жизнь человека, отбрасывая мораль, покидая Бога, отказываясь от любви [4]. Какую же идею Шопенгауэра выявил и отшлифовал Майнлендер? Суть воззрений его сводится к внешне парадоксальному отождествлению смерти, процесса умирания с жизнью. Все, что существует, существует как процесс умирания, перехода из бытия в небытие, из наличного состояния в ничто. Каждому предмету этого мира предназначено умереть, исчезнуть, и человеку надлежит обрести отвагу, нравственное мужество, чтобы признать этот факт как удел каждого, ибо целью жизни является не она сама, а ее противоположность — уничтожение. Эта общая устремленность всего сущего не есть результат действия слепых бессмысленных сил: такова воля Бога. Следует обратить внимание на своеобразную трактовку теизма в концепции Майнлендера, в которой и заключен источник его пессимизма. В ней причудливым образом [82] сплелись мотивы платоновского (шире неоплатонического) учения о Первоединстве и христианизированной сотериологии. Изначально было абсолютное, совершенное, неподвижное Бытие, всеохватывающее нерасчлененное, самому себе равное Первоединство. Увы, мы, находящиеся в мире призрачного бытия бесконечных становлений и исчезновений, ничего более о нем знать и сказать не можем. Это Первоединство Майнлендер называет Богом. Но был ли тогда Бог всемогущ и абсолютно свободен? Решая эту проблему, Майнлендер демонстрирует своеобразную диалектическую хитрость. Бог всесилен, но только в свободе к существованию и в изменении своего модуса. Таким модусом явился его переход от истинного своего первобытия в неистинное бытие мира, лишенного целостности, распадающегося на множественности отдельных частных существований, каждое из которых, и сам мир в целом, стремиться к небытию. Это означало смерть Бога, выступающую в форме жизни этого мира: «Бог умер, и его смерть стала жизнью мира». Учение о смерти Бога стало сущностью своеобразного атеизма Майнлендера, сводящегося к формуле, что «миру недостает» Бога, вследствие его собственной смерти. Таким образом, перед нами концепция танатологии, пытающаяся преодолеть упрощенный биологически окрашенный фатализм, как «проклятие смерти», тяготеющее над всякой тварью и человеческим родом, вовлекающее их в бездонную воронку всепоглощающего небытия, к которому устремлена «слепая Природа». Порождая своей смертью здешний мир, Бог передает ему свою свободу к бытию, жизни. Она противостоит воли к смерти. Мы видим повсеместно проявление этого стихийного стремления к жизни в размножении растений и животных и продолжению рода. Оно задерживает факт перехода в ничто, создавая иллюзию вечности жизни. И только человеку, полагает Майнлендер, свойственно воплотить принцип безусловной смерти. Разве он не проявляется в сознательном сохранении девственности, этого способа «любования смертью», безразличии, и, наконец, в совершении самоубийства? Ведь все эти поступки согласуются с самой божественной волей. Метафизика смерти дополняется Майнлендером и культурфилософскими аргументами. Их существо удивительным образом совпадает со строем мысли Эдуарда фон Гартмана: Его «Философия бессознательного», получившая неизмеримо большую известность в интеллектуально-художественной среде Европы, чем труд Майнлендера, возможно, более последовательна и утонченна, но в принципиальном содержит такие же установки и конечные выводы — на чем сходятся все исследователи европейского пессимизма ХIХ века [5]. Существо этих аргументов Майнлендера достаточно банально. В них угадываются мысли о природе неравенства и насилия, волновавшие европейскую философию периода Просвещения, начиная от Гоббса и до Руссо. Только в ситуации своего первоначального природного состояния человек обладал действительной свободой, не скованной никакими общественными ограничениями и нравственными принципами. Но достижение полноты бытия индивида, логика его [83] эгоизма неизбежно ведут человека к конфликту с себе подобным. Стремление к обеспечению безопасности служит основанием учреждения особых установлений, из которых рождается государство со всеми его атрибутами принуждения, ограничения и подавления человека. Счастье становится абсолютно невозможным, а личная жизнь лишенной смысла. В ней человек встречает только конфликты, страдания, борьбу злых начал. Каждый живет по программе самоутверждения личной воли, в стремлении к господству над другими; имеется только один осмысленный поступок для человека, стремящегося к избавлению от тягот бессмысленного бытия — добровольная смерть. Следовательно, государство и общество должны стремиться к такому устроению, при котором формировалась бы культура понимания бесцельности жизни и сотрудничества с Богом в его стремлении к ничто. Финальным актом исторического бытия человека должен бы стать акт коллективной добровольной смерти всех: тогда через смерть культуры осуществится до конца истинная смерть Бога. Нетрудно увидеть, что трагический пессимизм Майнлендера был частным случаем выражения нарастающих тревожных мыслей, питаемых не только факторами складывающегося общественного и культурного порядка жизни с ясным ощущением порога эпохи и неопределенности будущего, но и токами, идущими из мира большой науки, наполнявшейся в то время новыми представлениями о конечности мироздания, его катастрофических процессах и энергетическом финализме, не укладывающихся в традиционные детерминистические схемы новоевропейского мышления. Ответом на этот духовный катаклизм было становление новых форм культурно-нравственных идентификаций и культурно-исторических ориентаций человека. В них заметное место заняли нигилистический пессимизм и катастрофическое мироощущение, метафизика конца и эстетизация смерти как фундаментальной человеческой и культурной положительной ценности [6]. Было бы неверным и слишком поспешным заключать, что философия пессимизма неизбежно порождала чувства отчаяния, безнадежности, бессилия и покорности судьбе, толкала на отчаянные поступки, заканчивавшиеся нередко добровольным уходом из жизни, воспеванием смерти как страстно желаемого освобождения от тягостных пут бытия. Уже Ницше, который как известно, наряду с А. Шопенгауэром относится к корифеям европейского пессимизма, противопоставил принципу безнадежности принцип воли к жизни, самоутверждения и героизма. Своеобразную редакцию «героического пессимизма», оптимизма вопреки безнадежности представил Г. Файхингер. Возможно, он крупнейший представитель этой версии пессимизма в 20-м веке, хотя и не получил признание в этом своем качестве. Мы также не будем останавливаться на этой стороне его учения, ограничившись несколькими цитатами из его автобиографического очерка [7]. Ядро кантового пессимизма он видит в учении Канта об антиномиях, ограничивавших абсолютистские притязания разума. Обоснованию этого [84] положения и раскрытию сути интеллектуального практицизма посвящает в дальнейшем свои размышления Файхингер. Но в начале он проходит испытание искусом шопенгауэровского пессимизма. И для его продуктивного истолкования он находит аргументы. «Шопенгауэровский пессимизм стал для меня фундаментальным и постоянным содержанием сознания… Но я не нахожу, что такое состояние сознания ослабляет биологическую и нравственную энергию. Напротив, я принадлежу к тем, которым лишь пессимизм вообще дает возможность вытерпеть жизнь и которыми он даже придает нравственную силу». Более того Файхингер полагает, что только пессимизм может дать и гарантировать объективный взгляд на мир и реальное положение вещей. Если рациональное принципиально ограничено, то истинное господство остается за иррациональным и его представителем и выразителем — волей. Мышление, в понимании Файхингера, выступает орудием воли, оно несамостоятельно. Но руководимое волей, то есть в виде практического разума, мышление обретает новую силу и возможности. «Эта ограниченность человеческого познания, которую Кант неустанно подчеркивал, отныне не представлялась мне прискорбным недостатком человеческого духа по отношению к возможному высшему духу, который не связан такими границами. Ограниченность человеческого познания отныне представляется мне необходимым и естественным следствием того обстоятельства, что мышление и познание являются только средством для достижения жизненных целей». Итак, практический разум это инструментальный разум и Файхингеру предстояло выяснить, какими орудиями он пользуется выполняя целевые установки воли. Так были положены жизненно-этические основания для перетолкования интеллектуального обретения человека в духе преходящим форм его приспособления к жизни, что дало начало развитию фикционализма. В исследованиях, посвященных этому немецкому мыслителю и его учению, обычно делается гносеологический уклон: фикции как феномен познания. Это, в действительности, существенное сужение его воззрений, находящееся в несогласии с собственными представлениями философа о роли и значении фикций как культурного явления, оно не согласуется и с тем, что сама фикционалистская теория может быть истолкована и как особая интеллектуальная мимикрия пессимистического принципа либо же его частое выражение. Упускают из виду, что сам Файхингер [8] является одной из ярких фигур философского пессимизма в Германии. Увлечение установлением родственности «фикциологии» с различными версиями позитивной философии: прагматизмом, операционализмом и проч., сдвинуло оценки именно в сторону гносеологического восприятия этого учения вне контекста его зарождения и развития, в том числе, как фазы эволюции пессимизма Файхингера. Наконец, широчайший отзвук, который получила эта теория буквально с момента ее публикации и попытки постичь ее на всем фоне культурной деятельности, неутомимо длившиеся в течении почти двух десятилетий, также доказывают ее теоретико-культурный, если не вообще культурфилософский смысл. Типология пессимизма С.И. Дудник Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.85-89 [85] §2. Типология пессимизма Современная общественная мысль переживает определенный подъем в области философии истории и философии культуры. Его признаки видны, в частности, в количестве работ новых авторов, посвятивших себя этой теме, а также в мощной волне возбуждения интереса к тем воззрениям на историческую и культурологическую проблематику, какие были в ходу на переломе XIX и XX веков. В прямой связи с состоянием современного западного общества преимущественное внимание уделяется теориям, в которых находят хотя бы намек на нынешний кризисный сдвиг, состояние фрустрации общественного сознания, развала нравственных ценностей и безразличие к социальным ценностям. Если стандартная ситуация 50-х годов отмечалась как «бегство от истории», в страхе увидеть негативное отображение в ней своего состояния, то ныне к ней прибегают, с тревогой предчувствуя надвигающиеся катаклизмы. Не веря в оптимистические пророчества, общественная мысль Запада рассматривает историческое будущее своего общества скорее в драматическом свете, чем в картинах благополучного утопизма. Вот почему концепции катастрофизма и другие формы концептуального выражения массового пессимизма получили приоритет перед прагматически деловым оптимизмом. Поэтому в общей форме можно согласиться с теми исследователями, которые отмечают возрождение теорий циклизма и финализма, связывая этот факт с общим духом катастрофизма, переживаемого эпохой, с ощущением нисходящего тока исторического движения, изменить который никто не в состоянии. Существует и определенный эмоциональный аспект, побуждающий обратиться к философско-историческим обобщениям. Мир стремительно подошел к завершению XX века, а вместе с тем и второго тысячелетия нового исчисления истории. Естественно, совпадение таких круглых дат, как бы ни были условны приемы хронологии, вызывает понятное желание подвести итоги прошлого, заглянуть в будущее. Составляются программы общественного развития, захватывающие уже начало третьего тысячелетия. Но эта умственная работа идет на фоне особой ситуации современного общества. Подавляющее число философов отмечают, что XX век дал в целом бесчисленное количество подтверждений для самых мрачных прогнозов. Этот век был временем ужасных катастроф, подготовившим возможность термоядерной войны — самой страшной и конечной. История нашего времени проявила себя враждебной человеку и его ценностям. Невероятный прогресс в науке и материальном производстве не компенсировал и не остановил разрушение духовных и нравственных начал культуры. Поэтому на всем протяжении этого столетия наибольший успех и влияние имеют именно книги, излагавшие проблему будущего в апокалипсическом свете. Кратковременные увлечения футурологией, оптимизм постиндустриальной идеологии на фоне [86] общего неверия оказались поверхностными и несущественными. Как показывает недавно опубликованная в ФРГ антология из 32 наименований книг, вышедших на протяжении последних 70 лет, и вызвавших скандальный интерес, под характерным названием «Книги, которые возбудили столетие», большинство из них прямо проповедуют исторический скепсис и пессимизм или просто неверие в смысл исторического бытия человека. Среди них — известная книга О. Шпенглера «Закат западного мира», «Дух утопии» Э. Блоха (1918), «История как сообщение смысла бессмысленному» Теодора Лессинга (1919), «Восстание масс» Х. Ортеги-и-Гассета (1930), «Духовная ситуация эпохи» К. Ясперса (1932), «Диалектика Просвещения» М. Хоркхаймера и Т. Адорно (1947), «Душа в техническую эпоху» А. Гелена и проч [9]. Список, разумеется, неполный, но и он свидетельствует, что из горизонта общественного сознания выпали слащавые и обольстительные трактаты, повествующие о потребительском животно-счастливом будущем, но остались те, что стали моральным укором породившему их обществу или приговором нашей цивилизации (книги А. Розенберга, Г. Маркузе и др.). Переиздание работ классиков философии истории XX века — факт особой идеологической значимости. В обстановке общего сдвига вправо в духовых ориентациях преимущество получают авторы с мистической установкой. Например, Н. Бердяев, который никогда не сходил с идеологического горизонта, вновь вызвал дискуссии в середине 70-х годов. Один из его адептов и популяризаторов В. Дитрих так мотивировал интерес к личности русского философа: «Тщательное изучение того, что сделано этим человеком нынче важно потому, что мысль Николая Бердяева, полностью восприняв в себя марксизм, однако в своих политических выводах, равно как и в своих основных тенденциях смогла перешагнуть его, поскольку впитала в себя глубины христианской веры». Как известно, концепция Бердяева глубоко пессимистична и, проповедуя разложение современного культурного мира, ориентирует обратиться к наиболее ортодоксальным формам религиозной жизни, образцы которой он находит в идеализированном корпоративном сообществе средневековья. Поэтому можно согласиться с еще одной тонко отмеченной характеристикой мотивации обращения к катастрофизму: получает признание не абсолютный, а относительный финализм, уповающий на грядущее возрождение, связывая его с мистикой идущей то ли от христианства, то ли с Востока [10]. В связи с определенными ожиданиями концепций катастрофизма и финализма встает вопрос об осмыслении этого духовного феномена. Требуются существенные методологические исследования и неустанные размышления. Они могут пойти по линии более четкого размежевания и типологизации наиболее фундаментальных философских обобщений истории в виде теорий финализма, катастрофизма и циклического развития. Определенные наметки в этом отношении были сделаны в работах С.С. Аверинцева, И.С. Кона, П.П. Гайденко и других. Однако работа [87] далеко не закончена; существует распространенная путаница в понимании соотношения различных теорий философии истории, созданных в нашем столетии. В подавляющем большинстве из них проводится мысль об отсутствии единства исторического процесса, о его расщеплении на отдельные культурно-исторические образования. Прогресс не обладает универсальным значением; таковое имеет скорее циклическая конфигурация истории, или ее пульсация. Из-за схожести или вообще близости этих воззрений, принято их объединять в общем направлении исторического партикуляризма или же циклизма. Так, югославский философ С. Тарталья, работу которого мы цитировали, практически всю философию истории сводит к циклизму и все новые теории считает в той или иной мере возобновляющими эту идею. Столь же фундаментально оценивает эту идею Морис Коллевиль, находя, что идея и понятие «вечного возвращения» являются корневыми для современного историзма [11]. Более детальную типологию циклизма представил Кейрнс. Он, в частности, делит циклические теории на два типа: многоцикловые и одноциклические. К последним он относит марксистскую концепцию истории, приписывая ей апокалипсический смысл, по существу, относя ее к финалистским теориям. Многоцикловые суть те, в которых развивается идея возобновляющегося культурного движения после завершения определенных фаз эволюции. Существуют, однако, воззрения, что главной чертой современного исторического процесса есть тот или иной вид финализма, и суть дела только в том, каким способом разрешается исторический финал [12]. Этот взгляд наиболее концентрированно выражает пессимистические умонастроения времени. Финализм в теоретическом выражении может быть обоснован и изображен различным способом. Часто под финализмом понимается мысль об умирании культуры в оболочке внешне благополучной, но пустеющей цивилизации, утверждается, особенно в так называемых антиутопиях, о неизбежности катастрофического обрыва истории под воздействием разрушительных сил технической цивилизации и проч. Способ отображения, поскольку он связан с различными методологическими и концептуальными приемами понимания сути культурно-исторических процессов, дает основание для типологии финализма и пессимизма как теоретического явления в философии культуры. Современный пессимизм сформировался как реакция на кризис классического рационализма. Познавательная и жизнеорганизующая ограниченность последнего породили широкий спектр духовного и социального разочарования и неверия в разумность исторического процесса, в его закономерности, в наличие у него смысла, в котором реализовались бы основные человеческие ценности, наконец, неверие, что вообще имеется нечто, что можно было бы назвать историей в онтологическом смысле. [88] Но этот пессимизм имеет не только широкий спектр своего предметного воплощения, но и различные способы концептуализации. Он может иметь все признаки научно обоснованного вывода, то есть когда негативизм к указанным проблемам историзма представляется не как воплощение общего настроения, а, наоборот, как вывод из кропотливого анализа исторических и социальных реалий строго научными средствами. Таковы теории позитивистски и сциентистски ориентированных мыслителей типа Ф. Знанецкого, П. Сорокина. Иногда пессимизм и финализм выступают в виде спекулятивной культурологии, где, в свою очередь, можно найти известные вариации от обобщения антрополого-этнографических данных с помощью априорных идей (А.Л. Кребер) до переноса в сферу философской теории художественно-эстетической интуиции с присущим ей способом восприятия и отображения социальной реальности (С.И. Виткевич, Х. Ортега-и-Гассет и др.). Огромную роль на Западе играют способы доведения до массового идеологического потребления философско-исторических и культурологических идей в беллетризированной форме. Широкое распространение научно-фантастического жанра (Science-fiction), философского романа, романаантиутопии и т.д. — тема, которая должна стать предметом специального анализа. В целом пессимизм как культурно-философский феномен может иметь такие типы выражения: 1. Гносеологически выраженный пессимизм, связанный с убеждением о непознаваемости сферы культурно-исторической деятельности и бытия человека. Он представлен как неокантианской (баденской) школой философии истории (Виндельбанд, Риккерт), так и герменевтическими направлениями, идущими от В. Дильтея, Гадамера, феноменологического экзистенциализма Хайдеггера, П. Рикёра, философии жизни (Кейзерлинг, Л. Клагес, М. Поладьи), и позитивистской философией истории, сосредоточившейся на мелочной систематизации фактов. В решении основных проблем этот тип пессимизма занимает либо отрицательную позицию, либо подменяет научное познание пророчествами и мифотворчеством. Так, А. Гулыга, подчеркивая факт мифологизации обществоведения на Западе, отмечает его сциентистскую мимикрию «под науку». Кризис религии при отсутствии развитого научного взгляда на социальную жизнь приводит в условиях современного общества к возникновению новой мифологии. Современный миф рождается в сфере умственного труда, затем внедряется в массовое сознание отнюдь не без участия сил, сознательно стремящихся к этому внедрению. «Миф, — замечает А. Гулыга, — вынашивается обычно полуинтеллигентами, недоучками, усвоившими лишь внешние признаки образованности… приноравливаясь к запросам времени, он стремится приобрести наукообразную форму». 2. Методологически выраженный пессимизм. Он близок к первому, но акцентирован не на принципиальную непознаваемость [89] исторического бытия, а на недостаточность средств и возможностей, способных проникнуть в сущность явлений истории и культуры. Сюда же относится различного рода критика исторического сознания, сомнение в возможности точных критериев оценок исторических фактов, релятивизм, убеждение в невозможности, ввиду изменчивости самого объекта, дать его теорию как нечто устойчивое, противоречащее живой природе и динамизму культуры; непригодность научных методов и апелляция к методам искусства, культурно-исторический субъективизм. Примерами могут служить некоторые представители «философии жизни», начиная с Ницше, провозгласившего принцип художественного подхода к познанию сущности культуры. Сюда же можно отнести и представителей философии Франкфуртской школы, развивших критику исторического сознания и отказавших социальной теории в конструктивной функции (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе) и их нынешних последователей в Америке (Т. Роззак, Ч. Рейч). 3. Онтологически выраженный пессимизм. Это направление в обосновании пессимизма известно менее всего, но приобретает вес в последнее время, хотя его корни весьма глубоки в традициях буржуазного историзма. Он может выступать как в виде отрицания объективного статуса культурного и исторического процесса, относя его к области воображения, так и в трактовке социально-исторического бытия как отчужденного, подавляющего человека, образования, воздействие на которое лишено смысла и принципиально не реализуемо. Бесчисленные теории отчуждения, особенно связанные с неофрейдизмом, учения о тоталитарном духе общества и проч., коренятся, по нашему мнению, в общей установке онтологизированного пессимизма. Различные ракурсы этого феномена просматривались в теориях отчуждения (Г. Лукачом, А. Шафф) и в учении о «репрессивной цивилизации», развитом Г. Маркузе на фундаменте теории культурного прогресса З. Фрейда. Их влияние было особенно впечатляюще в 60-70-е годы прошедшего XX века, стимулировавшее молодежное бунтарство и отвержение буржуазного общества в гуманистических поисках этого периода. К сожалению, проблема судеб европейского пессимизма настолько обширна, что несмотря на его значение в современной культуре, мы лишены возможности подробнее ее анализировать, ограничив себя вышеизложенным. Философский модернизм как философия культуры С.И. Дудник, Ю.Н. Солонин Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.90-127 [90] Модернизм в своих корнях оказался неразрывно связанным в пессимистическим умонастроением конца века. Но из этого нельзя делать вывод, что это была культура и философия исключительно уныния и безрадостности. Наоборот, подобные мотивы вплетались в сложную вязь многих иных установок и тенденций, нередко утверждавших философию активизма, героической жертвенности, богоборчества и титанизма, но все же они оказывались лишь формой представления эгоцентризма, себялюбия и бессмысленного отчаяния, демонстрацией позы и эстетизацией катастрофического финала. Пятнадцать лет спустя после начала века такую констатацию всех этих феноменов европеизма представит еще не оцененный Г.А. Ландау — истинный предшественник шпенглеровского анализа культурного декаданса Европы [13]. Таким образом, травестия идеологических форм традиционных философских идей, составляет важную черту процесса образования модернизма. Во всяком случае мы можем зафиксировать две особенности: первая представляется в виде критики традиционной (конечно, с точки зрения интеллектуалов конца XIX века) культуры способом теоретической дискредитации и дезавуирования ее конструктивных и системообразующих принципов, с демонстративным противопоставлением им непризнанных и прежде культурно нелегитимных объектов и явлений как потенциала новой культуры: разуму — энергии эмоций и бессознательного; научному познанию и рассудочности — интуиции, вчувствования и художественного экстаза; продуктивной практике — созидания изысканных, утонченно-хрупких форм высокой культуры и т.д. Вторая особенность выражается в указанном «переодевании» достаточно традиционных тенденций европейской социо-культурной мысли и идей и в придании им иной культурной функциональности и специфических форм представимости. Судьбы нигилизма и пессимизма служат тому примерами. Как известно, философия Файхингера вошла составной частью в духовный опыт модернизма, образуя его как характернейшее явление, что и обеспечило ей такое органичное восприятие в культурном опыте почти всех стран Европы эпохи модернизма, включая и Россию. В ней пессимизм модернизма получил весьма специфическую редакцию, отличившую его от расхожих эстетствующих суждений об изначальном «покрове тайны», отделяющего человека от неведомого ему, но предчувствуемого им мира и бытия. Но что такое модернизм как культурфилософское явление в более или менее строгом смысле? Предыдущий материал позволяет, вероятно, создать определенные представления о нем и в виде психо-эмоциональных стилей поведения, и в виде учений, которые с ними связаны. Философскую репрезентацию модернизма дают философские [91] концепции типа файхингеровского фикционализма, которую мы считали нужным изложить без особой детализации, чтобы продемонстрировать, сколь широка в действительности идеологическая база модернизма, традиционно сводимая к шопенгауэрианству, ницшеанству, бергсонизму. Попробуем конкретно сформулировать ответ относительно собственно культурфилософской концептуализации модернизма, обращаясь к малоизвестным ныне теориям ряда польских мыслителей. Это тем более интересно, что все они формировали свои идеи под непосредственным влиянием русского культурного, социального и политического опыта ХХ века. Мы уже обратили внимание на то, что понятие модернизма, равно как и термины, которыми обозначаются заключенные в нем смыслы, обладают расплывчатой неопределенностью, которая не только породила целый ряд недоразумений, но и не раз провоцировала дискуссии. Последние не приводили к каким-то результатам в виде установления приемлемых определений или терминологическим договоренностям, как это принято в мире точных наук, где разработана практика введения терминологического единообразия и терминологических соглашений, но зато решали иные задачи, нередко научно значимые, как, например, установление структуры и особенностей какого-либо культурно-художественного явления, либо чисто идеологические. Хотя мы не считаем целесообразным входить в обстоятельства подобных дискуссий, однако отметим странную особенность: отказ по теоретическим соображениям принять это понятие в качестве научного средства обычно находится в противоречии с практикой культурно-идеологического самоопределения тех движений и их участников, которым это понятие кажется приемлемым и вполне адекватным; оно отражало в своих действительно не очень четко прорисованных смысловых структурах некоторые весьма важные интуиции, которыми были пропитаны и художественное мышление той эпохи, и ее интеллектуальная жизнь. В них ясно обозначались и сравнение старой системы жизненных, эстетических и научных ценностей, стилистической культуры, художественной практики предыдущей эпохи, сдвиг акцентов и тональности в восприятии, и оценки значения определенных форм человеческой и общеутвердившейся общественной практики. Можно привести ряд оппозиций, по которым прослеживалось это противостояние: вера в жизнеутверждающую силу будущего — безверие и бесперспективность бытия; оптимизм и надежда — пессимизм и неопределенная тоска; утверждающая себя жизнь и телесно-нравственное здоровье — постоянное ощущение тлена, преходящести жизни, болезненно-изломанный каприз бесцельного сиюминутного существования; достоверность знания и практической общественной ценности науки — загадочность бытия, зыбкость существования, в котором жизнь принимает неясные быстро меняющиеся неуловимые очертания и непредсказуемые формы. Все это отмечено печатью тайны, чувством прикосновения к чарующе-ужасным, [92] но непроницаемым глубинам жизни. Не случайно «декаданс» стал другим, наряду с «модернизмом», термином, обозначившим это новое мироощущение. Но со строгой научной позиции, акцентирующей их нечеткость, смысловую неконкретность, допускавшую возможность обозначать ими события и факты, весьма далеко отстоящие друг от друга, они казались неприемлемыми. Такова, например, позиция М.М. Бахтина, которую он выразил в интервью с проф. В.Д. Дувакиным. Она отмечена характерной двойственностью. Употребляя эти термины в их операциональной функции, обозначив ими поэзию ряда символистов (В. Брюсова, Вяч.Иванова, А. Блока и др.), он отказывает им в научном статусе. Позволим себе привести довольно большой фрагмент их беседы, потому что он характерен классичностью выраженной амбивалентности терминологической практики. «Дувакин …Вот, собственно, Сологуб [14] — это наиболее концентрированное выражение — в применении к искусству, конечно — понятие «декадентство». Бахтин Да. Видите ли, вот это понятие-то вообще… Он не считал себя декадентом, нет. … Как человек это был менее всего декадент. Это был человек, можно сказать, очень солидный: …учитель… Одним словом, так я бы сказал, что из всех поэтов, декадентов и символистов своего времени, включая таких как Брюсов, как Вячеслав Иванов, наименее декадентом, а самым солидным человеком был Сологуб… Ну, а поэзия его… была именно чистая поэзия. И нельзя сказать, чтобы это было декадентство. Дувакин Именно по-французски это был настоящий декаданс… то есть поэзия падения, исчезновения, умирания… Бахтин …Нужно сказать так: я как теоретик, как историк, — я этот термин не признаю. Этот термин выдвинули, и носились с ним представители не больших поэтов, а так, мелких поэтиков, которые самое слово «декаданс» понимали именно как определенную позу… А большие поэты в этом отношении декадентами никакими не были. … Дувакин Это очень интересный вопрос. Видите, в этом слове есть два… Ну, модернизм. Бахтин Это уже совсем… Термин вообще не приемлем этот… Для нас это бранное слово — «модернист», бранное слово. «Модернист» — это как раз должен быть для нас, наоборот, похвалой. Дувакин А с другой стороны, можно в слово «декадент» вставлять более серьезный, мировоззренческий смысл… близкий к слову «трагический», но не совпадающий с ним; то есть вот то, что идет… от, так сказать, небытия, распадения, то есть известную философскую… не теорию, но известную эмоцию. Бахтин Мировоззрение, да, но… тогда не подойдут сюда… или очень многие подойдут сюда, потому что, действительно, мрачного такого, пессимистического мировоззрения придерживались очень многие [93] великие поэты прошлого. Может быть, Леонардо — вот он тогда действительно будет самый яркий декадент. Декадентом будет Байрон...» [15]. Надо сделать поправку на «теоретичность» самого разговора и условий, не позволявших М.М. Бахтину «отточить» формулировки и быть более строгим. Но в его высказываниях (дальше по ходу дискуссии) вырисовывается определенная концепция. Пессимизм, трагичность, смерть, сами по себе не свидетельствуют о декадентском духе, если они выражены мировоззренчески, философски серьезно, и являются вечным атрибутом высокого искусства и мысли, принимая жизнь во всей ее полноте, «знающие и понимающие, что жизнь все-таки включает в себя смерть». С этой точки зрения и Ф. Ницше не представляется М.М. Бахтину родоначальником модернистскодекадентского движения, именно в силу того, что его пессимизм имеет характер серьезного мировоззрения: «это был поэтический и отчасти философский пессимизм». Как раз наоборот, полагает он, Ф. Ницше был тем, кто признавал декадентство, считая его «отрицательным явлением, противопоставлял им подлинного будущего сверхчеловека… Он в себе обличал декадента… старался именно в себе победить декадента...» [16]. Декадентством же М.М. Бахтин считает особое состояние вырожденности серьезного, при котором трагическое, высокий пессимизм, философия смерти утрируются, деградируют до состояния пустой формы, позы, манифестирующих значительное банальным, бессодержательным словом, навязчивым жестом, эпатирующей манерой и т.д. При всей значительности подхода М.М. Бахтина к указанной проблеме, отметим, что классическая ситуация отличается определенной гармоничностью в сочетании трагического и жизнеутверждающего. Тема смерти, даже превалируя в творчестве и мировоззрении отдельного художника или мыслителя, как бы уравновешивается общей установкой духа времени, компенсируется созидающей энергией культуры. В последующем происходит ее «эксцентризация», смещение всех культуротворческих установок, ориентаций, меняющих представления о смыслах бытия и горизонты культурных перспектив. Пессимизм, философия смерти, культура как ее культивирование становятся самоценностью и самодостаточностью. Именно в этих условиях создаются предпосылки появления декаданса — позы как массового явления. В других условиях он был бы невозможен и непонятен. §3.1. Польская традиция в модернизме В XIX веке общая ситуация в области проблем культуры существенно осложняется и обогащается. В ней вычленяются отдельные направления, основанные на различных, нередко резко противоположных мировоззренческих устоях. Внутри них возникают школы или отдельные системы. Постепенно ослабляется влияние просвещенческих идей прошлого века, в том числе и французских, хотя преемственность не [94] разрывается. Вместо них в Европе усиливается влияние идей немецкой философии. Крепнущее обществоведение приносит новые идеи и факты, способствующие развитию прикладных культурологических дисциплин, таких как этнография, этнология, фольклористика, культурная антропология, историй религий и т.п. Наблюдается постепенное усиление внимания к проблемам культуры и со стороны католической церкви и теологии. Культурология все больше строится на принципах эмпиризма и методологии эволюционизма. С середины XIX века представления о прогрессе как основной форме историзма становится господствующим мировоззрением в области культурологии. Этому способствует становление исторической культурологии, развитие научных представлений о начальных стадиях человеческого общества, формах человеческого общежития, эволюционная теория Дарвина, возникновение исторической школы права, развитие методологии сравнительно-исторических исследований (в области литературоведения, примитивных культур и т.п.). Внимание к историко-культурной проблематике стимулировалось и политико-идеологическими мотивами, в частности, связанными с распространением идей марксизма и его концепции общественноэкономических формаций. Пристальный интерес к тем формам общества, в которых социокультурные отношения строились на господстве принципов и институтов общинности, коммунализма и им подобных, который был характерен для теоретиков из круга марксистов, весьма актуализировал историко-культурную тематику и сравнительные подходы. В Польше они были разработаны весьма подробно. Не меньшее значение продолжало оставаться и за факторами внутреннего свойства. Пережив катастрофу конца XVIII столетия, в результате которой исчезли польская государственность и территориальная целостность, после ряда неудачных попыток обрести независимость, польское общество в XIX веке оказалось в перманентном состоянии кризиса, духовного застоя, идеологического противостояния и раскола. Только к концу столетия стала заметной культурная консолидация и оздоровление духовной ситуации. На этом фоне необычайную остроту приобрели проблемы культурфилософского и историософского характера. Нередко их рассмотрение отличалось мистической неопределенностью, пророческим визионерством, а решение — религиозно окрашенным мессианством и утопизмом. Эти черты были весьма характерны для культурфилософского романтизма, упрочившегося в польской мысли к середине века и затем долго и медленно преодолевавшегося прогрессивной общественной мыслью и научной культурологией. Именно в нем проблема Польши и ее будущего приобрела эсхатологическое напряжение, став чрезвычайно емкой и весьма неопределенной метафорой, насыщенной религиозным сотериологическим смыслом. Факторы, определявшие развитие философии культуры эпохи модернизма в Польше, оказались более многообразными и сложными, чем [95] в предыдущее столетие, а ее направлений стало значительно больше. Несомненное влияние на своеобразие польского модернизма оказало наследие идейных течений XIX века, сохранившихся в виде различных философских направлений. Укажем основные из них: 1. 2. 3. 4. 5. философия культуры польского романтизма и мессианизма; позитивистская линия в философии культуры и культурологии; марксистское направление в теории культуры; спекулятивные философии культуры; религиозные (католические) концепции. Философия культуры польского романтизма и мессианизма представляет весьма неоднородное явление и отражает в себе также их сложную эволюцию. В первую очередь она представляла собой составную часть общего идейно-теоретического и философского противостояния просвещенческим воззрениям. В частности, в ее основе лежало не размытое, неопределенное, абстрактное представление о «человеческом роде», а понятие «народа» как субстанции, обеспечивающей жизненную целостность культуры и духовной жизни общества, их единство. Романтическая философия культуры испытала на себе влияние философии и эстетических идей немецкого философского романтизма, прежде всего Шеллинга, Фр. Шлегеля и А. Мюллера. Отсюда шло восприятие идей органической целостности культуры, общества и государства — «духа народа», выявляющегося в специфике языка, быта, фольклора данной нации. Примером может служить концепция Юзефа Шанявского (1764-1843), мыслителя консервативной ориентации. Его воззрения на культуру вписывались в общую теорию философии государства, понимаемого в виде сверхиндивидуального организма, устроенного по иерархическому принципу. Субстратом такого государства является «народ», но не как его население или нация, а как совокупная индивидуальность, определяемая свойственными ей культурой и языком. Только там, где единство народа определено его культурно-языковым тождеством, можно говорить о «культурном народе». Дальнейшее развитие эти взгляды получили в работах Мауриция Мохнацкого (1804-1834). Его философия культуры испытала на себе сильное влияние эстетики немецкого романтизма. Истинным творцом культуры у него выступает художник в широком смысле слова. Он представляет в себе «природу творящую» (natura naturans), подчиняясь которой, творит согласно божественным принципам творчества. Народ выступает как некая сверхиндивидуальность, данная не в объективном (природном) выражении, а как субъективность, объективирующая себя в культуре. Культура же, в своих конкретных формах (например, литература) является способом самопознания народа «в его собственном естестве». Объективированная в виде культуры индивидуальность народа является нередуцируемой (окончательной) ценностью, включающейся как необходимая сторона в универсальную культуру человечества. Уничтожение отдельного народа всегда представляет непоправимую потерю, обеднение всего человечества, ибо означает уничтожение одной из уникальных культур. [96] К самым выдающимся представителям польской философии культуры романтизма принадлежал Ю. Хоене-Вроньски (1776-1853), мыслитель универсального характера. Своей жизненной целью он считал создание системы «абсолютной философии», которая должна была стать, подобно новому откровению, средством возрождения человечества, в силу чего за ней закрепилось наименование «мессианизм». Примечательно, что большую часть своей творческой жизни Вроньски провел во Франции и писал на французском языке. Его культурология помещается в рамках созданной им философии истории. ХоенеВроньски строит весьма сложную схему истории человеческих деяний, выделяя три главных фазы: эру непосредственных (относительных) целей; эру целей опосредованных; и эру целей абсолютных. Культурную ситуацию он воспринимает не только в ее исторической стадиальности, но и как подверженную глубокому кризису, в основе которого лежит антиномичность общества, в свою очередь, определяемая антиномиями разума в смысле Канта. Этот антиномизм вызывает борьбу лагеря сторонников Добра со сторонниками Истины. Разрешение этого антиномизма культуры достигается с помощью «абсолютной философии», содействующей переходу человечества в состояние особой религиозности, являющейся синтезом всех великих конфессий, но рациональнохудожественной, а не мистической по своему характеру. Религиозный культ в ней должен состоять в занятиях художествами как высшими проявлениями культуры, а деятельность церкви сводиться к формам отправления абсолютной любви к ближнему. В этом культурно-историческом процессе каждому народу отводится своя участь, и особая — славянству. Россия представляет в нем идею Бога, а Польша — идею человеческого права. Именно их союз должен быть высшим культурно-историческим синтезом, открывающим путь человечеству к совершенному бытию. Особое место в философии позднего романтизма занимает творчество А. Цешковского (1814-1894). Его основные философские воззрения изложены в монументальном, но незавершенном труде «Отче наш». Цешковский отказался от спекулятивной, созерцательной по характеру, философии, противопоставив ей «философию дела». Он находился под влиянием Гегеля и не разделял крайностей мистицизма польских романтиков, был скорее рационалистически ориентированным и деятельным мыслителем. В основе его историософии лежала идея возможности проникновения в сущность будущего. «Историософия» (термин, введенный Цешковским) должна стать абсолютным знанием об истории. В истории он выделил процесс перехода трех эпох; и его воззрениями, прошедшую эпоху Искусства (античность), сменила эпоха Мысли (христианство), которую сменит эпоха Дела, одновременно синтезируя («снимая») в себе обе предыдущие. В ней гармонично сочетаются чувство и мысль, природа и дух, непосредственность и рефлективность. Человек будет представлен в ней творцом, то есть не только чувствующим или только мыслящим, но субъектом разумного деяния. Таким [97] образом, в воззрениях Цешковского будущее мыслится как идеальное единство всех форм и типов культурной жизни и деятельности, как совершенное в социальном отношении человеческое бытие, Царство Божие на земле. Цешковскому мыслится порядок, устроенный на основах любви, и в котором этика заменит политику, стремление к благу — корысть и мысли о потустороннем блаженном мире преобразятся в идею о реальном будущем, священниками станут все люди доброй воли, литургия станет высоким искусством, наука — догматикой, труд на благо общества — благим обязательством. В обществе будущего справедливость будет реальным фактом, ибо ее обеспечат равенство, материальное благосостояние, упразднение эксплуатации. В социокультурной утопии Цешковского можно выявить и черты концепций «общества благоденствия», и признаки социализма, и теории христианского общежительства людей [17]. Сильное влияние и воздействие на духовную жизнь польского общества имели также идеи, развивавшиеся в духе романтического мессианизма великими польскими поэтами«пророками»: А. Мицкевичем, Ю. Словацким, З. Красиньским. Философия культуры польского романтизма была не только исторически преходящей идеологической формой, хотя ее и породили конкретные условия польской действительности. Ее идеи были ассимилированы в дальнейшем другими философскими течениями, в том числе и модернизмом; они не раз переживали реставрацию и поныне не теряют свою значимость. Следующим значимым предшественником модернизма в Польше, его антагонистом, выступает позитивизм. Позитивизм утверждается в Европе как философское течение в 3040-е годы прошлого века. Его главными представителями были, как известно, О. Конт (1798-1857), Д.С. Милль (1806-1873), Г. Спенсер (1820-1903). Заявив себя как «философия науки», «философия ученых» и приняв на себя все признаки науки — «научной философии», он вскоре из методологических границ вышел на широкий горизонт философского движения, возглавив антиметафизическую линию. Постепенно он проник во все сферы знания, прочно завоевав мировоззренческие позиции. Сторонники позитивизма в Польше появились уже в начале 40-х годов. Восприятие его облегчилось тем, что в Польше были те же интеллектуальные традиции (рационализм, эмпирический антиспекулятивизм), на которых базировался позитивизм во Франции и Англии. Но окончательно он утвердился в 60-е годы после поражения польского восстания 1863 года, когда стала ясна беспочвенность мечтаний о скорой независимости, о союзе славянских народов во главе с Россией и Польшей. Место романтических утопий стали занимать идеи и теории, утверждавшие трезвые, прагматические идеи, например, теория «малых дел», «органичного труда», «работы от оснований», призывавшие к последовательному, постепенному совершенствованию общества, развитию ею [98] экономики, культуры и воспитания на началах разумного активизма. Его сторонники составляли широкие круги интеллигенции, промышленно-торгового капитала, среднего и бедного дворянства. Позитивисты в области проблем культуры отказались строить культурные мифы, и подвергли критике теории, воспевавшие индивидуализм, чувствительность, основывающиеся на культе пророчества и визионерства вместо ясного и конкретного исследования непосредственной действительности, позволяющего строить разумные и достижимые программы социального и культурного совершенствования. Выдающимся представителем польского позитивизма был А. Свентоховский (1849-1936), лидер, так называемого, «варшавского позитивизма». Он не оставил капитальных работ культурологического характера, работая, главным образом, как философствующий публицист. Его позиция определялась установками антирелигиозности и свободомыслия, терпимости, приоритета практического действия над теоретическим. Из культурологических работ следует отметить «О возникновении законов морали» (1882). Ее характеризует социологизм в объяснении основных культурных форм и принцип эволюции. Основаниями культуры являются социальные условия жизни, но корни и протоформы их содержатся уже в животном мире, подобно этическим отношениям. Мораль не имеет абсолютного нормативного характера, она релятивна в широком смысле слова. Равным образом это можно сказать и о культуре вообще. Она должна быть предметом науки исторической по своему характеру, описывающей конкретную культуру, а не обнаруживающей ее универсальные законы. Таким образом, позитивизм вносил в теорию культуры феноменологическую методологическую позицию. Свентоховский, понимая культуру как систему ценностей, отрицал, что эти системы имеют объективный, вытекающий из природы ценностей характер. Культуры как системы ценностей формируются в процессе социальной эволюции. Абсолютной же иерархии ценностей не существует. Возможно в релятивистических обобщениях лежал источник культурного пессимизма Свентоховского, по сути, отрицавшего смысл прогресса, уверяя, что развитие цивилизации увеличивает одиночество человека. К позитивистскому направлению примыкает своими работами Э. Маевский (1858-1922), историк, социолог, этнограф. Ему принадлежит обширный труд «Наука о цивилизации» в четырех томах, оставшийся незаконченным. Им он положил начало целому направлению в польской культурологии и историографии, называемому «теорией цивилизации». В своей работе он ставил задачу объяснить природу цивилизации (культуры) и общества. Ее выполнению должен служить исторический подход в сочетании с пониманием культурной истории как естественного процесса. Цивилизация, по его мнению, имеет природные корни, но не в мире животных сообществ. Между ними, наоборот, имеется пропасть. Она определена тем, что животные сообщества сведены в совокупности, как кристаллы, из абсолютно одинаковых, [99] неразличимых элементов. Но даже самые примитивные человеческие сообщества отмечены функциональной дифференциацией и взаимозависимостью своих членов. Маевский различает два рода эволюции: естественную, в которой усовершенствуются органы биологического организма, и цивилизационную, в которой происходит совершенствование не естественного тела, а искусственных орудий. Эти два типа эволюции не столько надстраиваются один над другим, — цивилизационный над естественным — сколько характеризуют объекты двух разных реальностей единого мира природы. Тем не менее, они не рядоположены. Ниже «реальности цивилизации» размещаются по шкале бытия «реальность организма», «реальность клетки» и «реальность биогенной зоны». Цивилизация характеризуется изготовлением искусственных орудий, чего не знают иные природные реальности. Особая роль в «теории цивилизации» отведена языку. Он является единственным средством связи людей в надорганическую целостность, которая и существует пока через язык осуществляется интерпсихическая связь. Помимо этого, он содействует аккумулированию знаний, специализации и общественному разделению труда. Только развивая языковую коммуникативную систему, человек оказался способным превратить обычное общинное существование в сложное, функционально многообразное — цивилизационное. Совершенствование языка является важнейшим двигателем цивилизационного процесса. Более того, только посредством языка при переходе от простых описаний ко все более сложным и отвлеченным родилось мышление. Изобретение письма как носителя знания, и знание, отделившееся от мозга и индивидуальной памяти, сделало науку и ум сверхиндивидуальной принадлежностью всей цивилизации; они обрели как бы самостоятельное существование. Знание стало «собирательной душой» цивилизации, и они вместе существуют реально, обнаруживая свойственное их природе развитие. Предметом деятельности цивилизации как особой сущности становится общее благо. Человеческий индивид в этой объяснительной схеме неизбежно теряет свою антропологическую и онтологическую значимость; люди — это фрагменты, части этой высшей целостности, отдающие свою энергию совокупному организму цивилизации. Тем не менее, субстрат цивилизации, ее носитель — это народ. Причем каждой цивилизации соответствует народ одноязычный, ибо унилингвизм является непременным условием консолидации человеческих фрагментов в единое цивилизационное целое. Между отдельными цивилизациями не утихает борьба за существование, что отражает влияние на теорию Маевского дарвиновского учения. Близко к позитивизму из мыслителей уже ХХ века стоял С. Чарновский (1879-1937), испытавший влияние социологизма Э. Дюркгейма. Его воззрения обобщенно представлены в книге «Культура» (1938), в которой Чарновский ставит основные культурологические проблемы: «Как возникает культура? Что определяет ее расцвет, изменения и увядание? [100] При каких условиях соприкосновение двух культур дает в итоге синтез обеих, а при каких одна из них подвержена будет разложению? Что может сохранится в ней? Наконец, от чего зависит проникновение определенных элементов культуры в Среды, которые их не вырабатывали: путешествие их в пространстве и сохранение во времени, иногда целые тысячелетия?» [18] Чарновский определял культуру как «совокупность объективированных элементов общественной наработки, общие ряду групп и в силу своей объективности имеющие пространственную локализацию и способность пространственно расширяться». Это определение характеризует социологический формализм дюркгеймовской школы, распространяющийся на весь концептуальный схематизм культурологических идей Черновского. Итак, натурализм, феноменологизм и эволюционизм были определяющими чертами позитивистской линии в польской культурологии, к которым позже добавился социологизм. Особый поворот разработка этой тематики получила в польском модернизме конца XIX — начала XX в., в частности в среде неоромантиков «Молодой Польши». Влияние модернизма сохранилось и в последующие годы, выразившись в различных формах в работах представителей религиозной философии, неопозитивизма, художественноэстетической мысли, историков. Назовем такие имена, как В. Лютославский (1863-1954), Ф. Конечны (1862-1949), Ф. Знанецкий (1885-1939). К рассмотрению воззрений некоторых из них теперь и следует перейти. Как уже отмечалось выше, модернистский взгляд на культуру и человека сформировался в атмосфере сложных духовных эволюций второй половины XIX в., в частности, в противостоянии с позитивизмом, социологизмом и естественно-материалистической установкой. Поэтому, учитывая различные отклонения, в целом ему был свойствен антиэволюционизм, отрицающий законосообразный прогресс и исключающий из сферы культуры ее материально-технологические основания как факторы развития. В противовес им он с энтузиазмом декларировал силу духовного начала, с наибольшей полнотой воплощавшегося в творческой индивидуальности, нередко утверждавшей свою культурную значимость через героическую жертвенность. Аристократизм духа и культурологическая роль личности или элиты противопоставлялись косному, инертному антикультурному началу — толпе, массе, вообще социальному. Эти идеи антиэгалитаризма мы встречаем в изобилии в концепциях Габриэля Тарда, Густава Ле Бона, Вильфредо Парето и Фр. Ницше. Разумеется, выражены они были не только различной терминологией, но и с различной степенью интенсивности и нюансировкой. Так, Тард представлял более умеренную позицию, нежели Ле Бон, ибо проводил различие между толпой и современной «публичностью» (общественностью), своей организованностью и разумным принципом, делающим возможным демократическое общество. В то же время модернистическая философия культуры давала образцы специфической натуралистической интерпретации культуры, [101] основанной на психологизме, витализме и энергетизме. Ее антиредукционизм имел ограниченный смысл, а именно он утверждал непереходимость между миром природы и миром человека, что нередко вело к утверждению извечной враждебности среды духовному порыву человека. В той или иной редакции все эти черты мы встречаем и в польской философии культуры модернизма. В этом процессе важно влияние Гумпловича, знаменитого польскоавстрийского социолога, на утверждение модернизма в социальных науках и культурологии. Его работа «Социальная философия» (1909) свидетельствовала об отходе от позитивизма в сторону модернистической трактовки социокультурных процессов. От эволюционизма Гумплович переходит к пессимистическим представлениям о культурных процессах, разрабатывая идеи цикличности с элементами культурно-социального катастрофизма. Критика прогрессистского оптимизма дополняется пессимистическими рассуждениями о неизменяемости человеческой природы и ее враждебности духу, об извечном неразрешимом антагонизме творческой элиты и массы. Хотя в модернизме (в том числе и польском) мы встречаем теории с героикооптимистической (Ст. Бжозовский) и возвышенно-спиритуалистической (В. Лютославский) устремленностью, в целом его отличала иная тональность. Эволюционизму противопоставляются принципы неукоснительной повторяемости культурных состояний, циклизма, замкнутости культурных изменений. Поступательность и непрерывность прогресса отвергаются, ибо деградационные и деструктивные воздействия представляются более значимыми, что ведет к акцентации проблем обрывов развития и культурных катастроф в теориях модернизма. Другой образец польского модернизма — философия культуры Флорьяна Знанецкого — представляет систему взглядов на культурно-цивилизационные процессы, в которых отразились типичные для начала века философские и социальные идеи. Особенно сильное воздействие оказала философия гуманизма представителя английского прагматизма Ф.-К.С. Шиллера, обусловившая в значительной мере общую субъективно-идеалистическую направленность воззрений Ф. Знанецкого. Он также, как и Шиллер, стремится развить систему «философии гуманизма», частью которой и является его философия культуры. Гуманизм для Знанецкого — это «стремление подчинить человеку все абсолюты истины, блага, красоты, добра, в какой бы форме они ни обнаруживались. Человек же, который в большей или меньшей степени вновь становится «мерой всех вещей», — это исторический индивидуум, со своими определенными, разнообразными, меняющимися стремлениями и верованиями, это историческое общество с не менее определенными, разнообразными, изменяющимися потребностями и институтами». Таким образом, философия гуманизма рассматривает человека в качестве центральной проблемы. Но это отнюдь не антропоцентрическая философия и не философская антропология в точном смысле, а скорее учение о мире как производном от творческой активности человека. В своей [102] работе «Гуманизм и познание» (1912) Знанецкий утверждал, что человек — это фокус и творец мира. Он не ниже Абсолюта, но над ним (Абсолютом — авт.) следует основать мощь и всевластие человека. Творческая потенция человека сосредоточена в мощи его мышления, ибо только оно творит мир. Мысль о действительности является творческой. В каждом своем моменте мысль создает и преобразует реальный мир: она творит отношения, синтезируя предметы, и предметы, синтезируя отношения. Речь, тем не менее, как утверждает Знанецкий, идет не о сознании субъективного образа мира, но «о сотворении реальности самой по себе». Так, природа, согласно этой точке зрения, является конструктом знания. Реальным является только то, что наша мысль уже создала; разнообразие, связи, прошлое и будущее мира существуют лишь постольку, поскольку они были мыслью. Если познание есть проявление культурного творчества или культурной активности человека, то философия культуры включает в себя в определенном смысле философию природы, ибо природа есть часть культуры. Знанецкий пытался преодолеть присущие позитивизму натурализм и редуктивизм, но занял, как представляется, чрезмерно радикальную оппозицию, сводя природное к культурному как продукту человеческой деятельности. Онтологическим основанием культуры, согласно Знанецкому, являются ценности, поэтому ценность представляет собой ключевой структурный элемент культуры, а учение о ценностях — аксиология — основание философии культуры. В этом пункте своего миросозерцания он обнаруживает известную зависимость от неокантианства Баденской школы. Знанецкий не только утверждает, что действительность состоит из элементов двух основных типов: вещей и ценностей, — он идет дальше и, по сути, рассматривает вещи как производное от ценностей. «Необходимо допустить, — пишет он, — что непосредственная реальность представляется неограниченным многообразием отдельных конкретных ценностей, что только ценности даны нам непосредственно и ничего сверх них». Сама же ценность не возникает ни из каких предпосылок, ей не предшествует никакое абсолютное бытие, а наоборот, «чисто рациональные соображения вынуждают нас принять понятие ценности, указывающее на все существующие ценности, в качестве конечной логической категории». Итак, культура представляется универсумом ценностей, реальностью мира ценностей («Культурная реальность», 1919), однако отнюдь не застывшим в некоем абсолютном сверхчеловеческом пространстве и отчужденном от человеческого бытия. Гуманизм — это не только учение о ценностях, но и философия деятельности, деятельной активности человека, в процессе которой он обнаруживает свою творческую природу. Деятельность человека суть особого рода движение в мире ценностей, и одной из ее основных форм является мышление. В мышлении ценности выступают в качестве предмета мысли, но не в статичном, а в динамичном понимании, поскольку творческое мышление всегда [103] преобразует свои предметы. Но если в мышлении происходит создание ценностей и их преобразование, то отношение между ценностями составляет регулятор практической деятельности. «Ценности могут быть исходным пунктом действия, отношения между ценностями выражаются в действительности, а не в теоретическом мышлении», — утверждал Знанецкий. Вследствие этого, практическую жизнь, жизнь эстетическую, религиозную, нравственность, т.е. по сути весь культурный процесс, можно толковать «как обработку реальности посредством выделения из нее все новых отношений между ее элементами». Особое место в философии культуры Знанецкого занимает вопрос о происхождении культуры как мира человеческой реальности. Он дал свою формулировку проблемы соотношения природы и общества, противопоставив ее позитивистскому натуралистическому эволюционизму. Как уже отмечалось, в основе решения лежал принцип приоритета ценностного (культурного) над природным. Знанецкий формулирует проблему в форме дилеммы натурализма и культурализма. В одном случае она включает в себя две версии философии культуры, причем такие, которые сменяют друг друга взаимно в ходе развития самой культуры: философия вещи уступает место философии ценности. Но они могут и сосуществовать как две разных точки зрения на сущность культуры и ее генезис в силу принципа интеллектуальной терпимости. В ином же смысле Знанецкий понимает культурализм как особое состояние, или тип бытия, противостоящее хаосу. Согласно суждениям мыслителя, хаос не есть природа, ибо природа конструируется в процессе познания и, следовательно, «культурна» в своем существе. Он есть некое алогичное бытие, не данное как реальность, но из которого разумная реальность, т.е. культура, вырастает. Он — иррациональное основание культуры, а не исторически предшествующая ей фаза. В противоположность хаосу культура — это целостность, рациональная упорядоченность, проявление творчества в его высшей форме — разумности. В такой постановке вопроса о сущности культурного феномена Знанецкий принципиально противостоял иррационалистическим и виталистическим трактовкам культуры в философии жизни и философии смысла (Шпенглер, Бергсон, Клягес, Кейзерлинг и др.). Тем не менее, концепция польского философа не порывала с установками культурологического модернизма. Будучи в целом гуманистически ориентированной, она, особенно в ранних редакциях, несет на себе отпечаток антиэгалитаризма и духовного аристократизма. С модернизмом ее роднит также выраженный финализм в форме пророчества культурного катастрофизма. Это особенно проявляется в работе «Падение западной цивилизации» (1921), по своему основному содержанию вливавшейся в широкий поток теорий, предрекавших неминуемую гибель западного варианта европейской культуры в условиях угасания творческой силы элит и утверждения массовых социальных процессов. Таким образом, философии культуры Знанецкого присущ и определенный социологизм в том смысле, [104] что при анализе культурных феноменов и процессов, а равно и характеристик участвующих в них агентов, он использовал социологические критерии и представления. Всякая цивилизация, по Знанецкому, образует органическое единство на базе определенного комплекса идей. Выработка их составляет основное содержание цивилизационного процесса как творчества. Примером «поэтизирующего» объяснения можно считать определение идеала как «воображение какой-то новой формы жизни», которое относится скорее к художественной деятельности, чем социальной. Выработка идеалов не может быть уделом основной массы общества, которая инертна, безынициативна, стремится к рутинным актам, подражательству. Она — удел только «интеллектуальной аристократии», т.е. «совокупности классов, лидирующих в данную эпоху». Знанецкий имеет в виду лидерство в творчестве, интеллектуальном подвиге, а не в имущественной или иной сфере. Правда, интеллектуальное господство неизбежно должно дополняться каким-то механизмом социально-политической власти, чтобы элита имела возможность принуждать безразличную к творчеству толпу усвоить добытые для нее ценности. Цивилизация может существовать лишь постольку, поскольку в ней исправно действует механизм производства ценностей с их последующим усвоением толпой. «Аристократия духа» может потерять творческую способность, что всегда присутствует как тенденция, например, привилегированного социального статуса, или же перестанет получать импульсы за счет прилива творческих индивидов из толпы. Катастрофа наступает не только вследствие вырождения духовных лидеров, но и вследствие социальных катаклизмов. Этот тип деструктивных действий, по Знанецкому, особенно опасен для цивилизации, ибо он порождается, главным образом, самодеятельностью низов, толпы, к которой он относит «бунт» и «революцию». «Каждая война, — пишет он, — каждая революция высвобождает даже в наилучшим образом организованных общественных группах психологию толпы, которая ведет дело разрушения значительно дальше, чем первоначально мыслилось». Таким образом, истинной причиной кризисности европейской цивилизации, которая толкает к катастрофическому концу, является, по Знанецкому, социально-политическая ситуация в положении низов: их активность, конфликт с лидером общества, притязания на господство, т.е. массовые демократические движения. Охранительными усилиями «лидирующего меньшинства» создан ценностный базис западной цивилизации, гарантирующий ее безболезненную эволюцию и даже прогресс. Знанецкий называет семь основных ценностей или идеалов духовной элиты: «идеал владычества над природой», давший толчок развитию технического прогресса; «идеал богатства — общественного и частного», на котором строится благосостояние общества и предприимчивость; «народный и демократический идеал», в силу которого государство служит общественным целям; идеал сострадания и сочувствия к людям, побуждающий к улучшению [105] жизненных условий человека; наконец, религиозный, эстетический идеалы и ценность науки. По своей сути это ценностный кодекс буржуазного общества, представленный в весьма абстрактном виде и рекомендуемый как средство усмирения и господства над массой. Идеологический смысл культурологии Знанецкого сводится фактически к утверждению, что отступление от этих ценностей равнозначно разрушению буржуазного общества, что представляется им как катастрофа вообще всей цивилизации. Другим представителем модернизма в истории научной мысли Польши является Ф. Конечны. Конечны провозглашает себя сторонником строго научного подхода к философии истории, т.е. заявляет о необходимости строить ее на базе точных научных фактов и как научную теорию, используя для этого строго научный метод. Таковым он считает индуктивный метод, успешно использованный в естествознании. Таким образом, уже с самого начала методологическую установку Конечны можно понимать как методологический редуктивизм, т.е. как стремление перенести методы естествознания на почву историко-культурных наук (без соответствующей новому предмету модификации и без попыток разобраться в гносеологическом своеобразии гуманитарного знания). В таком подходе можно усмотреть оппозицию индивидуализирующему историзму Баденской школы неокантианства, исходящему из тезиса о принципиальном различии наук о природе и наук о культуре и дильтеевской концепции «понимающего объяснения». Но метафизическая альтернатива Конечны отнюдь не содействует решению проблемы специфики познания общественно-исторического материала, поскольку делает ее как бы несуществующей. Кроме того, его индуктивизм благополучно уживается с самым заурядным априоризмом. Исходя из индуктивистского понимания методологии истории, Конечны выделяет две линии в исторической науке и социальной философии: первая — научная — начинается с Бэкона, которого он считает и первым разработчиком научного метода истории и первым историком; вторая — спекулятивная и ненаучная — начинается с Мальбранша, ее представляют Боссюэ и Лейбниц. Эта линия в методологическом отношении представлена дедуктивизмом и, в силу этого, абстрагирована от эмпирических оснований исторического процесса. Бэкон — родоначальник научной истории — не разработал ее в полной мере, и поэтому спекулятивный подход долгое время был господствующим. Возврат к научной методологии, т.е. к индукции, совершил Дж. Вико — истинный «отец схематизма в историческом синтезе». Но Вико не нашел последователей. Равным образом и попытки других мыслителей утвердить научный метод в исторической науке (Монтескье, Тюрго) не смогли ввиду их методологической слабости разрушить крепости спекулятивной философии истории. Это сказалось в некритическом, неоправданно широком использовании идеи прогресса и совершенствования человеческого рода, сделавшейся якобы смыслом и целью универсальной истории. Особенно отрицательно Конечны [106] судит о философии истории Гердера: «…Вообще, — пишет он, — немецкая философия сделала из истории спекулятивное развлечение». Особой вехой в становлении философии истории Конечны считал тот момент (конец XVIII века), когда в научный оборот было введено понятие «цивилизация». Гизо заменил «философию истории» на «философию цивилизации». Этот подход дал возможность ввести важное различие и создать единую науку — «теорию цивилизации», рассматривающую общие основания цивилизационных отношений и лежащую в основе «истории цивилизаций». И именно в систематической разработке «теории цивилизации» Конечны видит свою задачу. Этим он присоединился к традиционной линии в польской науке о цивилизации (см. Э. Маевский). Конечны сразу утверждает себя сторонником исторического плюрализма или партикуляризма: нельзя путать историю цивилизации и теорию цивилизации. Нет единой истории. Каждая цивилизация имеет свою особую историю, а теория цивилизации касается всех цивилизаций и является теоретической основой первой. Главная проблема теории цивилизации — выяснить, откуда происходят многообразие и различие цивилизаций? Оригинальность теоретической позиции Конечны состоит в том, что он пытается утвердить примат цивилизационного подхода к философии истории в противоположность господствовавшему культурническому. Исторические корни проблемы соотношения культуры и цивилизации, как главное содержание и смысл культурно-исторического процесса, он усматривает в возобладании немецкого спекулятивизма, который неэмпирические явления культуры противопоставил фактам цивилизации. Деление, а затем противопоставление культуры и цивилизации идет, утверждает Конечны, от Вильгельма Гумбольдта. Последнему он приписывает такое понимание цивилизации, при котором она обозначает особый процесс превращения отдельных народов в человечество путем универсализации их учреждений и обычаев и связанного с ними национального своеобразия духа. Культура же проявляется в сфере науки и искусств. Бесспорно, трудно устанавливать адекватность воспроизведения взглядов Гумбольдта у Конечны. Отметим, что едва ли В. Гумбольдт может считаться тем, кто ответственен за методологическую дихотомию понятий «цивилизация» и «культура», сыгравшую роковую роль в судьбах философии истории. Более того, Гумбольдт еще представлял здоровое направление исторической мысли и выступал против противопоставлений природного и духовного в человеке и обществе. Он, в действительности, считал как раз ошибкой всей предшествовавшей философии истории, «что почти все внимание уделяется только культуре и цивилизации, их прогрессирующему совершенству, в связи с этим произвольно возникают степени этого совершенства и остаются незамеченными важнейшие зародыши, из которых должно возникнуть великое». Гумбольдт не считал цивилизационный процесс движением [107] бесконечного совершенства и в этом отношении отличался от сторонников теории прогресса, но главное, он рассматривал историю как самореализацию человеческого рода, в которой дух и природа не противостоят друг другу, а, «напротив, дух использует природу и ее созидающую силу». «Человечество, — писал он в «Размышлении о всемирной истории», — проявляя себя, может жить и творить только в вещественной природе и само содержит в себе часть этой природы. Дух, господствующий в ней, переживает отдельного человека, поэтому самое важное в понимании всемирной истории — наблюдать за продвижением, преобразованием, а подчас и гибелью этого духа… Следовательно… не надо ждать постоянно прогрессирующего совершенства или прославляемого, обетованного, зависящего как будто только от нашего усердия прогресса цивилизации, едва ли она достойна такого наименования, ибо, извращенная, сама роет себе могилу». Как видим, у Гумбольдта выражено достаточно верное усмотрение проблемы диалектики духовного и природного в истории. Его историзм при всей абстрактности оказался достаточно чутким, чтобы не увенчать лаврами современную ему цивилизацию, но он и не проклинает ее, видя в ней только определенную форму реализации человечества, идущего дальше нее. «В результате революций возникают новые формы…, в любой гибели есть утешение, в любой потере — возмещение». Очертив это различение цивилизации и культуры по принципу противопоставления внешнего и внутреннего как основное направление немецкой спекулятивной философии истории, Конечны склоняется к тому, что это различие весьма условно и тяготеет к выделению собственно цивилизации как основной категории анализа и единицы измерения исторического ритма. Каковы методологические основания, оправдывающие этот подход? По сути это порок натурализма, уверяет Конечны, ибо он постоянно проводит убеждение о существовании «какой-то базовой цивилизации, общей всем цивилизованным странам». В противовес этому научный индуктивный метод устанавливает, что «история знает разделенные цивилизации, часто не имеющие между собой каких-либо связей вообще. И тогда нет истории цивилизации (singularia), но может быть только история цивилизаций (pluralis). Нет тогда и истории человечества, поскольку для историка человечества не существует, и никогда ни на один миг не было общего исторически целостного человечества всего земного шара». Уже в этом пункте видно принципиальное отличие позиций Гумбольдта и Конечны. Причем, если первый, видя ограниченность в возможностях, достоинствах и существовании современной ему цивилизации как конкретной фазы мировой истории человечества, саму ее считает соизмеримой с существованием рода человеческого, то второй — Конечны — разрывает человечество, предоставляя отдельные его части, как самостоятельные цельности, их собственной судьбе. На этом основании Конечны утверждает, что синтез цивилизаций — это недоразумение. Они скрещиваться не могут. Случаются только [108] механические смешения цивилизаций, кончающиеся разложением всякой цивилизации. Стремление достичь цивилизационного синтеза должно вести к неизбежной гибели, причем жертвой становится всегда высшая цивилизация. Примеры Конечны в подтверждение этих тезисов столь же произвольны, сколь и неверны, почерпнуты из древней истории, Библии и отмечены выразительным национализмом в форме русофобства и антисемитизма. Однако что лежит в основании пессимизма Конечны? Каково содержание его «теории цивилизаций»? Конечны, определяя границы этой науки, пытается ускользнуть от элементарного натурализма и биологизаторства. Так, он различает историю человеческого рода, особенно его генезис, как задачу антропологии, и собственно историю цивилизации: «Наука о цивилизации начинается с вопроса, был ли человек изначально существом общественным, живущим в массовых обществах». Ответ на него у Конечны отрицательный и доказательство этого составляет содержание данной науки. Причем генезис цивилизации он связывает с периодом, когда человек овладевает огнем. До этого этапа историку нечего делать, там решаются естественно-антропологические задачи. Огонь у Конечны выступает в специфической функции: он не столько меняет человеческие отношения с природой, сколько меняет сам социальный статус человека. Огонь — источник собственности: «… из процесса охраны огня родился … институт собственности. За ним родилась собственность на недвижимое, собственность пространства, окружающего огонь». Второй вид собственности — собственность на движимое — рождается из института семьи. Конечны отстаивает изначальность и всеобщность моногамной семьи, что позволяет ему утверждать о господстве отца и мужа, владеющего своими домочадцами, главным образом, детьми. Таким образом, цивилизации получают толчок к развитию с института собственности, который у Конечны предстает в обобщенном виде как принцип «троезакония», т.е. как соединение семейного, наследственного и имущественного прав. Функционирование этого троезакония определяет и социальную структуру цивилизации, самое ее существование и становится центральной задачей «философии цивилизаций»: оно само, по большей части, достаточно для определения цивилизации. «Троезаконие — это канон цивилизации, любые потрясения в его пределах грозят разрушением данной цивилизации». Но оказывается, «троезаконие» не является окончательным определением цивилизации. Оно строится, согласно Конечны, иным способом. Все, что составляет внутреннюю и внешнюю жизнь человека, утверждает он, может быть сведено к пяти категориям: благо и истина — категории духовной жизни человека; здоровье и благосостояние — категории внешней (телесной) жизни, и общая им категория — красота. Все эти пять категорий находятся в определенной связи, которая весьма неустойчива, характеризуясь в структурном отношении [109] преобладанием каких-то отдельных категорий. Именно способ, или «метод», каким они организуются, определяя специфику коллективной жизни, образует и специфику цивилизации. Цивилизация — это наиболее мощная, сверхличностная сила связи, выступающая через сочетание этих категорий: «Общества, придерживающиеся того же самого метода коллективной жизни, образуют одинаковую цивилизацию», это — «метод устройства коллективной жизни», а количество методов неограниченно. Следовательно, неограниченно количество своеобразных цивилизаций, которые могут образоваться в истории. Гармоническое сочетание указанных категорий выражается в иерархии с главенством духовных категорий; на них строятся устойчивые, полнокровные сообщества. Но имеются дефектные, неполные, частичные цивилизации, основанные на неполном наборе категорий. А если учесть, что Конечны еще вводит момент многогранности проявления каждой категории, то вариабельность цивилизации еще возрастает: «Цивилизации могут быть полные и неполные, односторонние и многосторонние, цельные и более или менее мешанные, оригинальные и подражательные, причем в целом или частично». Нетрудно заметить, что Конечны весьма специфически истолковывает свои пять категорий цивилизации: они приобретают в контексте рассуждений существенно мистифицирующий статус, во всяком случае не являются эмпирически верифицируемыми терминами. С учетом этого обстоятельства становится понятным истолкование цивилизации не как исторической реальности, а как абстракта, более того, как сверхчеловеческой силы; связь, которую можно искать в религии или национальном чувстве. Возникает вопрос: что же существует в реальности? По Конечны, реальностями являются части цивилизации, проявляющиеся как некие устойчивые различия в ней, которые он называет культурами. Так, по его классификации, христианско-классическая (латинская) цивилизация суть абстракт, но реально существуют ее отличия: английская, французская, польская культуры. Итак, цивилизация делится на культуры и возникает теоретическая странность: культуры как части существуют реально, а цивилизации как их целое — абстрактно. Тем не менее полезно отметить другое: Конечны не противопоставляет культуру цивилизации субстанциально по принципу классической культур-философской оппозиции духовное (культура) — материальное (цивилизация). И у той, и у другой должны быть обе стороны: духовная и материальная. Но учтя это, мы вновь возвращаемся к неувязке с онтологическим положением цивилизации. Как было отмечено, Конечны — один из самых последовательных сторонников культурного изоляционизма. Цивилизации скрещиваться и давать творческий синтез не могут. «Нельзя быть цивилизованным двояким способом», — утверждал он. Тем не менее это скорее риторическая формула, нежели суждение ученого, ибо «скрещивание» как феномен истории культуры проявлялось не раз и обеспечивало довольно [110] продолжительную и устойчивую цивилизационную эпоху, например, эллинизм. Если синтез цивилизаций — недоразумение, то синтез культур в пределах одной цивилизации вполне возможен. В то же время возможны пространственные, т.е. механические наложения цивилизаций. В этом случае возникает борьба между ними, как между враждебными живыми организмами. При этом «историческая индукция подтверждает всегда и всюду победу низшей цивилизации». Высшая цивилизация может сохранить себя только при жесткой изоляции от носителей низшей цивилизации. Разумеется, здесь представлен по неизбежности только поверхностный эскиз теории Ф. Конечны. Однако даже при беглом взгляде на нее успеваешь заметить не только теоретическую несогласованность некоторых положений, но и оригинальную трактовку фундаментальных категорий философии культуры и истории, важные нюансы в понимании цивилизационных процессов. Определенное значение и оригинальность имели культурологические идеи Леона Хвистека (1884-1944), философа, логика, теоретика искусства и художника. Он был одним из вождей авангардистского движения «формизма», соединившего в своей эстетической программе принципы экспрессионизма и футуризма, наиболее популярного движения в Польше в 10-20-е годы преимущественно в живописи и в скульптуре. Культурологический смысл имели, главным образом, сборник эссе Хвистека «Проблемы духовной жизни в Польше» (1933) и «Множественность реальности» (1921). В последнем сочинении изложена его плюралистическая онтология. В ней различаются четыре рода реальностей: 1. действительность вещей, охватывающая явления социальной и индивидуальной жизни, в которой дана повседневность человека (обыденный взгляд воспринимает ее как единственно возможную реальность); 2. физическая реальность, которую описывают и конструируют точные науки (естествознание); 3. действительность впечатлений и чувств («психологическая реальность»), порождающая различные теоретические следствия в виде субъективного идеализма и 4. реальность воображения как мир всего человека (главным образом в области искусства). В каждом из типов бытия реальность представлена в специфическом ей модусе существования. Онтологический плюрализм Хвистека находился в согласии с распространенными на рубеже столетий утверждениями философов «реалистического» направления (Мур, Рассел в Англии; брентанисты, Мейнонг в Австрии) об экзистенциальной гетероморфности (структурной неоднородности) Бытия. Но он едва ли не первый попытался применить эти выводы к пониманию культуры и явлений искусства. Так, он полагал, что каждому типу реальности должно соответствовать свое понимание эстетического и способа его художественного воплощения. Натурализм утверждается в первом типе реальности, в мире вещей, в котором бытует наивное понимание искусства как подражания и следования природе. Такое искусство сводится в итоге к [111] технике форм и красок, воспроизводящих максимально точно воспринимаемый мир. В визионерной реальности воображения формируется иной и более высокий тип искусства. Оно реалистично, но в отношении к свойственному ему типу реальности. Онтологический плюрализм требует преодоления догматизма в духовной жизни. Каждый индивид имеет возможность и по сути обязан создать свою индивидуальную систему философии как основу миропонимания и жизненной ориентации. Индивидуальные системы равноценны, и у каждого согласуются с его чувством реальности, истины и справедливости, но должны быть лишены претензий на исключительность. Создание индивидуальной духовной системы сообщает жизни человека смысл и содействует прогрессу. Полнокровная культура отмечена интенсивностью и многообразием индивидуальных духовных систем. Хотя Хвистек тем самым утверждал идеи терпимости и относительности в мире культурных ценностей, однако был склонен полагать, что в основе истинного искусства лежит по преимуществу воображение. Культура в ее наиболее творческих формах наименее связана с повседневным миром наивного бытия, хотя в целом ее массиве представлены все слои реальности. Он только подчеркивал недопустимость смешивания видов культурной деятельности, свойственных различным типам реальностей. Художественный процесс, согласующийся с принципами соответствующей реальности, порождает гармонически упорядоченные, целостные произведения, а не хаотическое нагромождение цветов, форм и объектов (принцип сферизма). Сборник эссе, посвященный современной культуре, содержит суждения автора о метаморфозах, совершающихся в культурной жизни ХХ в. То, что относится к культурной перспективе современного общества, представлено в выразительно пессимистическом духе. «Мы переживаем несоразмерное повышение культуры в широких слоях и одновременно сужение и снижение духовной элиты», — писал Хвистек и утверждал, что вырождение культурной элиты как творческого ядра общества неизбежно повлечет за собой общее снижение духовного потенциала общества. Таким образом, им ясно ощущалась опасность наступления эпохи массовой культуры, основанной на натуралистической эстетике и свойственных ей типах культурно-художественного поведения. В критике массовой культуры Хвистек доходил до выяснения ее социальнополитических оснований, связывая в целом ее сущность с обуржуазиванием общества, в котором разум, интеллектуальность, высокая духовность оказываются подвластны распаду и деградации до уровня элементарных инстинктов или замене иррационализмом. Следует отметить, что пессимизм Хвистека не получил развития до катастрофических выводов его оппонента С.И. Виткевича. Он обратился к идее социализма, заняв антиткапиталистическую позицию. Социализм, создавая «благородных рабочих, сильных и мудрых людей», предотвращает, по Хвистеку, упадок культуры, делая опасения на сей счет беспочвенными. [112] Правда, социалистические идеи Хвистека неопределенны, размыты, имеют характер некой интеллектуализированной культурной утопии, скорее, выражая его представление о культурной исчерпанности буржуазного общества. Недаром они приобрели форму социально-утопического романа «Дворцы Бога» (оставшегося неопубликованным). §3.2. философский модернизм в немецкой философии культуры §3.2.1. Чамберлен Философия культуры, многочисленные варианты которой обильно проросли на интеллектуальном пространстве Европы с конца XIX века, немыслима в адекватной интерпретации, если отвлекаться от того места и того значения, которое в ее содержании имеют представления о Востоке. Ориентализм в отрицательном и положительном толковании, как аксессуар орнаменталистики художественного мышления и как концепт теоретических конструкций вплелся и растворился в сознании европейца не в том обычном смысле, в каком подразумевается результат освоения самых экзотических тем, а в том особом страстно-возбужденном восприятии, которое инициировано ожиданием получить окончательное разрешение самых предельных проблем бытия. Именно с таким запросом обратился европейский мир к Востоку в эпоху предчувствия цивилизационных тупиков и катастрофических потрясений, неизбежных при попытках их проломить. Запад «открывал» Восток не единожды. Сам по себе этот процесс открытия достоин вдумчивого отношения. Исследователи этой проблемы давно обратили внимание на асимметричность отношения: Восток обратился к Западу, как к культурному факту, более безразлично, даже тогда, когда предпринимал грандиозные экспансии в западном направлении. Возможно, это кажущееся безразличие, при сравнении с тем эффектом, который производил «интерес» Запада к Востоку, когда он неожиданно возникал. Первое открытие Востока составило эпоху великих географических открытий XV — XVI столетий. Дж. Кардано — удивительнейший гений этого времени причислил это событие к одному из четырех, которые, по его суждению, достойны были соперничать с божественными чудесами: «Как на первое из удивительных в моей жизни явлений, хотя оно и не выходит за пределы естественного, следует указать на то, что я родился в том веке, когда был открыт весь земной шар, тогда как в древности было известно, немного более одной его трети» [19]. Таким образом, открылись безграничные пространства, которые европейский человек воспринял как поле приложения своей предприимчивости и присвоения. Сила и натиск, экспансия и подчинение — вот те понятия, которые усвоил себе он в своих отношениях с Востоком. Второе открытие относится ко второй половине XVIII — началу XIX столетия. В нем мы отчетливо выделяем две составляющие. Во-первых, [113] родилось представление о социальном и бытовом укладе жизни народов Востока как чемто самоценном, имеющем свою историю, свою логику и причину, оправдывающие их существование ничуть не менее убедительные, чем те, которые объясняют уклад жизни европейца. В социальных теориях представителей Просвещения: Вольтера, Монтескье, Руссо и др. постепенно укореняется мысль о поверхности расхожих предрассудков касательно азиатчины и деспотизма, якобы исконно прирожденных восточному политическому строю, и этот вывод они нередко использовали как аргумент своей социально-философской критики западной цивилизации, являвшей факты большего деспотизма, насилия и поругания человека, чем Восток. Во-вторых, росло признание, что Восток в большей мере, чем манерный, искусственный и развращенный Запад, хранит идеалы согласия с благородством, простотой и естественной непринужденностью в художественном мышлении и культуре. В ней постепенно стали находить одновременно и больше изысканности и более глубоких оснований творчества, уходящего корнями в загадочные глубины восточных мифологий, религий и мистики. Последние предстали как более древние, давшие начало всему живому в европейской античной традиции [20]. Такое отношение к восточному духовно-культурному комплексу мы начинаем встречать у Гете и, прежде всего, у немецких романистов. Итак, в результате второго открытия Востока, в европейском сознании сформировалось его духовное измерение. В сопоставлении с динамизмом европейской культурной жизни, ее многоплановостью и дискретностью быстро сменяющихся форм, стилей и образов, культура Востока поражала медлительностью, подобной застылости своих колоссальных форм, непререкаемости извечных канонов и непостижимостью ментальных оснований жизни, весьма далеких от рациональной расчетливости европейского дельца. Именно к этому — второму открытию относится начало систематического внимания к восточным языкам, особенно санскриту, к восточному типу художественного мышления и его религиозно-мифологическим корням. Именно это второе «открытие» Востока как культурного феномена заложило основание стимулирующего развития культурологической теории в ее историческом и компаративном измерениях, но одновременно и оформило основные метафоры, в которых разворачивалась сущность Востока как в обыденном представлении, так и иступленном суждении европейского интеллектуала. Третье открытие Востока относится к концу XIX — началу ХХ столетий, в результате которого он предстал в перспективе необходимого фермента грядущего преображения культуры и человека. К этому времени в европейской социальной философии произошел ряд фундаментальных методологических изменений. Сформировавшийся в рационалистической социальной теории XVIII века взгляд на культурно-исторический процесс как последовательность сменяющихся этапов или стадий, в которой каждая последующая развивает продуктивные тенденции предыдущей, [114] преодолевая ее несовершенства, — взгляд, ставший основой прогрессизма XIX столетия, — был потеснен противоположным в теоретико-методологическом отношении подходом. Именно он расширял свою сферу влияния в спекулятивной социальной философии, а в философии культуры стал едва ли не господствующим. В нем отрицался принцип прогресса как универсалистский, в силу которого история и по полноте охвата, и по характеру законов, и по обязательным стадиям прогресса имеет универсальный характер как единая история, как историческое единство человеческого общества. В тех же случаях, когда идея прогресса допускалась, она либо локализовывалась каким-либо образом, либо истолковывалась существенно иначе, как например, у Н.Я. Данилевского: «Прогресс (…) состоит не в том, чтобы все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, исходить в разных направлениях» [21]. Границами локализации признавались преимущественно структуры, получившие наименование культурного типа и именно это преимущественное развитие культур- исторического партикуляризма или (цивилизационного) плюрализма стало выразительной чертой новой социальной философии. Как утверждал уже упомянутый Феликс Конечны (1862-1949) — один из виднейших представителей этой теоретической традиции в Польше: «История знает разделенные цивилизации, часто не имеющих между собой каких-либо связей вообще». И тогда нет истории цивилизации (singularia), но может быть только история цивилизаций (pluralism). Нет тогда и истории человечества, поскольку для историка человечества не существует, и никогда ни на один миг не было общего исторически целостного человечества всего земного шара» [22]. Теории партикуляризма породили совершенно иную проблематику в сфере теоретических оснований общества, культуры и человека, связав ее и с онтологическим плюрализмом, и со спецификой познавательной данности культурного феномена. Было бы неверно полагать, что существует вполне однозначный методологический схематизм, предопределяющий теоретические выводы представителей новой ориентации в философии культуры. Мы не можем указать стандартный минимум критериев, по которым можно было бы провести демаркацию между культурологами рационализма позитивистской ориентации и мыслителями нового поколения. Например, Ф. Конечны отстаивал именно научный подход к истории и культуре и связывал его с принципами эмпиризма и индуктивизма, то есть с теми канонами, которые входили в научное кредо позитивистов. Истинным родоначальником научного мировоззрения он считал Ф. Бэкона, но при этом его теория отмечена поразительными признаками предвзятости; пожалуй, с элементами расово-религиозной нетерпимости. Она с избытком спекулятивна и в конструктивном отношении произвольна. Вообще реестр культурных типов или цивилизаций у представителей этого течения редко совпадает, что свидетельствует об отсутствии не столько формальных критериев [115] выбора, сколько о ненадежности объективных оснований деления. Ни одному из них еще не далась задача определить с приемлемой надежностью границы культурного ядра, целостной устойчивостью которого можно было бы гарантировать существование культурного типа. Идеи культурных констант, оппозиций, архетипических матриц, этнопсихических структур, религиозных принципов соревнуются между собою без надежды на положительный исход теоретических дискуссий. Как бы то ни было, к началу ХХ столетия философия культуры подошла с принципом отрицания историзма в его гердеровско-гегелевском смысле, энергично противопоставив себя сциентистской традиции культурологии, продолжавшей модифицировать идеи прогресса и универсализма. Вся масса типологий имела тенденцию сходиться к культурфилософской дихотомии Восток — Запад, фиксирующей представления о двух главных культурных путях и принципах бытия человечества. Восток представал как величественная культурно-духовная величина, самостоятельный культурный тип (гештальт), наделенный собственной исторической судьбой, выразившейся в формах жизни, оказавшихся недоступными западной модели культуры. В культурном горизонте Востока человек предстал в принципиально иных перспективах своего существования и по существу оказался иным во всем диапазоне от своих первых рефлексий. Адепты ориентализма обнаруживали Восток не в его историкогеографических реалиях, а в структуре своего культурологического воображения, где он предстал как сокровищница совершенно особых ценностей, выразивших не менее, а, возможно, более важные устремления человеческого духа, чем те, на которых основывалась европейская цивилизация. С учетом господства указанной дихотомии совершенно по особому формировалось отношение к России. Для русского мыслителя, особенно вовлекавшегося в традиционную проблематику споров о призвании России в мире, открывалось несколько путей решения культурологической проблемы: либо она представала восточным форпостом западной цивилизации в ее православном варианте, с запозданием и величайшей инерцией втягивавшейся в общий ход преобразований, охвативших Запад, либо ее целиком относили к версии цивилизации восточного (степного, туранского и т.п.) типа, либо же ей приписывались признаки вполне самостоятельного культурного типа, упразднявшего как одинаково непродуктивные линии западного и восточного культурных путей. В этой, последней трактовке, Россия представала как величественная культурная идея, раскрывающая совершенно особые горизонты исторического бытия человека. Достойно внимания, что подобное понимание особой миссии России, связанное с напряженным ожиданием разрешения в ее судьбе коренных проблем европейской цивилизации, разделяли вместе с российскими эпигонами позднего славянофильства и заметные фигуры культурной жизни ряда стран Европы и прежде всего германского мира: Р. Касснер, Р.М. Рильке, Мёллер ван дер Брук, одно время Г. Гессе — вот немногие имена, [116] которые сразу приходят на память. Они создали почву, на которой проросло восприятие русских революционных событий 1917-1921 года именно в духе реализации давно чаемых ожиданий, открывших новый исторический этап. В фантасмагорической мешанине всевозможных политических движений и идеологий в Германии после ноябрьской революции 1918 года одно время довольно рельефно выделялись национал-большевистские и социал-большевистские течения, пока они не были поглощены мощной волной консервативной фашистской революции. Эрнст Никиш (1889-1967) и Эрнст Юнгер (1895-1998) наиболее репрезентативные фигуры этих движений [23]. Однако русский большевизм имел несколько иное представление о собственном историческом месте. Находясь в оппозиции к чаадаевской максиме о России как стране выпавшей из исторического бытия, он утвердил значимость для нее общих законов капиталистического развития Запада, но реализующихся в наиболее обостренной, концентрированной и интенсивной формах. В силу этого размывшиеся противоречия буржуазного общества в России приобрели наиболее открытый и конденсированный характер, что позволяет именно здесь ожидать их радикального и окончательного разрешения, открывающего совершенно особую цивилизационную перспективу. Как полагали большевики, Россия начинает истинное историческое бытие, к которому присоединится в грядущем весь мир, и в первую очередь Восток. С этого момента истинный ход истории меняет свою траекторию, сдвинувшись с Запада в сторону восточных цивилизаций. Европа, таким образом, становилась аутсайдером прогресса, изживавшей в себе буржуазное мещанство и политический либерализм. Однако Россия все же оставалась маргинальной темой, растворяясь в культурфилософских спекуляциях частным сюжетом общей проблемы Востока. В воображении философов культуры, художников, писателей религиозного преображения жизни он представал величественным и таинственным храмом, таящим в своих загадочных лабиринтах начала жизни и культуры разгадку величайших тайн человеческого существования и устремлений духа, корни всех капитальных культурных форм, раздробившихся в исторической эволюции на мельчайшие осколки бесчисленных шаблонов, схем, ритуалов и отправлений, воспринимаемых нами как проявления цивилизации [24]. Восток стали ассоциировать с тем, что более древне, более значительно во всем, что касается человека, его жизни и судьбы. Стиль европейского миросозерцания, в котором идея Востока занял столь принципиальное место, и получил название модернизма. Интенсивно переживая предчувствия кризиса и грядущих катастроф, его представители видели спасительные исходы в преображающих воздействиях философии, искусства и магии Востока. В нем они находили очаги энергий, способных внести жизнь в дряхлеющее тело Европы. Перспектива обновления культуры в модернистской культурфилософии напрямую связывалось с гуманистической утопией, [117] то есть с идеей «нового человека», появление которого и будет тем спасительным ответом на отчаянные вопрошания гибнущего человечества. Конкретные элементы образов «новой личности» носили на себе отпечатки пристрастий их творцов, но достойно внимания, что коренные признаки скорее отыскивались на загадочном Востоке, чем в культурном и духовном материале европейской истории. Это особенно видно на примере «арийской концепции», которая в конце XIX века пленила многие умы западных интеллектуалов. Начало европейской культурной жизни стали связывать с приходом на пространстве Европы древних народов и их потомков с предгорий Гималаев. Итак, в результате третьего открытия Востока, в сознании по крайней мере определенной влиятельной, хотя и немногочисленной, культурной элиты Европы оформились провиденциалистское визионерство, усмотревшее в нем исток преображающих влияний на одностороннюю, поверхностную и быстро дряхлеющую европейскую цивилизацию и порожденного ею человека. Это третье открытие Востока как спасителя Европы имело в ее новейшей истории не только чисто культурное значение. Оно не может быть ограничено кругом культурфилософских и историософских теорий, как бы широк он ни был, но должно учитывать и важные в своих трагических последствиях политические результаты. Как бы ни были диковинны сами по себе многие из этих учений, но нельзя не видеть, что они не оставались продуктом чистой духовности, но осваивались в качестве идеологий политическими движениями, апеллировавшими в своих обновленческих претензиях к расовым основаниям культуры, а в своих диковинных этнопсихических генеалогиях возводили родословие «нового человека» к легендарным героическим эпохам и народам таинственного Востока. Позволим себе обратить внимание в этой связи на идеи Хаустона Стюарта Чамберлена (1855-1927), известные у нас не в их существе, а в предвзятой идеологической оценке. Мыслитель правого консервативного толка получил известность главным образом как один из настойчивых проводников идеи арийских истоков европейской культуры, истоков более глубоких и более основательных, чем ее греко-латинские корни. Наиболее основательное и полное изложение его воззрений содержится в труде «Основания 19-го столетия» (1899), выдержавшее в Германии до конца Второй мировой войны почти 30 изданий. В 1905 г. им была издана небольшая работа «Арийское мировоззрение», — кажется, единственное доступное русскоязычному читателю произведение Чамберлена (русс. пер. 1913). Его идеи о расовой сущности культуры и таковой же определенности высочайших духовных ценностей имели распространение главным образом в недрах модернистских салонов Вены, Мюнхена, Цюриха, Дрездена, питая идеологию художественного творчества и культурфилософские воззрения не только дилетантов интеллектуализма, но и теоретиков, формировавших философское и культурологическое мышление начала XX столетия. Здесь и деятели [118] первого эшелона европейской культуры, подобные Э.М. Рильке и О. Шпенглер, и те, кого сейчас приходится относить к маргинальным фигурам, но значение которых в европейской истории мысли тем важнее, чем их влияние внешне незаметнее и подспуднее. Таковы Л. Клятес, Р. Касснер, Т. Лессинг, Г. Кайзерлинг. Небезразличными к его идеям оказались Г. Гессе, отдавший дань томлению по Востоку, и даже Т. Манн. Кроме того известно, что «Основания 19-го столетия» имели широкое влияние в политических верхах вильгельмовской Германии в канун Первой мировой войны и были любимой книгой самого кайзера. Не останавливаясь на этом объемистом труде, отметим некоторые мысли указанного второго трактата «Арийское мировоззрение», несмотря на свою популярную форму имевшего принципиальное значение в обосновании арийской теории. Чамберлен выступил теоретиком нового чаемого обновления европейского человека — второго после эпохи Возрождения: «Великий гуманистический труд нам еще предстоит совершить; к этому призывает арийская Индия» [25]. Обновление человечества, произведенное открытием и освоением греко-римского мира, его культуры и духа, исчерпало себя. Оно было действенным, когда предстало как живой мир, насыщенный полноправной жизнью, которая вовлекала в себя, будила дремавшие силы, преобразовывала своим примером. Именно в этом настоящий смысл гуманизма Ренессанса. Истинный гуманизм, по замечанию Чамберлена, обогащает и экстенсивно и интенсивно: «он нас не только обучает (belehrt), он нас образовывает (bildet), но образовывающе действует только пример». Именно в примере, образце, полная жизнь воздействует непосредственно на иную полную жизнь. Через пример осуществляется побуждение к действию, воодушевление к предприятию, возможность которых, пожалуй, без примера не была бы осознана. «Тем, что я полагаю подражать, я создаю нечто новое, и именно потому, что я не могу иначе, поскольку оригинальность является великим законом природы, которая только посредством дерзкого произвола, который может стать затушеванной до неузнаваемости искусственно придуманной, тиранически навязанной школьной дрессурой». Как только в контакте с иным теряется его сущность живого примера и стимулирующего образца, оно становится предметом кропотливого, но омертвляющего изучения. Именно так случилось с античной культурой, ставшей объектом филологических препараций гуманистов XV-XVI веков; эти штудии «вели триумфальную колесницу гуманистов все глубже в филологическое болото». Чамберлен обращает внимание на то, что европейского возрождения в буквальном смысле слова не было. Было нечто совершенно иное, именно творение нового мира и нового человека: «Определенно, это не было никаким возрождением прошедшего…; это было нечто иное, более ценное: рождение нового, постепенное усиление и рост нового побуждения неисчерпаемо богатого европейского человечества, [119] европейского духовного царства. Это было действием человека на человека, и это действие — не филологическая пристройка, было гуманистичностью в ее эпохосозидающем открытии прошлого величия человека». Констатировав исчерпанность потенциала первого обновления человечества, Чамберлен видит неизбежность второго, отвечающего более глубокой природе европейца, ибо он касается тех истоков происхождения его сущности, которая более значительна, чем античные корни: «По иному направленные, но совершенно аналогичным образом и, пожалуй, даже еще более глубоким, пронизывающим нас до внутренней сердцевины нашей сущности станет влияние на нас в результате постижения индоарийской духовной жизни». В результате этого постижения европейский человек обретет полноту своей жизненной сущности, позволяющей ему совершить историческое развертывание во всей полноте раскрытых возможностей. Приобщение к корням индоарийской культуры, которая только в воображении Чамберлена была чем-то реальным, а не культурологической фикцией, как это было на самом деле, — постепенно стало определяться им как своего рода приход «царства Божия», которое при сохранении традиционной линии движения культуры «уходит от нас все дальше». «А между тем, — восклицал он, — благое близко и только ждет, чтобы мы возжелали его. Как фантастическое видение влечет нас возможность слияния умственной и душевной глубин индоарийцев и их внутренней свободы — с пластическим чувством формы эллинов и с уменьем ценить здоровье, прекрасное тело, как носителя внешней свободы. Видение это так соблазнительно, что вид его опьяняет нас, и мы, как то дитя, воображаем, что уже обладаем образом, вызванным только тоскою по дальнему небу». Этот сдвиг культурологического дискурса в сторону капитального для европейской культуры образа «царства Божия» для того, чтобы оживить связанные с образом «новой» культуры конструктивные смысловые механизмы, весьма показателен для всего модернистского стиля мышления и вел к весьма неожиданным результатам. Рассуждения об «обновлении в духе», о пришествии «царства духа» обычны в модернистических салонах тогдашней Европы и России. Они всегда были в близком контексте экстатических рассуждений о чаемом искупительном «царстве иного века», ведшихся в философскорелигиозных салонах, таким образом создавая единое смысловое пространство для философствования, религиозно-мистического прорицательства и художественнопоэтического творчества. Так, Меллер ван дер Брук (покончил самоубийством в 1925 г.), известный эссеист, издатель, при содействии Д.С. Мережковского (характерное сотворчество!), собрания сочинений Ф.М. Достоевского на немецком языке, а также и социальный философ консервативно-науконалистического плана, давшего основания связать его с последующим фашистским движением, создал грандиозную мифологему «третьего царства» (Das Dritte Reich), как особой культурной эпохи европейской цивилизации в ее главной ветви — [120] германской культуре. Как ни соблазнителен был для идеологов германского фашизма искус проэксплуатировать таким образом в свою пользу и тем упрочить свою духовную родословную, они были вынуждены отмежеваться от концепции ван дер Брука, правильно усмотрев в ней скорее выражение упадничества и пессимизма, столь характерного для интеллектуалов прошлого века, чем стимулирующую идею возрождения германской империи. Чамберлен более основательно останавливается на причинах, ввергших европейскую культуру в упадок. Они — в тех условиях, которые стали влиять на культурный процесс, и, в первую очередь, в возобладании семитской линии духовности, следуя которой, человек впал в духовную нищету, потерял чувство причастности к космосу. Духовность выкристаллизовалась в науку, которая «только как таковая, не имеет сама по себе никакой творчески оплодотворяющей силы, ею лишь кормятся люди науки». Семитская наука — порождение схематичного рассудка; она состоит в рассмотрении мертвых, лишенных животворности законченностей. Именно в этом свойстве знание эллинов, как подвергшееся чуждому влиянию, оказалось трагичным началом в последующей судьбе европейской духовности. Но возможна и есть другая наука; она, по утверждению Чамберлена, плодотворно проявила себя в европейской индологии. Она рождена жизнью и есть само живое приобщение к мудрости. Специфика этой науки не схематизм, а видение своего предмета как чего-то органически целого. Именно эту черту Чамберлен считает наиболее важной в новом арийском мышлении. Укоренение арийского типа мышления и свойственного ему видения мира как органической целостности, он считал решающим залогом возрождения европейской культуры. Таким образом мифологема Востока становилась неким инструментом цивилизованного обновления и новой культурной перспективы Европы. §3.2.2. Герман фон Кайзерлинг Фигура Кайзерлинга для русского читателя должна иметь специфический интерес. Родился он в аристократической семье графов Кайзерлингов, имевшей поместья в русской Прибалтике. Представители не одного поколения семьи были тесно связаны с русской жизнью и Петербургом. В аннинские времена один из них занимал пост президента Академии Наук, а дед — Александр (1815-1891) внес крупный вклад в развитие геологической науки в России. Сам Г. фон Кайзерлинг всю жизнь сохранял интерес к русской культуре, хотя после революции покинул пределы России. Так, он сопроводил своими предисловиями немецкое издание бердяевского «Смысла истории» (1925) и сборник статей «Русский Христос» (1920), написал послесловие к изданию «Войны и мира» (1927). Известен факт его переговоров с Л. Шестовым об участии последнего в работе учрежденной Кайзерлингом «Школы Мудрости». В сочинениях [121] послереволюционного периода проблема России и русской революции занимает весьма значительное место и решается, главным образом, под углом зрения неприятия ее большевистской фазы. Анализ этой проблемы не входит в наши намерения, хотя следует иметь в виду ее определенное соотнесение с общей культурологической концепцией Кайзерлинга. Следует учитывать несомненную политическую ангажированность философа в форме активной пропаганды некоторых идей его политической философии, включающуюся в общую культурологическую схему. Причем они отмечены высоким уровнем проницательности и перспективности. В частности, им была высказана мысль о возникновении конвергенциальных тенденций в социальных процессах XX века, о неизбежности формирования наднациональных политических структур и др. Годы жизни Кайзерлинга — 1880-1946 — пришлись на один из сложнейших периодов в духовной жизни Европы. Классические типы рациональности и основанные на них научная, хозяйственная, художественная и общественная практики переживали энергичную трансформацию, отражавшуюся в сознании как фундаментальный духовный кризис. Приходившие им на смену новые течения, интеллектуальные установки и формы художественности несли с собой ощущение неустойчивости, нефундированности и с легкостью уступали место своим преемникам, отмеченным теми же признаками. Размышления над этими процессами, проходившие на фоне социально-политического кризиса, рождало всеобщее чувство надвигающейся катастрофы. Оскудение духовности ведет к замене «высокой культуры» низкой, уверял Шпенглер. И этот процесс необратим. В общем смысле на уровне констатации Кайзерлинг находился в согласии со Шпенглером, однако его философия культуры исполнена более оптимистическим содержанием. Прежде всего он верит в возможность культурной реанимации западного мира. Более того, он считает, что и культура Востока ущербна в своей односторонности и, следовательно, нуждается в обновлении. Но, если в европейском культурном круге мы стоим перед фазой полного духовного угасания, то в ней же остаются и значимые ценности, а именно материальные ценности, техника и наука. Кайзерлинг не стоит на точке зрения фундаментальной для европейской романтической культурологии антитезы культуры и цивилизации. Для него проблема заключается в ином: как соотнести эти несомненные ценности с высшей полнотой жизни духа? Если на Западе духовные процессы угасают, то они еще вполне активны на Востоке. Поэтому проблема решается как нахождение способа осуществить синтез этих двух начал, придав ему устойчивый жизненный характер. Если Шпенглер заворожил западного интеллектуала блеском своего анализа, показной новизной понятий и неумолимой логикой культурного финала, подкрепленной невиданной доселе в подобного рода сочинениях эрудицией, то Кайзерлинг завоевывал читателя не только красноречием, облеченным в не менее оригинальную форму интеллектуального дневника, но и более обнадеживающими перспективами культуры. [122] Однако обратимся ненадолго снова к его интеллектуальной биографии. Свое творчество он начал вполне стандартно, если не считать того, что никогда не претендовал на академическую карьеру университетского профессора философии. Его первые философские сочинения выполнены были в духе распространенного в те годы критицизма, близкого к кантианству. Таковы «Устроение мира» и «Пролегомены к натурфилософии». Кроме натурфилософской ориентации их автора, в качестве оригинальной черты его взглядов того времени можно отметить стремление преодолеть ограниченность кантовского критицизма в том отношении, которое выражено в попытках найти более «высокую» точку зрения для обозрения познания и определения его границ. Кайзерлинг полагал, что возможна высочайшая точка зрения в отношении явлений природы, которую постигает познающий человек. Обзор с нее более обширен, чем со всех других точек зрения, которые обыкновенно устанавливались и принимались [26]. Такой точкой зрения является позиция жизни: «Жизнь выше всякого разума», — заявляет Кайзерлинг. Разум создает науку. Противоположным ей является метафизика. Метафизическое знание — совпадение непосредственного и неопосредованного выражения жизни. Именно поэтому оно не совпадает и не соотносится с научным знанием, которое феноменально опосредовано. Метафизическое знание, в силу своей производимости как вид жизненного процесса, не дает метода. Оно сродни искусству: как не мыслимо искусство, которое было бы наукой, так не возможна и метафизика как наука [27]. Жизнь — это спонтанийность. Вполне в духе философии жизни учит Кайзерлинг; природа же разума в его законосообразности, хотя он и орган жизни, следовательно, он есть выражение косности. Не покидая концептуальный строй философии жизни, Кайзерлинг постепенно смещается к проблемам философии культуры. Отчасти эта эволюция происходила под влиянием Чамберлена, Касснера, отчасти как следствие его общения с интеллектуальнохудожественной элитой Парижа и Вены. Но решающее значение имели годы странствий накануне мировой войны в 1903-1913 гг. В частности, он совершает кругосветное путешествие, давшее ему умственный материал на всю оставшуюся жизнь. Впечатления, полученные им от контактов с духовной культурой Востока, особенно — Индии и Китая, явно не вписывались в европоцентристскую схему с ее культуртрегерским колониализмом. Многообразие культурных форм, их явная несводимость к каким-то одним, привилегированным и предпочтительным с точки зрения имеющегося в них духовно-творческого потенциала, их органичность, не допускающая произвольного переноса ценностей, и отношение к ним человека — этого решающего звена всей цепи культурных взаимозависимостей, — все это требовало осмысления в какой-то иной, чем все известные представления, системе координат. Поиски ее составили содержание военных лет, проведенных Кайзерлингом в размышлениях в родовом имении в Эстонии. [123] В 1919 году в свет вышла книга «Путевой дневник философа», вызвавшая едва ли меньший интерес, чем «Упадок Западного мира» Шпенглера, появившаяся незадолго перед этим [28]. И доныне Кайзерлинг воспринимается главным образом как ее автор, хотя вскоре после нее вышла вторая книга, в теоретических взглядах Кайзерлинга даже более существенная: «Творческое познание» [29]. В 20-е годы Кайзерлинг — один из самых читаемых философов Германии. Он много ездит, главным образом с лекциями, популяризируя свой взгляд на культурное обновление Европы, и стремится придать и ему характер особого культурно-просветительного движения. Наблюдения над различными типами культур, учитывающие статус в них духовной деятельности человека и основных тенденций развития привели Кайзерлинга к мысли, что существует две фундаментальные культуры: «бытие-культура» (Seinskultur) и «умение-культура» (Kцnnenkultur) [30]. В этом суть концепции Кайзерлинга. Первая культура характерна для Востока и интенсивнее всего представлена в Индии, вторая — в Западной Европе. В культуре Востока средоточием является духовный процесс в своей первозданной сущности — как мышление, направленное на само бытие, и которое не имеет никакой иной мотивации, кроме познания сущности мира. Прагматически-утилитарные цели ему совершенно чужды. Только на Востоке еще сохранилась способность к метафизике, т.е. к разгадке тайн бытия, и, следовательно, к полноте душевной жизни и гармонического существования. Но эта установка на духовность на Востоке достигается ценой потери тех возможностей, которые связаны с рациональностью и наукой и которые в уродливой односторонности представлены в Западном мире. Западный мир, живущий по законам прагматики и науки, порождает совершенно иные культурные эффекты. В “Könnenkultur” определение человека и его оценка производится по внешним, феноменальным параметрам, по тому, как он явлен своим социальным статусом и другими социально значимыми характеристиками. В «бытие-культуру» человек входит как воплощение определенного бытия, и на этом держится его статус. Запад движется к хаосу, его культура теряет ощущение своей бытийной значимости. Но этот процесс, считает Кайзерлинг, не фатален. Он может быть остановлен. Проблема заключается в том, чтобы преодолеть односторонность восточных форм аскезы, но и не потерять западного чувства реальности, одновременно не растворяясь в западных формах чувственности. Речь должна идти не о синтезе культур, а о некотором обновляющем взаимодействии. Кайзерлинг понимает его как движение к «новому европейскому гуманизму». Его суть составляет не перестройка мира, а обновление человека и, вместе с тем, — человечества. Должна быть открыта новая духовность в виде духовно раскрепощенного человека, а не новой философской доктрины. Обновление человека в духе — вот формула, предложенная Кайзерлингом. И не только предложена, но и воплощена в [124] реальности в форме функционировавшей некоторое время под руководством Кайзерлинга «Школы мудрости». Школа преследовала цель воспитать духовную элиту новой европейской культуры на основе свободного философствования. Имена немецких философов культуры, которым посвящены следующие страницы, ничего не говорят даже очень искушенному знатоку истории философской мысли XX века. Дело не только в том, что ни одно из их довольно многочисленных произведений не удостоилось русского перевода, или в том, что в России нет ни одной посвященной им работы. Ведь не намного лучше обстояло до недавнего времени дело и за рубежом, в том числе в Германии, где указанные обстоятельства не имели места. Причину выпадения из интеллектуальной истории нашего века определенной плеяды мыслителей следует искать не столько в характере их идей, сколько в идеологических и политических условиях времени, которые внезапно разрушили социальный фундамент духовной жизни, гарантировавшего трансляционные взаимодействия идей и необходимый минимум их сохранности и значимости, хотя бы в традиционных академически объективных формах. Благодаря этим условиям брутальное господство приобрели критерии, определявшие ценность идеи степенью ее полезности «борьбе», «движению» и их идеологиям. Причем, с особенной парадоксально-трагической жестокостью время обошлось с той духовной элитой Европы, представители которой не пришлись ни к одному двору. Таковы Х.С. Чамберлен, Р. Касснер, Л. Циглер, Л. Клягес, Стефан Георге, Г. Дриш, а также О. Шпенглер и Г. фон Кайзерлинг. Разумеется, перечень может быть многократно умножен. В этом списке выглядит неуместным упоминание Освальда Шпенглера, мировая слава которого, хотя и несколько двусмысленная, кажется несомненной. Но если как следует разобраться в «морфологии» известности Шпенглера, то обнаружится, что за редким исключением, даже в кругу специалистов представление о его философии культуры основано на весьма тощей схеме, давно уже имеющей даже не вторичное происхождение, дополненной несколькими идеологическими метафорами. Одна из них представляет его как идейного предтечу фашизма и основывается главным образом на некоторых пассажах «Пруссачества и социализма». Подобное обвинение — и об этом надо сказать сразу — относится почти ко всем вышеперечисленным мыслителям. Оно особенно резко звучало в советской литературе и периодике в 30-е — 40-е годы, но также было распространено и в либеральных кругах европейской интеллигенции. Провоцирующие моменты, несомненно, наличествовали как в содержании некоторых мыслей, так и в способе философствования. Этот способ отличался нарочитой замкнутостью языка, ориентацией на эзотеричность, что подчеркивалось и сложностью мыслительного синтаксиса, и неуловимой игрой смысловых структур, интерференция которых рождала особую философскую поэтику наведения на объект мысли намеком, аллюзией, сгущением метафор, [125] а не непосредственным указанием на него и раскрытием. Это особенно относится к культур-философской эссеистике Рудольфа Касснера и поэтическому творчеству, слитому с поэтическо-мифологизированным бытом у Стефана Георге. У самого Кайзерлинга одно из главных философских сочинений «Творческое познание» строится как музыкальное произведение, и эту форму он считает существенной для понимания содержания. Таким образом, сама формальная, техническая конструкция философской работы превращается в необходимое условие проникновения в смысл выражаемого. Нечто подобное можно сказать и о Людвиге Клягесе и его главном сочинении «Дух как противник души», которое предполагает первичное усмотрение его в целостности, как предпосылку последующего конструктивного погружения в смысл [31]. Само преодоление классической (немецкой) формы философского сочинения мыслилось как философская задача, решаемая в контексте формирования новой философской стилистики и адекватного ей проблемного континуума. В данном случае весьма символично воспринимается заглавие книги неназванного еще, но, несомненно, принадлежащего к этому же типу мыслителей, культур-философа Теодора Лессинга, которое может быть воспринято как общий девиз всего этого возникающего типа философствования: «История как сообщение смысла бессмысленному» — достаточно заменить «история» словом «философия». Недаром большинство указанных теоретиков именовали свои воззрения «философией смысла». Эта изощренная философская форма эпатировала общественное мнение, воспитанное на солидном философском традиционализме немецких университетов, но на самом деле требовала меньше философского воображения, предпочитая по сути свободное ассоциативное движение мысли. Она постоянно ускользает от определенности, не принимает на себя ответственность за окончательные решения и дефиниции. Вместо этого она вынуждена постоянно стимулировать внимание рискованными совмещениями понятий, остротой выражений и работой над тем материалом, которых избегала прежняя онтологизирующая и гносеологизирующая философия. Не пойдем далеко за примерами, а обратимся к тому же Шпенглеру, у которого полным-полно таких острых квазиопределений, глубокомысленных по форме, но, по сути, симулирующих истолкование предмета мысли: «Всемирная история суть упорядоченное событие со всегда ясным взглядом на происходящее и предстоящее» (С. 2, фр. 5); «Всемирная история является историей чистокровной лошади человеческой породы, которая хиреет духом» (С. 3, фр. 5); «История как ток отдельных, не подлежащих отмене, одноразовых действий и деятелей, есть только то, что может быть рассказано и только рассказано» (С. 3, фр. 7); «Однако повествуется только о том, что видят перед собой жизненным, итак не форму деяния, а факт действия» (Там же); [126] «Историописание, итак, есть поэзия (Dichten), эпическая или трагическая поэзия, очами судьбы; не будучи таковыми, она остается в положении приуготовительного знания совокупности данных» (Там же); «Мировая история является трагической судьбой. Ее сцена — это поле битвы неразрешимых душевных конфликтов» (С. 4, фр. 8), и тут же: «Мировая история является сознательной историей» (С. 5, фр. 9) [32]. Самым легким делом было бы, установив противоречивость контекста и смысловую размытость его структуры, ограничить свой анализ этого типа философствования как, хотя и мотивированного состоянием современного ему социокультурного фона, но все же интеллектуального курьеза. Можно было бы, если бы речь не шла о более серьезных вещах. Прежде всего, надо иметь в виду, что мы имеем дело с глубоко осознанным и осмысленным выходом на новый философский горизонт и пониманием того, что ему должна соответствовать ментальность, основанная на другом типе дискурса или, говоря проще, на иной логике. Установки и предложения в этом отношении были весьма различны. Критика стандартной логики и методов познания сопровождалась апелляцией к интуитивным способностям человеческой души, обостренным вниманием к мифотворческой и символотворческой деятельности человека, его художественному воображению как способу проникновения в недоступные рационализированному мышлению глубины человеческого бытия, наконец, утверждалась необходимость выхода на новое мышление, оперирующего противоречиями как основным логическим приемом [33]. Совершенно очевидно, что поиски новых способностей постижения должны были вывести на те типы ментальности, которые воспринимались либо как альтернативные современному мышлению и тогда обращались к реконструкции или возрождению архаичных структур сознания, либо как альтернативные именно европейскому способу рационального освоения действительности и тогда внимание сосредотачивалось на сопоставительном анализе восточных ментальных типов. Именно последний подход лежал в основе развития интереса к культур-философской компаративистике. Но этот подход не был единственным. Существовали и иные мотивации, делавшие обращение к иным типам культур, качественно отличных от европейской, или, более широко, западной. При этом несущественно, что выводы иной раз делались отрицательные, в смысле культурного герметизма (Шпенглер и др.), утверждавшего взаимную непроницаемость культур. В равной степени утверждалась и возможность такого синтеза. Именно в этом духе развивал свою философию культуры Кайзерлинг. Однако возвращаясь к историческим судьбам мыслителей, о которых мы ведем речь, следует иметь в виду, как мы сказали, что они в определенной степени были спровоцированы духом их философствования. Уже приведенные суждения Шпенглера относительно того, чем является философия истории и кем должен быть философ, [127] свидетельствует о существовании совершенно особых представлений на сей счет. Они сводятся в целом к убеждению о высочайшем призвании мыслителя этого рода, его исключительной профетической призванности. История же это особый вид высочайшей трагедии человеческого духа, реализуемой путем выявления его творческих возможностей и их постепенным истощением. Но именно так создается культура. Только избранные способны проникнуть в тайну культурно-исторического процесса и раскрыть загадочные очертания неизбежного будущего. Этот профетизм, апелляция к таинственным жизненным силам души, скорбные пророчества надвигающегося конца, героическое неприятие действительности, предсказания возможности утверждения здоровой культуры и нового строя жизни с приходом нового типа человека, утверждающего себя в жизни стихийно-волевыми усилиями и т.д. — явно побуждали видеть в носителях подобных установок если не лидеров, то провозвестников новых социально-политических движений. И здесь возникала драматическая ситуация. В глазах многих они выглядели как истинные предтечи ультра-радикальных правых движений; личная же позиция Шпенглера, Стефана Георге, Кайзерлинга на самом деле оказывалась много сложнее и не согласовывалась в конце концов с общими ожиданиями. Так, Шпенглер решительно уклонился от всякой поддержки своим авторитетом и участием нацистского движения в Германии. Столь же решительно поступил и Стефан Георге. Кайзерлинг, хотя и издал несколько книг в период 1933-1944 годов, однако лояльности к режиму не обнаружил и постоянно был на подозрении [34]. Кризис культуры в контексте современных дискуссий и оценок С.И. Дудник Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.128-136 [128] И Знанецкий, и Конечны, и Кайзерлинг представили культур-философскую рефлексию на кризис культуры, как он был воспринят в начале XX века. Проблемы, обозначенные им, слишком обширны, чтобы могли быть представлены в форме суждений, претендующих на их однозначную конкретизацию. Наша цель — дать обозрение и обобщение некоторых подходов к их решению или концептуальному осмыслению, отмеченных как типичностью, так и определенной дозой оригинальности, и расширяя поле обсуждения, обратить внимание на ряд имен мыслителей, оставшихся в тени более мощных умственных фигур, но в своих воззрениях не лишенных оригинальности мысли и способа ее выражения. Наконец, наше внимание обращено и на те источники современных культур-философских идей, которые позволяют яснее видеть определенную устойчивость целого комплекса проблем современной цивилизации на довольно значительном временном интервале и, следовательно, их неразрешенность и их капитальность. Современная мысль выработала ряд новых дисциплин, основная задача которых осмысливать эти проблемы, продвигая их решение, если не в инструментальном смысле, то, по крайней мере, как развитие духовной жизни общества. Таковы философия культуры, культурология, теория цивилизации, культурная компаративистика и проч. Культурология — непрерывно расширяющаяся сфера исследований. Помимо обычных причин, которые обусловливают экстенсивное развитие любой науки, в отношении к нынешнему положению культурологии мы можем зафиксировать по крайней мере два специфических стимулирующих фактора ее развития. Первый обязан своим происхождением особенностям летоисчисления западной традиции: Завершилось XX столетие и мы вступили в третье тысячелетие новой эры. И в прежние времена подобные — и более скромные — юбилеи человечества вызывали стремление внимательнее присмотреться к его жизни, произвести своеобразные пересмотры и расчеты, подвести итоги пройденного пути и определиться в характере нравственного состояния, уяснить новые задачи и потребности, найти новые идеалы или вехи, по которым очертить линию будущего культурного движения. В еще большей степени все такого рода устремления обнаруживаются в наши дни. Вокруг проблем культуры создана особая среда повышенного возбуждения и интереса, которые несомненно воздействуют на научное сообщество, обычно достаточно бесстрастное в других ситуациях. Практически нет таких методов и подходов в обществоведении и гуманитарном знании, которые с лихорадочной поспешностью не прилагались бы к проблемам культуры. Второй фактор представляется более фундаментальным. Он связан с углубляющимся осознанием кризиса современного культурного [129] бытия человека. Сложнейшей проблемой представляется выяснение существа этого кризиса и степени его угрозы для человечества вообще, в то время как его симптоматика нашла яркое описание в творениях культурологов всего мира на протяжении XX века. Является ли кризис культуры следствием ее надлома, исчерпанности творческой жизневоспроизводящей потенции, завершением цивилизационного этапа или же неким массовым психическим и моральным состоянием общества, стоящего перед тяготами вполне материальных проблем, никак не связанных с культурным процессом? — так можно выразить одну из существенных дилемм культурологии. Впрочем, кажется, эта дилемма традиционно относится к ведомству философии культуры, поскольку разрешение может быть достигнуто на том уровне усмотрения проблематики, который предполагает концентрированную мобилизацию всей интеллектуальной и провидческой мощи познания. Сейчас же мы ставим цель сформулировать несколько суждений, относящихся к проблеме понимания кризиса культуры и общества. Сам вопрос может формулироваться как конструирование некой абстрактной модели культурно-исторического кризиса, имеющей универсальное значение и воспроизводящей теоретическую структуру кризиса в сопоставлении со стабильным культурноцивилизационным процессом вне зависимости от его конкретного исторического содержания по некоторым всеобщим свойствам. Очевидно, что центральным моментом при таком подходе становится вопрос о возможности существования таких всеобщих признаков. Нам неизвестны исследования, в точном смысле решающие такую методологическую задачу, хотя работы О. Шпенглера, Г. Зиммеля, А. Тойнби, Ф. Конечны, Г. Кайзерлинга, П. Сорокина и многих других, несомненно, скрыто предполагают наличие такой методологической модели, в противном случае оказалась бы невозможной философия истории, которую они представляют. Но вопрос о кризисе культуры может относиться и к более ограниченной ситуации и решать более конкретную проблему — реконструкции в теоретических терминах непосредственно переживаемой культурно-исторической ситуации, воспринимаемой идеологическими структурами эпохи как кризис. Разумеется, и в этом случае вопрос о признаках, по которым фиксируется эта ситуация, не относится к маргинальным. Но он опосредован целым рядом других, анализ которых должен вычленить саму эту ситуацию, точнее сказать, дать ее дескрипцию. Чтобы понятным стало то, что имеется в виду, достаточно напомнить, что сама фиксация этого кризиса в «сознании эпохи» может быть дана в смутных предчувствиях художественнопоэтического сознания, представлена в фантазиях, пророчествах и символах художественного воображения или в размытом общественном настроении, отмеченном пессимизмом, апатией, инертностью, цинизмом в отношении к идеалам, а так же в жестких формулировках программ политических движений, находящихся в конфронтации [130] с господствующими социально-политическими структурами. Возникает вопрос: исходя из какого эмпирического материала философ культуры должен давать свой диагноз ситуации и вообще вести исследование? Вопрос не праздный, поскольку теоретик постоянно стоит перед опасностью подменить исследование реального объекта концептуализацией представлений обыденного сознания (один из путей возникновения идеологических «превращенных форм» в социальной теории). Предварительная стадия описания ситуации, ее расчленения, классификации феноменов, подбор необходимого аппарата и т.д. создает предпосылки для последующего анализа и синтетического обобщения. Не менее важно расчленение понятий и явлений им соответствующих. Несомненно, кризис культуры — нечто иное, чем социальноэкономический кризис, как бы остро он не выражался, и последний не всегда переходит в культурный. Очевидно, что и культурный кризис может какое-то время разворачиваться на базе несомненно процветающей экономической деятельности. И в то же время, на определенной стадии культурно-исторического процесса оба кризиса начинают соотноситься. Следовательно, не всякое социальное и духовное неблагополучие может быть соотнесено с культурным кризисом, который имеет иную основу. XX век начался и заканчивается мощным ощущением кризиса. Это скоба, сцепившая нашу культуру, внутри которой господствует ощущение фатального движения к концу. Бесчисленные рассуждения на эту тему можно было бы суммировать одной фразой: формула, которую положил современный человек в основание своего жизненного проекта и которой руководствуются созданные им общественные структуры, воплощая его культурное бытие, выбрана неверно. Разумеется, между теоретиками нет согласия в том, в чем смысл этой формулы. Можно предложить несколько обобщающих примеров таких суждений, ее разъясняющих. а) Произошел фундаментального значения раскол изначально единого человеческого бытия на культурные и цивилизованные потоки с усиливающейся во времени их дивергенцией. Формы духовной жизни, в которой обретается культурное творчество, и формы социального и материально-продуктивного существования более не совпадают и даже противостоят друг другу. Настойчиво указывается, что значимость каждого элемента этой двойственности неодинакова: очевидна неодолимая экспансия цивилизационного устремления и дегенерация культурного импульса. б) Произошел переход от корпоративных (культурно и социально субординированных) структур к аморфно-массовому существованию. Первый способ существования ограничен, в нем человеческая жизнь отмечена определенностью и насыщена ясным смыслом, человеку даны ощущение его предназначения, возможностей и точного места в социо-культурном пространстве. Его мораль и психика строго детерминированы, [131] но сама детерминация не воспринимается как отчужденное состояние. Второй, напротив, сняв с человека ограничения, фактически лишил его здорового ощущения своего места и предназначенности. Хотя он и называется демократией, но на самом деле лишил человека гуманистической определенности, создал для него ситуацию покинутости. Основным чувством в его коллективной и индивидуальной психике стало ощущение одиночества и трагизма. Связи разорваны. в) Кризис — это культурная исчерпанность, потеря способности общества к творчеству. Основой культуро-творческой дегенерации стала культурно-цивилизационная диаспора, распыление элиты, социальная компактность которой, охраняемая традиционно санкционированными прерогативами, прежде обеспечивала производство и сохранение смысловой значимости жизненных ценностей. Произошла победа стандарта над шедевром, морали безобидного существования над героизмом, мелочно-корыстного «житьеца» над бескорыстным энтузиазмом. г) Десакрализация всех форм бытия человека, в результате чего произошел переход от глубинно-осмысленного бытия с целями, всегда обеспечивающими его перспективами, к повседневно-выраженному, прагматически ориентированному существованию. Из жизни исчезли священная норма, священный текст, священный символ, сокровенные сферы. Вместо этого, как естественная компенсация, по собственному механизму в жизни стали функционировать имитации священного, его суррогаты и субституты. Но как и у всякого заменителя их жизнь коротка; ложные ценности образуют унылый ряд быстро сменяющихся кумиров профанного мира. Верным признаком ненастоящего, квазикультурного бытия является нарастающий темп жизни. Истинная же культура на всем своем пространстве и на весь отведенный ей срок пребывает в величаво выраженном ритме, которому согласно сообразны ее компоненты. Тогда — она ансамбль. Иная же культура (вырожденная) компонуется по другому закону. Ускоряющийся ритм порождает неизбежное чувство краха, катастрофы, — ведь он не может быть вечным. Приведенные четыре способа объяснить причины кризиса культуры очевидно неполны, можно спорить и об адекватности их истолкования. И все же, в какой-то мере, они фиксируют основные элементы имеющихся представлений. По следует обратить внимание на два момента. Первый видится в том, что в любом случае кризисность культуры мыслится как неоспоримая данность, как очевидная реальность. Второй состоит во внутреннем совпадении объяснительных манер, при различии аргументов и способов их компоновки. Большинство согласно, что современный кризис определяется не переходом от одного типа культуры, исчерпавшей свойственный ей потенциал, к другому типу, а принципиальным вырождением без культурной перспективы. Следует обратить внимание, что этот же век дал по меньшей мере три попытки вырваться из круга трагического мироощущения. Они и [132] поныне представлены социальными силами, опирающимися в своем историческом деянии (хочется сказать — творчестве) на весьма развитую идеологическую базу, хотя различны конкретные судьбы этих попыток. Первая попытка может быть названа традиционно-индустриалистской. Не хочется объяснять выбор этого названия, поскольку это второстепенный момент. В слове «традиционный» сделана попытка сохранить указание на обычный реформационный способ решения социокультурных проблем с его слоганами: постепенность, совершенствование, осмотрительность, приращение суммы благ — столь характерными для буржуазного мышления индустриальной эпохи. Основные моменты, свойственные этой программе, видятся такими: продуктивная сила науки, рационализация социальных отношений, сохранение человека в ситуации напряжения и риска выбора, побуждающих его к активности и мобилизации способностей при гарантии безопасности и возможности выживания его как индивида; принципы устройства духовной жизни черпаются из науки; в основе морали — принцип разумного эгоизма, как компромисса несовпадающих интересов. Модели воплощения этой попытки: устройство общества на основе подчинения законам и детерминациям технологического базиса (индустриальное, постиндустриальное, технотронное, информационное общество и т.д.). Вторая попытка — социалистическая перспектива. В своей развитой форме она (марксистская теория) предстает как программа перевода человека в систему материально недетерминированной реализации своих способностей и развития на этой предпосылке своей индивидуальности. Различные способы обобществления в сфере материального производства суть первоначальный социальный инструмент, действуя которым совершают первый шаг по освобождению человека от наиболее остро данной ему зависимости и несвободы. Этим самым начинается разрыв цепей, удерживающих его в царстве необходимости, и перевод в сферу свободного бытия, открывающего собственно фазу подлинного исторического бытия человека. В социальном опыте нашего общества эта программа элементаризировалась, потеряла свое гуманистическое содержание, выродилась в особую практику принудительной социальной педагогики. Третья попытка — праворадикальные революции (например фашистского типа). Нет необходимости специально оговаривать, что, вопреки устоявшемуся пропагандистски обытовленному смыслу, сам по себе термин «революция» не должен вызывать положительно окрашенного контекста. Революции бывают столь же консервативными, сколь и прогрессивными социальными актами. В фашистской революции следует отметить стремление ресакрализовать социальную жизнь, построив ее по формуле культуры, утверждающей священный статус единства по натуралистическим признакам (единство почвы и крови), по совпадению примитивных расовых инстинктов индивидов; восстановление корпоративной структуры и жесткой субординации общества. В формальных [133] моментах вырожденная социалистическая и фашистская программы совпадают, и это требует особого осмысления. Две последние попытки потерпели провал, хотя и различным образом. Пресечь фашизм человечество смогло только военно-политическими средствами. Судьба социализма трагичнее. Идея, на которой он основан, принадлежит всей культурной истории человечества и не может быть из нее изъята, не поразив глубоко её нравственную ткань. В этом смысле она неистребима. Но социально-практические возможности коммунистической идеи существенно подорваны и дискредитированы и едва ли имеют шансы к воплощению в ближайшей перспективе. Таким образом, кризис XX века можно было бы определить как бытие без культурной ориентации. Всё вышесказанное относится к тенденции осмыслить проблемы культурной динамики, избегая попыток апеллировать к религиозному аргументу того типа, что общество стоит перед альтернативой либо одичания, либо религиозного возрождения или обновления. Необходимо в теории обсуждать проблему до границ ее рациональных возможностей. Осталась несколько в стороне важная терминологическая проблема. Она связана с термином «кризис». Обсуждая тему кризиса культуры, мы постоянно должны сохранять возможность методологически и семантически контролировать его смысл. Обычно принимается как очевидное, что кризис культуры — это кризис ценностей. Либо общество лишается их, либо они функционируют в нем в плоскости формализованного и ритуализованного этикета, т.е. как пустые оболочки. Здесь необходима ясность. В обществе, в распоряжении современного человека имеются в наличии ценности любой ориентации. Ценностное поле общества практически неограничено. Имеются и эффективные социальные гарантии их комбинирования и реализации в проектах коллективной и индивидуальной жизни. Тем не менее, реальная жизнь общества протекает как бы вне ценностной ориентации. Следовательно, речь идет не о кризисе ценностей как таковых, а о кризисе, проистекающем от изменения ценностей и формы их представленности в жизни. Точнее, от способа их функционирования и изменения того образа, в каком они даны человеку и который определяет модус его отношения к ним. Далее. Насколько та ситуация, о которой мы говорим как о кризисе, суть таковая? Каждая эпоха в представлениях своих современников предстает пессимистически окрашенной, несовершенной, недостойной тех, кто в ней живет, явно хуже предшествующей. Кризис, данный как самоощущение индивида и даже эпохи, и кризис, данный в сознании, т.е. констатируемый по требованиям научности, вещи разные. Ощущение кризиса, как бы важно в культурологическом отношении оно не было, имеет особую модель: оно ретроспективно ориентировано. Пережитое всегда безопаснее, чем реальная данность бытия. Компаративное мышление, основанное на сопоставлении ситуаций, ведет к заключению: прошедшее и не свое — предпочтительнее. [134] Следует считаться с фактом зачарованности самим образом кризиса, культурного катастрофизма. Возможно, этот синдром подобен, или генетически связан с тем чувством зачарованности смертью, обреченности, которое воспитывала культура и эстетика модернизма. В какой мере мы модернисты в этом отношении? Но можно и так поставить вопрос: мыслить сознание не означает ли обнаружение в нем своеобразного культурологического фольклора? Следует иметь в виду и то, что в данный момент можно было бы назвать аберрацией больного сознания. Как учесть то преломление, которое происходит в сознании советского теоретика, трактующего общекультурную ситуацию, отталкиваясь от специфического состояния нашего общества? В какой мере неудачи нашего социального эксперимента и вызванные ими фрустрации могут быть с правом обобщены до понятия общекультурного кризиса? Сдвиг от нашей прискорбной ситуации в сторону универсального подхода вызывает подозрение в эгоизме ущемленного сознания. Итак, что есть кризис культуры? Всегда ли разложение социальных основ жизни сопряжено с кризисом культуры? Необходимо осознавать: проблема не в том, чтобы обменяться взаимными ощущениями неблагополучия и катастрофическими предчувствиями, а в том, чтобы разделить разнородные по сути, но поверхностно схожие явления и найти адекватный способ определения каждого из них. Проблема строгих критериев в области философии и теории культуры столь же важна, как и в другом теоретическом деле. А они могут быть найдены на путях поисков точного эмпирического соответствования наших не очень определенных исходных ощущений. В определенном смысле философия культуры и философия истории оказываются тематически совпадающими направлениями. И это совпадение наиболее наглядно именно в вопросе о структуре культурно-исторического процесса, его стадиальности и наличии способов переключения общества с одного типа культурно-исторического бытия к другому. Последний аспект тесно связан с такими представлениями о состоянии культуры как финализм, катастрофизм, исчерпание культурного цикла. Все они в какой-то мере проясняют понятие кризиса. Для нашего времени особенно остро стоит вопрос: стоит ли современная культура на пороге нового цикла (типа) или же она бесперспективна? Мы уже заранее сказали, что массовое умонастроение читается скорее представлением об исчерпанности духовного потенциала нынешнего культурного типа, нежели предчувствием нового. Все модели футурологических перспектив, связанные с сохранением существующих ценностных констант культурно консервативны. Этим не дана оценка таким воззрениям, поскольку консерватизм, по нашим представлениям, не является синонимом ретроградства, обскурантизма, реакции и проч. Но этот консерватизм питает и выраженную пессимистическую тенденцию нашей духовности, в частности, в отношении к идее прогресса. Мы уже обратили внимание на то, [135] что ощущение кризисности, особенно при попытках выразить его сущность, ориентирует на метафоры, возникшие как попытки выразить жизненный опыт и мироощущение весьма определенной культурной эпохи Европы, получившей наименование модернизма. Модернистский взгляд на культуру и человека, как было уже показано, формировался в атмосфере сложных духовных эволюции второй половины XIX века, в частности, в противостоянии с позитивизмом, социологизмом и естественно-материалистической установкой. Поэтому, учитывая различные исключения, в целом ему был свойственен антиэволюционизм, отрицающий законосообразный прогресс и исключавший из сферы культуры ее материально-технологические основания как факторы развития. В противовес этому он с энтузиазмом декларировал силу духовного начала, с наибольшей полнотой воплощавшегося в творческой индивидуальности, нередко утверждавшей свою культурную значимость через героическую жертвенность. Аристократизм духа и культуротворческая роль личности или элиты противопоставлялись косному, инертному антикультурному началу — толпе, массе, вообще социальному. Эти идеи антиэгалитаризма мы встречаем в изобилии в концепциях Габриэля Тарда, Густава Ле Бона, Вильфредо Парето и, разумеется, Ф. Ницше. Разумеется, выражены они были не только в различной терминологии, но и с различной степенью интенсивности и нюансировкой. Так, Тард представлял более умеренную, мягкую позицию нежели Ле Бон, ибо проводил различие между толпой и современной публичностью (общественностью), своей организованностью и разумным принципом делающей возможным демократическое общество. В тоже время модернистическая философия культуры давала образцы натуралистической интерпретации культуры, основанной на психологизме, витализме и энергетизме. Ее антиредукционизм имел ограниченный смысл, именно — утверждал непереходимость между миром природы и миром человека, что нередко вело к утверждению извечной враждебности среды духовному позыву человека. Характерно влияние знаменитого польско-австрийского социолога Гумпловича на рубеже XIX и XX веков на утверждение модернизма в социальных науках и культурологии. Его работа «Социальная философия» (1909) свидетельствовала об отходе Гумпловича от позитивизма в сторону модернистической трактовки социо-культурных процессов. Вместо прежде разделявшегося им эволюционизма, он переходит к пессимистически окрашенным представлениям о культурных процессах, разрабатывая идеи цикличности с элементами культурно-социального катастрофизма. Критика прогрессистского оптимизма дополняется пессимистическими рассуждениями о неизменяемости человеческой природы и ее враждебности духу, об извечном неразрешимом антагонизме творческой элиты и массы. Хотя в модернизме мы встречаем теории с героико-оптимистической и возвышенноспиритуалистической устремленностью, но в целом его отличала иная тональность. [136] Эволюционизму противопоставляется принцип неизменности, подкрепляемый фактами повторяемости, циклизма, замкнутости культурных изменений. Поступательность и непрерывность прогресса отвергается, ибо деградационные и деструктивные воздействия представляются более значимыми, что ведет к обрывам развития и культурным катастрофам. Некоторые черты модернистской философии культуры мы конкретизируем на примере ряда концепций, создатели которых обычно не входят в перечень классиков современной философии культуры, но тем не менее высказали ряд оригинальных идей, которые в последние годы возбуждают к себе интерес. От культурного партикуляризма к интегральности развития С.И. Дудник Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.137-143 [137] Теории культурно-цивилизационного партикуляризма или культурно-теоретических типов, хотя и пользуются высоким интеллектуальным кредитом, тем не менее не упразднили, а только потребовали более детальной и основательной проработки идей культурных взаимодействий и единого исторического процесса. Возникла противоположная финалистским концепциям «конца истории» тенденция утвердить идеи развития на новой эмпирической и теоретической базе, согласующейся с несомненными тенденциями вхождения общества в новую цивилизационную стадию. Каковы возможные подходы к пониманию этого процесса? Одни из них вырабатываются в русле культурно-исторической компаративистики, решающей проблему возможности взаимодействия культур с весьма различными ценностно-организующими матрицами или структурами. После того, как в результате социально-культурологической мысли и исторической науки XVIII — первой половины XIX века были выработаны категории (таксоны) цивилизации и культуры и на их основе приведена структурализация человеческой истории в диохроническом и синхроническом аспектах, на повестку дня встала проблема культурноцивилизационных взаимодействий. К концу XIX века определилась основная тематика культурной компаративистики и ряд подходов к решению возникших проблем. Примерами могут служить теории культурно-исторического партикуляризма, утверждавшие герметичность и принципиальную плюралистичность культур, исключающие возможность единства культур и единого исторического процесса (О. Шпенглер, Ф. Конечны, Н.Я. Данилевский и др.). Возникли более умеренные теории, допускавшие некоторые виды продуктивных контактов цивилизаций и исторический процесс в пределах длительности трансформации материнской (стержневой) цивилизации в ряд последующих, дочерних, с постепенным дроблением и исчерпанием ее культуротворческого потенциала (А. Тойнби). Определенное значение и распространение получили теории, вводящие различие цивилизаций по принципу различий этнопсихических структур ее субстратов или носителей или толкующие их с точки зрения форм преимущественной реализации специфических свойств человеческой активности: эмоциональной, душевной, умственной (П. Сорокин). Историко-культурному партикуляризму противостоят многочисленные прогрессистские версии историкокультурного процесса как универсального единства, как актуальности, постепенно охватывающей все человечество. Впрочем, здесь не ставится цель дать методологический анализ теоретических основ указанных культурологических теорий, а всего лишь обращается внимание на то, что в центре [138] их стоит проблема культурно-цивилизационного синтеза: его возможности или невозможности. Проблема синтеза в отрицательном или положительном смыслах также породила ряд методологических решений. Одно из самых обоснованных принадлежит марксизму. Его ответ сводился к тому, что, хотя эмпирически формируется многообразие культур и стадиально-историческое различие состояний современных обществ, несмотря на то, что история человечества, видимо, начиналась из различных точек, все это не препятствует тому, чтобы понимать человечество в модусе универсального, единого цивилизационного процесса. Исходная разорванность культурной ткани человечества, в частности ввиду отсутствия технических возможностей и социально-экономических побудителей контактов и взаимодействий, не должна скрыть более существенного обстоятельства — именно того, что, как бы ни были разобщены отдельные общества и культуры, их развитие и функционирование подчиняется одним и тем же законам. Таким образом, in abstrakto существует единство исторического процесса. На фазе развития материально-технических средств коммуникации и экономических основ, создающих материальные предпосылки и потребности общения (мировой рынок капитализма и единое экономическое пространство) начинает формироваться общечеловеческое единство и единый исторический процесс как реальность. В структуре этого процесса происходят, как его составляющие, изменения, взаимодействия и эволюции, выравнивающие уровни развития, создающие конвергенциальные эффекты, многообразные процессы взаимодействия и взаимопроникновения культур. Другие концепции формирования культурного единства (культурного синтеза) предполагают другие механизмы: религиозные, социальные, технологические и т.п. Это хорошо известные теории информационного, технотронного, постиндустриального и иных обществ. Проблема культурных взаимодействий положительного и отрицательного типов представлена в этих последних теориях на уровне феноменального объяснения процессов без должного углубления в их суть. Этому углублению, по нашему мнению, препятствует недостаточная концептуальная проработка реальных процессов и их типологизация. Особенно важным мы признаем нерешенность вопроса об онтологических основах культуры, т.е. того уровня, на котором объективируются культурные ценности и культурообразующие формы. Многообразие культур, воспроизводимое на феноменальном уровне, на онтологическом оказывается во многом «снятым». С онтологической точки зрения феноменальное многообразие уступает место более упорядоченному и конечному числу культур. Каждой культуре на феноменальном уровне ее восприятия и функционирования соответствует определенный тип реальности; причем так, что он может порождать и, как правило, действительно порождает некоторое множество [139] сосуществующих цивилизаций: однотипных, родственных, либо выстраивающихся в диахронические цепочки производных культур, которые рассматривал А. Тойнби. Именно выявление онтологического основания культур позволяет перейти к осмыслению взаимодействия и культурного синтеза как процесса структурного, базового уровня, отделяя его от феноменальных взаимодействий, затрагивающих поверхностные характеристики культур. Если теперь обратиться к вопросу о реализации этих взаимодействий в форме конкретного исторического процесса, протекающего в русле исторического времени эпох, периодов, стадий и т.д., то нельзя не обратить внимание на его сложную структуру и нелинейную динамику. Существующие теории общественного развития, устанавливая его закономерности, этапы и формы, в которых оно осуществляется, содержат в себе одно важное ограничение: они либо упускают совершенно, либо недостаточно определенно характеризуют и оценивают соотношение социализационных и приватизационных процессов, как составной части механизма этого развития. В то же время их можно рассматривать и в качестве сторон или тенденций исторического процесса. Отвлечение от них не позволяет поднять познание предпосылок исторической эволюции до надлежащего уровня обобщения, что обедняет саму теорию историзма. Соотношение, иным словом, диалектика социализационных и приватизационных тенденций в значительной мере обусловливает направление общественно-исторического процесса, конфигурацию расклада элементов внутренней социальной и политической структуры. Оно становится выразительным фактором прогресса с того времени, когда экономическая база общества начинает обеспечивать такую меру прибавочного продукта, которая оказывается достаточной для стимулирования социальных, культурных и политических структур общества как относительно автономных общественных систем. Социализационную тенденцию надо понимать как процесс возникновения и прогрессирующего разветвления системы социальных институтов различного уровня и социоонтологического статуса с различной функциональной спецификацией, но выступающих или используемых в качестве орудия реализации интегративных интересов, а не частных. Одна из особенностей проявления социализационной сущности этих институтов состоит во введении регуляторов, регламентирующих поведение социальных субъектов, детерминированное в направлении реализации частного интереса, в ограничении прав и свобод либо по номенклатуре, либо по характеру использования. Приватизационную тенденцию в самом общем смысле можно представить как такой тип социального поведения индивида или ограниченной общности индивидов, содержанием которого являются присвоение материальных и духовных благ, приобретение прав, свобод или социально-культурных преимуществ, реализации вообще всех притязаний. То, [140] что при этом могут быть использованы в инструментальном смысле социальные институты, не меняет существа этой тенденции. Как стороны действительного противоречия, данные процессы вступают в сложнейшие взаимодействия и обусловливают друг друга. В общественно-историческом процессе они выступают как стороны единого общесистемного противоречия, обеспечивающего динамику общественного развития. Конкретно-исторические формы, в которых могут выступать обе тенденции, как и их взаимодействия, чрезвычайно многообразны. Однако в их традиционной оценке существуют устоявшиеся подходы. Интуиции, на которых эти подходы основаны, отнюдь не беспочвенны и представляют собой специфический способ выражения обобщенной данности социального опыта. Приватизационная тенденция как специфическая установка человека понимается более соотнесенной с человеческой сущностью, более «естественной» и первичной, чем противоположная ей социализационная. В ней человек не столько реализует свои эгоистические притязания, сколько утверждает и развивает свою индивидуальность. Состязательность, которая проявляется в приватизационной тенденции, ставя человека в пороговые ситуации, создавая постоянно сопутствующее ощущение риска, формирует в нем ценные динамические качества личности. Проблема свободы при таком понимании решается через ее соотнесенность с проблемой собственности, с правом обладания, как естественным состоянием человека, защищаемым социальными институтами и установлениями. Человек, лишенный собственности, гарантирующей его независимость в имущественном отношении, и, стало быть, выживаемость, существенно лишается возможности социально проявить себя как независимый агент общественной жизни. Таким образом, в социально-антропологическом отношении свобода, как выражение личности, прочно связана с приватизационными отношениями общества в положительном смысле. Конечно, приведенная трактовка гуманистической сущности приватизационной тенденции существенно неполна: она не выражает противоречивого характера ее конкретного проявления, опосредованного социо-культурными предпосылками и экономическими условиями того общества, в котором она проявляется. Социализационная тенденция традиционно мыслится вторичной, относящейся к производному, а не первичному уровню социальной онтологии. Хотя она воспринимается как объективная тенденция, как «естественно-исторический процесс», но на самом деле лишена глубинного антропологического измерения. Такое отношение к социальности, как установлению человека, зафиксировано уже в античной теории общества и в различных вариациях дошло до нашего времени. Она мыслится сферой проявления «принципа рациональности», устанавливающего, регулирующего и регламентирующего социальную жизнь как форму коллективной жизни. Поэтому считается естественным видеть в [141] этой сфере проявления проективно-конструктивной (преобразующей) деятельности человека. Ее осуществление может быть различным по методам и технике социального творчества. Оно может иметь характер реформационных преобразований, притязающих на весьма различную глубину, размах и скорость социальных трансформаций, либо же насильственного проведения программы революционного социального переворота. Особенностью современного отношения к пониманию социальных процессов как раз и является выраженное стремление придать им рациональный характер, т.е. подчинить исторический процесс идеологической мотивации. Как и относительно первой тенденции, мы подчеркиваем известную огрубленность трактовки понимания природы социализационного процесса. Важно было выделить то, что приватизационная тенденция понимается как нечто глубинное, соответствующее человеческой сущности, и вследствие этого, социальные отношения, в которых она воплощается, — как более фундаментальные и естественные. Социализационная же тенденция связывается с представлениями о процессах, ограничивающих приватизационные проявления человеческой деятельности, и введением институтов, реализующих совокупные, коллективные интересы. В этом смысле она как бы вторична. Интуиции, на которых строятся эти понимания, отражают некоторые сущностные стороны действительного общественно-исторического процесса, однако весьма не полно. Коллективная жизнь невозможна, с одной стороны, без присвоения индивидом, общностью или иным социальным субъектом всего того, что вырабатывается различными структурами человеческого общества, с другой стороны, — без возникновения механизмов нормативно-регулятивного и ограничительного назначения по отношению к первой стороне. В социальной эволюции обе стороны, как правило, выступают неравномерно, однако степень неравномерности может быть различна. Стандартное состояние общества может быть представлено как общество, находящееся в устойчивом равновесии и сохраняющее способность к неразрушающей эволюции. Социальная динамика регулируется потенциалом, который общество может привлечь в качестве адаптационных возможностей, противостоящих вызову, с которым оно сталкивается. Именно в этом случае мы имеем дело с проявлением закона соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил, где каждая форма или вид производственных отношений нашли как бы свою «экологическую нишу». В современных теориях социальной философии подход к такому пониманию общественного процесса, которое мы встречаем в теории «открытого общества» Карла Поппера и в идее социальной конвергенции, утверждающей, что ни капитализм, ни социализм, как «чистые» формации, не могут по своей сути соответствовать реальным тенденциям [142] общественного развития. Представляется, что им в большей мере соответствуют представления о постиндустриальном или технотронном обществе, развитом на конвергенциальных принципах. Приватизационная и социализационная тенденции общественного процесса получали весьма различную трактовку в истории социальной мысли. Она нередко расходилась с тем, что нами выше было названо их интуитивным смыслом. Как правило, обнаруживается своеобразный социально-философский «монизм», когда социальные теории строились на признании научной значимости одного принципа развития при одновременном безусловном отрицании творческого потенциала другого. Таковы бесчисленные концепции ХIХ-ХХ вв., утверждающие безусловную ценность и неограниченные возможности общества свободного предпринимательства и «чистого» капитализма с минимальным проявлением государственных регулятивных функций (например, теория «государства — ночного сторожа»). Последний всплеск их наблюдался в 70-е годы нынешнего столетия на волне неоконсервативного движения. Но и в них можно было заметить следы признания значения соцализационной тенденции в виде того или иного способа демаркации между частными интересами и публичными. Либеральные же теории общества признают огромное и возрастающее значение социализационных механизмов для современной стадии развития. Именно в их недрах развились конвергенциальные варианты социальной теории. Возможно, из либеральных теорий, наиболее критической по отношению к социализационной тенденции, является упомянутая теория «открытого общества» Карла Поппера. Точнее говоря, Поппер подвергает сомнению научность тех социальных теорий, которые, основываясь на значении социальных институтов и государства в управлении и регулировании всех сторон общественной жизни, развивают идею возможного планомерного, целенаправленного и предсказуемого исторического процесса. В наибольшей степени его критика относится к социалистическим теориям и, главным образом, к марксизму. Социализм, как реальный тип общественного порядка в XX в. возникает на почве абсолютизации социализационной стороны общественной жизни. Поэтому он выступает в качестве сложно-организованного, но гипертрофированного механизма реализации общественного интереса, неизбежно подавляющего естественный интерес частного человека. Мы не будем приводить критические аргументы, освещающие реальные последствия этого социально-исторического эксперимента, — они стали уже общим местом в философской публицистике. Мы обратим внимание на один момент в теоретических выкладках марксизма, который, как нам представляется, оставался вне поля зрения историков социальной мысли и марксизма в частности. Он заключается в том способе понимания социализационного момента, который содержится в нем. Именно, рассматривая общественную собственность [143] как социальный институт в исторической ретроспективе, марксизм приходит к заключению, что он является первичным по отношению к институтам, выражающим приватизационные отношения, а потому более фундаментальным и более «естественным», чем вторые. Именно поэтому марксистскую социальную философию столь интересуют различные реликтные формы коллективного общежития и владения (задруги, общины и т.п.), в которых она видит остатки исторически первичных типов общежития, всеобщих по распространению, но утерянных в ходе утверждения обществ с приватизационными социальными структурами. Этим же можно объяснить и повышенное внимание к тому феномену, который в исторической этнографии и антропологии получил название первобытно-общинного строя, а в марксистской исторической концепции настойчиво истолковывается как примитивная по форме, но коммунистическая по своей сути общественная организация. Самим основателям марксизма (Ф. Энгельса, прежде всего) и их ближайшим последователям конца XIX — первых десятилетий XX в, принадлежит огромное количество исторических работ, выполненных в духе этой установки. Не отрицая дискуссионный характер истолкования сущности первичной социальной организации человечества, мы полагаем, что марксистское его решение оказалось идеологически предрешенным. Современная социальная философия и отечественная мысль приняла в вопросе о синтезе культур стратегему, предложенную глобалистическим проектом. Глобализация, как наиболее реалистичная перспектива мира, похоже стала аксиомой понимания современных проблем отечественной трансформации, еще не приведшей к критическому осмыслению этого постулата. Декарт и картезианство: к новой парадигме рационализма С.И. Дудник, Ю.Н. Солонин Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.149-157 [149] Декарт вошел в мир европейской культуры четыре столетия тому назад и уже не покидает его, оставаясь активным творческим источником нашей умственной жизни. Наше восприятие его трудов, строя мысли, в значительной степени — личности подчиняется тому же принципу неопосредованности, который определяет коммуникацию людей, структурно сопричастных единому жизненному миру. Как всякий создатель программных начинаний фундаментального характера, Декарт не столько приобщил нас к великим истинам, сколько конструктивно определил строй нашего мышления. Время, внося коррективы в структуру нашего дискурса, не изменило принципиальных характеристик кода, организующего нашу рациональность. В известном смысле мы все — картезианцы. И в этом качестве мы обречены разделять также его заблуждения и ошибки, воображая при этом, что преодолеваем их. Критики Декарта, особенно ньютонианцы всех наций и времен, даже его соотечественники, подобно Вольтеру, неутомимо поставляли все новые свидетельства несостоятельности научных положений картезианской физики. Иногда эти суждения носили характер окончательного приговора, как бы закрывая вопрос. Так В.И. Вернадский пишет: «Картезианская физика оказалась столь же далекой от исторически добытой человеком физики, так же мало вела к ней, так же была груба по сравнению с природным явлением, как мало способствовали его признанию грубые физические аналогии Бэкона» [1]. И однако эти «ошибки» понятны нам, ибо это ошибки уже нашего мышления, а не линия аристотелевой физики или натуральная магия XIII — XV веков. Они — в логике уже нашего дискурса, тогда как последние лежат за его пределами. В приведенной цитате примечательно это соединение имен, которыми маркировано начало новой эры — духовного переворота, выведшего Европу на новые пути научного и общественного развития: рационализации Декарта и эмпиризм Бэкона. «XVII век — великий век в истории человечества. В этот век впервые выступила наука как реальная сила его истории. Это — век создания новой философии, новой математики, нового опытного знания. Они порвали с древней, вековой традицией средневековой науки и философии, с древней философией» [2]. Это свидетельство В.И. Вернадского, который — вот оно, противоречие! — уточняя, углубляет его: «Творцы новой философии того времени — Бэкон. Декарт <…> были широкообразованными учеными, находившимися на уровне естествознания и математики своего времени; некоторые из них, как Декарт <…> являлись творцами нового» [3]. Как совместить эти суждения: Декарт — создатель ложной науки, и Декарт — творец нового? Устранить возникающие недоумения невозможно, не обратившись к рассмотрению самой физиономии XVII века, породившего людей с новыми мыслями, с новыми поступками, которые [150] в то же время были отягощены старыми предрассудками, не преодолели инерцию прежнего культурного поведения. Противоречия этой физиономии суть противоречия образа жизни и мыслей людей этого века. Создавая новый научный метод, формулируя новые принципы познания и руководства ума, отцы новой науки открыли возможность совершенно особого видения мира, воспользовавшись ею сами и побуждая это сделать других. Существенной стороной этого метода было то, что процедуры и приемы научного познания объявлялись независящими от личности и ее субъективных характеристик, свойствами универсального ума, которыми, тем не менее, наделен обыкновенный человек. Коль скоро это так и они явно сформулированы, то будучи усвоенными, они неизбежно должны вести к истине всякого, кто ими руководствуется, вне зависимости от возможных особенностей индивидуального ума. Открытие нового знания превращалось в регулярный и непрерывный процесс, ибо Книга Природы тем и отличается от книг откровения, что в ней изложены законы правильно устроенного мира, к которому принадлежит и сам человек. Правильность действий его ума подчинена общему закону, на котором зиждется природа, а не которому противостоит. Поэтому ни авторитет, ни предыдущий — неподтвержденный — опыт не имеют ни малейшего значения в делах истины. Для всех, кто встал на этот путь познания, приобщившись тем самым к «республике ученых», приняв ее научную этику, стало нормой не цитирование авторитетных текстов, а поиск доказательств и проверка уже приобретенных знаний в бесчисленных вариациях новых опытов и видоизменениях теоретических задач. Переписка ученых того времени пестрит известиями о новых результатах и опытах, приведших к ним, формулировками математических задач, предлагаемых для решения, — и все что сопровождается скрупулезным изложением процедур и условий, при которых они были получены, или доказательствами, обеспечившими необходимый результат. Знание открывало себя миру, снимало с себя покров таинственности, в который оно любило наряжаться прежде в трудах герметиков и оккультистов. И открывалось в важнейшей и сокровеннейшей части, показывая всякому, как достигаются его истины, то есть демонстрировало пружины научного мышления. Но как скоро это было усвоено, критический аргумент с неизбежностью был использован и в отношении самих творцов новой науки. Тогда и стало обнаруживаться, что в фактической части наличного знания не все, что ими сделано, соответствует тем критериям, которые они сами же утверждали. Независимость научного мышления — вот один из главных результатов их реформаторства. Многое в научном наследии Декарта не получило подтверждения и просто оказалось ложным. Его физика оказалась не в состоянии противостоять ньютонианству, хотя в критику картезианства время вносит смягчающие поправки. Но и в своих заблуждениях Декарт, как было [151] сказано, нам понятен, ибо это издержки того образа мышления, того логического стиля, которые свойственны и нам. Мы принадлежим к тому интеллектуальному универсуму, принципы которого сформулировал Декарт (по крайней мере, он был в этой области одним из первых и значительный деятелей) и на котором покоятся современная наука и наша цивилизация. Поэтому с ним, как современником, остро спорят, его опровергают и у него вновь открывают положительные идеи, с ним вступают в диалог, — и при всем том по отношению к Декарту невообразима даже непроизвольная фамильярность, ибо мерка гениальности, которой он был измерен в свое время, и ныне не может быть применена к решительному большинству тех, кого наша снисходительная эпоха почтила своим признанием. Одна из главных проблем декартоведения — тема Декарта как феномена личности. В ней закончена какая-то интригующая загадка. Действительно, какой интерес может представлять человек, стремившийся в жизни следовать максиме скептико-стоического счастья — прожить ее незаметно — а он этот принцип упорно претворяет в реальность. В его жизни царит рассудочная предусмотрительность — и только ради того, чтобы пользоваться досугом, также очень напоминающим античную форму otium как возможностью предаться свободному размышлению и созерцанию. Насколько в такой жизненной позиции выразились буржуазный индивидуализм и новое понимание свободы, прикрытые, как это часто случалось в те времена, античным образом поведения, — судить не нам. Интересно другое. Знакомство с этим замкнутым, чуждающимся славы и известности человеком ищут многие. Еще до публикации своих сочинений он становится признанным научным и философским авторитетом. Его совета в делах познания и жизни добиваются сильные мира сего. Это несомненное свидетельство проявления новой формулы организации культуры, в которой интеллект и порождаемое им общее состояние умов начинают играть ведущую роль. Можно сказать, что это начало того общественного порядка, прежде всего во Франции, при котором приобрело характер безусловной догмы старое и довольно бессодержательное по своей прямой сути суждение «Мнения правят миром». Тот кто их создает, в каком-то смысле становится господином. Время Декарта — время становления и расцвета салонов; начинают цениться меткое слово, острый анекдот, запечатлевающий нравы общества; возникает мемуаристика как субъективный жанр, построенный на самовыражении и свободном суждении об окружающих. Не случайно Людовик XIV будет озабочен тем, чтобы все наиболее известные люди его царствования были связаны с его двором и зависели от него. Существовал анекдот о том, как в присутствии герцога Сен-Симона, о котором было известно, что он ведет дневники и пишет мемуары, все стремились говорить умно и вести себя значительно. Декарт мало ответственен за последующую вульгарную утилитаризацию человеческого рацио, но он, несомненно, ответственен за создание ее предпосылок, [152] поскольку стоял в начале умственной революции, приведшей к возникновению инструментального разума, и, более того, сам был ее движителем. Его авторитет и влияние непосредственно сказывались в довольно узком кругу ученого сообщества. При жизни прямых сторонников его теории и философии было немного. Внешне этому способствовали подозрения в его католической неординарности, равно как и внесение его сочинений в знаменитый Index prohibitorum запрещенных книг. Но слава ученого и учителя жизни за ним уже утвердилась, — на последний момент, кажется, недостаточно обращают внимания. Секуляризация мысли, достигшая решительного успеха именно в условиях умственной революции XVII века, породила любопытное явление. Вековечную христианскую традицию — иметь личного духовника, наставника в делах веры и совести, владетельные и знатные особы начинают дополнять общением со светилами науки, внимая их суждениям о делах естественных и мирских. Появляется как бы двойник стандартной фигуры духовника, — человек вполне светский и общественно признанный. В этом качестве мы знаем Лейбница, Эйлера, большинство энциклопедистов, из англичан — Локка. Не смог уклониться от этой роли и Декарт, несмотря на явную тягость ее для его натуры. Интересно, что большое воздействие на становление типа светского духовника оказали женщины. Они проявляют необыкновенную предприимчивость и настойчивость, стремясь привлечь избранный объект к выполнению этих обязанностей. В мире, потерявшем духовное единство и вынужденном распределять личность между двумя центрами жизни, — новым, светским и традиционным, сакральным, значимые стили поведения и организации новой жизни формируются по образцу и формам старой — более привычной. Каприз шведской королевы Христины оказался роковым в жизни Декарта. Такова жертва, принесенная наукой на ее путях к общественному признанию, первоначально вынужденном пройти этап наставничества. Вернадский, которого мы уже цитировали, видел неудачи естествознания XVII века, в силу которых, главным образом, последующая физика пошла по иному пути, предложенному Ньютоном и наукой XVIII века, — в том, что оно покоилось не столько на действительном опыте, верность которому провозглашалась, а на «построениях пансофического, пангеометрического или иного характера», оказавшихся слишком узкими и односторонними, чтобы вместить в себя все богатство и сложность природного объекта. Итак, фиксируется противоречие между философскими постулатами и тем материалом, который представляет живой научный опыт. Давно отмечено, что рационалистические предубеждения Декарта, связанные с его верой в естественную силу разума, не раз побуждали его к дедуцированию там, где требовалось обращение к опыту, т.е. к наблюдению, эксперименту. Да и сама рационалистически трактуемая интуиция нередко оказывала скверную услугу и плохо оправдывала возлагавшиеся на нее надежды. Перечень наблюдений Декарта [153] относительно фундаментальных физических вопросов, равно как и обсуждение этих заблуждений, приводится довольно часто [4]. Их начали перечислять еще при его жизни; в числе регистраторов Фонтенель и Вольтер, Мопертюи, Лейбниц и сам Ньютон, нередко в неявной форме, и др. Укоры справедливы по большей части: не делал или слишком мало делал опытов, не открыл с помощью своего естественного света разума ни одного важного закона природы, в противоположность Галилею, Гюйгенсу, Ньютону. Но было ли это просто ошибкой? Скорее иное: Декарт сформулировал физическую теорию, развивающую концепцию природы (картину мира), альтернативную ньютоновской натурфилософии. Она оказалась более спекулятивной, более отягощенной метафизическими предпосылками, чем того требовал дух нового естествознания. Ньютон же опирался на более развитую теорию эксперимента; хотя прошло немного времени, но он жил в несколько ином научном климате, успевшем критически осмыслить картезианскую натурфилософию. Правда и то, что, не придав математически четкую формулировку основным физическим принципам, так прославившим Ньютона, Декарт, однако, знал их или подразумевал (принцип инерции, принцип относительных). Это доказывается современными знатоками вопроса. Владея тем, что сделал Декарт, можно было идти вперед смелее, мыслить точнее. Однако один из выводов относительно развития научного знания Нового времени заключается в том, что оно всегда альтернативно. В тени господствующей, победившей и утвердившей себя научной парадигмы прозябает одна или несколько программ, обычно третируемых как ненаучные, но только в силу того, что они строятся на иных принципах, иных интерпретациях и на иной совокупности фактов. Едва ли можно безоговорочно согласиться с В.И. Вернадским в том, что ньютонианство победило картезианизм окончательно. Современные исследования показывают, что концепция Декарта, его космология чреваты идеями, которые отнюдь не беспочвенны с точки зрения современных проблем физики и астрофизики. Фундаментальные теории никогда не опровергаются окончательно и не теряют своего значения в абсолютном смысле. В таком понимании сути дела заключен мотив, побуждающий вновь и вновь обращаться к теоретическому наследию Декарта и как к поучительному опыту истории мысли, и как к источнику научных идей и догадок, а если присовокупить к этому изменения научного и культурного контекста, порождающего все новые аспекты картезианской мысли и интерпретационные подходы, то становится понятным, что устойчивый интерес к Декарту вполне естественен и закономерен. Но вернемся к тому, что мы заметили в начале — к мысли о Декарте как человеке XVII века. Его эпоха — одна из самых примечательных в культурной истории Европы, характерная, прежде всего своей действительностью. Приведем только некоторые факты, свидетельствующие о ее исключительности. В важнейшей для того времени сфере общественной [154] жизни — религиозной — произошел важный сдвиг. После замечательных успехов протестантизма в предыдущее столетие католическая церковь выходит из состояния как бы безвольной завороженности силой духа противника и делает гигантские усилия для восстановления своего могущества. Начинается эпоха контрреформации, идеологически и догматически венчаемая решениями Тридентского собора, а политически, по сути, первой всеобщей войной европейских народов, Тридцатилетней войной, которую можно было бы назвать и первой мировой. Культурные последствия этих процессов надолго определили последующую историю духа Европы. Это время утверждения классицизма в литературе и многих формах искусства, но одновременно и реакции на него — барокко, утвердившегося главным образом там, где победил католицизм (Италия, Германия, Испания). Во Франции положение двусмысленное, менее определенное. Вспышки католического фанатизма (Варфоломеевская ночь) сменяются периодом терпимого отношения к гугенотам, которое, однако, внутренне непрочно. Тип людей, подобных Декарту, с их неустойчивостью, сдержанностью в суждениях, с их нежеланием проявлять себя на общественном поприще, вовсе не был редким, как не было редким ренегатство или тайное отступничество, что побуждало к религиозному и разоблачительному рвению (казус Паскаля). Но одновременно это век редчайшей продуктивности научных и философских талантов, расцвета их деятельности. Однако и в этой области положение во Франции своеобразное. Она едва ли не последняя из европейских стран, научный мир которых признал и освоил коперниканскую картину Вселенной. Научный консерватизм Франции проявлялся и позднее, уже в освоении ньютонианства, которое с трудом преодолевало влияние автохтонного картезианства. XVII век относится именно к тем периодам в европейской истории, которые отмечены исключительной результативностью духовной деятельности, возможно, структурно совпавшей с изменением (или даже породившей его) всего фундамента жизни человека западного мира. Именно в значительной степени благодаря ему создан тот феномен, который стал именоваться Западом, — с его наукой, техникой, в основе которых лежит утилитарно ориентированный разум и холодно-расчетливое отношение к миру, постепенно утратившее жизненную определенность и ставшее абстрактным объектом, с его общественно-политическим и хозяйственным установлением человеческого бытия, утвержденного на самоценности индивидуализма и демократии как форме его гарантированного воплощения, а также на частной собственности — этом основании свободы и конечной цели прагматического поведения человека. Пишущие в наши дни склонны более внимательно отнестись к драматической, по сути, жизни Декарта — к особому драматизму, проистекающему из странной противоречивости его века. Века, оцениваемого как время первых буржуазных революций: Нидерланды, Англия выходят на новую общественно-хозяйственную линию развития, [155] предопределившую последующую историю Европы. Формируется гражданское общество и его политическая философия. Права на жизнь, на личную собственность на свободы не только провозглашаются в этот век, но обосновываются и в конце концов начинают утверждаться. Впрочем, нередко в обстановке диктатуры, в условиях революционного террора, как это было в Англии, при преодолении абсолютистских притязаний последних Стюартов и оранжистов. На континенте же абсолютизм только утверждается. Он еще только будущее Европы — и однако недалекое. Именно во Франции он расцветает почти в классическом совершенстве в эпоху Людовика XIV, хотя и после смерти Декарта, но в тот же век. Два принципа — принцип государственности и принцип частной жизни встали отныне перед европейским человеком как экзистенциальная дилемма, решать которую он обречен вплоть до наших дней. Выбирая первый, человек растворялся в организме государства, олицетворяя собой какую-то его функцию. Так, во Франции того времени человек оказывался значим лишь настолько, насколько он имел вес как придворный. Декарт же выбрал формулу жизни согласно основным принципам гражданского общества. В этом он согласовался с глубинной тенденцией своего времени, не утвердившей себя, однако, в качестве законной и общепризнанной. Он воплотил эти принципы как способ частной жизни, как утверждение ценности бытия частного человека. Ему был чужд политический и публицистский темперамент Дж. Локка. Но и осознание себя как придворного, как члена общества сеньориального типа еще не вполне покинуло Декарта. Он, тяготясь светской жизнью, еще вынужден соотноситься с ее принудительными условностями. Он еще испытывает зависимость от двора и через сильных мира сего пытается решить некоторые житейские проблемы. XVII век, о чем уже говорилось, — время бурного разрешения уже векового религиозного скола. Трудно переоценить, как он значим оказался для Европы! Кровавая Тридцатилетняя война, ставшая средством решения конфликта, закончилась не только опустошением Центральной Европы, не только формированием в ней двух миров: католической и протестантской Европы, — она привела к сдвигу и перестройке психических основ личности, в результате которых сформировался новый психический тип человека. Появление этого типа означало окончательный выход европейца из средневековья. Человеку этого типа свойственно строить свою жизнь, полагаясь на индивидуальную предприимчивость, изворотливость и умение, а не подчиняясь цеховому , корпоративному принципу. Человек воочию увидел, что не государство, не церковь, не община или цеховые гарантии обеспечат его бытие: они оказались в тяжелую годину безразличны к нему, даже враждебны. Одни рухнули, другие, как государство, его ограбили. Хотя вера и двигала людьми, но церковная организация потеряла свой сакральный авторитет. Католическая контрреформация на долгое время сделала из церковной организации механизм подавления, источник страха. [156] В странах католической реакции — Испании, Италии — она постепенно приходит в упадок; центры ее активного развития смещаются на север — в Англию, Швейцарию, Голландию, центральные и северные части Германии. Франция занимает двойственное положение ввиду неопределенности религиозной ситуации. Варфоломеевская ночь имела для гугенотов значение парализующего шока, но сломить их не удалось. Декарт остался внешне правоверным католиком. Он не упускал, где считал нужным, подчеркнуть свой католицизм; возможно, субъективно он был честен. Но человек разума, человек уникальной способности к рациональной (не мистически пылкой) саморефлексии, он не мог удовлетвориться признанными мыслями о церкви, и решал моральные противоречия как человек XVII века, а проблема Бога, как он ее представил в своих трактатах, не удовлетворила никого из его последователей и оппонентов. Она стала одной из причин острейших дискуссий, повлиявших на судьбу картезианства после смерти мэтра; его определенно подозревали в склонности к протестантизму, которую не без оснований видели и в общем духе его философствования, и в жизненной установке буржуазного типа, и в частностях генезиса его идей. Как известно, в протестантизме получил своеобразное преломление августинизм. Сочинения Августина, величайшего автора католицизма, парадоксальным образом стимулировал и дух антикатолического диссиденства, Вопрос этот непростой, и он породил обширную литературу. Заметим только, что большое впечатление на человека Нового времени производила августиновская установка на самоанализ, на требовательность к человеку — самому держать ответ перед своим Богом, который соотносится с ним без посредников. Августин влиял на французских янсенистов и близкого к ним Паскаля. Был близок к нему и Декарт. Известен факт, что сразу по прочтении трактата Декарта с формулировкой cogito было обращено внимание автора на ее совпадение с аналогичной мыслью Августина в его сочинении «О Граде Божием». Что это? Случайность совпадения идей, не столь уж редкая в истории человеческой мысли? Конечно, нет. Заметим хотя бы то, что христианство вообще впервые открывает субъективный мир человека в той его масштабности и антропологическом знании, каких не могла представить античная философия. Таким образом, структурно идея Декарта запрограммирована самим духом христианства, и до него не раз воспроизводилась различным образом в качестве принципа единственного достоверного основания существования человека. Однако, его cogito действительно было новым принципом не только по способу формулировки, но и по смыслу, сообщенному ей, а затем — по той роли, которую оно сыграло в системе рационального самоопределения человека и его деятельности. Поэтому именно картезианский принцип был положен в ХХ веке в основу экзистенциально-феноменологических размышлений о человеке, его сознании и его мире, а не августинианский, хотя в родословной экзистенциализма Августин занимает уже почти обязательное первое место. [157] Декарт — основатель нового рационализма. Это мы подчеркиваем, ибо рационализм был чтим и в средние века. Следовательно, стоит вопрос: в чем отличие Декарта от рационализма прежнего времени? Считается неприличным, учитывая борьбу Декарта со схоластизированным Аристотелем и его сторонниками, сопоставлять Картезиуса со схоластами. Но без этого не обойтись, какой бы острой ни была критика, она не снимает вопроса о сути дела и о том, чем продуктивно новым замещается старая доктрина. Конечно, Декарт в своей критике не имел в виду схоластику вообще, а тем более в ее исторически прогрессивной форме периода Высокого Средневековья. Декарт отрицает или низко ценит научное достоинство логики в ее силлогистическом модусе. В хитросплетениях и казусах фигур силлогизмов исчезает мысль, содержание, нет движения к новому умственному приобретенью. Старый рационализм имел две ипостаси: риторикодиалектическую и логико-силлогическую. Ни одна из них не годилась в качестве органона науки. Новое в понимании Декарта — это методизм, т.е. организованное, регулируемое правилами движение мысли, в процессе которого приобретаются новые истины либо обосновываются и упорядочиваются уже имеющиеся. Декарт стоит несравненно выше своего предшественника в этом деле — Рамэ, и поэтому бесспорно признан основателем рационализма науки и философии Нового времени. Время меняет оценки людей, событий и даже целых эпох. Суда истории нет — это в значительной степени бессмысленная риторическая фигура, и напрасно ей придают какоето священное значение. Но меняются во времени не столько оценки — меняются, что гораздо важнее, сами их объекты. Бывает так, что размываются их очертания, и они исчезают, как бы растворяясь в окружающем их фоне. Но бывает и так, что они подвергаются некоей констеляции, как бы коснеют, упрощаются, резко и однозначно очерчиваются, лишаясь качества и глубинного изменения. Люди вдруг начинают послушно соответствовать своим терминам-определителям: рационалист, мистик, вульгарный материалист, агностик… Образы и схемы, выкованные в классических монографиях, академических исследованиях, престижных энциклопедиях, скрывают живые личности, которые выросли на почве раздираемых несогласиями эпох, отзывающихся в их душах сумятицей чувств и неустойчивостью влечений. В каком-то смысле это относится и к Декарту, кристальная ясность суждений которого, ставшая эталоном рационалистического пуризма, провоцирует нас на то, чтобы видеть его личность в одномерной рационалистической плоскости. Возвращая ее к создавшему Декарта времени, мы обретаем единственную возможность в физиономии века различить черты облика одного из его творцов. Философия в движении от классического к современному образу С.И. Дудник Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.158-177 [158] §2.1. К проблеме кризиса современной философии Весьма распространенная характеристика современной духовной ситуации как кризисной побуждает обратиться к положению дел в философии, которая наряду с искусством является наиболее чутким фиксатором тенденций в культуре. И здесь подобная характеристика кажется наиболее распространенным пониманием состояния философии. Не трудно набрать достаточно представительный набор суждений самых сведущих знатоков этого вопроса, чтобы доказать устойчивость подобного заключения. Но будет ошибкой полагать, что к нему привело обобщение анализов философских тенденций последнего периода. Вот уже не менее столетия в подобном выводе не заключено ничего нового: о кризисе в философии говорят ровно столько, сколько времени господствует убеждение о кризисе всей западной культуры, то есть по меньшей мере, с конца прошлого века. Мы оставим в стороне как хорошо известные и ставшие весьма обычными завораживающие своей суггестивностью культур-философские сентенции на сей счет, впервые сформулированные О. Шпенглером. О том, что его констатации были уникальными и даже самыми первыми, свидетельствуют как библиографические факты, так и наличие целого философского жанра «критика культуры», породившего огромную литературу. Он процветал первые три десятилетия этого века и возродился, начиная с его 60-х годов. Проблема «кризиса» как особая тема философии была специально рассмотрена Э. Гуссерлем. Его позиция по этому вопросу хорошо известна. Здесь важно подчеркнуть, что проблему «кризиса европейских наук», выразившую радикальный кризис европейского человечества, он связал с судьбами картезианского рационализма. Была разрушена идея универсальности и строгости знания, обеспеченная философией, понимаемой как всеобщий метод. Гуссерль, выделяя основные тенденции в этом кризисе, пишет об их первоисточнике. Философия искони покоилась на идее всеохватывающей науки, закрепленной мыслью: она есть наука о разуме. Возможности философии как универсальной науки покоились на предпосылке универсальности самого разума, поэтому философ, строя философию как воплощение своей профессиональности тем самым реализовывал фактически принцип универсализма, тотального познания. Декарт конкретно связывал эту идею универсальности с конкретным принципом «всеобщей математики» как философского метода. Последующие корректировки этого принципа (или его замены) были лишь формами или этапами размывания самого принципа универсализма, представителем которого выступала традиционная философия. Современная философия отказалась от этой миссии. [159] Утрата идеала универсальной философии шла рука об руку с критикой познавательных возможностей разума. Ее прямым следствием оказалась потеря человеком веры в разум, в самого себя и свое истинное бытие. Особой тенденцией в этом процессе деструкции, не отмечаемой специально Гуссерлем, была история системного подхода. Система представала не только в качестве технического оформления знания, но и в смысле принципа, делавшего возможность осуществления этого системного выражения знания, наглядно подтверждавшего реальную возможность идеи универсализма. Поэтому имплицитно философия была как бы наукой о возможности системного построения научного знания. Последующие — после Декарта — поиски вели к изменению представлений о системосозидающих принципах. А в той тенденции, которая была связана с критикой разума, — к размыванию объективных оснований системного воззрения. Если классическая точка зрения видела место реальности, то последующие подходы склонны были на разный манер отождествлять его с конструктивными способностями разума. Наряду с потерей идеи объективной преданности источника познания и потерей ощущения укорененности бытия, распространялось представление о конструктивной произвольности самого содержания знания или его нерациональном источнике. Тем не менее, на фоне этой нисходящей тенденции, продолжали возобновляться все новые попытки восстановления идеи универсальности знания как путем развития учения о системе или нахождении новых принципов системного конструирования знания, так и выдвижением альтернативного ему целостного подхода. Равным образом не угасли усилия построения философии как строгой науки либо в виде интерпретации ее в метафизическом истолковании, либо в ее понимании как всеобщего учения о методе. Наконец, идеал рационализма никогда не считался окончательно разрушенным и заявлял о себе в бесчисленных попытках утвердиться на новых принципах и в новой модификации, что прослеживается в концепциях научной философии прошлого и нынешнего века. Рассмотрим более внимательно эти обстоятельства. §2.2. Позитивизм Позитивизм в специальном смысле слова есть обозначение философского движения в европейской культуре, окончательно оформившееся к середине XIX столетия. Оно выразило тип рационализма, соответствующий духу этого «века естествознания» и утвердившемуся прагматизму. История движения отмечена чертами исключительного динамизма и энергией освоения всех основных форм интеллектуальной и творческой жизни Европы. Ни один вид светской идеологии до позитивизма не породил столь внушительный социальный эффект, даже принимая во внимание философию французского Просвещения. Долгое время казалось неоспоримым притязание позитивизма стать единственно [160] возможной формой научной философии, и он действительно был близок к тому, чтобы превратиться в единое мировоззрение науки, технологического общества, интеллектуалов и политиков. В самоуверенном лозунге научного сообщества «Наука сама себе философия» мы явственно улавливаем отзвук философского сциентизма, укоренившегося в сознании людей науки как их корпоративная идеология. Гегемонистская ориентированность позитивизма, явственно выразившаяся уже во взглядах его родоначальников, не могла не породить противостояния, соразмерного по интенсивности с силой позитивистского воздействия. Сам анализ антипозитивистской критики был бы делом чрезвычайно продуктивным. Он бы объяснил, например, способ возникновения многих философских программ как в конце ХIХ, так и на всем протяжении XX века, выросших как преодоление позитивизма. И если они существуют ныне как самостоятельное философское явление, то во внутренней структуре их техники философствования мы обнаруживаем эту стимулирующую их антипозитивистскую установку. Во многих случаях антипозитивитская реакция по сути дела оказывалась лишь первым шагом или подходом к преодолению рационализма как такового. Опыт конца XX века свидетельствует, что борьба со сциентизмом слишком часто оказывалась формой утверждения антиинтеллектуализма, иррационализма и движением против Разума. Относительная справедливость критических аргументов вела к абсолютной неприемлемости окончательных выводов. Интересна в перспективе становления систем русской религиозной и мистической философии критика позитивизма в отечественной мысли второй половины XIX века. Можно выделить две ее формы: литературно-публицистическую (например, у В.Ф. Одоевского) и строго философскую (начиная с В. Соловьева). Особое значение имеет критика позитивизма в марксистской интеллектуальной традиции. По сути дела это было столкновением двух типов европейского рационализма с одинаковыми мировоззренческими претензиями и на одном и том же проблемнопредметном пространстве. Ощущение структурного родства обоих течений придавало их борьбе специфический смысл и оттенок. Позитивистские школы оказывались наиболее естественным прибежищем, в котором часто оказывались неортодоксальные философствующие марксисты, что порождало особую антипозитивистскую раздражительность, например, у Ленина. Проблемная близость к позитивистской программе философии науки ощутима у Энгельса периода «Диалектики природы». Поразительно близка, а местами и вторична по содержанию, в сравнении с марксистской, критика в адрес позитивизма со стороны так называемого постпозитивизма или новой философии науки 60-70-х годов нашего века. Философские стилистики дискурсов обоих течений также чрезвычайно родственны. По существу никогда не было найдено вполне убедительного контраргумента против тезиса, что марксизм оказался ничем иным как [161] синтезом гегелевской диалектики и позитивизма. Мы бы его уточнили только в такой форме: синтез диалектики и научного рационализма, ибо Гегель и позитивизм есть обозначение конкретных редакций того и другого. Близость марксизма и позитивизма усматривается и в той регулярности, с какой теоретические проблемы позитивизма осваивались и разрабатывались в марксистской философии, особенно теории и методологии познания. Но и со стороны теоретиков позитивизма мы встречаем понимающее и сочувственное отношение к философской программе марксизма, особенно в ее социальной и недиалектической части. Таким образом, одна из центральных тем философии XX века, так называемый Рositivismusstreit — «спор о позитивизме» означает в сущности решение вопроса либо о судьбе рационализма и отношения к нему, либо о типе рационализма и предпочтительных его формах, адекватных характеру культуры. Наряду с указанным строгим смыслом термина «позитивизм» есть, по крайней мере, два его расширения, заставляющих видеть в позитивизме нечто более значительное, чем одну из многих школ западного философствования. К первому мы приходим, когда просвечиваем всю толщу духовной жизни Европы. Мы обнаруживаем в ней явления и следствия каких-то особенных изменений, которым подверглась западная культура, изменений, создавших в своей совокупности особенное качество, составившее основание смысловой интуиции, легшей в центр понятия «Запад», в противопоставление «Востоку» как именованиям альтернативных культур. Раскрытие этой интуиции порождает цепь согласующихся характеристик жизни, способности мыслить и действовать, которые принято называть европейскими. В их число включают этический утилитаризм и прагматизм действия, состоящего в поведенческой расчетливости, сочетающейся с предусмотрительностью, послуживших, в свою очередь, основанием, на котором развилась конкретная перспективность мышления в качестве основной временной ориентации жизни. Конструктивность суждений, обладающих конечным и определенным смыслом, побуждает воспроизводить идеи как регулярный монотонный процесс, как продукт деятельности некоторого конкретного механизма, подобного другим, производящим вещи различного назначения. Осязательная продуктивность выступает решающим определителем деятельности, выделяющим ее из всех иных форм жизненности и ее фиктивных имитаций. Позитивизм как философия, позитивизм как социальная программа, позитивизм как этический принцип, или основа нравственных суждений, по существу в концентрированной форме и, возможно, наиболее адекватным способом выразил эти сущностные признаки цивилизации западного типа, и есть не что иное как ее идеальное воспроизведение. Второе расширение смысла — историческое. Предшествующую позитивизму эпоху обычно видят в духовной ситуации XVIII века. Это справедливо, но лишь в том смысле, что само это [162] столетие было частью более значительной эпохи и сумело развить одну из существеннейших сторон ее философского духа. Ее мы называем Новым Временем, к ней мы принадлежим и поныне всеми навыками своего умствования и инстинктами рациональной реакции. Суть указанной стороны заключается в признании безусловного приоритета строгого, ясного, конкретного, практически удостоверяемого знания, получившего именование научного, и неприятие мистического спекулятивизма и беспочвенного фантазирования. Культ Разума и Природы как реальных данностей, между которыми нет непреодолимой границы, стал еще одним выражением этого духа. В его атмосфере выкристаллизовалась простая и отчетливая метафора «положительное знание», как естественная характеристика всего того интеллектуального благоприобретения Разума, которое приобретается, когда он ведет себя согласно со своей сущностью, не испытывая принудительных противоестественных ограничений и подчинения несообразных с человеческим достоинством целям. Эта метафора начинает характеризовать и самую философию. §2.3. Кризис европейской духовности в представлении русского мыслителя (А. Гиляров) Констатация факта, что эра философского оптимизма осталась позади и необходимо найти новые, более сложные способы теоретического осознания происходящих сдвигов, найти в нем место новым представлениям, была свойственна уже непосредственным их свидетелям. Обратимся к суждениям одного из известнейших философствующих публицистов того времени А.Н. Гилярова (1855-1937), содержащиеся в его пространном очерке духовной ситуации во Франции конца XIX века, озаглавленном вполне в стиле времени «Предсмертные мысли XIX века во Франции». Опубликованный вначале в «Вопросах философии и психологии (1897, кн.11, III, IV), он затем вышел в виде отдельной книги (1901). Автор не случайно размышляет о духовной ситуации во Франции: ее культура в наиболее рельефном виде, с известной классичностью, представила все основные тенденции модернистского декаданса, охватившего «высокую культуру» европейского общества. «Современная духовная культура в ее наиболее ценных элементах есть по преимуществу создание великих движений во Франции» — утверждает А.Н. Гиляров. Но то, что раньше составило душу европеизма, его мощь и красоту, ныне пребывает в дряхлости, беспокойстве, неуверенности в своих основаниях. Там, где раньше господствовали уверенность в естественной силе разума человека, способного жить здоровой, согласной с природой жизнью, спокойное доверие к будущему, воцарились «усталость и слабость чувств», скука жизни, томление смерти, ощущение неутоленности. Гиляровым называются конкретные имена — носители этого нового душевного мира: Г. Мопассан, Ш. Бодлер, Э. По и т.д. Даже Э. Золя передает [163] свое тревожное предчувствие социальной революции и ее ужасных последствий. В чем же видятся Гилярову причины подобного деструктивно-нигилистического процесса? Надо сказать, что его констатации мало в чем расходятся с тем, что было сказано на эту тему другими и даже в более поздние времена, когда дистанция культурного времени позволяла внести в оценки определенную меру объективной беспристрастности. Дело, видимо, не столько в проницательности философа, сколько в раскрытости оппозиции двух фаз развития культуры, доведенной до противоположения двух систем культуротворческих ценностей. Среди первых причин он называет крушение картезианского рационализма, «обеспечившего основные достижения прежней французской культуры» [5]. Конечно, эта констатация достаточно проста и прямолинейна. Она отступает перед глубиной анализа кризиса европейской мысли в лице ее науки, данной Э. Гуссерлем, и Л. Шестовым [6], но суть остается все той же: принцип картезианского рационализма, всегда противостоявший «смутным внушениям чувств» «должен был, по своей односторонности неминуемо повести к скептицизму и утрате идеала», ибо в наличной действительности для нашего разума слишком немногое ясно и раздельно, а самоочевидные идеалы, созданные самим разумом, не соответствуют наличной действительности. Предоставленный своему мнимому могуществу разум неизбежно вел к сенсуализму, а этот последний — к материализму. Гиляров здесь еще очень традиционен, он весь во власти русских официально-церковных и официально-философских страхов и предостережений, рассыпанных по всему пространству циркулярной периодики прошлого века. По этим представлениям самая большая опасность для умов и несчастье для духа — утверждение материалистических и церковно-несанкционированных философских устремлений. Достаточно полистать неофициальный раздел «Церковных ведомостей» за 70-90-е годы, чтобы получить полное представление о содержании и корнях этого традиционализма. Появление уже упоминавшегося труда Э.Ф. Гартмана «Философия бессознательного» вызвало в них высокую апологетическую волну в защиту здравой, житейски упроченной евангельской этики. Впрочем, таким публикациям в некоторых случаях невозможно отказать в специфическом чутье, в проявлении тревожного ощущения слома утвердившегося принципа течения философской жизни по схеме «корифей и его школа». Академизм уступал новым формулам философской жизни, которую определяли уже не представители университетской корпоративной философии, а ферменты, возникшие за ее пределами, и ей противоположные. В этих же «Церковных Ведомостях» сделано наблюдение над странностями, сопровождавшими празднование столетнего юбилея Шеллинга. Он проходил почти незамеченным широкой публикой и философским сообществом Германии. Препятствием стало безразличие интеллектуальных сфер, почти полностью поглощенных увлечением Шопенгауэром и [164] «философией бессознательного» Гартмана. Любопытно, что учение последних и немецкая философская публицистика, подобно русской, восприняла как еще одну форму проявления материализма: «Склонность к материализму парализовала в нас (т.е. в немцах — авт.) всякое сочувствие к возвышенной системе идеализма… Наше время больше преклоняется перед революционерами в науке, которые поставляют своей задачей разрушать, а не создавать и строить» [7]. Таким научным революционером, своими идеями разрушающим философско-нравственные устои культуры, представлялся для людей той эпохи прежде всего Ч. Дарвин. Сейчас почти не учитывается тот аспект восприятия и отношения к его учению, в котором его эволюционная теория о генезисе человека выступала для философско-эстетизированного сознания нарождавшейся модернистской эпохи в ряду с ницшеанством одним из аргументов в пользу чувственнооргиастического начала жизни и ценностного релятивизма. Борьба с Дарвиным была нередко не только борьбой за абсолютность человека как творения и подобия Божия, но и подрубкой корней «чувственно-материалистической» культуры наступающей новой эпохи. «Но кто такой Дарвин? — восклицал один из его русских оппонентов. — Что он, разве какой посланник с неба, и кто это сообщил его теории такой авторитет, что ею должны поверяться все другие учения? Учение Дарвина о происхождении человека от животных не есть новое учение… у первобытных диких народов, исповедующих религию фетишизма и зоолатрии, очень сильно распространено было мнение о своем происхождении от разных видов животных. Значит, теория Дарвина — отжившая теория; человечество о ней уже забыло как о несостоятельной и оскорбительной для человеческого достоинства. Считать своим предком какую-нибудь обезьяну, право, не блистательная генеалогия» [8]. Оставив в стороне проблему значения сенсуалистического материализма в процессе формирования новой культуры и ее идеологии, еще раз подчеркнем, что сам выход на него Гиляров и другие аналитики усматривали как закономерно-неизбежное следствие односторонней ограниченности картезианского рационализма, а нередко как рационалистической односторонности всей предыдущей культуры [9]. По Гилярову этот путь разрушителен, ибо последовательно, через «культ Великого Может Быть» (Ренан), скептицизм и позитивизм, он подводит к нигилизму. Симптомами культурного разложения он считает оккультизм, мистицизм, символизм — все вместе разрушающие полноту жизни. Вторая причина усматривается в «чрезмерном гнете», налагаемом европейской культурой на современного человека. Видя в человеке существо по преимуществу разумное, эта культура ставит идеалом возможное освобождение человека для чистой духовной деятельности и, поскольку субъект противоположен объекту, дух — природе, обособление человека от природы, подчинение всей жизни созданным нашим разумом формам, рассматривалось высшим требованием прогресса. Иначе говоря, вся традиционная культура строилась на принципах, [165] сообщенных жизни разумом, на подчинении ее теоретическим требованиям. Тем самым в ней терялось ее естественное непроизвольное начало, она становилась «замысловатее, условнее, формальнее». В ней наметились раздвоение и отход от простых природных оснований человеческого бытия, предана забвению максима, что жизнь тем лучше, чем она ближе к природе и проще. «Три четверти наших бед происходят от разума» — провозгласил в свое время Анатоль Франс. И если выбрать правильный путь одоления его ошибок, то «в неопределенном тумане далекого будущего, как идеал жизни, рисуются не те образы, которые намечаются современной культурой…, не рыцари чистого разума и чистой мысли, живущие теорией и для теории, не философы, строящие сложные системы…, не согбенные над книгами ученые…, не блестящие ораторы, но подобно тому как в золотой век Рима — образ скромного пахаря, незаметно живущего в кругу своих близких и среди своих стад» [10]. Идеал «естественности», как стало неоспоримо, вошел в модернистическую мысль, но, претерпев метаморфозу, превратился в культ «чувственности». Наконец, третья причина, которая также коренится в рационалистической предубежденности человека, выражается в различных формах проявления его самонадеянности и самомнения. Человек утвердил свое господство, подчиняя своим вожделениям все окружающее, не имея на это ровно никаких прав, более того, не основываясь на надежном фундаменте своих притязаний. Но, замечает пессимистически Гиляров, «ни основы нашей нравственности, ни основы теоретической жизни для нас неизвестны», круг наших знаний ничтожен, а их основания неизвестны и непостижимы. И в итоге, ничтожный человек утверждая себя, разрушает все вокруг, оскорбляет самое человеческое достоинство. Мы привели суждения А.Н. Гилярова как пример того осмысления ситуации в культуре, которое неизбежно вело, с одной стороны, к постепенному осознанию приближения ее рубежа и кризиса; с другой стороны, к попыткам дать философское и теоретикокультурное объяснение механизмов и причин, движущих культурными процессами и, наконец, в-третьих, очерчивало ту культурную перспективу, модель, которая, отображая главные приметы новой культурной будущности, представляет, как и у Гилярова, свои соображения в стиле традиционного русского культурничества с его проповедью полезного труда, правды-справедливости, скромного служения общему благу. Отмечая эту мысль, Гиляров пишет: «Не кичиться нашим мнимым царственным положением во вселенной, не обольщать себя призраком беспредельности наших способностей, не обособлять себя от природы, но понять наше скромное место в общем строе мироздания, признать удостоверенный опытом узкий предел наших познавательных сил, сообразовать жизнь с природой — таков завет всей нашей истекшей истории… Жить согласно с природой, значит искать руководства не в отвлеченных построениях мысли, и не в предрассудках, порождаемых невежеством, но в тех [166] взглядах, которые вырабатываются тесным любвеобильным и любознательным общением с природой; развертывать насколько возможно, всю полноту своего существа, давая волю всем своим способностям и склонностям, не служащим в ущерб ни себе, ни другим; стремиться к возможной простоте, отвергая все несовместные с ней и не лежащие в основе общежития условности и формальности; идти к достижению намеченных целей твердо, правдиво и искренно; быть постоянно деятельным, избегая всякой праздности; находить оценку для своих поступков в своем личном сознании, заботясь о мнении другого лишь для того, чтобы не оскорблять его своей резкостью» [11]. (Гиляров А.Н. Предсмертные мысли… С. 45.) §2.4. Проблема единства научного знания Проблема единства научного знания в XX веке превратилась в фундаментальную теоретическую проблему, в ряде случаев, как в неопозитивизме, принимавшуюся в качестве основы философской программы. Неоспоримо, что истоки ее нужно искать значительно ранее, а также признать, что она закономерно порождена всем характером научного мышления Нового времени и особенностями тех философских принципов, на которых оно покоилось. При анализе проблемы единства можно отвлечься от существенного в других отношениях вопроса, имеем ли мы дело с проблемой поиска единства расчлененных наук или унификации предметно-проблемно дискретного знания. Философская традиция, особенно зависящая от Канта, рассматривала проблему имея в виду науки (Wissenschaften, Science), а не знание (Kenntnis). Если употребляется преимущественно последний термин, то этим выражается верность сложившейся у нас практике, в которой утвердилось различие: говорят, с одной стороны, о классификации наук и, с другой, о единстве знания. Все попытки XX века решить проблему единства знания, породив побочно множество интересных философских решений, оказались неудачными. Ни одна из них не имела шансов продемонстрировать свою убедительность и выдержать напор методологического скептицизма. Не случайно поэтому, что возникшие в атмосфере критики сциентистского догматизма современные рационалистические течения философии науки, связанные с попперовской методологической программой, по сути, обошли эту проблему. Обошли в явной форме, хотя ее имплицитные следы и полемику с нею можно без труда обнаружить внутри этих течений. Из полемики можно реконструировать один из важнейших доводов неразрешимости ее с позиций постулатов логицистского рационализма. В частности, указывается, что в противовес реальному динамизму научных изменений, делающих науку всегда открытой системой, логицизм (неопозитивистского толка) всегда стремится иметь дело с его готовыми результатами в виде идеальных логических форм, — т.е. [167] теориями как замкнутыми системами. Тогда проблема единства приобретает конкретизацию логико-методологической задачи их кодификации, упорядочения и субординации на основе единых универсальных процедур и техник исключительно формального, преимущественно логико-лингвистического характера. Единство знания эксплицируется как проблема единства его формальной и логической систем, безразлично какая логика будет принята в качестве технического средства. При реализации программы единства, трактуемой в смысле соотношения и согласования теорий, выраженных средствами различных логических языков, решающее значение приобретал вопрос о совместимости (соизмеримости) последних, т.е. о возможности с помощью логиколингвистических операций перевести выражения одного языка теории на язык другой теории и vice versa. Устранения возникавшей ситуации непереводимости путем построения модели более универсального логического языка так же рассматривалось как позитивное решение проблемы единства. Несомненно, в проблеме единства знания присутствует логический и лингвистический аспекты, но в данной постановке они подменили собой ее целиком, предположив целый ряд допущений и абстракций, практически уводящих от реальной предметной ситуации в сфере научного познания и развития знания. Но этот критический аргумент не исчерпывает причин неудач и, возможно, даже не является основным. Его ценность в том, что он наводит на важное заключение, сводящееся к признанию, что проблема не может быть в принципе решена на гносеологическом и менее всего — на логико-методологическом уровне. Но как раз по этому пути шло большинство поисков в философии и методологии науки XIX и XX вв. Они были естественным проявлением преобладающей гносеологической ориентации философии, при которой вопросы как и какими средствами осуществляется познание подменили комплекс проблем о сущности и объективном статусе того, что лежит в основе и собственно подлежит познанию. Последние проблемы не были просто упразднены, а трансформировались в специфический вид гносеологической темы. Произошла рационально незафиксированная деонтологизация познавательного процесса. Познание некоторого объекта стало пониматься и как возможность его построения или конструирования. Предмет существует, если он конструируем как гносеологический объект. Конструктивность предполагает наличие двух важнейших составляющих, а именно исходных элементов или компонентов и принципа или закона конструирования. Знакомые с историей вопроса знают, что именно от Беркли и от Канта берет свое начало этот подход, и к началу XX века он предстает в двух версиях: психологической и формально-логической. Классическим выражением первой явилась эмпириокритическая теория Маха, но ее мы встречаем в прагматистской, операционалистской фикционалистской редакциях. Психическая конструктивность — выразимся так — сводится, в сущности, к тому, [168] что предмет трактуется как производный от психических компонентов объединенных каким-либо законом мышления, которое само истолковывается как психический процесс, — таковым может быть закон ассоциативности, или знаменитый закон экономии мышления. Упомянутый нами фикционализм, создателем которого явился Х. Файхингер [12], вообще переводит предметность познавательной деятельности в план условности: понятия о вещах созидаются в мышлении (теории) в предположении «как если бы» они существовали. И этот условный экзистенциальный статус предмета познания меняется, и, следовательно, меняется предметная структура мира, при изменении целей и задач познания. Программное изложение второй версии, т.е. логического конструктивизма, находится в трудах лидеров неокантианства марбургского толка Г. Когена и П. Наторпа. Последний, например, всю программу математического естествознания, в лице теоретической физики, представил как идею конструктивного порождения ее понятий и соответствующих им объектов по законам некоторого логистического схематизма [13]. В известном смысле этот подход сохранился в феноменологии и Гуссерля неожиданным образом, в идеях построения физики из логического материала, развитых в работах отечественного логика А.А. Зиновьева. Каковы бы ни были подходы, психологический или логический, их объединяет главный момент — в истолковании онтологического статуса предмета познания (понятия) они исходят из его конструируемости. А это то же самое, что признавать его как объект. Поэтому объективная философия может и должна быть научной. Если философия возможна, то только как наука, хотя бы даже и высшая. Иных оснований для ее существования не имеется. Поиски какой-то ее особенной сущности, по сути, вредная и вздорная претензия, попытка воплотить которую погубила немало высоких умов, а человечество заводило в культурные тупики. Очевидная для каждого однородность Разума потому и представляется как естественная, что она своеобразно воспроизводит в себе способ организации Природы и согласуется с ним. Эта простая и великая мысль не только положила начало особой философии «здравого смысла», но растворилась в новой культуре как предпосылка, сделавшая возможной современное «научное мышление» вообще. Научное мышление — прежде всего «естественное» мышление, которому мир дан как его первичное и основное значение (смысл), в котором сохраняется живая интуиция связи между мыслью и мыслимым (предметность мышления). Философия не может выйти за пределы научного мышления, не рискуя растворится в мире темных фикций и фантастических гипостаз, столь плотно окутывающих светлую сферу рационального знания. И позитивизм, как методологический страж, приноравливаясь к изменениям, неутомимо выстраивал демаркационные стены между наукой и философией, если последняя впадала в метафизические фантазии, и между научной философией и философией вообще. Если истинное знание — естествознание, то, утверждал он, у «философии не может быть [169] иного метода, кроме метода естественных наук» (Ф. Брентано); если знание есть особая логическая конструкция, воспроизводящая таковую же конструкцию мира, то философия суть ее выявление и анализ (неопозитивизм); если знание есть текст, лингвистический факт, то философия есть исследование его языка (аналитическая философия), и т.д. Но все это — вариации позитивизма, точнее — его конкретные бесконечно меняющиеся лики, существующие в модусе условности, фикции, допустимости при определенных условиях познания, постоянно рассыпающиеся при изменении последних, и уже одно это не может способствовать построению полного всеохватывающего и единого знания. При преобладающей гносеологической установке на сущность предмета знания оперируют понятиями уровней обобщения, существенности знания, полноты отражения сторон объекта, функциональными и объяснительными взаимозависимостями, логическими связями и переходами, широтой и универсальностью научных языков элементарной составляющей знания и т.п. представлениями. То, что подобный аппарат теоретических средств важен и необходим, не вызывает сомнения, что он вторичен, служебен, когда ставится вопрос о фундаменте единства знания, должно быть ясно осознанно. В идеале можно представить мощный язык описания, одинаково интерпретирующийся на массиве как физических, так и нефизических объектов наблюдения. Но является ли нахождение его решением проблемы? Опыт философии XX века показал, что нет. Единство знания не есть сцепка его формальных элементов и блоков посредством изощренных логических приемов, или их удачная компоновка по надлежащему методологическому предписанию, либо же универсальная понятийная решетка, на которой укладывается все содержание наук, а нечто значительно большее и по сути нечто иное. Смысл этого большего утрачен в безудержном потоке гносеологизма, все более уводящего от объектно-предметных проблем возможности самого познания. Существует еще одна тема, о которой следует напомнить. В русле гносеологического направления вызрела одна из популярнейших версий решения проблемы единства знания, исходящая из тезиса о решающей роли философии в интеграции знания. Ее начало мы встречаем уже с конца XVIII века. Ориентация на философию представлялась и представляется многим доныне вполне естественной, согласующейся с ее сущностью и тем исключительным местом, которое она занимает в культурно-познавательной деятельности. Сути дела не меняло то обстоятельство, что не существует единой трактовки понятия и предмета философии, что на первый план выдвигались различные представления о ее функции и месте в системе наук. Даже тогда, когда философии отказывали в статусе науки, сближая ее, например, с искусством — точка зрения распространенная в начале XIX века, например, в Германии, — то и тогда за ней оставляли некую функцию согласования всего умственного кругозора. Традиционное представление о философии как [170] «науке наук», в недрах которой покоятся фундаментальные принципы и истины, касающиеся всех наук и всего знания вообще, постепенно по мере ее распада, выделения из нее и конституирования как самостоятельных дисциплин того, что прежде было ее частью (социальная философия, философия права, моральная философия, философия искусств), уступало поискам ее специфики как науки. Можно указать на тенденцию утвердить статус философии как обосновывающей науки. Изначально понимавшаяся как учение о «наиболее первом» в познании, без чего «все иные науки не имеют своей основы и никакой правильности, а следовательно, и никакого действительно научного вида и ценности» (суждение Л. Круга в его «Философско-энциклопедическом лексиконе»), обосновывающая функция философии трансформировалась в учение о сущности обоснования природы научного знания. Иную модель философии как обосновывающей науки мы видим в истолковании ее как наукоучения (Wissenschaftslehre) у Фихте, Я. Шада, Б. Больцано, Р. Гроссманна и многих других. Впрочем, за общим понятием скрывались различные подходы. В отличие от Фихте, Б. Больцано, например, истолковывал «наукоучение» в принципиально логическом смысле. Изменения смысла «наукоучения» выражались в трактовке его — то как философия «науки о науке», то как «науки о знании», наконец, современной «философии науки». Еще более известна линия истолкования философии как «строгой науки». В русле данной традиции имелось в виду не стремление возвысить философию до уровня «точных» наук, каковы физика или математика, а утвердить ее как систему знаний, покоящихся на достоверных конечных принципах, по отношению к которым принципы остальных наук суть частные и субординированные им. Построение такой философии, если бы подобная программа удалась, в теоретическом отношении значило бы по сути решение проблемы единства знания, поскольку их принципы оказываются дериватами принципов и положений философии. Эта линия ясно очерчивается с XVIII в. (К. Рейнгольд), ее продлевает вплоть до начала XX в. школа Я. Фриза (1773-1843), оказавшая влияние на математику XX века (Гильберт, Бернайс). В теоретическую практику был введен критерий «научности», как организации знания на достоверных принципах и способах сведения к ним конкретного знания, оказавшийся небезразличным для концепции «научной» философии Венского кружка и его программы «единства науки». Особняком от этой тенденции, гносеологической по сути, стоит гуссерлианская концепция «философии как строгой науки» с выраженным онтологическим аспектом. А. Димер, изучавший эту проблему, отмечал, что при всех видах конституирования философии как базисной, обосновывающей науки ясно усматривается ее стремление интегрировать и преодолевать взаимоотталкивание частных наук [14]. «Эта интеграция в смысле регионализации предметной области, прояснения употребляемых методов, целеполагания и согласования отдельных наук, прояснение и, по возможности, [171] приведение терминологии к единообразию и, не в последнюю очередь, требуемое историей, сокращение увеличивающейся проблемности и ее разветвленности … является крайне важной задачей философии» [15]. Примерно так же мыслится интегративная роль философии и теоретиками, стоящими на позиции диалектического материализма: его категориальная структура и принципы трактуются как некие пронизывающие все знание структуры. Возможно, что философское сопротивление дезинтегрирующим тенденциям в развитии наук и сыграло роль тормозящего фактора, но остановить их она не смогла. Да и как могла делать это та область духовного опыта, которая сама претерпевает воздействие того же процесса, — которая, кроме того, по своей сути не имеет однозначной определенности своих целей? Ведь только отдельные типы философствования ориентированы на проблемы науки, к тому же истолковывая их различно. По нашему убеждению, проблема единства знания, поскольку она имеет сущностный смысл, является в то же время не только проблемой гносеологической, но также проблемой социокультурной и онтологической. Социум, культивирующий плюралистический принцип как нормативный регулятор своей организации, утверждающий приоритет индивида с его интересами и потребностями над групповыми и общесоциальными, не может не создавать и тиражировать тип мышления, признающий онтологическое и субстанциональное первенство единичного, частного и вторичность, производность, лишь функционально-прагматический статус общего, как «естественный» порядок вещей. Для такого мышления единство, целостность всегда относительны, всегда результат определенной техники видения предмета. Представление, в котором реальность трактуется как механизм, как агрегат отдельных частей, соединенных функционально, но обладающих определенной самодостаточностью, и каждая из которых свободно заменяема и может быть представлена и изучена вне общей связи, неизбежно рождает и утверждает примат частного как самоценность. Расколотому, разъединенному жизненному миру соответствует такое же представление о нем, концептуализирующееся своеобразным способом в представления о сущности научного знания и практике научного поведения. Мир, утверждающийся как совокупность частностей и противостоящих структур, порождает и частного человека с частным мышлением, способного только на формирование частной стратегии для отдельных фрагментов жизнедеятельности. Атомизированному порядку жизни соответствует атомизированный духовный мир и покоящееся на нем частное знание. Единым оно может только казаться в виде искусно построенной хитроумными приемами системы. Единство, таким образом, как бы искусственно навязывается, привносится в предмет. Устанавливается связь между изначально автономными единицами, для которых пребывать в этой цепи онтологически безразлично. Именно это и предполагает система. [172] Именно система как способ упорядочения онтологически независимых элементов, соединяемых по функциональному принципу, становится центральным понятием и целью всех интегративных усилий. Система как эксиликат идеи единого и единства лежит в самом основании мышления Нового времени. Однако социо-культурные предпосылки дезинтеграции знания, конечно, не могут непосредственным способом объяснить конкретные явления и механизмы, вызывающие распад научного знания. Остается необходимость обратиться к характеристике самого исследовательского процесса и присущих ему форм, а также внутринаучных взаимодействий. Основой современного понимания науки, закрепленное надлежащими философскими аргументами, является учение об опыте или эксперименте. Оно составляет суть эмпирической философии. Опыт понимается как основной источник положительного знания, добываемого в эксперименте. На протяжении всей истории экспериментирующего естествознания Нового времени философская критика утвердившейся стандартной модели эксперимента, сформировавшейся в лоне физико-химических наук, подавлялась свидетельствами их чрезвычайных успехов. Попытка Канта указать границы опытного знания не была воспринята позитивистской традицией XIX века, и отчасти марксистской. Замечание Шеллинга, что непосредственный опыт не ведет к обретению категориального значения, аккумулирующегося в абстрактных понятиях, также не было услышано. Между тем он предупреждал, что эмпиризма весьма недостаточно для осуществления целей познания. Он имел в виду не отказ от опыта вообще, а необходимость переосмыслить чрезвычайно узкую и, что важно, психологистическую трактовку его, господствовавшую в представлении ученых его времени. Шеллинг обращал внимание, что сфера опыта чрезвычайно богата и разнообразна, в то время как естествознание и связанная с ним философия притязают «на скучную и узкую область ничтожных, психологически понимаемых наблюдений и анализов». Примечательно, что аналитики кризиса науки XX века, такие как М. Фришейзен-Келер, Х. Динглер, Г. Якоби, К. Хольцкамп именно в неверном и зауженном понимании сути эксперимента усматривают один из источников кризиса. К. Хольцкамп обратил внимание на то, что тип эксперимента, утвердившийся в физике и химии, стал нормативным образцом и для тех наук, где он по сути неприемлем, т.е. оценивается как универсальный. С методологической точки зрения и в процедурном смысле эксперименты в этих науках относительно легки и обладают внушающей самоочевидностью, что мешает ставить вопрос об основаниях и предпосылках этих эффектов. Это создавало благоприятную почву для феноменализма, с точки зрения которого знание есть универсум определенным образом упорядоченных данных экспериментов. Вопросы о глубинных основаниях знания перестают занимать ученых, вытесняясь проблемами совершенствования эксперимента, и техники упорядочения получаемых результатов. Утвердился [173] культ частных проблем. Но феноменализм неизбежно ведет к еще одному более существенному отрицательному результату, а именно: вырабатывается убеждение, что за пределами эксперимента ничего иного не существует, что действительность есть то, что выступает в нем. Г. Якоби так выразил эту духовную ситуацию: «Сознание выстраивает действительность из ощущений, даже производит ее. Действительности в себе как бы и не существует… Ничего не может быть без познающего субъекта … Метод, наше теоретическое субъективное отношение к объекту становится тогда главным лозунгом» [16]. Применительно к наличному материалу знания эта установка на метод, как проблема его организации, выводит на системный подход. Система становится важнейшим критерием научности. Приемами системного анализа предполагают решать и задачи единства знания. Итак, мы ясно видим господствующую философскую программу, которая сводит проблему единства знания к проблеме построения всеобъемлющей системы, упорядочивающей по избранным принципам весь универсум знания. Мы называем ее ламбертовско-кантовской программой. Ее отличительные черты: феноменалистичность, конструктивизм, формализм. Его недостатки выражаются в неизбежном элементе искусственности и произвольности. От него истекает представление о системном характере предмета знания как его объективном свойстве, в то время как система это привнесенный аспект понимания или объяснения, а следовательно антропоморфный элемент познавательной установки на реальность. При этом подходе как бы конструктитуируется дробность объекта, частям которого соответствуют специфические области знания, находящиеся по сути в формальной связи друг с другом. Тем не менее, помимо системного понимания реальности и ее гносеологического образа, всегда существовал иной подход к этому вопросу. Согласно ему реальность не системна, а целостна. Системный подход не тождественен взгляду на мир как на целостность. Целое — это то, что не содержит механизмов сочленения своих частей или элементов, где нет «швов» от их соединений. Целое не детерминируется частями, но определяет их онтологический статус. Решение проблемы единства знания должно быть, таким образом, прочно связано с изменением представлений о реальности, с фундаментальной перестройкой наших установок на понимание ее структурности. Только тогда произойдет преодоление феноменологизма, неотвратимо присущего системному подходу. Основания для формирования новой установки имеются. Таковой признается программа, имеющая свои истоки в натурфилософии Гете, в его учении об органичности как сущности целого. Выразителями этого подхода в XX веке, если иметь в виду представителей рациональной философии, были В. Буркамп, О. Шпанн, М. Лёше и др. Взгляды на мир как органическое целое мы находим и в трудах Н.О. Лосского. При этом следует подчеркнуть, что учение об органичности мира как целого [174] пытается провести демаркацию в отношении организмического и виталистического понимания целостности. Эту программу, дающую новый подход к решению проблемы единства знания, мы называем эссенциалистской, противопоставляя феноменализму системного подхода. Помимо того, что согласно ее установки знание трактуется как органичная целостность, она утверждает принцип его предметной определенности и объективной преданности в познании. Итак, главную причину неустранимой раздробленности знания можно констатировать как его деонтологизацию. Деонтологизация означает потерю глубинных интуитивных осмыслений и чувства предметной значимости того, что именуется знанием. Восстановление статуса знания заключается в реонтологизации науки, в том чтобы утвердить онтологические основания знания, заменить формальную логико-аналитическую критику опытом нахождения его онтологической значимости, т.е. вернуть ему предметность. Тогда единство знания будет видеться не в его системности, а в его целостности как органичной взаимоопределенности его частей. Именно когда оказалась потерянной интуиция фундаментальности, когда было разрушено чувство предметности того, что есть знаемое, проблема его единства неизбежно перешла в план формальных построений, в которых таблицы и графики взаимопереходов и функциональных связей становятся решающими средствами доказательства. Доказательство такого рода есть по сути наглядная демонстрация, иллюстрация, лишенная достоверных оснований. Такой подход уже исходно оперирует несопоставимыми, замкнутыми в себе блоками знания, т.е. уже структурно расчлененными единицами, ставшими основами формальных процедур. Обретая принципы иного миропонимания, философия получает возможность создать наукоучение, которое решает проблему единства знания, как проблему создания его нового типа, а не как нахождение нового систематизирующего приема. §2.5. Философия как строгая наука Указанная проблема является традиционной в классической парадигме философского рационализма. Существует несколько ее конкретных модификаций. Мы обратим внимание на одну линию, находящуюся за пределами известного гуссерлевского или неопозитивистского подходов. В ходе дискуссий относительно возможности конечного обоснования научного знания неизбежно возникал вопрос о роли философии в решении этой фундаментальной проблемы. Бесчисленны вариации в которых обсуждается смысл оппозиции «философия и наука». Один из самых известных ракурсов — вопрос о демаркации между ними. Однако было обращено внимание, что он может иметь рациональное значение только при условии выяснения самой природы философии, т.е. того типа знания и его содержания, которые подразумеваются как [175] философские. Не приглашая обсуждать всю палитру интерпретаций этих понятий, обратим внимание на одну весьма почтенную и в то же время подвергшуюся недостаточному историко-философскому и методологическому анализу традицию понимать и разрабатывать принцип философии как строгой науки. Возможно, наиболее известная его формулировка и истолкование принадлежат Э. Гуссерлю (1911 г.). Для того, чтобы приводить анализ научного знания к каким-то достойным доверия заключениям, сама философия должна самоопределяться и обосновать свое право на подобные притязания. Гуссерль отказал философии в праве быть метафизикой, т.е. положительным учением о некой определенной сфере действительности. Она понимается им в определенном познавательно-методологическом аспекте, реализация которого выводит на основы всякого знания. Однако идея «философии как строгой науки» имеет куда более глубокие корни. Как и многие другие для новейшего времени, они восходят к И. Канту. В основе подходов, идущих от него, лежат представления о философии как учении о формах (познания и реальности), в методологическом плане опирающейся на логический формализм. Впрочем, расхождения начинались уже с момента выяснения природы этих форм и логического формализма. Мы привлечем внимание к одной линии кантианской традиции, не вызвавшей особого интереса историков философии и методологов, но оказавшей даже в XX веке крупное влияние на представителей «точного знания», например, на «гёттингенскую математическую школу» (Д. Гильберт, П. Бернайс и др.). Мы имеем в виду Я.-Ф. Фриза и его последователей, особенно Л. Нельсона, уже в XX веке возродившем так называемую неофризовскую школу. Следует обратить внимание, что влияние программы обоснования науки, идущей от Фриза, сказалось на концепции К. Поппера и, следовательно, всего постпозитивизма и «критического рационализма». Я.-Ф. Фриз (1773-1843) не относится к мыслителям, определявших судьбы и повороты европейской философии. Только в 60-е годы текущего века было предпринято издание собрания его сочинений. До этого, в 20-е и 30-е годы были изданы только некоторые его работы. Изучение истории идей Фриза обнаружило, однако, довольно глубокое, хотя и не слишком распространенное влияние его воззрений на университетскую философию в Германии. Оно коснулось, в частности, математических проблем как основания науки, в том числе, математики, природы истины и доказательства, истолкования познавательных возможностей логики, понимания природы логических форм, значения индукции в научном исследовании. Влияние Фриза на логику, философию и методологию науки определилось тем, что он стремился к построению программной философии, принципы которой должны иметь значение как для познания, так и для человеческой деятельности. Но именно в этом отношении Фриз менее всего и известен. [176] Чаще всего он воспринимается как кантианец, стремившийся модифицировать критику разума и перетолковать ее в психологическом плане. Его главный труд «Новая, или антропологическая критика разума» излагает суть этой модификации. Недостаток критики разума у Канта Фриз усматривает в отсутствии у нее антропологического измерения и недостаточном учете в критическом анализе аппарата и возможностей логики. Его антропология — это по сути психологическая интерпретация познания и духовной деятельности человека. Недостаток кантовского подхода в том, что категории психической деятельности: чувства, апперцепция, впечатления, удовольствия, воля, мыслительный процесс, оставлены по сути без анализа — следовательно, он не всеобъемлющ. Кант не распространил свой подход на логику и на самую метафизику. Когда этот недостаток будет устранен, то возникнет универсальная философская антропология. В ней знание должно истолковываться как то, что вырастает из внутреннего опыта, основания которого очевидны. Таким образом, Фриз разработал программу психологизации философии и теории познания. Однако это не противоречило сформулированной им идее «философии как строгой науки», или научной философии, вошедшей в современные рационалистические представления. Исследователи (L. Goldsetzer) полагают, что именно от него идут импульсы к программе Венского кружка — превратить философию в «точную» и даже «частную» науку. Фриз развил ламбертовско-кантовское учение о системности как критерии научности. Логические формы обладают способностью научности, т.е. к системной организации процесса познания. В его «Системе логики» (1819), посвященной более процессу сознания, чем его формам, утверждается: «Систематическая форма является формой познания из принципов». Крупнейшим последователем Фриза в XIX веке являлся Э.-Ф. Апельт (1812-1859). Ему принадлежит оригинальный труд «Теория индукции» (1854), в свое время привлекший внимание необычностью трактовки логических представлений, но ныне совершенно забытый. В общей философской программе Апельт не вполне последовательный ученик Фриза, но в истолковании философии он, в полном согласии с Фризом, определяет ее как учение о принципах познания. Апельт едва ли не единственный в то время в Германии философ, который разрабатывал индуктивную теорию познания, связывая ее с английской эмпирической традицией. Именно индуктивная логика, утверждал он, является мостом между философией и наукой, точкой совпадения эмпирии и метафизики, позволяющей последнюю представить в научной форме. Апельт развивает весьма оригинальное учение о вероятности, видах индукции, построении теории, достоверности эмпирического знания, его отношении к рациональному знанию, особенно математическому. Он утверждает, что индукция является «фундаментом всех наук», источник всех всеобщих истин, но она не путь к необходимым истинам, а способ связи необходимых истин со случайными истинами. Согласно Апельту, возможность индуктивных умозаключений опосредована некоторыми познавательными принципами, которые он называет [177] «руководящими или эвристическими максимами». Сами они не принадлежат логике, а являются своего рода указателями на возможность подведения некоторых частных фактов под согласующийся с ними общий принцип. Таковых он насчитывает три: максима единства, утверждающая, что все многообразие опыта можно свести к формам систематического единства и подчинить принципам; максима многообразия, говорящая, что факты даются не законом или правом, а посредством наблюдения. Закон же устанавливает не наличие фактов, а их связь. Третья максима делает возможной самую науку. Согласно ей, начальным в познании является принцип, который организует и подчиняет частное. Апельт выделил два вида индукции: математическую и философскую. Для философской индукции достаточен единственный случай, чтобы строить достоверное заключение. Таким образом, индукция не препятствует достоверности знания, поскольку она покоится на безусловных принципах. В нашем столетии Фриз неожиданно нашел сторонников среди крупных ученых, главным образом, работавших в сфере математики. К ним можно причислить главу геттингенской математической школы Д. Гильберта, П. Бернайса, и в особенности философа, математика и логика Л. Нельсона (1882-1927). Это ставит интересный вопрос о философских основаниях идеи формализации Гильберта. Нельсон положил начало так называемой неофризовской школе. Он подхватил идею философии как строгой науки, утверждая, что она не есть некое царство «вечных» проблем, а способна, подобно науке, ставить и регулярно разрешать свои проблемы, добывая позитивное знание. Он, видимо, разделял финистические представления о науке, по которым она может приобрести свою законченную рациональную форму. Ее образцом Нельсон считал гильбертовскую аксиоматику геометрии. Психологизм Фриза он истолковывает в смысле особого «критического метода», с помощью которого в процессе самонаблюдения устанавливается наличие принципов а рriori как познавательной основы. Особое внимание Нельсон уделил методологии научного познания. Обычному, прогрессивному, т.е. движущемуся от оснований к следствиям, развитию научной теории должны предшествовать регрессивные процедуры, устанавливающие достоверные основы знания. Критический метод не устанавливает законы познания, а выявляет их и выражается в том, что приводит в связь элементы знания, или факты. Догматическая теория знания строится на доказательствах, она исходит из гипотез. Критическая же теория исходит из фактов, ищет и указывает предпосылки их связи. Поэтому в своей основе она покоится на индукции. В своих основах теория индукции Нельсона восходит к Апельту. Уместно высказать предположение о влиянии психологизма фризовской школы на психологистическую тенденцию теории познания второй половины XIX века (позитивизм, эмпириокритицизм, неореализм Ф. Брентано). Следовательно, проблема философии как строгой науки в данном случае решалась в определенной психологистической манере, определенно не отождествляющей ее, даже в смысле индивидуально-психологической трактовки актов и процессов познания, с субъективизмом. Фикционализм: опыт историкофилософской реконструкции С.И. Дудник, Ю.Н. Солонин Парадигмы исторического мышления ХХ века: очерки по современной философии культуры. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С.178-196 [178] §3.1. Фикционализм Файхингера Фикционализм, или фикционизм, — понятие, закрепившееся за воззрением и концепцией, представленными в работах немецкого философа Ганса Файхингера (1852-1933) [17]. Они вызвали в 10-30-е годы ХХ века довольно значительное отражение в философских и научных кругах Европы, проникнув даже в Америку, в виде специальных теоретикометодологических программ, направленных на критический пересмотр оснований науки, философии, религии и вообще духовных основ культуры в духе учения о фикциях как главных формо-содержательных единицах, из которых составляется все благоприобретенное культурное достояние человека. Помимо этого выражения фикционализм оказал сильное воздействие своей гносеологической установкой на целый ряд наиболее представительных течений философии ХХ века, среди которых мы в первую очередь назовем феноменологическую философию и неопозитивизм. Таким образом, исчезнув как самостоятельная школа, он продолжал жить в преобразованном виде в глубине теоретического мышления, свойственного ХХ веку. В настоящее время о фикционализме заводят речь лишь самые полные историкофилософские компендиумы [18], и он в своем существе неизвестен даже серьезным знатокам истории философии последнего столетия, не говоря о более мирском представлении. Писать же о русском фикционализме кажется и вовсе неуместным; во всяком случае, автору данной публикации нигде не встречалось не только данное выражение, но и указание на наличие в России прямых сторонников или последователей Файхингера [19]. Казалось бы, охватившее широкие философско-научные круги, особенно в Германии, увлечение фикционализмом странным образом обошло русский ученый мир. Это представляется тем более странным, если учитывать то традиционное повышенное внимание к философской жизни в Германии, которое отличало русских философов. Не было ни одного мало-мальски заметного немецкого мыслителя, претендовавшего на самостоятельную философскую позицию, который бы не был внимательно прочитан, изучен, обсужден и критически отражен в русской общественной мысли и нашей философской публицистике. А тем более когда формировалось серьезное направление. Но именно так случилось с идеями Г. Файхингера, которые после их опубликования в 1911 году в объемистом труде «Философия Как-Если-Бы» [20]вызвали целое движение немецкой философской мысли, к которому русская мысль осталась безразличной. Имя Файхингера было известно, его сочинения были проработаны, что явствует главным образом из мемуарных источников, но они не произвели того же эффекта, что за границей, и не породили адептов, способных [179] развить фикционализм в духе установок его родоначальника. Из этого следует, что говорить о русском фикционализме нет оснований. Но именно этот вывод нам представляется поспешным и неосновательным, и мы попытаемся показать, что такой историко-философский феномен в русской традиции существовал и был весьма значим, хотя и не получил формального определения. Внимание к фиктивной природе определенных форм и видов знания, к творчеству как порождению условных мыслительных структур, ведущих тем не менее к обретению знания и достижению истины и в своем научном бытовании симулирующих объективную и предметную достоверность, было столь распространенным среди русских мыслителей, что мы имеем право говорить о существовании русского фикционализма. И существовал он хронологически в те же годы, что и его немецкий аналог. Другой особенностью русского фикционализма, вытекающей из вышесказанного, было то, что он имел самостоятельные причины и истоки своего возникновения, почему Файхингер со своими идеями и не казался ему чем-то неожиданно-оригинальным. Это не исключало стимулирующего воздействия последнего на углубление фикционалистских воззрений и их распространения в русской философии. Однако между русскими философами, в теориях которых мы находим фикционалистские установки, и Файхингером было немало общего и родственного. И первым должно назвать их единый источник или исходный пункт, каковым была кантовская философия. Хотя и здесь следует учитывать различные модусы отношения. Связь фикционализма Файхингера с Кантом манифестировалась подчеркнуто терминологическим образом. Сам Файхингер называл свою точку зрения, или позицию, именно «философией Как-ЕслиБы», используя термин кантовской гносеологии «als-ob». Конечно, за этим формальным моментом скрывалось и существенное в понимании происхождения и сущности знания, исходившее из общего духа кантианства. Русские фикционалисты, которые будут далее представлены, внешних признаков такого родства с Кантом не предъявляли, но исходили из принципов кантианства. Была и еще одна общая черта, роднившая обе версии фикционализма, черта общекультурного характера. По классической рубрикации философских «измов» фикционализм представляет одну из современных версий субъективной философии, именно ту, которая философским языком выражает сомнение в достоверности и объективно-детерминированной общезначимости духовных начал знания и культуры, предпочитая представлять их, особенно в таких формах, как наука, искусство, религия, этико-эстетические ценности жизни, порождением абсолютно свободного творческого акта человека. Нюансы в интерпретации и терминологические различия в представлении этого положения были весьма велики, но сути дела они не меняли. При развитии этой предпосылки в поле суждений включались проблемы воли, жизненного усилия, творческого воображения, мира как средства утверждения [180] индивидуального героизма и т.д. Поэтому фикционализм оказывался генетически и структурно связан с тем явлением или фазой европейской культурной истории, которые известны под именем модернизма и декаданса. Впрочем, сам Файхингер это прекрасно осознавал и неоднократно выражал. Так, кроме Канта, он выделил значение Шопенгауэра и Ницше, как гениев, которым он был обязан многими принципиальными аспектами своего учения. Схожесть его с идеями модернизма, правда, религиозного, им прямо утверждалась. В России фикционалисты, о которых будет идти речь, также обнаруживают подобную зависимость. Таким образом, фикционализм был прочно связан с кризисом европейской культуры и духовности, что побуждает нас обратиться к их характеристике, используя прежде всего русские современные оценки этого явления. Русский читатель мог познакомиться с Файхингером как автором работы о Ницше, представлявшей «последнего прежде всего представителем «героического пессимизма» и нигилиста» [21], но для специалистов он длительное время был известен как автор чрезвычайно ценного «Комментария» к «Критике чистого разума», довести до конца который он оказался не в состоянии. Истинная философская слава, однако, пришла к Файхингеру после издания им в свет монументальнейшей по всем внешним признакам «Философии Как-Если-Бы» [22]. Мы имеем свидетельства самого автора о субъективноличностной стороне создания этой работы, вынашивания идеи фикционализма и ее постепенного оформления в теорию. Они важны с двух точек зрения. Популярность, неожиданная для самого автора и несомненно утешившая его авторское самолюбие, которую сразу же по оставлении печатного станка приобрела книга и заключенное в ней учение, и которая устойчиво держалась более двух десятилетий, способствовавшая интенсивному усвоению постулатов нового учения, требует выяснения того, что именуют культурным и духовным контекстами, породившими запрос как некий «модус ожидания», в котором пребывало научно-философское сознание предшествующего ее появлению времени. Преображение этого ожидания в систему стимулов индивидуального творчества — важный аспект понимания истории философских идей, материал для которого мы находим обыкновенно в авторских самоанализах. Они интересны как раз теми особенностями, по которым им обыкновенно же и не доверяют, именно субъективными описаниями. Второе основание интереса — сопоставление собственно авторского понимания смысла теории и ее основополагающей идеи с той интерпретацией, которую они встретили в критических реконструкциях и конкретных приложениях. Здесь сразу же надо заметить, что в случае фикционализма различие разительное. Для Файхингера, открытое им учение о фикциях представлялось как широкое основание для критического пересмотра и перетолкования всей конструкции культуры и создания нового понимания ее сущности, итак, существенен культур-философский смысл. Публичное восприятие «философии фикционализма» лишь отчасти соответствовало [181] авторским ожиданиям: действительно возникло довольно мощное движение по пересмотру теоретических оснований и концептуального каркаса основных фрагментов культуры: морали, религии, искусства, науки. К сожалению, история фикционалистского движения еще не написана. Чем искажается наша историко-философская ретроспектива даже ХХ века, а тем более история отдельных философских течений, например, неопозитивизма. В 1919 году начинает выходить журнал «Философские анналы, со специальным отношением к проблемам как-бы-истолкования» под редакцией Файхингера. Среди организаторов этого издания имена крупнейших немецких ученых и философов: Дриш, Паш, Корнелиус, Коффка и др [23]. С 1924 года он именуется уже просто «Анналы философии и философской критики», как бы расширяя свою философскую платформу, и в 1930 году сливается со знаменитым органом неопозитивизма журналом «Познание». За этой историей журналов скрыта история эволюции и слияния философских течений. Дух фикционализма пропитал неопозитивизм от самой его колыбели и стал неотъемлемой частью его философско-гносеологической программы, выразительно заявляя себя в работах М. Шлика, Р. Карнапа, В. Крафта, К. Айдукевича и др. Затем неутомимый Файхингер создает приложение к «Анналам» в виде отдельных монографических тетрадей, посвященных разработке отдельных аспектов новой философии. Но и этим дело не кончается. С начала 20-х годов начинается широко задуманная программа создания новых оснований духовной культуры и прежде всего науки на принципах «философии Как-Если-Бы». Новая серия сочинений названа вполне программно: «Строительные камни для философии Как-Если-Бы» и просуществовала вплоть до нацистских времен. Притязания новой программы распространялись вплоть до перестройки религиозных оснований культуры ХХ века, затрагивая вопросы воспитания и педагогики, медицины и психиатрии, искусства и морали, собственно науки. Пожалуй, единственное, что могло бы огорчить Файхингера, это слишком узкая инструменталистская трактовка самого принципа фикциализма, которая все более утверждалась в подобных исследованиях. В фикционалистской установке, к которой подошел Файхингер, выразилось резюме его размышлений о характере культуры, природе культуро-творческой деятельности человека и возможностях дать ей твердые незыблемые основания. Они были отмечены выразительной пессимистической окраской, некоторого рода метафизическим нигилизмом, питаемым мыслью о невозможности найти безусловное знание о действительности при одновременном ощущении некоторой связи с нею. Творчество человека и устойчивость бытия предстают как трагическая рассогласованность в самом фундаменте жизни, требующая какого-то способа своего преодоления. Какова должна быть позиция человека в перспективе этой ситуации? Культура как некая полезная мнимость вновь и вновь преобразуемая творческим усилием человека представала в понимании Файхингера ответом на подобный вопрос. Одновременно с разработкой положительной программы новой философии и ее приложений развивается и дискуссия относительно смысла [182] фикционализма и его возможностей — реальных и мнимых. Она вовлекла в свой круг практически весь цвет германской науки и философии. Но направление дискуссии неуклонно сворачивало на пути, преимущественно гносеологического понимания фикций. Фикция как форма познания, конечно, в таком смысле выходила за пределы ее культурфилософского значения. Но такой поворот в дискуссии был в полном соответствии с общим гносеологизмом, господствовавшим в европейской философии первой половины нашего века, более широком горизонте восприятия «Als-Ob-установки». Поскольку он нас интересует здесь только как философская форма, представившая общую пессимистическую установку европейской философии в ее движении к модернистическому миропониманию, мы и остановимся более конкретно на ней. И именно на воззрениях Г. Файхингера. Философское учение о фикциях, по признанию самого Файхингера, явилось результатом всей его творческой жизни. Философ родился в Швабии, невдалеке от Тюбингена, оплоте религиозного протестантского благочестия Южной Германии и провел детство в строгом религиозном окружении. Учился в леонбергской латинской школе, в которой в свое время были учениками Кеплер и Шеллинг. Испытал пантеистические влечения, которые связаны с ранним увлечением гердеровскими «идеями к философии истории человечества». В аспекте идей этого труда, и главным образом, теории развития, было воспринято учение Дарвина. Но мир развивающихся вещей недолго царил в представлениях юного Файхингера. Вскоре он увлекается платоновской философией, которая открыла ему второй мир — «мир идей», одновременно с платоновскими мифами. Уже в этом он позже увидел начало будущего представления, названного им «как-если-бы-мир» (“Als-ObWelt”). Все обучение, даже логика, наводило его на мысль о наиболее существенном значении связи всего наличествующего в модусе мнимости [24]. Так, в пору увлечения поэзией Шиллера, его пленяет ее мечтательный дух, а слова «только заблуждение есть жизнь, тогда как знание — смерть» поразили его своим глубоким смыслом и кажущейся верностью, «став в определенном смысле основой моего учения о фикции» [25]. Мир открывался своей ирреальной стороной и все, что о ней говорилось, становилось существенным и определяющим. Натолкнувшись на учение об эстетическом как игре, он игру позже усматривает “Als-Ob” «как движущую сущность эстетического действия и взгляда». Но вскоре пришел черед увлечения Кантом. И здесь пытливое внимание молодого искателя сущностей останавливают такие особенности учения, как антиномии чистого разума, обоснование ограниченности познания, выдвижение примата практического. В конце концов, став кантоведом и кантианцем, он именно у него сыщет и точную словесную оболочку своего главного представления о мнимости всего, что дано человеку и дано человеком: “als-ob” — «как если бы». Но в философском развитии Файхингера встретился еще один мыслитель, оставивший почти равное по силе [183] впечатление, что и Кант, — Шопенгауэр. На него он вышел через «философию бессознательного» Эдуарда фон Гартманна, таким образом, восприняв в себя почти всю философскую традицию, легшую в основу будущего культурного и философского модернизма. Недостает в этом списке Ницше, но и он в свое время войдет в поле зрения Файхингера. «Шопенгауэровское учение дало мне нечто новое, нечто великое и устойчивое: пессимизм, иррационализм и волюнтаризм». И вот характерное личное признание Файхингера, объясняющее, возможно, источник силы увлечения философией пессимизма, не как философией уныния, тоски и безнадежности, а совсем наоборот: «Шопенгауэровский пессимизм стал для меня фундаментальным и постоянным содержанием создания, тем большим, что он, при моих тяжких страданиях и испытаниях, стал мне вполне естественен… Я не нахожу, что такого рода состояние создания ослабляет биологическую и нравственную энергию. Напротив, я принадлежу к тем, которым лишь пессимизм вообще дает возможность претерпеть невзгоды жизни и которым он даже придает нравственную силу, чтобы работать как за самих себя, так и помогать другим. С другой стороны, как я полагаю, пессимизм дал мне объективный взгляд на реальность» [26]. Файхингер полагал, что тот, кто склонен к пессимизму, способен более трезво судить о мире и предвидеть будущее. К сожалению, такое предвидение рисовало мир в специфическом свете тщет, крушений надежд, нереалистичности ожиданий и выявляло печальную сторону каждого благоустремленного начинания. Сам Файхингер уверял на склоне лет, что он предчувствовал крах Германии 1918 года уже в блеске ее триумфа 1870-1871 годов. Итак, «трезвость» пессимистической философии заключалась в том, чтобы видеть во всех начинаниях человеческого рода удел будущих несчастий и потрясений. Между «трезвостью» пессимизма и культурфилософским катастрофизмом начала ХХ века прямая идейная связь. Истоки этой философии Файхингер, вслед за Гартманном, видел в воззрениях Канта, в его учении о «радикальном зле», коренящемся в человеческой природе [27]. Сам он, опираясь на Шопенгауэра, придал этому пессимизму ярко выраженный иррационализм. Его носителем является воля, но если в системе Шопенгауэра воля трактовалась в абстрактнометафизическом и космическом плане, то Файхингер склонен был видеть в ней конкретно-психологический феномен, имеющий эмпирическую природу. В итоге он пришел к заключению, «что разум изначально служит воле, подобно средству своей цели, и что мышление лишь в ходе развития освободилось от руководства воли и стало самоцелью». В последнем Файхингер видел проявление эффекта универсального закона, «проявляющегося во всей органической жизни, в душевных процессах, в хозяйственной жизни, и в истории и подтверждающегося всегда и повсюду, вновь и вновь» — закона превышения средства над целью, которое в ходе развития всегда стремиться самоопределиться и стать независимым. Здесь нам важно подчеркнуть, что в философии Файхингера [184] мышление всегда трактуется инструментально, как орудие приспособления человека к среде, как средство его выживания и реализации волевых усилий. И все, что им порождено суть результаты такого приспособления или формы, в которых оно воплощено: науки, религии, художества, культура вообще. Обособление мышления от первоначальных волевых целей, ведет к тому, что оно в самозабвении ставит невыполнимые задачи как перед самим собою, так и перед человеком. С середины 70-х годов Файхингер превращает свои отдельные открытия в общую теорию, пользуясь некоторыми идеями неокантианца Ф.А. Ланге, получившего общеевропейскую известность своим трудом «История материализма и критика его значения сегодня». Общая установка была на фикционалистское истолкование всех продуктов умственной работы и культуры. Познание само суть психический процесс — эту точку зрения он унаследовал от позитивизма, но не разделил его «радикальный эмпиризм». Позитивизм «правильно видел, что понятия субстанции, каузальность — лишь субъективные приправы психики к данным опыта, но он их хотел совершенно устранить из мышления по «принципу наименьшей траты сил». Я же считал их целесообразными фикциями, обладающими полезностью» [28]. Итак, к концу 70-х философское выражение пессимистического миропонимания в виде философии фикционализма, соединившей в себе целый комплекс кантианско-позитивистских идей и с их позиций интерпретированного естествознания и социальной философии было завершено, но все учение увидело свет лишь 30 лет спустя, в 1911 году, под названием «Философия какесли-бы». Оно лучше всего отражало убеждение Файхингера «что Als-Ob, что мнимость, что сознательно-ложное играет в науке, в мировоззрении, и в жизни чрезвычайную роль». «Я хотел дать полную теорию, так сказать, анатомию, физиологию и биологию «как-еслибы», а «так как эта сложная связка «как если бы» выражает метод фикции, который в большей или меньшей степени распространен во всех науках, то я должен был дать просмотр всех областей науки с этой точки зрения». Фикции — суть принятые разумом абсолютно ложные допущения. Их задача — не служить познанию, а обеспечить возможность практической деятельности человека. «Мы понимаем мир не тем, что мы размышляем о его загадках, а тем, что в нем работаем». Такова формула активизма, вытекающая из фикциональной философии. Если действия неэффективны, мы безжалостно уничтожаем, отбрасываем старые фикции и строим новые. Это можно принять за прогресс науки, но в нем нет и грамма прогресса познания, «так как мышление изначально служит воле к жизни, как средство цели». Мир сознания — это мир фикций и в нем только и живет и действует человек. Мы не будем вдаваться в обстоятельства успеха, сопутствовавшего публикации «философии фикций». Она как нельзя полнее выразила важные философские мотивы утвердившейся новой формы культуры и ее самосознания. Разумеется, в точном смысле ее нельзя назвать [185] философией культуры. С одной стороны, она шире, ибо в метафизической форме выражает основания определенного типа культурной жизнедеятельности, с другой, однако — уже и одностороннее, ибо специально не занимается всем комплексом проблем культуры, а только некоторыми ее артефактами в их фиктивно-символической интерпретации. §3.2. Русский фикционализм Нас, конечно, интересует вопрос об отношении к философии Файхингера в России. Как говорилось выше, общую формулу русского восприятия фикционализма найти трудно. Проблема практически никак еще не изучена, следовательно, нет и должной полноты фактов для окончательных формулировок. Но и то, что можно уже сейчас обнаружить, свидетельствует о том, что русская философская мысль не осталась в стороне от общего процесса формирования предпосылок фикционализма, даже создав какие-то свои его версии, так и от влияния прямо Файхингеровского учения. Мы и здесь имеет основания выделить несколько планов проблемы [29]. Модернистическая философия и, прежде всего, культурфилософия в России несомненно питалась от общеевропейских корней и была чрезвычайно чутка на симптоматику декаданса, в какой бы форме она не проявлялась. В этом смысле все то, что питало модернистическую по внутренней форме философию Файхингера, как и она сама, входило в широком смысле в русскую мысль, сплавляя ее в единый культурный континуитет с европейской культурой. Ведь не случайно, что тема кризиса ее была столь чутко, во многих моментах опережающе, воспроизведена русской философией культуры. Можно говорить о нескольких путях проникновения функционализма в философсконаучный мир России. Один из них нами вскользь уже был отмечен, когда мы упомянули о реакции на фикционализм среди теоретиков социал-демократии. Действительно, среди теоретиков марксизма внимание к нему было повышенным. Дискуссия на эту тему началась почти сразу после появления самой концепции. Можно предполагать о знакомстве с нею В.И. Ленина, поскольку начало 10-х годов — это еще то время, когда его философские занятия не вполне прекратились, и он, видимо, не мог не отреагировать на модную концепцию. В известном смысле косвенным подтверждением этого может служить частота появления фикционалистской терминологии в его работах предвоенного периода. Но несомненно сильное увлечение ею Р. Люксембург, что сразу вызвало опасения нового «перекоса» в философии марксизма. Много лет спустя эта опасность документирована А. Фогараши в статье «Философия фикции». Он отметил опасность перетолкования исторического материализма «в духе буржуазного фикционализма. Этой опасности не избежала, между прочим, и Роза Люксембург: «Философия фикции, с которой она познакомилась из книги Файхингера, [186] образует невидимую гносеологическую основу ее ошибочной теории, которую развили критики марксовых схем в «Накоплении капитала» [30]. Данная статья показательна и в другом отношении. Известный философствующий марксист Фогараши, пытается развить представление о двух видах фикционализма: марксистском, якобы продуктивно применявшимся Марксом, и буржуазном — изложенным у Файхингера. Первый он превозносит, второй — критикует. К сожалению, представление о «марксовом фикционализме» покоится на теоретическом недоразумении, самом по себе симптоматичном. Фогараши уверяет, что «Маркс в своем главном труде прямо использовал идею фикции, как орудие исследования», осознавая ее позитивную роль в познании. Но в данном случае Фогараши отождествляет проблему абстракций с проблемой фикций в познании, перенося гносеологическую характеристику первых на вторые. Саму установку на гипотетичность научных предположений у Маркса, предваряющих анализ, он отождествляет с позицией «как будто», несомненно принимая файхингеровское включение гипотез в сферу фикций. При этом критика, данная Фогараши фукционализму Файхингера, замечательна тем, что в ней присутствует ясное отношение к ней как учению, насыщенному культурологическим смыслом модернистической тональности. Он улавливает трагический мотив, тонко пронизывающий философию Файхингера, выражая, впрочем, свои суждения тогдашним прямолинейным образом: фикции принимаются в убеждении, что они нужны, но их никогда не удастся оправдать. «В том-то и заключается трагичность жизни, что наиболее ценные с точки зрения реальности понятия лишены всякой цены» — цитирует он Файхингера [31]. «Философия фикции является не только научной теорией, но и практической философией, учением о жизни, миросозерцанием», и как таковая воспроизводит ее трагически неразрешимое противоречие. А. Фогараши не являлся единственным представителем марксистского течения в России (о зарубежном мы не говорим), кто выяснял проблему фиктивного в марксистской социальной теории или понимание фиктивного в познании, науке и культуре в марксистском освещении. Следует указать также на В.Ф. Асмуса, который значительно глубже, чем кто-либо вообще в марксистской традиции, исследовал вопрос о фиктивных конструктах, их гносеологическом смысле и онтологическом статусе не только в собственно научном познании, но и в художественном творчестве, даже шире — в культурной практике [32]. Именно в этом аспекте им рассмотрен вопрос о теоретических основах «формального направления» в русской эстетике и его ЛЕФовский вариант. На основании исследований Асмуса мы получаем документированное основание видеть прочное укоренение фикционализма, в том числе учение Файхингера, в теоретических дискуссиях вокруг русского формализма. Кроме этого, оно дает представление о марксистской интерпретации этой проблемы вообще, ведшей к осмыслению более капитального вопроса — марксова учения о мышлении и его формах, завершившейся [187] в 60-е годы работами М.К. Мамардашвили и др. Определенный интерес к фикционализму проявил и К.С. Бакрадзе [33]. Как известно, в 1918-1925 годах он находился на учебе в Германии, где активно включился в философское движение. Основные теоретические дискуссии вокруг проблемы фикций и философский генезис этого направления были ведомы ему как изнутри, и затем в его восприятии получили отражение в критических исследованиях, касающихся философии Гегеля и новейшей философии [34]. Но в целом этот аспект истории марксистской мысли в России и СССР требует серьезного дополнительного разыскания. Значительно больший интерес представляют другие влияния фикционализма на русскую мысль, нередко совпадающие с самостоятельным и вполне оригинальным выходом на научные позиции отечественных мыслителей. Мы оставляем в стороне выяснение этой тенденции в стиле терминологии кризиса философии и ее сдвига в субъективизм, не отрицая самой важности подобных констатаций. Для нас важно отметить, что здесь мы имеем в то же время некоторую формулу выражающую реальный процесс перехода философско-теоретического мышления в план обсуждения проблем способов и форм представления действительности как феномена сознания и актов творчества, что так типично для модернистского духа. Мыслителей, имевших определенное теоретической отношение к этой теме было достаточно много в русской профессиональной среде, и нередко крупного масштаба мысли. Именно это позволяет нам поставить вопрос о существовании «русского фикционализма» как определенной тенденции, возможно и не ставшей самостоятельной линией, подобно, скажем, русскому космизму, но достаточно выраженной, чтобы ею можно было пренебречь. Мы уже упомянули одно важное имя — П.А. Флоренского и его «Мнимости геометрии». Конечно, было бы элементарной ошибкой и историко-философской натяжкой представлять работы, подобные этой, как однозначное выражение «фикционалистской установки», но и без учета ее, без принятия во внимание, что все основные дискуссии в среде европейских философов были внимательно воспринимаемы в философском мире России, вызывая критические и стимулирующие реакции, понять внутренние предпосылки подобных исследований невозможно. Впрочем, русские философы давно уже и не только под воздействием автономной логики развития философских исследований, но — что особенно стоит выделить — под впечатлением художественной практики, ставили вопрос о соотношении действительного и ирреального, фактического и вымышленного, придавая философское звучание исконной проблеме отношения художественного мышления к действительности. В культурфилософской мысли начала ХХ века, к примеру, в теоретических эссе философствующих эстетов, типа В. Брюсова, из круга журнала «Весы», подобная тематика стала едва ли не преобладающей. Но философские подходы к ней мы находим задолго до этого. Укажем хотя бы на П.Л. Лаврова, который в аспекте психологической интерпретации [188] опыта размышлял о критериях различения объективного и мнимого, порождаемого нашей психической деятельностью. Позиция, занятая в этом вопросе Лавровым, оказалась одной из слабейших среди предлагавшихся различными философскими школами. Вот образчик его суждений: «Призрак и действительность, предметы — одинаково воспринимаются человеком; они одинаково существуют или одинаково не существуют для него; но обсуждение призрака делает его действительность невероятною, противоречащую ряду прежних уже приобретенных представлений, между тем как действительный предмет приобретает большую или меньшую вероятность по мере его обсуждения». И далее: «По большей или меньшей стройности представлений человек судит о том, суть ли явления, им воспринятые, только ему принадлежащие, не имеющие внешней действительности, фантастические, субъективные, или они доставляют ему верное понятие о внешних явлениях, о мире, природе» [35]. Мы привели эти суждения Лаврова не с целью подвергнуть их критике или продемонстрировать вообще суть его философской позиции. Нам важно было показать, что русская мысль имеет свой автономный подход, в котором воспроизводились основные философские сюжеты и проблемы, характеризовавшие западноевропейскую философскую жизнь. В ней, между прочим, имелись свои предпосылки развития и укрепления фикционалистского понимания значения действительности для человека и культуры, получавшие только дополнительную поддержку в возможно более структурно проработанной европейской философии. Возможно, что одним из пунктов различения между нашим национальным философствованием и европейским заключалось в том, что оно слишком часто и слишком в большой дозе стимулировалось не реалистической, конкретно-эмпирической ситуацией и поведением, а их художественно-эстетическим заместителем, обычно воспринимаемым как «сама действительность» и даже более реальная. Об этой особенности специфического «олитературивания» жизни, как частной формы ее эстетизации, в русском сознании не раз говорили наши философские и научные авторитеты. Сошлемся еще раз на Ф. Степуна. Описывая декадентско-модернистскую ситуацию в русской элитной духовной среде начала века, он отмечает, что ее реальная жизнь нередко была воспроизведением художественных и поэтических фантазий тогдашней литературы. По эстетическим канонам модернизма строили быт, межличностные отношения, нравственные оценки, общественные связи и поступки. Иллюзия становилась реальностью. По литературным канонам и нормам судили об обычной жизни: «Замечание Достоевского, что русская идея заключается в осуществлении всех идей, верно не только в отношение общественной, но также и личной жизни. Ходасевич правильно отмечает, … что люди … декадентской среды, так же, как в свое время и народовольцы, не признавали расхождения слова и дела. Требуя, чтобы романы (любовные — авт.) развивались в жизни так же последовательно, как в книгах, они во всем смело шли до конца, превращая тем самым эстетический канон искусства в [189] нравственный закон» [36]. Ю.М. Лотман эту особенность русского человека — заменять жизнь книгой, делать последнюю более значимой, чем голос и требования жизни — находит характерной уже для начала века [37]. Нет поэтому оснований сомневаться, что духовная почва русской культуры равно и продуцировала, и была готова к восприятию иллюзорно-фикционалистских теорий действительности, познания и деятельности, катастрофически-нигилистических отношений к реальности, которые вместе были особенностью модернистской культур-философской мысли. Эта тема тождества жизни и вымысла, точнее неразличимости двух миров — реального и иллюзорного — в единой жизни человека, не раз становилась предметом анализа в самой художественной литературе. Анализ такой нередко заканчивался неутешительными выводами, имевшими ту особенность, что, будучи выполненным как художественное произведение, он рождал тенденции пессимизма и углублял их. Более того, на подобные анализы и их результаты нередко ссылались и их воспринимали как вполне научнообоснованные и корректные в теоретическом отношении исследования даже представители научно-философской мысли. Таково было отношение к Л.Н. Толстому и Ф.М. Достоевскому, которых и сейчас принято считать философами in sensu stricto, а тем более в ту эпоху модернистической культуры, для которой принцип тождества мира и иллюзии, принцип первенства эстетического начала перед реальностью были неоспоримыми аксиомами. Вот пример иллюстрирующий только что сказанное. Александр Шрейдер, ныне забытый публицист философско-общественной складки, в своей книге «Философия гнева», занимается анализом «сна» и «действительности» не в их прямом психофизиологическом отношении, а в смысле некоторых модусов бытия человека, лишь отчасти моделируемых в соответствующих состояниях бодрствования и сна. Основанием ему служит ситуация Свидригайлова, а точнее то, как Достоевский художнически исследует весьма важную проблему экзистенциальной ситуации человека. Сновидения, бредовые состояния и живое бодрствование Сви-дригайлова, перемежаясь, сливаются в единый поток, в котором ни одно из состояний не может быть отличено от другого. Бредовое состояние становится реальностью, а действительное бодрствование подчиняется законам сна. «Где кончается «иллюзия» и начинается действительность?» — задает вопрос А. Шрейдер. И отвечает: «Логических доводов на то, что ему приснилось, что он действительно просыпался, у нас нет. Логически мы никак не можем доказать действительность пробуждения. Приходится прибегнуть к психологическому анализу». Но и тут мы встаем перед неразрешимостью: «доказать непременно и неоспоримо, с обязательной очевидностью — мы этого не можем». К чему все это? А к тому, чтобы сделать переход к генерализации самого фундаментального значения, для обоснования которой именно воспроизводящей важную ситуацию, но специфически, неполно и, следовательно, неадекватной имеющейся в виду проблеме явно недостаточно: «Истина — есть форма удовлетворения познавательной потребности человека. Субъективное содержание истины: комплекс восприятий, [190] критически проверенный познающим. Проверка заключается в выяснении и обнаружении отсутствия внутренних противоречий и цельной стройности в связи явлений». Итак, если фантомы бредового состояния согласованы между собой и с тем человеком, в сознании которого они возникли, они вполне являются действительным бытием этого субъекта [38]. Мы еще раз повторяем, что не ставим целью заниматься философско-гносеологическим анализом важных самих по себе проблем роли различного рода конструктов, абстракций и иных интеллектуальных орудий познания, границ и способов их применения, отношения к реальности и т.п., а также взглядов на него русских и иных мыслителей или дискуссий между философами по данным вопросам. Наша цель иная и, возможно, более узкая. Мы стремимся обратить внимание на специфическую заостренность проблемы «мнимого» в умственных исканиях на рубеже XIX-XX веков, на ту особенность ее рассмотрения, можно даже сказать, экзальтированность при ее рассмотрении, толкающую к резкому противопоставлению «мнимого» и реального, к тому, что «мнимым» мыслится вся сфера духовного опыта, что реальное, по сути, не дано и не засвидетельствовано никаким достоверным образом в человеческом сознании, что, таким образом, действительность является просто некоей условностью в мире ирреальных фантомов, за пелену которой прорваться невозможно и т.д. В подобного рода подходе мы усматриваем определенную форму концептуализации культур-философского пессимизма как одной из важнейших черт духовной эпохи вне зависимости от, того, что нередко в бурном порождении различного рода фантомов, абстрактов, иллюзорных картин, визионерстве усматривали как раз противоположное — выражение активизма духа. Значительную, если не определяющую роль в упрочении подобных убеждений сыграла гипертрофированная эстетизация всех сторон человеческой деятельности и самой действительности. Она также принимала разные, подчас противоположные формы. И что для нас важно — стирала различия между типами человеческого поведения и отношения к реальности, отдавая преимущество пониманию деятельности как деятельности художнической. Так, познание мыслилось по преимуществу как художественный процесс, или, что может быть вернее, художественно-эстетическое познание мыслилось как высшая его форма. Материал художественной литературы воспринимался как источник наиболее полного и совершенного знания о жизни. И отсюда был естественный выход на понимание литературы и других видов искусства как регуляторов реального поведения человека, дающих образцы и нормы новой жизни. Мы могли бы с достаточным основанием сказать, что происходила фетишизация мнимого, его гиперболизация, таким образом, что само мнимое вытеснило и подменило самую реальность. Воображаемое получило статус действительного. Последняя особенность русской духовной жизни была отмечена на только Ф. Степуном, а в наше время Ю.М. Лотманом. Она получила очень тонкий анализ и средствами философско-литературной эссеистики. Очень хочется, в качестве примера этому, сослаться на одного из самых малоизвестных ныне представителей литературы того времени Сигизмунда [191] Кржижановского (1887-1950) [39]. Его неизвестность оскорбительно не соответствует тонкой и изящной стилистике сделанных им литературно-философских эссе. Для них характерна изысканная умная ирония, позволяющая раскрыть в обычном факте парадоксальность мотивировки сцепления жизненных ситуаций. Они могли выйти из умственной лаборатории человека, соединившего исключительную наблюдательность с философской по своей природе аналитикой, его философская подготовка далеко перешагнула потребности обычной культурной любознательности, и в лице С. Кржижановского мы видим одного из виднейших представителей русской философской прозы ХХ века. В 1919 году он публикует беллетризованный философский этюд под странным названием «Якоби и «якобы». Имя известного немецкого философа Фридриха Якоби (1734-1814) соотнесено с условно-сослагательным союзом «якобы», в результате чего рождаются сложнейшие смысловые осцилляции, значимые только в русском языке, но отсылающие к сложнейшему семантическому полю, в котором сопряжены и историко-философские факты с контекстом культурной действительности начала ХХ века. Хотя прямого указания на мотивацию очерка теорией фикционализма Файхингера нет, но самый дух, цитации, содержательные пассажи могли быть поняты только читателем, включенным в дискуссии достоверности и недостоверности бытия и реальности нашего «я», решающим образом стимулированные философией «якобы» (Als-Ob). Этюд строится как диалог возникший между Ф. Якоби, здравомыслящим философом, верящим в безусловную реальность бытия и его объективный статус, и неким фантомом «якобы», словесным трюком, условностью в цепи бесконечных мелких человеческих допущений и предположений, заявившей, однако, претензию, не больше не меньше, как быть самим бытием, даже значить больше, чем сама реальность. Развернувшаяся дискуссия обнаруживает беспомощность традиционной безыскусной позиции Ф. Якоби перед напором софистически изощренной аргументации «якобы» о неразличимости сна и яви, действительности и мнимости. Слово, имя, термин, не обозначение чего-то иного, незнакового, а само бытие, они не знаки сущности, а сама она. Позволим себе привести обширный фрагмент соответствующего текста. Работая поздней ночью над своим трудом «О Божественных вещах и их откровении» и имея надобность в цитате из «Критики чистого разума», Якоби натыкается на текст, объясняющий сущность амфиболии (двусмысленности) человеческого рассудка: «имея дело только с феноменами, мы, однако, относимся к ним так, якобы...». В этом месте происходит некая онтологическая метаморфоза: это «якобы» ожило и приобрело собственное подвижное бытие, стало чемто персонифицированным, неким еще одним, помимо Якоби, я. «Так два я, «я» в кавычках и просто я, созерцали друг друга». Возникает диалог: Якоби: Что ты такое? И как ты зародилось? «Якобы»: Я — сумма всех человеческих помыслов, маленькое слово, умеющее своими буквами покрыть весь этот мир феноменов, еле зримая подпись Творца над вселенной призраков. — Во мне ты можешь, наконец, увидеть вожделенное «тождество»: тождество бытия и названия, ибо в [192] моем названии все мое бытие… Мозг, в муках осмысливший меня, давший мне душу, брал любое слово, ну хотя бы «мир» и приставлял к нему «якобы»: это и было его методом. — То, что вы назвали в своих якобы системах «миром», есть только «якобымир», якобы отраженный в ваших «якобы-я». Я осыпаюсь тысячами псевдонимов, звучу в мириадах звучаний — ибо во мне шум всех слов, шелест всех книг и скрип всех перьев, расщепляющих острые клювы свои, чтобы воспеть восходящую Истину. Якоби: … ты лишь игра мозга, четкий кошмар… ты усталость моей творческой фантазии… смешная, жалкая пародия… «Якобы»: «Явление мозга», говоришь ты? …Будем откровенны: так ли ты уж твердо уверен в том, что твое так называемое «я» не есть просто сокращенное суждение: «я — как-бы» — «якобы» или «как бы я», то есть, повторяю, схема, пожалуй даже искажения… меня, якобы. …Не я твой сон, как бы хотелось тебе, а ты мой сон». «Мы живем по сю сторону золоченого обреза книги, и что происходит, и происходит ли что, по ту его сторону… не знаем и знать не будем». Якоби: Но… под наименованием укрыто нечто? Якобы: Ничто. Небытие, искусно притворившееся «бытием», разговорчивый нуль… Якоби: Слушай: сколько призрачности — столько и бытия. Якобы: В слове «бытие» я признаю без возражений только первую часть — слог «бы». …Сумма всех сомнений в «бытии» и есть единственное бытие [40]. Этим диалог не заканчивается. «Разговорчивый нуль» развивает целую философию сомнительности реального мира. Так С. Кржижановский в форме фиктивного диалога Ф. Якоби со своим фиктивным же двойником «якобы» беллетризировал одну из важнейших проблем-тем европейской (русской тоже) духовной культуры — проблему бессмысленности бытия. Но, как нами было уже отмечено, эстетизированные в массовом сознании учения о бытиификции, бытии — порождении человеческого воображения, закрепляемого соответствующими ему формами культуры, которые и остаются самодостаточными формами, ибо их смысл заключается в функции быть удобной и приемлемой для человеческой экзистенции, явились лишь банализованным отщеплением или слепком от философии более фундированных теорий фикционализма. Онсуществовали и в русской философской традиции. Чтобы обосновать существование того, что мы выше назвали «Русским фикционализмом», мы укажем на И.И. Лапшина, философские воззрения которого содержат существенный фикционалистский момент. Сказанное не противоречит обычной традиции относить его взгляды к иным школам субъективной философии. Свои воззрения на этот счет он изложил уже в самом известном и главном своем труде «Законы мышления и формы мышления» (СПб., 1906), возвращаясь к ним и развивая их в дальнейшем, особенно в части теории воображения и творчества. Лапшин разрабатывает проблему фикций преимущественно в гносеологическом плане. Ему принадлежат обладающие известной ценностью определения фикций, классификация, в которой различены [193] логические фикции, метафизические и научные. Существенной особенностью фикций Лапшин считал лишенность наглядности, представимость, то, что они «мыслятся чисто». Метафизические фикции суть категории. Мир, по Лапшину, дан нам только как представление, поэтому жестко подчинен логическим условиям представимости, т.е. категоризирован. О каких либо иных условиях его существования, в частности о «вещах в себе» мы судить не можем. Фикции необходимы как некое орудие схематизации чувственных представлений мира, поэтому сами они должны быть лишены чувственного содержания. Так категории количества, качества, причинности и т.д. «будучи отрешены от чувственных условий становятся непосредственными фикциями, как пустое пространство и время. Такие категории, возведенные к безусловному, суть идеи» [41]. Концепция Лапшина пытается включить в себя объяснение природы символа и символизации, а также роль метафор в научном познании. Теория Лапшина, которая вывела его на проблемы творчества и учение о воображении как его основном механизме, явилась одной из многих концептуализаций фикционализма вообще присущего кантианству. Но в ней он не достигает того уровня обобщения, который был придан трактовке фикций Файхингером, передавший ее в план культурфилософского учения. Важным представителем фикционализма в русской философии явился Георгий Флоровский (1893-1979). Во всяком случае, утверждать это дает нам право содержание и некоторые идеи крупной его статьи «К обоснованию логического релятивизма» [42]. Исследователями его творчества эта работа обычно оставляется без внимания, поскольку в ней он предстает мыслителем «философско-научного» плана по преимуществу. В ней он развивает идею философии как «теории знания», т.е. «как описания и истолкования познавательного опыта. В этом смысле совершенно справедливо ориентировать философию на факт науки» [43]. Развивая это понимание философии, Флоровский фактически дал концепцию философии науки, во многом совпадающую, но и отличающуюся от таковой же в трактовке неопозитивизма. Различие скорее в пользу Флоровского, поскольку в ней он отстаивает те принципы, отсутствие которых было особенно подчеркнуто как ограниченность неопозитивистской философии науки в работах ее нынешних оппонентов и критиков (И. Лакатоc, М. Поланьи, Д. Агасси, и особенно, К. Поппером). Особенно Флоровский настаивал на философской предпосылочности всякого научного знания и на необходимости ориентировать исследования на анализ «действительного знания», а не его идеализированные формы. Эти два требования особенно развиты в современном так называемом постпозитивизме. Но философия науки Флоровского все же мало чем отличается от гносеологии, может быть, тем только, что тематически несколько шире нее. Так он утверждает, что собственно гносеологическому анализу знания должно предшествовать «дотеоретическое исследование основных типов познавательного творчества, предварительная феноменология научного опыта» [44]. Основное содержание данной работы посвящено обоснованию, что аксиомы геометрии не [194] являются абсолютными и достоверными истинами, а имеют относительную природу, и все математическое знание не имеет приписываемого ему абсолютного характера. Его истины обусловлены границами, в которых это знание пребывает. Не имея безусловного характера, понятия дедуктивного знания приобретают статус фикций, т.е. терминов, лишенных реального значения. Всякая наука является опытной, математика — в их числе; символы последней — удобные ухищрения для определенных познавательных целей, за пределами которых они бессмысленны. Но нам важно отметить иную черту в теоретической позиции Флоровского. Рассматривая природу познания, он утверждает, что его теоретическая составляющая возникает независимо от опытной. Например, по его мнению, ньютоновская небесная механика возникла независимо от тех наблюдений, которые десятилетиями накапливала Гринвичская лаборатория. Суть дела, по утверждению Флоровского, в том, что теория как бы сама задает себе свой объект, сферу своего опыта. То есть эксперимент является функцией «экспериментального суждения», как выражается Флоровский, в котором строится некий «гипотетический символ, объединяющий чувственные факты». Это объединение имеет статус условности, не определяемой объективными связями элементов опыта. Таким образом, теория «как бы» охватывает свою предметную сферу, «как бы» объясняет ее, т.е. имеет фиктивный характер: «Идея эволюции позволила отчетливо и стройно охватить в единстве многообразный биологический и палеонтологический материал, как будтобы вся живая природа имеет единого прародителя, от которого веерообразно расходятся все ископаемые и современные виды, как будто существует борьба за существование и естественный отбор и т.д» [45]. Об адекватном воспроизведении в теории реального процесса и речи быть не может. «Познание приходит к бытию, но отправляется не от него». Предсказания должны исполняться, подобно тому как карандаш должен чертить, когти царапаться… Это вывод, находящийся в пределах чистой философии, но структурно он подобен тому строю мышления, которое полагало, что вести себя надо, подчиняясь требованию воображения, иллюзии, фактической прихоти. Преодоление натурализма вовлекало в опасные сферы произвола. Указание на И.И. Лапшина и Г.В. Флоровского, представивших философский фикционализм, как и на марксистскую линию, не исчерпывает материал, относящийся к тому, что нами названо «русским фикционализмом». С. Кржижановский представляет интерес как свидетельство наличия особого пути — через философствующую публицистику, — посредством которого философский фикционализм входил своими идеями в более широкий пласт духовной культуры общества, в его художественную жизнь. Особенно он был воспринят в специфических формах символистическими теориями творчества и художественного познания (А. Белый, В. Брюсов в первую очередь), которые реагировали на модернистические транскрипции философских учений о призрачности познания, о его соотнесенности с самим человеком, а не реальностью, о свободном, неограниченном произволе «духа» в отношении тех символов, которыми он лишь [195] маркирует свое движение в пространстве чистого воображения. Их создателям вполне импонировали риторические фигуры профессиональных философов, подобные следующему суждению Г. Файхингера: «Земля не упадет, если мы вынем из под нее черепаху, на которой она стоит, и небо не обрушится на нас, если мы освободим Атланта от тяготеющей не нем ноши, столь же мало потеряет и философия, если мы устраним из нее идею субстанции: ни наши мысли, ни наши моральные действия не потеряют от этого своей опоры». Еще более провоцирующие высказывания содержались в трудах Ницше и Бергсона. Таким образом, философский фикционализм, сохраняя свою собственную теоретическую генеалогию (И. Кант, позитивистский субъективизм и под.) и свою собственную логику развития, оказал влияние на формирование фикционализма как философско-эстетического учения и художественной теории, войдя важной предпосылкой в становление модернистской культуры Европы конца XIX века. О наличии таких воздействий на русской почве мы можем получить и более конкретное представление по мемуарной трилогии А. Белого [46]. Все эти воздействия сплавливались в единое культур-философское мышление, в котором почти с одинаковой интенсивностью воспроизводились мыслительные конструкции, коренившиеся в философиях модернистического склада: Шпенглера, Чемберлена, Файхингера, Вейнингера и многих других [47]. Говоря о своем собственном умственном становлении, А. Белый делает характернейшее самонаблюдение, ставшее симптоматичным для его времени: «Услышав о том, что эволюция и прогресс, на гребне которых — мы, мягко и безболезненно пронесут человечество в будущее, я начинаю постигать всю скуку такого будущего и проникаюсь непобедимой нелюбовью к позитивистскому мировоззрению, этому винегрету из научных понятий над фактами науки; отсюда — позднейшая моя борьба за эмансипацию фактов от стабилизации их в механицизме и позитивизме; отсюда же — ненависть к оппортунизму, которая выражается в определенном росте пессимизма, заставляющего меня из философских систем отобрать систему, производящую в страдание отказ отжизни; семиклассник-шопенгауэрианец переживает картину мира по Шопенгауэру, имея образцом этого мира с детства ему поданный пессимизм, переходящий в анархизм, в трагическое миросозерцание борьбыи героических усилий к созданию ценностей, переживаемых по Ницше… Моя борьба — борьба с преодолением «ножниц» меж личной моей волей к новому и поданным мне представлением будто бы объективности» [48]. В приведенной цитате выразился итог индивидуального движения мыслящего художника к модернистическому мировоззрению с его трагической деобъективированной тональностью. Следует указать еще и на четвертую линию, или форму проявления фикционализма, прочерчивающуюся в методологических воззрениях ученых, — главным образом натуралистов и представителей точного логико-математического знания. Среди них к началу текущего века утвердилась и получила изрядное распространение идея «полезных фикций», которые, «подобно лесам, которые возводятся около здания при [196] постройке и немедленно убираются прочь по окончании работ» [49]. В этом смысле заинтересованно отнесся к нему С.И. Поварнин [50], влияние которого можно встретить в философских воззрениях А.А. Любищева. И в этом случае интерес к фикциям вызван проблемами научного творчества и выяснением механизмов реализации активности мышления в его процессе. Фикции вписывались в один ряд с научными абстракциями и понимались как временное вспомогательное средство, которое можно без последствий для познания убрать после получения конечного результата. Выделенные четыре линии в «русском фикционализме» в общем согласуются с характером развития представлений о роли фикций в европейской философии и науке.