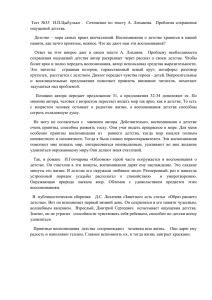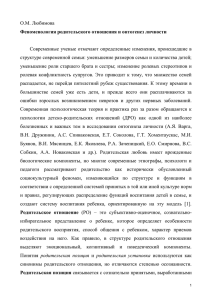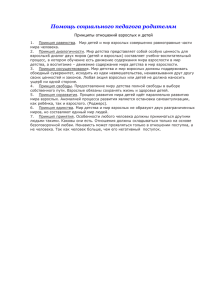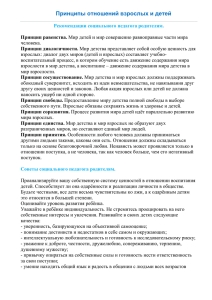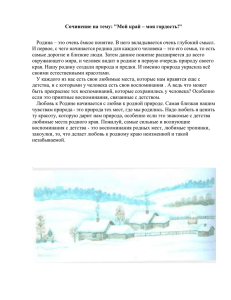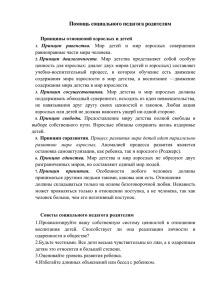Рефлексии о рефлексиях, или Детские истории зрелого историка
advertisement

И.В. Нарский Рефлексии о рефлексиях, или Детские истории взрослого историка «Попытки найти отчетливый образ на ковре наших сочинений могут показаться так же обескураживающими, как попытки искать его в нашей жизни; но вплести этот образ post facto… – это всегда искушение». К. Гирц1 Прежде всего, необходимо объяснить, почему я рискнул обратиться столь деликатному занятию письменных публичных размышлений о собственном завершенном исследовательском проекте без принуждающих к тому внешних обстоятельств вроде отрицательных рецензий или организованного коллективного обсуждения на страницах журнала. Для этого было как минимум три причины. Во-первых, мой первоначальный замысел проанализировать на конкретном примере стратегии использования приватной фотографии как исторического источника привел к изначально незапланированному результату – созданию книги, в значительной степени посвященной советскому детству2. Во-вторых, книга вызвала большое количество (преимущественно неофициальных) реакций, полученных мною от читателей, что заставило меня постфактум интенсивно размышлять о специфике жанра уже изданного труда и особенностях его рецепции. Втретьих, в ходе этих размышлений возникли определенные соображения по поводу возможности включить индивидуальный проект в социально-культурный контекст, более широкий, чем собственно историографическая традиция. Таким образом, рефлексии об исследовательском опыте в данном случае не предлагают некий образец для подражания, а представляют собой попытку обсудить более общие проблемы создания и изучения детских текстов, а также стратегии репрезентации (советского) детства в историческом исследовании. 1. «Детские» тексты, занимающие примерно четверть объема «Фотокарточки на память», возникли, конечно, не случайно, а в результате намерения исторически контекстуализировать (мое собственное) детское фотоизображение 1966 г. В рамках внешней критики фотографического источника закономерно обнаружилась задача создания дополнительного «источника», позволяющего взглянуть на обстоятельства возникновения и бытования конкретной фотографии из перспективы участвовавшего в фотографической ситуации ребенка. При этом я оказался в затруднительном положении. С одной стороны, я ясно осознавал и счел необходимым предупредить читателя (с. 481), что мои воспоминания о детстве не являются аутентичными детскими3, а также прибегнуть, 2 для более эффективного контроля над исследовательским процессом и чтением, к ряду технических приемов, помогающих преодолеть иллюзию «подлинности» источников. Это – структурирование рассказов о детстве, нарушающее «биографическую иллюзию» (Ж.-К. Пассерон) о телеологической линейности превращения ребенка во взрослого; составление текстов от третьего лица; их обрамление справочными обзорами о проблемах памяти, детской психологии и пр.; прямые указания на использование традиций и стереотипных формул литературы о детстве; сознательное столкновение общепринятых и табуированных сюжетов в описании переживаний и поведения ребенка. С другой стороны, мне хотелось максимально усилить «эффект реальности» «детских» текстов, «вытащить на поверхность то, что представляется убедительной исторической действительностью»4, введя в воспоминания о детстве аутентичные материалы, бытовые детали, стилистику детской речи. Признаюсь, в тех случаях, когда в текстах повествовалось о событиях и переживаниях, которые я до тех пор оберегал от обсуждения даже с самыми близкими людьми, преодолеть обаяние «подлинности» собственных воспоминаний мне не удается по сей день5. 2. В читательской аудитории книга вызвала трудности с определением ее жанра6. Она оценивается как отмеченное «парадоксальностью жанра» «историческое исследование, хотя и особого рода» (И. Кукулин), как «экспериментальная книга» (С.С. Секиринский, Э. Кон), напоминающая «различные жанры литературы нон-фикшн» (Г.А. Янковская), а также как воспоминания, исповедь, художественная проза7 и даже «готовый киносценарий». В контексте истории детства стоит упомянуть два момента в рецепции «Фотокарточки на память». Во-первых, читатели обратили внимание на (сознательно созданную) стилевую разноголосицу сквозных тематических линий книги («Дневник исследователя», «Фотографическая тема», «Детские воспоминания», «Семейные истории» и др.), иногда оцененную как недостаток. Причем очевидна зависимость оценок от культурного опыта читателя. В то время как С.С. Секиринский заметил контраст между теоретически перегруженными, по его мнению, исследовательскими эссе и эмоционально захватывающими «детскими» текстами, Э. Кон счел, что бытовые подробности «детских» историй более интересны автору, чем читателю. Американский рецензент приводит в качестве такого малоинтересного примера детальное описание интерьера квартиры бабушки и дедушки, которое российский читатель, напротив, оценил, как «абсолютную удачу». Интересно, что некоторые из российских читателей, начавшие читать книгу как пособие по визуальной истории, вскоре увлеклись именно детской темой, с удовольствием «выковыривая» соответствующие эссе, «как из булки изюм». Видимо, «эффект реальности» (и узнавания) оказался наиболее действенным для читателей – бывших 3 советских детей, с удовольствием «примеряющих на себя» авторские воспоминания о советском детстве. Во-вторых, от рецензентов не укрылось то, что «тон и аура этой книги неисправимо ностальгичны» (Г.А. Янковская). Действительно, ностальгическая окраска «детских» историй сознательно заострена в связи не только с эмоциональным накалом темы, но и с убеждением, что распространенный в 1990-е годы подход к «счастливому советскому детству» как к исключительно государственной пропагандистской конструкции, жестко противостоявшей горькой реальности, оказался естественной реакцией на прежнюю идеализацию советской действительности, но не очень плодотворной познавательной конструкцией. Во всяком случае – в отношении советского детства 1960-х гг. с меньшим грузом бытовых дефицитов и трехмесячными (зачастую выездными) летними каникулами, проводимыми чаще всего в гостях у родителей отца или матери. 3. Представляется весьма симптоматичным появление в последние годы художественной, публицистической и – пока лишь в начатках – исторической литературы внуков о бабушках и дедушках8. Ностальгия внуков проявляется и за ее пределами. Показательно, что Ю. Слезкин посвятил своим бабушкам нашумевшую книгу о ХХ веке как «еврейском веке»9. Исследование о советском детстве А.А. Сальникова «писала о своих бабушках и дедушках, чье детство пришлось на мятежные 1910 – 1920-е годы»10. Авторов-внуков роднят общие черты. Во-первых, большинство из них родилось в послевоенное 15-летие11. Они – внуки бабушек и дедушек, которые родились, как правило, на рубеже XIX – XX вв. Это поколение с дореволюционной социализацией находилось с внуками в тесном эмоциональном контакте и делилось с ними своим прошлым, знание о котором чаще всего было недоступно их детям в сталинскую эпоху. Два события, иногда совпадавшие по времени, разорвали связи «дедов» и «внуков»: гибель СССР и уход старшего поколения из жизни. Во-вторых, литература внуков ностальгична (но не антикварна). Не следует забывать, что на рубеже ХХ – XXI вв. внуки из возраста «инициатив» (30 – 45 лет), в терминологии Х. Ортеги-и-Гассета, начали вступать в «век облачения властью» (45 – 60). Можно предположить, что этот переход и является моментом, с которого фиксация воспоминаний, связанных с дорогими стариками и собственным детством, стала восприниматься как экзистенциальная потребность. Есть основания полагать, что литература «внуков» о собственном советском детстве и о ХХ веке своих предков, их семейные истории на фоне Истории с большой буквы по мере ухода живой «натуры», в течение ближайших двух десятилетий (по крайней мере до перехода 50-летнего рубежа последним поколением советских детей) будет иметь хорошую конъюнктуру. 4 4. Социально-культурный фон нынешнего повышенного интереса к советскому детству позволяет осознать одну из главных трудностей, с которой сталкиваются его современные российские исследователи: они оказались в невозможной, на первый взгляд, ситуации аборигенов, ставших своими собственными этнографами12. В такой ситуации оказываются представители наук об обществе и человеке – очевидцы смены эпох. Ситуация современных российских историков отнюдь не аномальна. В подобное положение попали, например, европейские историки по окончании Первой мировой войны, когда даже медиевисты обратились к изучению событий, свидетелями и участниками которых они являлись, или нынешние исследователи Холодной войны. Плюсы и минусы применения этнологического инструментария к изучению «чужой» и «своей» культуры, в том числе истории детства13, хорошо известны. Ключевой недостаток исследования феноменов «родной» культуры антропологом или историком состоит в «соблазне выдать за объективную и универсальную точку зрения, обусловленную жизненной историей и социальной позицией исследователя…»14 Как этот соблазн преодолеть – вроде бы тоже понятно: с помощью интенсивной и неусыпной рефлексии исследователя по поводу собственной включенности в исторический процесс15, за счет контролируемой инструментализации «памяти сознания и тела»16. Однако как воплотить эту установку в конкретном исследовании? Поборники культурной истории неоднократно высказывали предложения по этому поводу, корректно обобщенные следующим образом: «…рефлексия историка по поводу своей исследовательской практики порождает особую этику и эстетику культурной истории. Наряду с уважительным отношением к своим героям из прошлого, с которыми историк ведет равноправный диалог без примесей патерналистской назидательности, это проявляется во внимании к читателю через придание научному тексту литературных достоинств и введение в него не только изложения научных результатов, но и самого процесса исследования, включая описание использованных подходов»17. Диалогичность, допуск в исследовательскую лабораторию, включение в текст автобиографических размышлений и пользование языком, «понятным и за пределами научных языковых игр»18 – черты классических образцов культурной истории последних трех десятилетий (созданных под влиянием ставших хрестоматийными работ К. Гирца, М. Фуко и К. Гинзбурга). История советского детства представляется одной из наиболее подходящих экспериментальных «площадок» для целенаправленной апробации такого подхода, который я бы обозначил как «лирическая историография». Ее принципиальной установкой могло бы стать наличие в тексте фигуры активного автора – не бесстрастного арбитра, а 5 заинтересованного участника исторического процесса, создающего эффект реальности и одновременно раскрывающего технологию его создания, провоцирующего читателя на сопереживание и дискуссию, словом – обнажающего и использующего свой личный опыт в контролируемом исследовательском процессе и изложении его результатов. Вряд ли этот подход, нуждающийся в детализации и проработке и ставящий перед исследователем весьма непростые задачи, получит в научном цехе широкое признание и применение. Но рискнуть можно. Тем более что большинство российских историков, занимающихся историей советского детства и находящихся в возрасте «инициатив» и «облачения властью», в прошлом – советские дети. Их индивидуальная «память сознания и тела», при определенной «настройке», могла бы стать не только эффектным, но и эффективным орудием в их исследовательском арсенале. Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 5. Нарский И.В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историо-графический роман). Челябинск, 2008. 516 с. 3 Я разделяю мнение К. Келли о малой продуктивности поисков «первоначального и аутентичного» при исследовании истории детства. См.: Келли. К. Об изучении истории детства в России XIX – ХХ вв. / Какорея. Из истории детства в России и других странах. М. – Тверь, 2008. С. 39. 4 Le Goff J. Ludwig der Heilige. Stuttgart, 2000. S. 6. 5 См., напр., эссе «Первая любовь» / Фотокарточка на память… С. 360 – 369. 6 В дальнейшем я опираюсь на вышедшие рецензии (Кукулин И. Фотокграфическое печенье «мадлен» // НЛО. 2008. № 4 (92). С. 211 – 224; Секиринский С.С. Западный контекст, российская почва, личность историка //ОИ. 2008. № 6. С. 161 – 163; Янковская Г.А. Анти-Хаксли, или Миссия выполнима // Диалог со временем. 2009. Вып. 28. С. 335 – 341; Cohn E. Narskii I. V. Fotokartochka na pamiat’: Semeinye istorii, fotograficheskie poslaniia i sovetskoe detstvo (Avtobio-istorio-graficheskii roman). Cheliabinsk: Entsiklopedia, 2008. 515 pp. // RR. 2009. № 9. P. 720 – 721), а также на электронную частную корреспонденцию. Имена авторов цитируемых в тексте частных писем не приводятся. 7 В 2008 г. книга вошла в шорт-лист литературной премии Андрея Белого в номинации «Проза». 8 См., напр.: Макин А. Французское завещание// Иностр. лит. 1996. № 12. С. 18–127; Брускин Г. Мысленно вами. М., 2003; Dische I. Großmama packt aus. Hamburg, 2005: Gessen M. Esther und Rusja. Wie meine Großmütter Hitlers Krieg und Stalins Frieden überlebten. München, 2005; Ольчак-Роникер И. В саду памяти. М., 2006; Молкина О. И. Над нами Красный крест. Петербургская семья на фоне ХХ века. СПб., 2007; Лаврентьева Е. В. Бабушка, Grand-mère, Grandmother...: Воспоминания внуков и внучек о бабушках, знаменитых и не очень с винтажными фотографиями XIX–ХХ веков. М., 2008; она же: «Хорошо было жить на даче…»: Дачная и усадебная жизнь в фотографиях и воспоминаниях. М., 2008. 9 Слезкин Ю. Эра Меркурия: Евреи в современном мире. М., 2005. С. 5. 10 Сальникова А.А. Российское детство в ХХ веке: История, теория и практика исследования. Казань, 2007. С. 10. 11 Среди упомянутых в сносках 8–10 исключение составляют А. Чудаков и М. Гессен, родившиеся в 1938 и 1967 гг. 12 О принципиальной невозможности такой ситуации см. высказывание К.С. Н. Ингерфлома при обсуждении статьи К. Келли «Школьный вальс»: Антропологический форум. 2004. № 4. С. 33. Конечно, современные взрослые, исследующие детство того периода, когда они сами были детьми, изучают, подобно классическим этнологам, «чужую» культуру, проникнуть в которую отнюдь не просто. Тем не менее, учитывая устойчивость багажа социализации, культурных стереотипов и структур здравого смысла, от которых невозможно освободиться даже в ходе самой радикальной альтернации, можно в определенной степени говорить о ситуации, в которой ученый одновременно является экспериментатором и подопытным кроликом. 13 См.: там же. С. 7 – 107. 14 Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. М., 2005. С. 14. 15 См., напр.: Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001. 16 Козлова Н.Н. Указ. соч. С. 14. 17 Ровный Б.И. Введение в культурную историю. Челябинск, 2005. С. 11. 18 Daniel U. Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schluesselwoerter. Frankfurt am M., 2001. S. 19. Цит. по: Ровный Б.И. Указ. соч. С. 55. 1 2