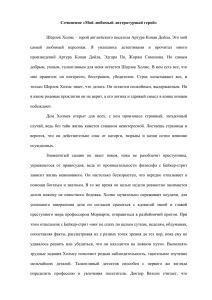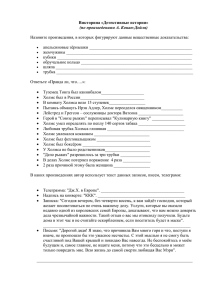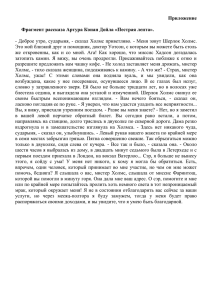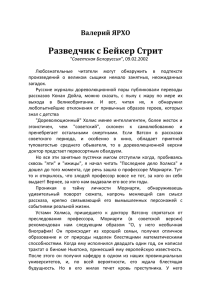[О Шерлоке Холмсе] Артур Конан Дойл Из книги “Воспоминания и приключения”
advertisement
![[О Шерлоке Холмсе] Артур Конан Дойл Из книги “Воспоминания и приключения”](http://s1.studylib.ru/store/data/003972234_1-164a7885ae80a5573be280fbe3381d93-768x994.png)
Артур Конан Дойл [О Шерлоке Холмсе] Из книги “Воспоминания и приключения” Воспоминания студента <…> Но самой выдающейся личностью из всех, с кем я познакомился, был некто Джозеф Белл, хирург Эдинбургской больницы. Белл был весьма замечательным человеком, как внешностью, так и умом. Он был высок, жилист, темноволос, с длинноносым проницательным лицом, внимательными серыми глазами, худыми плечами и дергающейся походкой. У него был резкий голос. Он был очень искусным хирургом, но особенно силен в диагностике, причем не только болезней, но и профессии и характера. По причинам, оставшимся для меня загадкой, он выделил меня из толпы студентов, часто посещавших его палаты, и сделал меня своим амбулаторным секретарем, что означало, что я должен был вести картотеку его амбулаторных больных, делать краткие описания их болезней, а затем вводить по очереди в большой кабинет, где торжественно восседал Белл в окружении хирургических сестер и студентов. Зато я имел широкую возможность изучить его методы и убедиться, что зачастую он, мельком взглянув на пациента, узнавал о нем больше, нежели я, задававший тому вопросы. Иногда результаты были просто поразительны, но в некоторых случаях и он ошибался. В самом своем удачном случае он сказал пациенту в гражданском платье: — Ну, любезный, вы служили в армии? — Да, сэр! — Недавно уволились? — Да, сэр! — Из Хайлендского полка? [то есть из шотландского полка] — Да, сэр! — Сержант? — Да, сэр! — Стояли на Барбадосе? — Да, сэр! — Видите ли, джентльмены, — пояснил он, — это человек воспитанный, но шляпы не снял. Такого не делают в армии, но если бы он давно вышел в отставку, он приобрел бы уже гражданские манеры. У него уверенный вид, и, без сомнения, он шотландец. А Барбадос — так как он страдает слоновой болезнью, что обычно для Вест-Индии, а не для Британии. Слушавшим его Ватсонам все это казалось чудом, пока не получало объяснений и тогда становилось достаточно очевидным. Не удивительно, что после изучения подобной личности я использовал и расширил применение его методов, когда впоследствии пытался создать образ ученого-детектива, который расследует преступления благодаря своим способностям, а не глупости злоумышленника. Белл очень интересовался моими детективными рассказами и даже делал предложения, — должен сказать, не совсем по делу. Я поддерживал с ним связь много лет, и он даже взбирался ко мне на трибуну, чтобы оказать мне содействие, когда я баллотировался в Эдинбурге в 1901 году. <…> Первый успех в литературе Во времена, предшествовавшие моей женитьбе, я иногда писал рассказы, вполне годные на то, чтобы продать их по очень низкой цене — в среднем фунта по четыре, — но негодные к переизданию. Они разбросаны по страницам журналов. Пусть они там и остаются. Они сделали свое дело, чуть-чуть облегчили мне финансовое бремя, всегда давившее на меня. Едва ли я получал из этого источника больше десяти — пятнадцати фунтов в год, так что мне и в голову не приходило сделать их основным средством существования. Но, хотя публиковать мне было нечего, я начал заниматься собирательством. У меня до сих пор хранятся записные книжки, полные сведений любого рода, которые мне тогда попадались. Огромная ошибка — начать разгружать судно, когда вы еще его как следует не загрузили. Мой медлительный метод и естественные ограничения позволили мне избежать этой опасности. После женитьбы, однако, мой ум, казалось, стал острее, а воображение и возможности выражения весьма улучшились. Большинство рассказов, появившихся со временем в моем “Капитане Полярной Звезды”, было создано в тот период, с 1885 по 1890 год. Иные из них были, возможно, написаны столь же добросовестно, как и любая другая моя вещь. Что принесло мне огромную радость и заставило впервые осознать, что я больше не являюсь литературным поденщиком и выхожу на истинный уровень, — так это то, что Джеймс Пейн [Джеймс Пейн (1830—1898) — английский издатель, поэт, эссеист, издавал журнал “Корнхилл мэгэзин”, который печатает поэзию, прозу, рецензии, издается ежеквартально в Лондоне с 1866 года.] принял в “Корнхилл” мой рассказ “Сообщение Хебекука Джефсона”. Я питал уважение к этому прекрасному журналу с его традициями, идущими от Теккерея к Стивенсону [Роберт Луис Стивенсон (1850—1894) — английский писатель, автор широко известной приключенческой повести “Остров сокровищ” (1883), исторического романа “Черная стрела” (1888), а также психологической повести “Странная история д-ра Джекила и м-ра Хайда” (1886); повесть “Дом на дюнах” (1882) также не лишена психологической достоверности.], и мысль, что я пробил себе в него дорогу, была мне даже приятнее, чем чек на тридцать фунтов, который я в должное время и получил. Разумеется, рассказ был анонимным — таков был закон журнала, — что предохраняло автора от оскорблений, равно как и от славы победителя. Одна из газет начала свою рецензию с фразы: “"Корнхилл" открывает свой новый номер рассказом, от которого Теккерей перевернулся бы в гробу”. А один добрый старый джентльмен, знавший меня, поспешил перейти через дорогу, чтобы показать мне газету с этими ободряющими словами. Другой, более милосердный источник писал: “"Корнхилл"” начинает новый год с чрезвычайно впечатляющего рассказа, в котором мы можем проследить влияние автора серии рассказов "Современные тысяча и одна ночь"” [эта серия рассказов Стивенсона с июня по октябрь 1878 года печаталась в журнале “Лондон”; отдельной книгой, но уже под заглавием “Новые тысяча и одна ночь”, вышла в 1882 году. В серию входит два цикла: “Клуб самоубийц” (три рассказа) и “Алмаз Раджи” (четыре рассказа).]. Это было большой похвалой, однако что-нибудь менее ободряющее, но непосредственно в мой адрес, порадовало бы меня гораздо больше. Вскоре в “Корнхилле” вышло еще два моих рассказа — “Долгое небытие Джона Хаксфорда” и “Кольцо Тота”. Я также преодолел прочный барьер шотландского “Блэквуда” [журнал “Блэквуд Эдинбург мэгэзин”, основан в 1817 году; в нем печатались многие известные английские писатели] благодаря рассказу “Жена профессора физиологии”, написанному под влиянием Генри Джеймса [Генри Джеймс (1843—1916), американский писатель, показывающий в своих романах психологические конфликты, которые имеют социальную мотивировку; автор повести “Дэзи Миллер” (1878), романов “Женский портрет” (1881), “Бостонцы” (1886) и др. В 1915 году писатель переселился в Европу и принял затем британское подданство]. Но для меня все еще продолжался период очень малых форм — таких, что, когда газета прислала мне гравюру на дереве и предложила четыре гинеи, если я смогу написать по ней рассказ, я был не так горд, чтобы пренебречь этим. Гравюра оказалась прескверной, и рассказ, думается, ей вполне соответствовал. Помнится, я сочинил и повествование о Новой Зеландии, хотя представить себе не могу, почему взялся писать о месте, не зная о нем решительно ничего. Один новозеландский критик отметил, что я указал, будто описанная мной ферма отстоит от города Нельсона ровно на девяносто миль то ли к западу, то ли к востоку, а в таком случае она находится на дне Тихого океана милях в двадцати от берега. Подобные небольшие ляпсусы порой случаются. Иной раз аккуратность необходима, а порой все построено на идее, а место действия совершенно несущественно. Примерно через год после женитьбы я понял, что могу продолжать писать рассказы всю жизнь и никогда не добьюсь признания. Для этого необходимо, чтобы ваше имя оказалось на корешке книги. Только так вы утвердите свою индивидуальность, и ваши достижения либо приобретут высокую репутацию, либо заслужат презрения. Какое-то время с 1884 года я был занят остросюжетной приключенческой книгой “Торговый дом Гердлстонс”, которая стала моей первой попыткой связного повествования. За исключением отдельных фрагментов, эта книга ничего не стоит и, как первая книга любого автора, если он от природы не великий гений, имеет слишком много общего с произведениями других. Я и тогда это видел, но еще яснее осознал потом. Когда я послал ее издателям, а они отнеслись к ней с презрением, я вполне согласился с их решением, и в конце концов, после неоднократных путешествий в город, растрепанная рукопись осталась покоиться в дальнем ящике моего письменного стола. Теперь же я чувствовал, что способен на что-то более свежее, яркое и искусное. Габорио [Эмиль Габорио (1835—1873) — французский писатель детективного жанра; наиболее известны его романы: “Дело Леру” (1866), “Досье № 113” (1867) и др.] сильно привлекал меня тем, как он умел закручивать сюжет, а проницательный детектив месье Дюпен Эдгара По [мосье Дюпен, герой рассказов “Убийство на улице Морг”, “Тайна Мари Роже” и др. американского писателя Эдгара Аллана По (1809 - 1849), родоначальника жанра детективной новеллы, для которых характерно мастерство и остроумие в логических построениях, что приводит к раскрытию запутанных и сложных перипетий и обстоятельств, таинственных преступлений. В своих критических произведениях По разработал теорию поэзии и короткого рассказа.] был еще с детства одним из моих любимых героев. Не смогу ли я привнести что-то свое? Я подумал о своем бывшем преподавателе Джо Белле, его орлином профиле, странной манере поведения, сверхъестественной способности отмечать детали. Будь он детективом, он непременно привел бы это завораживающее, но неупорядоченное дело к чему-то близкому точной науке. Попробую, смогу ли добиться подобного. В реальной жизни это, безусловно, возможно, так почему бы мне не попытаться осуществить это в литературе? Конечно, очень легко написать, что какой-то человек умен, но читатель хочет видеть тому примеры — такие, как Белл каждый день преподносил нам в больничных палатах. Меня увлекла эта идея. Какое бы имя дать этому типу? До сих пор у меня хранится листок из записной книжки с различными вариантами имен. Упрощенный подход, когда в именах отражаются черты характера персонажа и создаются фамилии типа м-р Шарпе и м-р Ферретс, вызывал у меня протест. Сначала он был Шеррингфордом Холмсом, потом стал Шерлоком Холмсом. Сам он о своих подвигах рассказывать не мог, так что для контраста ему нужен был простоватый товарищ — человек образованный и предприимчивый, который смог бы участвовать в событиях и повествовать о них. Для этого скромного персонажа подошло бы простое, неброское имя. Пусть будет Ватсон. Так я создал своих марионеток и написал “Этюд в багровых тонах”. Знаю, что эту книгу я сделал на совесть, и возлагал на нее большие надежды. Когда “Гердлстон” возвращался ко мне с постоянством почтового голубя, я был огорчен, но не удивлен, поскольку и сам был согласен с этим. Но когда и с маленькой книжкой о Холмсе стало повторяться то же самое, я почувствовал обиду, потому что знал, что она достойна лучшей доли. Джеймс Пейн горячо одобрил ее, но посчитал как слишком короткой, так и чересчур длинной, что в большой степени было правдой. Эрроусмит получил ее в мае 1886 года и вернул непрочитанной в июле. Двое-трое других фыркнули и отвернулись. В конце концов, так как “Уорд, Локк и Компания” [издательство в Лондоне, выпускает энциклопедии, справочники, книги для детей] специализировались на дешевой и зачастую остросюжетной литературе, я послал ее им. “Уважаемый сэр, — ответили они. — Мы прочли Ваш рассказ, и он нам понравился. Мы не сможем опубликовать его в этом году, так как в настоящее время рынок забит дешевой литературой, но, если Вы не возражаете, чтобы эта вещь подождала до следующего года, мы предлагаем Вам двадцать пять фунтов за авторские права. Искренне ваши, "Уорд, Локк и Компания". 30 октября 1886 года”. Предложение было не слишком соблазнительным, даже такой бедняк, как я, сомневался, стоит ли его принять. И дело было не только в том, что сумма ничтожно мала, но предполагалась долгая отсрочка, а ведь эта книга могла открыть мне дорогу. Я, однако, уже устал от беспрерывных разочарований и почувствовал, что, наверное, поистине разумно было бы обеспечить себе известность, хотя бы и с опозданием. Так что я согласился, и книга стала “Рождественским ежегодником Битона” за 1887 год. А “Уорд, Локк и Компания” совершили замечательную сделку, поскольку они не только выпустили эту книгу на Рождество, но напечатали множество ее переизданий и, наконец, за столь ничтожную плату приобрели даже ценное право на экранизацию. Больше я никогда уже не получил за нее ни пенни от этой фирмы, поэтому не чувствую, что обязан быть им благодарным, даже если они и открыли мне путь в жизнь. Поскольку ждать, когда появится эта книга, пришлось долго, а моя творческая мысль продолжала работать, я решил испытать свои силы до конца и для этого избрал жанр исторического романа. Он казался мне единственной формой, где определенные литературные достоинства сочетаются с захватывающим развитием действия и приключенческими эпизодами, которые естественно занимали мое молодое и пылкое воображение. Пуритане всегда внушали мне глубокую симпатию — в конце концов, несмотря на свои маленькие странности, они олицетворяли политическую свободу и приверженность религии. Обычно и в искусстве и литературе их изображают в карикатурном виде. Даже Вальтер Скотт [Вальтер Скотт (1771—1832) — английский писатель и поэт, автор широко известных исторических романов “Уэверли” (1814), “Гай Мэннеринг” (1815), “Айвенго” (1819), “Квентин Дорвард” (1823), “Граф Роберт Парижский” (1831) и др.] описал их не такими, какими они были на самом деле. Маколей [Томас Бабингтон Маколей (1800—1859) — английский историк и политический деятель; в “Критических и исторических очерках” (1843), а также многотомной “Истории Англии от восшествия на престол Якова II” (1849— 1861) представляет Англию как движение по пути прогресса под руководством партии вигов.], который всегда вдохновлял меня более других, оказался единственным, кто сделал их понятными, — мрачных борцов с палашом в одной руке и Библией в другой. У него есть прекрасный пассаж — я не смогу процитировать его дословно, — где говорится, что после Реставрации [эпоха Реставрации началась в Англии с возвращением на престол Карла II Стюарта в 1660 году. После этого в 60-80-е годы в Англии происходила реакция на строгость пуританских норм поведения; отсюда аморализм и испорченность нравов дворянско-аристократических и придворных кругов. Затем наступила эпоха Просвещения (XVIII век), когда жили и творили такие писатели, как Свифт, Филдинг и др. Многие из них были убежденными сторонниками просвещения народных масс. Возможно, в данном случае автор полагает, что в эпоху Реставрации в широких слоях английского народа остались высокие нравственные идеалы.], если вам попадался возчик, более разумный, чем его товарищи, или крестьянин, обрабатывающий землю лучше других, то вы, похоже, встретились с бывшим копейщиком армии Кромвеля. Таким образом, пуританство стало вдохновляющей идеей “Мики Кларка”, где я достаточно явно вышел на широкую приключенческую стезю. Я хорошо разбирался в истории, однако потратил несколько месяцев на уточнение деталей, зато самое книгу написал очень быстро. Некоторые куски в ней мне не пришлось даже дорабатывать, например описание пуританской братии и судьи Джеффриза [Джордж Джеффриз (1б48—1б89) — главный судья суда Королевской скамьи, то есть суда под председательством короля, который существовал до 1873 года; в своей “Истории Англии” Маколей отмечает, что беззакония этого человека вошли в поговорку.]. Когда книга в начале 1888 года была закончена, я возлагал на нее большие надежды, и она отправилась в свое путешествие. Но увы! Хотя уже вышла моя книжечка о Холмсе, получившая некоторый положительный отклик, двери все еще, казалось, были на засове. Первым взглянул на роман “Мика Кларк” Джеймс Пейн, и его письмо, содержащее отказ, начиналось с фразы: “Как вы могли, как вы только могли тратить свое время и мозги на писание исторических романов”. После года работы это здорово меня огорчило. Потом пришел вердикт Бентли [очевидно, имеется в виду Джордж Бентли (1828—1895), издатель журнала “Бентли мисилейни” (“Литературная смесь Бентли”).]: “По нашему мнению, это лишено основной необходимой особенности литературы — увлекательности, и ввиду этого полагаем, что книга никогда не сможет привлечь внимание ни библиотек, ни широкой публики”. Затем свое слово вставил “Блэквуд”: “Здесь есть препятствующие успеху недостатки. Шансы этой книги на успех у публики не кажутся нам достаточно высокими, чтобы оправдать ее публикацию”. Были и другие отзывы, еще более удручающие. Я собирался было отправить потрепанную рукопись в переплет вслед за ее увечным братом “Гердлстоном”, когда в виде последней попытки отослал ее в издательство “Лонгман” [крупное издательство в Лондоне, выпускающее литературу широкого профиля; основано в 1724 году], чей рецензент Эндрю Лэнг одобрил ее и порекомендовал принять. Этому “Эндрю с пестрыми волосами”, как назвал его Стивенсон, я обязан тем, что он первый открыл меня, и я никогда об этом не забывал. Книга, как и следовало, вышла в феврале 1889 года, и, хотя бума она не вызвала, отклики на нее были самые благоприятные, включая один совершенно особенный м-ра Протера в “Найнтинс сенчери” [английский литературный журнал, основан в 1877 году, который затем стал называться “Твентис сенчери”]. С тех пор и до настоящего времени спрос на нее не падает. Она была первым краеугольным камнем, положенным в основу моей литературной репутации. На английскую литературу была в то время довольно значительная мода в Соединенных Штатах по той простой причине, что там не существовало авторского права и за издание книг не надо было платить. Английским авторам приходилось от этого тяжело, но американским было еще тяжелее, так как они оказывались втянутыми в это разорительное состязание. Как и за любой национальный грех, наказание за него обрушивалось не только на ни в чем не повинных американских авторов, но и на самих издателей, потому что принадлежащее всем не принадлежит на деле никому, и они не могли выпустить ни одного приличного издания без того, чтобы тотчас же кто-то не выпустил более дешевого. Мне попадались кое-какие из моих ранних американских изданий, отпечатанные на бумаге, в которую продавцы заворачивают покупки. Положительным результатом, однако, с моей точки зрения, было то, что английский автор, у которого был кое-какой талант, завоевывал признание в Америке. Затем, когда принят был закон об авторском праве [первый закон об авторском праве был принят в Англии в 1709 году; действующий сегодня закон был принят в 1911 году; по нему авторское право сохраняется за автором пожизненно, за наследниками — в течение 50 лет после его смерти], такой автор уже был хорошо известен читательской аудитории. Моя книжка о Холмсе имела в Америке некоторый успех, и немного времени спустя я узнал, что агент “Липпинкотта” [имеется в виду американский литературный журнал “Липпинкотт мэгэзин”, где печатались высокохудожественные произведения; издавался в Филадельфии] находится в Лондоне и хочет встретиться со мной, чтобы договориться о книге. Нет нужды упоминать, что я на день оставил своих пациентов и с нетерпением явился на назначенную встречу. До того лишь раз мне пришлось соприкоснуться с литературным миром. Было это, когда “Корнхилл” превратился в богато иллюстрированный журнал — эксперимент, который не удался, и потому от него быстро отказались. Эта перемена была отмечена обедом в ресторане “Корабль” в Гринвиче, на который я был приглашен благодаря моему скромному вкладу в этот журнал. Там присутствовали все авторы и художники, сотрудничавшие в журнале, и я помню, с каким почтением я обращался к Джеймсу Пейну, который казался мне стражем у священных врат. Я прибыл одним из первых, и меня приветствовал м-р Смит, глава фирмы, который и представил меня Пейну. Я любил многие из его произведений и с трепетом ожидал первых бесценных слов, которые слетят с его уст. На оконном стекле была трещина, и он по- интересовался, какого черта она там оказалась. Добавлю, однако, что весь мой последующий опыт убедил меня, что во всем мире не было собеседника очаровательнее и остроумнее его. В тот вечер я сидел рядом с Энсти [псевдоним Томаса Энсти Гатри (1856 - 1934), английского литератора; упомянутый в тексте роман “Vice Versa” (лат. наоборот) был опубликован в 1882 году, в нем рассказывается о том, как некий мистер Балтитьюд с помощью волшебства поменялся внешностью со своим сыном-школьником, причем каждый из них сохранил уровень своего умственного развития.], который только что заслужил своим “Vice Versa” [Наоборот (лат.)] огромный успех, и меня познакомили с остальными знаменитостями, так что вернулся я домой в самом приподнятом настроении. Теперь я ехал в Лондон по литературным делам уже во второй раз. Стоддарт [очевидно, имеется в виду Ричард Генри Стоддарт (1825—1903), американский поэт и издатель], этот американец, оказался отличным малым и пригласил обедать еще двоих. Это были Джилл, член парламента, очень забавный ирландец, и Оскар Уайльд [Оскар Уайльд (1854—1900) — английский писатель, выдвигавший в своем творчестве культ красоты как антипода буржуазной пошлости; автор романа “Портрет Дориана Грея” (1891), сборника “Счастливый принц и другие сказки” (1888), ряда пьес и публицистики], который уже прославился как поборник эстетизма. Для меня это был поистине золотой вечер. Уайльд, к моему удивлению, читал “Мику Кларка” и восторженно о нем отозвался, так что я не чувствовал себя тут совсем лишним. Его разговор оставил в моей душе неизгладимое впечатление. Он далеко превосходил всех нас, но умел показать, что ему интересно все, что мы могли произнести. Он обладал тонкими чувствами и тактом. Ведь человек, единолично завладевающий разговором, как бы умен он ни был, в душе не может быть истинным джентльменом. Уайльд в равной степени и брал и давал, но то, что он давал, было уникально. У него была поразительная меткость суждений, утонченный юмор и привычка сопровождать свою речь легкими жестами, присущими только ему. Это впечатление невозможно воспроизвести, но я помню, что по поводу будущих войн он сказал: “С обеих сторон к границе подойдет по химику с бутылкой в руках”, — и его поднятая рука и соответственное выражение лица создали вместе очень живую и гротескную картину. Его остроумные рассказы тоже были веселыми и интересными. Мы рассуждали на тему циничного афоризма относительно того, что нас огорчают удачи наших друзей. “Дьявол, — сказал Уайльд, — шел однажды по Ливийской пустыне и набрел на место, где куча бесенят изводила святого отшельника. Святой легко отмахивался от их вредоносных соблазнов. Увидев их неудачу, дьявол вышел вперед, чтобы преподать им урок. “То, что вы делаете, слишком грубо, — сказал он. — Позвольте-ка мне на минуточку”. И прошептал святому: “Твой брат только что назначен епископом Александрии”. И тотчас же ясный лик отшельника омрачила злобная зависть. “Вот, — сказал дьявол своим бесенятам, — какой прием я бы вам посоветовал”. В результате этого вечера мы с Уайльдом обещали написать по книге для журнала “Липпинкотт” — вкладом Уайльда стал “Портрет Дориана Грея”, книга, без сомнения, очень высокая в моральном отношении, а я написал “Знак Четырех”, в которой во второй раз появился Холмс. Должен прибавить, что ни разу в речи Уайльда я не заметил и намека на вульгарность мысли, и в то время никому и в голову не могло прийти нечто подобное. Я встретился с ним еще только однажды, много лет спустя, и тогда у меня сложилось впечатление, что он сошел с ума. Он, помнится, спросил меня, видел ли я какую-то из его пьес, шедшую тогда на сцене. Я ответил, что нет. Он сказал: “Ну, вы должны посмотреть. Она восхитительна. Она гениальна!” И все это с самым серьезным выражением лица. Нельзя вообразить ничего менее похожего на его джентльменские манеры в прежние времена. Я подумал тогда и сейчас еще думаю, что чудовищная эволюция, которая его погубила, носила патологический характер, и заниматься им следовало скорее в больнице, нежели в полицейском участке. Когда вышла его маленькая книжка, я написал ему, что я о ней думаю. Его ответ полезно воспроизвести, потому что он показывает истинного Уайльда. Я опускаю начало, где он отзывается о моем собственном произведении в слишком благосклонных выражениях. “Между мной и жизнью всегда стоит пелена слов. Я выкину в окно правдоподобие ради фразы, а возможность эпиграммы заставит меня отступить от истины. И все же я вижу цель в создании произведения искусства, и мне действительно очень приятно, что вы считаете мою трактовку тонкой и удачной с художественной точки зрения. В газетах, мне кажется, пишут для филистеров люди похотливые. Я не понимаю, как они могут считать “Дориана Грея” аморальной книгой. Трудность состояла для меня в том, чтобы подчинить заложенную в ней мораль художественному и драматическому эффекту, и мне все еще кажется, что мораль тут чересчур очевидна”. Воспрянув духом от доброжелательного приема, оказанного “Мике Кларку” критикой, я теперь решился на еще более дерзновенный и честолюбивый шаг. Мне казалось, что времена Эдуарда III [Эдуард III (1312—1377), английский король с 1327 года; начал Столетнюю войну с Францией (1337—1453), ограничил влияние папства в Англии.] ознаменовали величайшую эпоху в истории Англии — эпоху, когда и король Франции и король Шотландии были оба заточены в тюрьму в Лондоне. Это произошло главным образом благодаря мощи простого народа, прославленного по всей Европе, но которого никогда не изображала английская литература, ибо, хотя Вальтер Скотт в своей непревзойденной манере и вывел английского лучника, у него это скорее разбойник, чем солдат. У меня также имелись собственные соображения по поводу Средневековья, которыми я горячо желал поделиться с читателем. Я хорошо изучил Фруассара [Жан Фруассар (1337 — после 1404) — французский хронист и поэт; в “Хрониках” отразил события Столетней войны] и Чосера [Джеффри Чосер (1345 (?)—1400) — английский поэт, основоположник английской литературы и английского литературного языка, автор “Кентерберийских рассказов” (1387—1400), где представлена яркая картина тогдашней действительности] и сознавал, что знаменитые рыцари старых времен, представлявшиеся Скотту могучими героями, отнюдь ими не были и очень часто сильно от них отличались. В результате вышли две мои книги — “Белый отряд”, написанный в 1889 году, и “Сэр Найджел”, написанный четырнадцатью годами позже. Из них последнюю я считаю лучшей. Но у меня нет ни малейшего сомнения, что обе они в полной мере воплотили мой замысел — точно воспроизвели картину великой эпохи, а взятые вместе как самостоятельное произведение являются самым искусным, убедительным и амбициозным творением из всего, написанного мною. Все находит свое место, но мне думается, что, если бы я никогда не брался за Холмса, затмившего мое более серьезное творчество, я занимал бы сейчас в литературе более значительное место. Эта работа потребовала многих разысканий, и до сих пор я храню записные книжки, полные сведений самого разного рода. Я предпочитаю простой стиль и, насколько это возможно, избегаю длинных слов, и, может быть, из-за этой внешней легкости читатель порой не смог оценить полного объема разысканий, лежащих в основе всех моих исторических романов. Однако это не так уж сильно меня огорчает, потому что я всегда чувствовал, что справедливость в конце концов восторжествует и истинная ценность любого произведения не может быть утрачена. Помнится, что, написав заключительные слова “Белого отряда”, я ощутил волну восторга и с криком “Дело сделано!” запустил ручкой, на которой еще не высохли чернила, через всю комнату, так что на светлых серо-зеленых обоях осталась черная клякса. В душе я был уверен, что эта книга будет жить и прибавит нам знаний о национальных традициях. Сейчас, когда она выдержала пятьдесят переизданий, я, думается, могу со всей скромностью утверждать, что мои предчувствия оправдались. Это была моя последняя книга, написанная в период, когда я работал врачом в Саутси, она означает эпоху в моей жизни, так что теперь я могу вернуться к некоторым другим моментам в последние годы моего обитания в “Буш-вилле” до того времени, когда я начал новую жизнь. Мне остается только добавить, что “Белый отряд” был принят “Корнхиллом”, несмотря на отношение Джеймса Пейна к историческим романам, и что исполнилось еще одно мое горячее желание — печатать в этом знаменитом журнале роман с продолжением. <…> Великая перемена Мы отправились в путь в холодный зимний день 1890 года, рискуя за время долгого путешествия быть занесенными снегом. Однако мы успешно преодолели все и добрались до Вены, приехав туда в невероятно холодную ночь, когда на земле лежал глубокий снег, а в воздухе кружила колючая метель. Выглянув на улицу из здания вокзала, мы увидели, как в свете электрических фонарей несутся, сверкая, на фоне абсолютно черного неба серебристые хлопья снега. Вена встретила нас мрачно и зловеще, но уже через полчаса, когда мы сидели в теплом, уютном, заполненном людьми и окутанном табачным дымом ресторане нашей гостиницы, мы стали воспринимать окружающее гораздо веселее. Мы подыскали скромный pension [Пансион (фр.)], который был нам по средствам, и провели в нем четыре очень приятных месяца, в течение которых я посещал лекции по курсу глазных болезней в Кранкенхаусе, но, несомненно, мог бы куда больше узнать в Лондоне, так как даже неплохое знание разговорного немецкого языка мало помогает точно понимать быстро произносимую лекцию, насыщенную научной терминологией. Безусловно, “учился в Вене” звучит отличной профессиональной рекомендацией, но при этом обычно само собой разумеется, что перед тем, как ехать за границу, человек постиг все что можно в своей собственной стране, чего никак нельзя было сказать обо мне. Поэтому, что касается изучения офтальмологии, эта зима была потрачена впустую. Не могу я также похвастать какими-то духовными и интеллектуальными успехами. Но я немного познакомился с веселым венским обществом. Очень любезно и приветливо относились ко мне корреспондент “Тайме” Бринсли Ричардс и его жена. Несколько раз я чудесно покатался на коньках, а еще написал короткую книжку “Деяния Раффлза Хоу”, не слишком значительную вещь, но давшую мне возможность оплатить текущие расходы, не покушаясь на те несколько сотен фунтов, в которых заключалось все мое земное состояние. По совету друга я вложил эти деньги в дело, а поскольку почти все они пропали, как и более значительные суммы, что я заработал, то и хорошо, что обстоятельства никогда не вынуждали меня полагаться на них. Весной дела мои в Вене были закончены, если можно говорить о том, что они вообще начинались, и мы вернулись домой через Париж, проведя там несколько дней с Ландолем, самым знаменитым французским окулистом своего времени. Как здорово было снова оказаться в Лондоне, чувствуя, что теперь мы действительно ступили на поле битвы, где должны были либо победить, либо погибнуть, поскольку все мосты за нами уже сожжены. Теперь, оглядываясь назад, легко думать, что результат был ясен с самого начала, но тогда это не было столь очевидно, поскольку зарабатывал я мало, хотя репутация моя росла. Мою уверенность поддерживала лишь внутренняя убежденность в несомненных достоинствах “Белого отряда”, который по-прежнему, месяц за месяцем, печатался в “Корнхилле”. В первые годы в Саутси я пережил так много, что лично меня уже ничто не могло испугать, но теперь у меня были жена и ребенок, и та суровая простота жизни, которая была возможна и даже приятна в первые годы моей врачебной практики, представлялась немыслимой. Мы сняли комнаты на Монтегю-плейс, и я стал подыскивать помещение, где мог бы повесить вывеску окулиста. Мне было известно, что у многих крупных специалистов нет времени на рефракцию глаза, которая в ряде случаев, например при астигматизме, требует длительного обследования. Я знал и любил это дело и надеялся, что мне что-нибудь перепадет. Но, чтобы получить такую возможность, нужно было, само собой разумеется, жить поблизости от этих крупных специалистов, дабы они могли легко порекомендовать меня пациенту. Я прочесал квартал, где жили врачи, и в конце концов нашел подходящее помещение на Девоншир-плейс, 2, в начале Уимпол-стрит, рядом с классической Харли-стрит. За сто двадцать фунтов в год я получил в полное пользование кабинет, выходивший окнами на улицу, и в частичное — комнату для ожидания. Вскоре я обнаружил, что обе они были комнатами для ожидания, но теперь понимаю, что все это произошло к лучшему. Каждое утро я покидал меблированные комнаты на Монтегю-плейс, в десять приходил в свой кабинет для консультаций и сидел в нем до трех-четырех часов, причем ни единый звонок пациента не нарушал моего покоя. Можно ли найти лучшие условия для размышлений и работы? Они были идеальны, и пока меня преследовали неудачи на профессиональном поприще, имелись все шансы упрочить свои позиции в литературе. Так что, возвращаясь домой к вечернему чаю, я приносил с собой по несколько исписанных листков бумаги, первые плоды обильного урожая. В то время выходило много ежемесячных журналов, особенно выделялся среди них “Стрэнд”. Как и теперь, редактором его был Гринхоу Смит. Размышляя об этих журналах, печатавших рассказы, никак не связанные между собой, я вдруг подумал, что один персонаж, проходящий через всю серию рассказов, если только он завладеет вниманием читателя, привяжет его к этому журналу. Кроме того, мне давно казалось, что от обычного сериала будет не много пользы, он скорее станет для журнала обузой, поскольку рано или поздно человек пропустит один номер и, значит, потеряет ко всему повествованию интерес. Ясно, что идеальным компромиссом тут был бы персонаж, переходящий из рассказа в рассказ, хотя каждая отдельная история должна носить вполне законченный характер, так, чтобы покупатель всегда мог быть уверен, что сполна получит удовольствие от напечатанного в данном номере журнала. Я считаю, мне первому пришла в голову эта идея, а журнал “Стрэнд” первым ее осуществил. Подыскивая себе главного героя, я почувствовал, что Шерлок Холмс, которого я уже вывел в двух маленьких книжках, весьма подходит для такой серии рассказов. Я начал писать их, долгими часами сидя в ожидании пациентов в своем кабинете для консультаций. Гринхоу Смиту они понравились с самого начала, и он поощрял меня писать их и дальше. Мои литературные дела взял на себя А.П.Уотт, король литературных агентов, который избавил меня от ненавистных заключений сделок и вел дела так хорошо, что все мои тревоги по поводу немедленной выплаты денег моментально исчезли. Это было очень кстати, поскольку ни единый пациент не переступил порога моего кабинета. Теперь я снова стоял на перепутье жизни, и Провидение, руку которого я узнаю на каждом шагу, заставило меня понять это довольно энергичным и неприятным образом. Однажды утром, едва я вышел из дому и отправился своим обычным маршрутом, как по всему моему телу пробежала ледяная дрожь, и я еле успел вернуться домой, чуть не упав прямо на улице. Это был жестокий приступ инфлюэнцы — она как раз свирепствовала тогда особенно сильно. Всего лишь три года назад моя дорогая сестра Аннет, целиком посвятившая себя заботам о семье, скончалась от нее в Лиссабоне в тот самый момент, когда мой успех позволил бы мне вызволить ее из ее многолетнего рабства. Теперь настал мой черед, и я чуть было не последовал за ней. Я не помню ни боли, ни особого недомогания, никаких бредовых видений, но неделю я находился в серьезной опасности, а затем стал слабым и чувствительным, как ребенок, но сознание мое оставалось кристально ясным. И вот тогда, обозревая свою жизнь, я увидел, как глупо было растрачивать свои литературные заработки на аренду кабинета окулиста на Уимпол-стрит, и с неистовым всплеском радости решил порвать с этим окончательно и полагаться отныне только на свои писательские силы. Помню, как в порыве восторга я схватил бессильной рукой лежавший на одеяле носовой платок и от переполнявших меня чувств подбросил его к потолку. Я стану наконец сам себе хозяин! Не надену больше белого халата и не буду стараться никому угодить. Буду волен жить, как хочу и где хочу. Это был один из сильнейших порывов восторга за всю мою жизнь. Случилось это в августе 1891 года. Вскоре я начал ходить, пошатываясь и опираясь на палку, размышляя о том, что если доживу до восьмидесяти лет, то знаю уж теперь совершенно точно, как буду себя чувствовать. Я зачастил к агентам по продаже домов, раздобыл списки пригородных особнячков и, когда силы ко мне вернулись, потратил несколько недель на поиски нового дома. В конце концов я нашел подходящий дом, скромный, зато удобный, уединенный, но все-таки выходивший на улицу. Номер 12 по Теннисон-роуд в Саут-Норвуде. Там мы и поселились, там же я совершил первую попытку полностью прокормиться своим пером. Вскоре стало ясно, что в пределах собственных сил я хорошо повел игру и без труда получу достаточный доход. Казалось, будто я наконец обосновался в жизни, которая так и пойдет своим чередом; как же мало я предвидел, что на нашу голову обрушится неожиданный удар и что наши скитания отнюдь не кончены, а по существу только начинаются! Я, однако, не мог всего знать и смело располагал заняться достойной литературной работой. Писать о Холмсе было трудно, потому что на самом деле для каждого рассказа требовался столь же оригинальный, точно выстроенный сюжет, как и для более объемистой книги. Человек не может без усилий быстро сочинять сюжеты. Они мельчают или разваливаются. Я решил, что, раз теперь у меня нет больше оправдания, заключавшегося в полной зависимости от денег, я никогда больше не стану писать ничего, что не соответствует высшему уровню моих способностей, и, следовательно, не стану писать рассказов о Холмсе, если у меня не будет стоящего сюжета и проблемы, действительно занимающей мой ум, потому что это — первое условие, чтобы заинтересовать кого-либо другого. Если мне удалось пестовать этот персонаж долгое время и если публика считает и будет считать, что последний рассказ ничуть не хуже первого, то этим я всецело обязан тому, что никогда или почти никогда не писал рассказы через силу. Некоторым показалось, что уровень этих рассказов снижался; точнее всего эту критику выразил лодочник из Корнуолла, который сказал мне: “Так мне сдается, сэр, что, когда Холмс сверзился с той скалы, он, может, конечно, и не убился, но уж прежним человеком после того больше не был”. Думается, однако, что, если бы читатель начал всю серию с конца, так, чтобы последние рассказы воспринимались на свежую голову, он согласился бы со мной, что хотя в целом их уровень, возможно, и не столь высок, все-таки последний рассказ вовсе не хуже первого. И все же я устал выдумывать сюжеты и решил теперь заняться какой-нибудь другой работой, которая определенно сулила меньшее вознаграждение, зато представляла бы большую ценность с точки зрения литературы. Долгое время я был увлечен эпохой Людовика XIV и гугенотами — французским эквивалентом пуритан. Я хорошо знал мемуары той эпохи, и у меня уже было подготовлено порядочно заметок по теме, так что написание романа “Изгнанники” не потребовало много времени. Он очень хорошо выдержал суровую проверку временем, и могу сказать, что он мне удался. Вскоре после опубликования его перевели на французский, и моя мать, сама большой знаток французского, имела удовольствие во время посещения Фонтенбло слышать, как экскурсовод говорил группе туристов, что, если они и правда хотят знать о дворе великого монарха, им следует разыскать самое точное и не вызывающее сомнений описание его в книге “Изгнанники” одного англичанина. Полагаю, экскурсовод сильно бы удивился, если бы к нему тут же бросилась с поцелуями пожилая англичанка. Но он чудом избежал подобного. В этой книге я также использовал многое, почерпнутое у Паркмена [Френсис Паркмен (1823—1893) — американский историк, автор семи исследований о борьбе за господство в Новом Свете, например, “Пионеры Франции в Новом Свете” (1865) о борьбе между французскими гугенотами и испанскими католиками за Флориду; “Граф Фронтенак и Новая Франция при Людовике XIV” (1877) о французском губернаторе провинции Новая Франция в Канаде, стремившемся добиться политической независимости Канады вопреки желанию французского правительства.], великого, но забытого историка, который, по моему мнению, был лучшим из всех серьезных авторов, коих породила Америка. С “Изгнанниками” связан забавный эпизод: когда роман читали вслух в каком-то строгом ирландском монастыре, простодушная мать-настоятельница ошиблась в прочтении моей фамилии и решила, что я каноник, а значит, без сомнения, человек святой. Мне рассказывали, что чтение имело громадный успех, и добрые сестры радовались, что ошибка не была обнаружена, пока книгу не дочитали до конца. Мое первое имя несколько раз приводило к ошибкам. Так, например, на торжественном обеде в Чикаго мне, как единственному представителю духовенства, предложили прочесть предобеденную молитву. Помню, что на этом же обеде один из ораторов отметил, что самый зловещий факт заключается в том, что, хотя я и врач, никому до сих пор не случалось видеть ни одного моего живого пациента. Живя в Норвуде, я действительно много работал, потому что помимо “Изгнанников” написал “Великую тень” — книгу, которую по ее достоинствам я отношу к лучшим своим произведениям, и еще две маленькие книжки весьма невысокого пошиба — “Паразит” и “За городом”. Последняя была не свойственного мне бытописательского толка. Ее пиратским образом напечатали в Нью-Йорке как раз перед тем, как в силу вошел новый закон об авторском праве, и мошенник-издатель, полагая, что портрет — любой портрет — автора мог бы порядком украсить обложку, и, не имея ни малейшего представления о том, кто я такой, поместил в качестве моего изображения портрет очень хорошенькой разодетой молодой женщины. Я по сей день храню экземпляр этого столь лестного для меня изображения. Все эти книги прошли со средним успехом, ни одна из них не была выдающейся. Публика по-прежнему требовала рассказов о Шерлоке Холмсе, и я время от времени старался их поставлять. Наконец, выпустив уже две серии рассказов, я почувствовал, что мне грозит опасность писать через силу и что мои рассказы начнут полностью отождествлять с тем, что сам я считал низшим уровнем литературных достижений. Поэтому в знак своей решимости я вознамерился лишить жизни моего героя. Эта мысль пришла мне в голову, когда мы с женой отправились на короткий отдых в Швейцарию, во время которого видели изумительный водопад в Райхенбахе — ужасающее место, и мне подумалось, что оно станет достойной могилой для бедного Шерлока, даже если я похороню вместе с ним и свой счет в банке. Там я и свел его в могилу — в полной уверенности, что в ней он и останется. И в течение нескольких лет так оно и было. Реакция публики меня поразила. Говорят, человека никогда не могут оценить, пока он не умрет, и благодаря всеобщему протесту против того, что я окончательно уничтожил Холмса, я узнал, сколь многочисленны его друзья. “И ты, Брут...” [слова Юлия Цезаря из трагедии “Юлий Цезарь” (1599) Шекспира] — начиналось негодующее письмо, присланное мне одной леди, и, думается, она выражала не только свое мнение. Я слышал, что многие даже рыдали, сам же я, боюсь, остался абсолютно холоден и лишь радовался возможности проявить себя в иных областях фантазии, потому что соблазн высоких гонораров не позволял мне расстаться с Холмсом. То, что Шерлок Холмс стал для многих совершенно реален, ясно уже из того, как много я получал адресованных ему писем с просьбой, чтобы я их ему передал. Немало писем приходило и Ватсону, где у него просили адрес или автограф его более знаменитого confrere [Собрат (фр.)]. Уотсону написали из Бюро газетных вырезок, интересуясь, не хочет ли Холмс стать их подписчиком. Когда Холмс отошел от дел, несколько пожилых леди готовы были вести его домашнее хозяйство, а одна думала снискать расположение, уверяя меня, что досконально знает, как разводить пчел, и умеет “выделить царицу”. Я также получал серьезные предложения Холмсу расследовать и разрешить различные семейные тайны. В одном таком приглашении — из Польши — предлагали приехать мне самому, а вознаграждение оставлено было на мое усмотрение. Однако у меня хватило ума отказаться наотрез. Меня часто спрашивали, обладаю ли я сам теми качествами Холмса, которые описывал, или же я, как и кажусь, был просто Ватсоном. Разумеется, я прекрасно понимаю, что одно дело пытаться разрешить задачу на практике и совсем другое — разгадывать ее в созданных вами же обстоятельствах. На этот счет у меня нет никаких заблуждений. Но в то же время человек не может вылепить характер в своем собственном сознании и наделить его подлинной жизненностью, если в нем самом нет ничего общего с этим характером — а это весьма опасное признание со стороны того, кто описал столько злодеев, как я. В своем стихотворении “Внутренний мир”, раскрывая многогранность нашей личности, я писал: В дом мой входят, в круг садятся В темноте — Тусклый облик и зловещий У гостей. Измененья, колебанья, То небесное сиянье, То бесовское кривлянье — Свет и тень. Среди этих “гостей”, возможно, попадался и хитроумный сыщик, но я установил: чтобы выявить его в реальной жизни, я должен оттеснить всех остальных и прийти в такое состояние духа, когда он один заполнит собой все. Тогда-то мне и удавалось методами Холмса добиться кое-каких результатов в решении некоторых задач, ставивших полицию в тупик. Но я должен признать, что в повседневной жизни я нисколько не наблюдателен и мне нужно искусственно настраивать свой ум, прежде чем я смогу взвесить доказательства и предвосхитить взаимосвязь событий. Еще немного о Шерлоке Холмсе Здесь я могу свободно прервать свой рассказ, чтобы поведать читателю то, что ему может быть интересно о самом известном из моих героев. Впечатлению, что Холмс был живым человеком из плоти и крови, возможно, весьма способствовало то, что он очень часто появлялся на подмостках. После того, как со сцены театра, который я арендовал на шесть месяцев, была снята моя инсценировка “Родни Стоуна”, я решил предпринять смелый и энергичный шаг, потому что пустой театр означал крах. И когда я увидел, что дело приняло такой оборот, я заперся и все силы своего ума направил на то, чтобы написать сенсационную пьесу о Шерлоке Холмсе. Я сотворил ее за неделю и назвал “Пестрая лента”, по одноименному рассказу. Думаю, не будет преувеличением сказать, что через две недели после того, как сошла со сцены первая пьеса, у меня уже была труппа, репетирующая вторую, написанную за это время. Она имела значительный успех. Лин Хардинг в роли припадочного и совершенного чудовища — доктора Гримсби Райлотта — играл блестяще, а Сейнтсбери был также очень хорош в роли Шерлока Холмса. Еще до окончания срока аренды мне стало ясно, что я возместил все потерянное на первой пьесе и создал себе некую собственность, представлявшую неизменную ценность. Пьеса прочно вошла в театральный репертуар и до сих пор широко идет по стране. Для исполнения заглавной роли у нас был отличный скалистый удав, составлявший мою гордость, так что можно представить мое возмущение, когда я узнал, что один критик закончил свою пренебрежительную рецензию словами: “Критический момент в этой постановке вызван появлением явно искусственной змеи”. Я готов был заплатить ему порядочные деньги, если бы он решился взять ее с собой в постель. У нас в разное время было несколько змей, но ни одна из них не была создана для сцены, и все они либо имели склонность просто свешиваться из дыры в стене, словно безжизненный шнурок для колокольчика, либо норовили сбежать обратно сквозь ту же дыру и расквитаться с театральным плотником, который щипал их за хвост, чтобы они вели себя поживее. В конце концов мы стали использовать искусственных змей, и все, включая плотника, сошлись на том, что это гораздо лучше. “Пестрая лента” была второй пьесой о Шерлоке Холмсе. Мне надо бы рассказать о первой, поставленной намного раньше, во время англо-бурской войны. Ее написал и лучше всех поставил Уильям Джиллет [Уилъям Джиллет (1855—1937) — американский актер и драматург, автор пьес по романам других писателей. К числу наиболее удачных и популярных его инсценировок принадлежит пьеса “Шерлок Холмс” (1899); кроме того он является автором 13 оригинальных пьес (“Удерживаемый врагами”, 1886 и др.)], знаменитый американский актер. Поскольку он использовал моих персонажей и в определенной мере мои сюжеты, он, естественно, выделил мне часть дохода от постановки, которая имела большой успех. “Можно мне женить Холмса?” — спрашивал он меня, одержимый муками творчества, в одной из полученных мной телеграмм. “Жените его, убивайте, делайте с ним, что хотите”, — таков был мой бессердечный ответ. Мне очень понравились и пьеса, и исполнение, и финансовый результат. Думаю, всякий человек, в чьих жилах есть хоть капля артистической крови, согласится, что это последнее обстоятельство, как бы приятно оно ни было, на деле в ряду наших соображений стоит все-таки на последнем месте. Сэр Джеймс Барри [Джеймс Барри (1860—1937) — английский драматург; известностью пользуется его пьеса-сказка “Питер Пэн” (1904) о мальчике, который прилетал к детям и показывал им волшебную страну.] воздал должное Шерлоку Холмсу в смешной пародии. Это был веселый жест смирения по поводу неудачи комической оперы, для которой он взялся писать либретто. Я помогал ему в этом, но, несмотря на наши совместные усилия, получилось очень скучно. После этого Барри прислал мне пародию на Холмса, написанную на чистых страницах в одной из его книг. Вот она: ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ СОАВТОРОВ Завершая приключения моего друга Шерлока Холмса, я поневоле вспоминаю, что он, кроме одного случая, о котором вы сейчас узнаете и который положил конец его необычайной карьере, никогда не соглашался принимать участия ни в какой истории, связанной с людьми, зарабатывающими на жизнь пером. “Я не очень разборчив в отношении тех, с кем якшаюсь по деловым соображениям, — говаривал он, — но что касается литераторов — это уж извините”. Однажды вечером мы сидели в нашей квартире на Бейкер-стрит. Я (как сейчас помню) работал за столом в центре комнаты над “Приключениями человека без пробковой ноги” (над которыми поломало голову Королевское общество [Королевское общество — старейшее научное общество Англии, учреждено в 1660 году, считается Национальной академией наук.] и другие научные общества Европы), а Холмс забавлялся, постреливая из маленького револьвера. Летними вечерами он любил попалить вокруг моей головы, так что пули едва не задевали мое лицо, покуда на противоположной стене не образуется портрета, и это лишь в малой степени показывает его мастерство, ибо многие из этих изображений, выполненных таким образом, по общему признанию, отличаются восхитительным сходством. Я глянул в окно и, заметив двух джентльменов, быстро шагавших по Бейкер-стрит, спросил его, кто они такие. Он незамедлительно раскурил свою трубку и, изогнувшись в кресле наподобие восьмерки, ответил: — Это двое соавторов, написавших комическую оперу, но она провалилась. Пораженный, я подпрыгнул со своего стула до самого потолка, а он продолжал объяснения: — Дорогой мой Ватсон, очевидно, что эти люди следуют какому-то низменному побуждению. Даже вы способны прочесть это на их лицах. Клочки голубой бумаги, которые они в гневе отшвырнули в сторону, — не что иное, как газетные рецензии Даррента. У них при себе сотня таких, это очевидно (взгляните на их набитые карманы). Они бы не стали топтать ногами эти рецензии, если бы чтение их доставляло им удовольствие. Я снова подпрыгнул к потолку (изрядно потрескавшемуся) и закричал: — Потрясающе! Но, может быть, они просто писатели? — Нет, — сказал Холмс, — потому что о просто писателях в прессе помещают не больше одной рецензии в неделю. Только преступники, драматурги и актеры получают их сотнями. — Ну, тогда они могут быть актерами. — Нет, актеры бы ехали в экипаже. — Можете вы сообщить мне о них что-нибудь еще? — Очень много. По грязи на башмаках высокого я заключаю, что он приехал из Саут-Норвуда. Другой, без сомнения, шотландский писатель. — Как вы это узнали? — У него в кармане лежит книга под названием (я ясно разглядел) “Нечто древле-светозарное”. Неужели кто-нибудь станет таскать с собой книгу с подобным названием, кроме самого автора? Я вынужден был признать, что такое невозможно. Теперь стало очевидно, что эти два человека (если можно так их назвать) ищут нашу квартиру. Я говорил уже (и не один раз), что мой друг Холмс редко давал волю каким бы то ни было чувствам, но сейчас он побагровел от захлестнувших его эмоций. Вскоре на лице его появилось странное выражение торжества. — Ватсон, — проговорил он, — этот длинный тип многие годы присваивал себе славу от самых замечательных моих успехов, но наконец-то он у меня в руках — наконец-то! Я опять подпрыгнул чуть не до потолка, а когда пришел в себя, незнакомцы уже были в комнате. — Я заключаю, джентльмены, — произнес мистер Шерлок Холмс, — что вы сейчас огорчены необычной новостью. Тот из наших гостей, что был покрасивее, спросил с изумлением, как он это узнал, длинный же лишь нахмурился. — Вы забыли, что носите кольцо на безымянном пальце, — спокойно ответил мистер Холмс. Я собирался было снова подпрыгнуть к потолку, но тут вмешался тот длинный грубиян. — Оставьте всю эту чепуху для публики, Холмс, — сказал он, — а передо мной можете не валять дурака. А вы, Уотсон, если только еще раз подпрыгнете к потолку, там и останетесь, я вам обещаю. Тут я стал свидетелем странного явления. Мой друг Шерлок Холмс отступил. Он скис прямо у меня на глазах. Я же с тоской поглядывал на потолок, но и думать не смел... — Давайте выкинем первые четыре страницы и перейдем к делу, — сказал длинный. — Я хочу знать, почему... — Позвольте, — сказал мистер Холмс, собрав остатки былого мужества. — Вы хотите знать, почему публика не идет на вашу оперу. — Совершенно верно, — с иронией проговорил другой, — как вы заключили по запонке на моей рубашке. А поскольку вы можете выяснить это только одним способом, — с угрозой добавил он, — я вынужден настаивать, чтобы вы высидели все представление до конца. Для меня наступил очень тревожный момент. Я содрогнулся, ибо знал, что, если Холмс пойдет туда, мне придется последовать за ним. Но у моего друга было золотое сердце. — Никогда! — с горячностью воскликнул он. — Я сделаю для вас все, только не это! — От этого зависит ваше дальнейшее существование, — с угрозой сказал длинный. — Уж лучше раствориться в воздухе, — ответил Холмс, с гордостью пересаживаясь на другой стул. — Я могу сказать вам, отчего публика не идет на вашу пьесу и не высиживает ее до конца. — Почему? — Потому, — спокойно ответил Холмс, — что она предпочитает уходить с нее. После этого поразительного замечания воцарилась мертвая тишина. Мгновение незваные гости в благоговейном ужасе взирали на человека, столь потрясающим образом разгадавшего их тайну. Потом вытащили ножи... Холмс между тем становился все меньше и меньше, покуда от него не осталось ничего, кроме колечка дыма, медленно поднимавшегося к потолку. Последние слова великого человека часто заслуживают внимания. Вот последние слова Шерлока Холмса: — Дурак ты, дурак! Столько лет ты жил благодаря мне в роскоши. С моей помощью ты немало покатался в кэбах, где до того не ездил еще ни один писатель. Отныне будешь ездить только в омнибусах! Грубиян в ужасе упал в кресло. Другой же писатель и ухом не повел. А. Конан Дойлу от его друга Дж. М.Барри”. Эта пародия, лучшая из множества других, свидетельствует не только об остроумии автора, но и о его жизнерадостном мужестве, поскольку она была написана сразу после нашего общего провала, который вызвал тогда горькие мысли у нас обоих. Поистине нет ничего хуже провала в театре, поскольку понимаешь, как много людей, помогавших тебе, он затронул. Я счастлив отметить, что этот провал был единственным моим опытом подобного рода; я уверен, Барри мог бы сказать о себе то же самое. Прежде чем оставить тему различных театральных воплощений Холмса, могу сказать, что все они, так же как и его портреты, отличались от моего исходного замысла. Он виделся мне очень высоким — “более шести футов, но столь чудовищно худым, что казался значительно выше”, — говорится в “Этюде в багровых тонах”. У Холмса, как я его себе представлял, было узкое, словно лезвие бритвы, лицо с большим крючковатым носом и маленькими, посаженными близко к переносице глазами. Таким я видел его. Однако так вышло, что у бедняги Сидни Пейджета, преждевременно скончавшегося первого иллюстратора Холмса, был младший брат, который и послужил ему в качестве модели для Холмса. Кажется, его звали Уолтер. Красивый Уолтер занял место более выразительного, но зато и более уродливого Шерлока, и возможно, с точки зрения моих читательниц, это было к лучшему. Театр последовал за типом, созданным в иллюстрациях. Кино в те времена, когда появились рассказы о Холмсе, разумеется, еще не было. Но когда наконец права мои на них были оговорены, французская компания предложила мне за них небольшую сумму денег, показавшуюся мне настоящим кладом, и я с радостью согласился. Впоследствии мне пришлось выкупать их за цену, ровно в десять раз превышающую то, что я получил раньше, так что сделка оказалась самой невыгодной. Зато теперь их поставила “Столл компани” с Элли Норвудом в роли Холмса, и этот прекрасный фильм вознаградил меня за былые издержки. Норвуд исполнил также эту роль в театре, завоевав признание лондонской публики. Он обладал тем редким даром, который можно назвать обаянием, заставляющим вас не отрывать глаз от актера, даже когда он не делает ничего. У него был притягивающий задумчивый взгляд, а также непревзойденный талант перевоплощения. Единственная моя претензия к этим фильмам состоит в том, что в них появляются телефоны, автомобили и другие предметы роскоши, о которых викторианец Холмс не мог и помыслить. Меня часто спрашивают, знаю ли я сам, начиная писать рассказ о Холмсе, чем он должен закончиться. Разумеется, знаю. Невозможно держаться какого-либо курса, если не представляешь себе цели. Сначала должна возникнуть идея. Имея ключевую идею, надо затем постараться ее замаскировать, отвлекая внимание на все, что может вызвать иное объяснение. Холмс тем временем, однако, замечает всю ошибочность этих альтернативных ходов и более или менее наглядно приходит к правильному решению с помощью действий, которые он может описать и объяснить. Он проявляет свои способности в том, что латиноамериканцы называют теперь “шерлок-холмитос”, что означает краткие искусные умозаключения, которые зачастую не имеют никакого отношения к делу, но в целом производят на читателя сильное впечатление. Эффект этот достигается еще и небрежными ссылками на другие случаи. Одному Богу известно, сколько названий я давал просто случайно и сколько читателей упрашивало меня удовлетворить их любопытство по поводу таких рассказов, как: “Риголетто и его отвратительная жена”, “Приключения усталого капитана” или “Странное происшествие в семье Паттерсонов на острове Аффа”. Раз или два, как в случае со “Вторым пятном”, по-моему, одним из самых удачных рассказов, я на самом деле придумал название за много лет до того, как написал этот рассказ. Есть несколько вопросов, касающихся определенных рассказов, которые время от времени поступают ко мне со всех концов света. В “Случае в интернате” Холмс, как обычно, небрежно замечает, что, глядя на след велосипеда на влажной болотистой почве, можно определить направление его движения. Я получил по этому поводу так много упреков, начиная от выражений сожаления и кончая словами ярости, что взял велосипед и решил проверить. Мне казалось, что, если тщательно рассмотреть, как след заднего колеса накладывается на след переднего, когда велосипед не едет совершенно прямо, можно определить направление движения. Я обнаружил, что мои корреспонденты оказались правы, а я ошибался, поскольку, как бы ни двигался велосипед, отпечатки получаются одинаковыми. Кроме того, истинное решение гораздо проще, потому что на кочковатой болотистой почве колеса оставляют гораздо более глубокий след, когда едут вверх, и более слабый — когда вниз, так что в конце концов проницательность Холмса была оправдана. Иногда в силу недостаточного знания точной обстановки я попадал впросак. Например, я никогда не увлекался скачками и, однако, решился написать “Серебряного”, в котором вся тайна построена на правилах выездки и скачек. С рассказом было все в порядке, а Холмс, возможно, там был в лучшей своей форме, но мое невежество было вопиющим. В одной спортивной газете я прочел блестящую разгромную статью, явно написанную знающим человеком, где он объяснял точную меру наказаний, которые должны были постигнуть всех, кто действовал так, как я описал. Половина из них оказалась бы за решеткой, а другой вообще больше не разрешили бы участвовать в бегах. Однако я никогда особо не беспокоился о деталях — порой необходимо чувствовать себя полновластным хозяином. Как-то раз, когда встревоженный редактор написал мне: “В этом месте нет второй линии рельсов”, — я ответил: “А я ее проложу”. И все же бывают случаи, когда точность необходима. Я не хочу быть неблагодарным по отношению к Холмсу, который во многом был мне хорошим другом. И если я уставал от него, то происходило это из-за того, что образ его не допускал никаких контрастов. Он является счетной машиной, и любой дополнительный штрих просто снижает эффект. Так что разнообразие в рассказах должно зависеть от необыкновенной выдумки и четких сюжетных ходов. Следует сказать несколько слов и об Уотсоне, который на протяжении всех семи томов не обнаружил ни искры юмора и даже ни разу не пытался пошутить. Чтобы создать подлинный образ, приходится жертвовать всем во имя логики поступков. Следует помнить, как Гольдсмит [Оливер Голъдсмит (1728—1774) — английский писатель, представитель сентиментализма; автор поэмы “Покинутая деревня” (1770), где показано разорение английской деревни в результате промышленного переворота; в романе “Векфильдский священник” (1776) критика буржуазных отношений сочетается у него с идеализацией патриархального уклада. Здесь пастор Примоз выступает как олицетворение человечности и бескорыстия.] критиковал Джонсона [Сэмюэл Джонсон (1709—1784) — английский писатель, филолог, создатель “Словаря английского языка” (1755), где толковал значение слов, приводя как пример их использования разные цитаты. Джонсон предостерегал против “глупости заимствований, не приносящих пользы”, “чужеземцев” в ущерб “туземцам”; широко известна его работа “Жизнеописания наиболее выдающихся английских поэтов” (1779—1781), издавал также журналы “Рассеянный”, “Искатель приключений”, “Досужий”.] за то, что “маленькие рыбки говорят у него, как киты”. Не думаю, чтобы я когда-нибудь понимал, до какой степени для самых простодушных читателей Холмс стал подлинной личностью. И это до тех пор, пока не услышал весьма приятный рассказ о целом шарабане французских школьников, которые, когда их спросили, что им хочется посмотреть в Лондоне прежде всего, в один голос ответили — квартиру мистера Холмса на Бейкер-стрит. Многие спрашивали меня, в каком доме она находится, но я, по понятным причинам, никогда не назову точного места. Существуют рассказы о Шерлоке Холмсе, которые без конца появляются в печати, исчезают и снова возникают с регулярностью кометы. Нет нужды говорить, что это подделки. В одном из них описан кэбмен, который якобы везет меня в гостиницу в Париже. “Доктор Дойл, — восклицает он, пристально глядя на меня, — по вашему виду я могу заключить, что вы недавно вернулись из Константинополя. У меня также есть основания полагать, что вы побывали в Будапеште, и я вижу некоторые признаки того, что вы были неподалеку от Милана”. — “Чудесно. Пять франков, если откроете секрет, как вам это удалось узнать!” — “Я видел ярлыки, наклеенные на ваших чемоданах”, — сказал проницательный кэбмен. Другой неувядаемый шедевр повествует о женщине, которая якобы пришла за советом к Шерлоку. “Я совершенно не знаю, что и думать, сэр. За одну неделю у меня пропал автомобильный клаксон, метла, коробка мячей для гольфа, словарь и рожок для обуви. Не можете ли вы найти этому какое-нибудь объяснение?” — “Нет ничего проще, мадам, — ответил Шерлок. — Яснее ясного, что ваш сосед держит козу”. В третьем говорится о том, как Шерлок попал на небеса и благодаря своей необычайной наблюдательности сразу узнал и приветствовал Адама. Но этот момент, пожалуй, слишком близок к анатомии, чтобы стоило дальше его обсуждать. Полагаю, что каждый писатель получает немало забавных писем. Со мной, разумеется, происходит то же самое. Многие из них приходят из России. Когда они написаны на родном языке, я вынужден сразу относить их к разряду прочитанных, но когда они написаны по-английски, то попадают в число самых курьезных в моей коллекции. Так, одна юная леди начинала все свои послания словами “Милостивый Господь”. Другая же за кажущейся простотой скрывала большую хитрость. Отправляя письмо из Варшавы, она писала, что уже два года прикована к постели и что мои книги — это единственная для нее отдушина, и так далее и тому подобное. Весьма тронутый этим лестным отзывом, я сразу подготовил посылку с автографами на каждой книге, чтобы пополнить библиотеку прекрасной больной. Но, к счастью, в тот же день я встретил собрата по перу, которому рассказал тронувший меня случай. С саркастической усмешкой он вытащил из кармана абсолютно идентичное письмо. Его книги тоже в течение двух лет были для нее единственным — и так далее и тому подобное. Не знаю, скольким еще написала эта леди, но если, как я думаю, она рассылала письма в разные страны, то должна была собрать довольно интересную библиотеку. Привычка той русской девушки обращаться ко мне “Милостивый Господь” имела на моей родине еще более странную параллель, которая связана с темой этой главы. Вскоре после того, как я получил рыцарское звание [это произошло в 1902 году], один торговец прислал мне счет, который был абсолютно точен во всех пунктах, за исключением того, что адресатом являлся сэр Шерлок Холмс. Надеюсь, я не хуже своих ближних могу выдержать, когда становлюсь объектом для шуток. Но в данном случае мне показалось, что человек слишком злоупотребляет остроумием, и я ответил ему в резких выражениях. Мое письмо вызвало появление в гостинице, где я жил, служащего, который выражал сожаление о случившемся и без конца повторял: — Уверяю вас, сэр, это было bona fide [От чистого сердца, искренне (лат.)]. — Что вы имеете в виду, говоря “bona fide”? — спросил я. — Видите ли, сэр, — ответил он, — мои напарники в магазине сказали мне, что вам пожаловали рыцарское звание, что, становясь рыцарем, человек меняет себе имя и что вы выбрали себе это. Нет нужды говорить, что мое раздражение сразу же испарилось и я расхохотался столь же искренне, как, скорее всего, и его приятели за углом. Несколько раз на моем жизненном пути возникали проблемы, весьма сходные с теми, что я сам изобретал, чтобы продемонстрировать способности мистера Холмса. Приведу один случай, когда весьма успешно был повторен ход рассуждений этого джентльмена. Дело было в следующем: исчез один джентльмен. Он взял из банка весь свой вклад в сорок фунтов, и известно было, что они находились при нем. Опасались, что его убили из-за этих денег. В последний раз о нем слышали, когда он остановился в большом отеле в Лондоне в тот же день, как приехал из пригорода. Вечером он отправился на представление в мюзик-холл, вышел оттуда около десяти часов, вернулся в отель, переоделся, сняв с себя вечерний костюм, обнаруженный на следующий день в его номере, и бесследно исчез. Никто не видел, как он выходил из отеля, а человек, занимавший соседний номер, утверждал, что слышал, как тот бродил среди ночи по номеру. Когда ко мне обратились, прошла целая неделя, а полиция так ничего и не обнаружила. Где же был этот человек? Вот те факты, которые сообщили мне его близкие, оставшиеся дома. Попытавшись взглянуть на дело глазами мистера Холмса, я ответил с обратной почтой, что скорее всего он либо в Глазго, либо в Эдинбурге. Позднее выяснилось, что он действительно отправился в Эдинбург, хотя за прошедшую неделю перебрался в другую часть Шотландии. Здесь мне следует остановиться, потому что, как не раз доказывал доктор Ватсон, объяснение решения портит тайну. На этой стадии читатель может отложить книгу и увидеть, поразмыслив, сколь просто тут решение. У него есть все исходные данные, которыми располагал я. Но тем не менее ради тех, кто не имеет склонности к подобным головоломкам, я постараюсь обозначить все звенья, создающие цепочку. У меня было то преимущество, что я хорошо знаком с распорядком в лондонских гостиницах — он, как мне кажется, мало отличается от принятого в остальных отелях. Первым делом нужно было рассмотреть все факты и отделить несомненное от предположительного. Несомненным здесь было все кроме утверждения человека, слышавшего ночью звуки шагов пропавшего. Как он смог отличить эти звуки от других в такой большой гостинице? Значит, если этот момент будет противоречить основному выводу, его можно не принимать во внимание. Первый очевидный вывод состоит в том, что человек задумал исчезнуть. Зачем бы еще было ему забирать все деньги? Из отеля он ушел ночью, но во всех гостиницах есть ночной портье, и когда дверь уже заперта, выйти так, чтобы тот не заметил, невозможно. Дверь запирают после того, как постояльцы вернутся из театров, — часов, скажем, в двенадцать. Следовательно, он вышел из гостиницы до двенадцати часов. В десять он вернулся из мюзик-холла, переоделся и вышел со своим чемоданом. Никто его при этом не видел. Значит, он сделал это в тот момент, когда в вестибюле толпились возвратившиеся из театров постояльцы, что бывает между одиннадцатью и половиной двенадцатого. После этого часа, даже если дверь еще открыта, входит и выходит очень мало людей, так что его с чемоданом непременно бы кто-нибудь заметил. Твердо уверовав во все это, нам теперь стоит задаться вопросом: зачем человеку, пожелавшему исчезнуть, уходить именно в этот час? Если он собирался скрываться в Лондоне, ему совсем ни к чему вообще было останавливаться в гостинице. Таким образом, ясно, что он намеревался сесть на поезд и уехать из Лондона. Но человека, приезжающего на любую провинциальную станцию среди ночи, вероятно, заметят, и он может быть уверен, что, когда поднимется тревога и наружность его будет описана, какой-нибудь сторож или портье припомнят его. Следовательно, пунктом его назначения должен быть какой-то большой город, где, когда он приедет, сойдут и все остальные пассажиры и он сможет затеряться в толпе. Если посмотреть расписание и убедиться, что важнейшие шотландские экспрессы, направляющиеся в Эдинбург и Глазго, отходят около полуночи, то задача разрешена. А что касается его фрака, тот факт, что он его оставил, говорит о решении приобщиться к такому образу жизни, где нет социальных преимуществ. Этот вывод впоследствии также подтвердился. Я вспомнил этот случай, дабы показать, что основной метод рассуждений Холмса приложим к реальной жизни. В другой раз, когда некая девушка обручилась с молодым иностранцем, который внезапно исчез, я смог благодаря простому методу дедукции очень точно указать ей, куда он отправился и как мало достоин он ее привязанности. Однако эти полунаучные методы бывают порой слишком медлительны и трудны по сравнению с результатами, которых человек может добиться более примитивным, но действенным способом. Чтобы не казалось, что я слишком хвалю себя и мистера Холмса, могу сообщить, что однажды, когда в деревне в двух шагах от моего дома ограбили постоялый двор, деревенский констебль совершенно без всяких теорий успел схватить преступника, пока я еще только установил, что он был левшой, а башмаки его подбиты гвоздями. Необычные или драматические происшествия, которые побуждают обратиться к мистеру Холмсу как к литературному персонажу, без сомнения, очень сильно сами помогают ему найти правильное решение. Только тот случай безнадежен, когда не за что ухватиться. Я слышал о таком в Америке, он явно представляет собой труднейшую задачу. Некий джентльмен, который вел совершенно безупречную жизнь, воскресным вечером вышел с семьей на прогулку и вдруг вспомнил, что забыл какую-то вещь дома. Он вернулся в дом, дверь которого оставалась еще открытой, а остальные ждали его на улице. Больше он не появлялся, и с тех пор нет ни единого намека на объяснение того, что с ним стряслось. Это, безусловно, один из самых загадочных реальных случаев, что мне приходилось слышать в жизни. Другой исключительный феномен я наблюдал собственными глазами. С ним познакомил меня один знаменитый лондонский издатель. У этого джентльмена отделом заведовал человек, которого мы назовем Масгрейв. Он был очень трудолюбив, и никаких особенностей у него в характере не имелось. Мистер Масгрейв умер, а спустя несколько лет на его имя по адресу его работодателей пришло письмо. На нем стоял почтовый штемпель туристического курорта в западной части Канады, пометка “Конфлфилмз” на обратной стороне конверта и слова “Отчет Си” в углу. В издательстве, естественно, вскрыли конверт, поскольку не имели связи с родственниками покойного. Внутри лежало два листка чистой бумаги. Письмо это, могу добавить, было заказным. Издатель, который ничего не мог понять, переслал его мне, а я подверг чистые листки всем видам химического и термического анализа, но все безрезультатно. За исключением того, что почерк, похоже, был женским, мне нечего добавить. Дело это остается неразрешимой загадкой. Почему корреспондент, имея сообщить мистеру Масгрейву нечто столь секретное, мог не знать, что этот человек уже несколько лет как умер, и какой смысл посылать заказным по почте чистые листки, понять невозможно. Могу также добавить, что, не доверяя собственному химическому анализу этих листков, я обратился за консультацией к лучшему эксперту — и опять-таки безрезультатно! Если рассматривать это как случай в судебной практике, налицо неудача, оставляющая в душе весьма мучительный осадок. Мистер Шерлок Холмс всегда был благодатной мишенью для шутников, да и меня неоднократно разыгрывали с различной степенью искусности — крапленые карты, загадочные предостережения, зашифрованные послания и другие любопытные сообщения. Просто поразительно, сколько усилий тратят иные люди только ради мистификации. Однажды, когда я входил в зал, чтобы принять участие в любительском турнире на бильярде, служитель передал мне оставленный для меня маленький сверток. Развернув его, я обнаружил кусок обыкновенного зеленого мелка, какой используют в игре на бильярде. Эта неожиданность меня позабавила, я положил мелок в карман жилета и пользовался им во время игры. Потом я продолжал пользоваться им до тех пор, пока в один прекрасный день несколько месяцев спустя, когда я натирал кончик своего кия, мелок разломился, и я увидел, что внутри он пустой. Из открывшегося углубления я вытащил крошечный клочок бумаги со словами: От Арсена Люпена — Шерлоку Холмсу [Арсен Люпен — сыщик, герой произведений французского писателя Мориса Леблана (1864—1941); иногда по воле автора у него возникает конфликт с Шерлоком Холмсом]. Представьте себе душевное состояние шутника, который идет на такие усилия ради подобных пустяков. Одна из загадок, предложенных мистеру Холмсу, относилась скорее к области мистики и, следовательно, выходила за пределы его возможностей. Сообщенные факты были в высшей степени удивительны, хотя никаких подтверждений их истинности, за исключением того, что эта леди написала очень искренне и указала свое имя и адрес, у меня не было. Женщина, которую мы назовем миссис Сигрейв, получила неновое странное кольцо из тусклого золота в форме змеи. На ночь она снимала его с пальца. Но однажды заснула, не сняв его, и увидела кошмарный сон, в котором она отбивалась от странного существа, вцепившегося зубами ей в руку. Проснувшись, она почувствовала, что боль в руке не прекратилась, а на следующий день на руке появился след от укуса, причем в нижнем ряду зубов одного зуба не хватало. Отпечатки остались в виде иссиня-черных кровоподтеков, но кожа осталась неповрежденной. “Я не знаю, — пишет моя корреспондентка, —почему я подумала, что здесь как-то замешано кольцо, но почувствовала к нему неприязнь, несколько месяцев его не надевала и потом стала надевать снова, когда поехала в гости”. Короче говоря, все повторилось, и тогда леди навсегда решила вопрос, бросив кольцо на кухне в раскаленную печь. Эта странная история, которая представляется мне невыдуманной, возможно, не так сверхъестественна, как кажется. Хорошо известно, что у некоторых людей сильные душевные переживания приводят к физическим последствиям. Так, очень яркий кошмарный сон, в котором женщина почувствовала, что ее укусили, мог, пожалуй, вызвать и след укуса. Такие случаи встречаются в истории медицины. Второй случай, без сомнения, проистекал от неосознанно проявившегося впечатления от первого. Тем не менее это очень интересная проблема, независимо от того, имеет она физическую природу или мистическую. Среди вопросов, с которыми обращались к Шерлоку Холмсу, были, естественно, и вопросы о кладах. Один подлинный случай имеет отношение к приведенной здесь схеме. Он связан с кораблем Ост-Индской компании [Ост-Индская компания — (1600—1858), компания английских купцов для торговли с Ост-Индией (то есть Индией и странами Юго-Восточной Азии); с течением времени стала государственным органом по управлению английскими владениями в Индии.], потерпевшим кораблекрушение у берегов Южной Африки в 1782 году. Будь я помоложе, я непременно захотел бы сам отправиться на место и во всем разобраться. На корабле были огромные богатства, включавшие, мне кажется, старинные царские регалии из Дели. Подозревают, что сокровища погребены недалеко от берега и что схема указывает это место. В те времена каждый корабль Ост-Индской компании имел собственные позывные, и можно предположить, что три пометы слева являются пометами для трехфлажного семафора. Возможно, даже сейчас среди старинных документов министерства по делам Индии [это министерство существовало с 1858 по 1947 год] удастся найти какую-нибудь запись об их значении. Кружок вверху справа указывает направление по компасу. Большой полукруг может изображать изогнутую поверхность рифа или утеса. Цифры над ним говорят о том, как достичь точки X, отмечающей сокровище. Вполне вероятно, они могут означать расстояние в 186 футов от цифры 4 на полукруге. Крушение произошло у берегов глухой части страны, но я буду удивлен, если рано или поздно кто-нибудь не возьмется серьезно за это дело, чтобы разрешить загадку, — именно сейчас небольшая компания поставила себе такую цель. А теперь я должен извиниться за отклонение от темы и вернуться к последовательному описанию своей жизни. 1924 Перевод М.Корневой и М.Ремизовой Приложение 1 [Об искусстве рассказа] Из книги “За волшебной дверью” <…> Какие рассказы, написанные на английском языке, можно назвать выдающимися? Неплохая тема для спора! Я лишь уверен, что превосходных рассказов куда меньше, чем превосходных больших сочинений. Чтобы вырезать камею, требуется гораздо более тонкое искусство, чем создать статую. Однако самое удивительное в том, что два таких выдающихся по мастерству творения, как рассказ и большое сочинение, по-видимому, существуют сами по себе и даже “враждебны” друг другу. Мастерство, требующееся для создания одного, никоим образом не гарантирует мастерства для создания другого. С одной стороны, величайшие представители английской литературы Филдинг [Генри Филдинг (1707-1754) - английский писатель, романист, драматург, создатель английской политической комедии, публицист. Популярностью пользовались его фарс “Трагедия трагедий” (1730), политические комедии “Пасквин” (1736), “Исторический календарь за 1736 год” (1736), “балладные оперы” с музыкальными номерами (“Опера Граб-стрит”, 1731) и др. Свои романы Филдинг называл “комической эпопеей в прозе”. Таковы “Джозеф Эндрюс” (1742), где осуждено не только человеческое притворство и тщеславие, но дана критика социальных противоречий. Лучший его роман “История Тома Джонса, найденыша” (1749), в котором нарисована широкая картина тогдашней английской действительности (деревня, город, помещичьи усадьбы, гостиницы, тюрьмы и т.д.) и изображены представители различных социальных слоев. С образом главного героя писатель связывает свое понимание “человеческой природы”, оптимизм, веру в здоровые начала, заложенные в человеке. “Амелия” (1751) — последний из романов писателя, в котором его оптимизм оказывается поколебленным.], Скотт, Диккенс, Теккерей, Рид не оставили после себя ни одного замечательного рассказа, за исключением, возможно, “Рассказа слепого странника Вилли” из романа “Редгонтлет” [роман “Редгонтлет” (1824) Вальтера Скотта, где показан один из эпизодов якобитских войн (возвращение принца Чарльза Стюарта в Англию в 50-е годы XVIII века в надежде вернуть английский престол Стюартам), содержит в себе замечательный образец названного выше короткого рассказа с использованием мотива сверхъестественного.]. Но с другой стороны, и мастера короткого рассказа, такие, как Стивенсон, По, Брет Гарт, не создали больших произведений. Спринтер редко бывает хорошим стайером. И все же, если бы вам пришлось выбирать “вашу команду”, кого бы вы назвали? На деле-то ведь у вас нет большого выбора. Какие критерии вы бы тут избрали? Вы хотели бы найти в рассказах выразительность, новизну, краткость, чтобы они читались с напряженным интересом и произвели бы на вас большое впечатление в целом. Таким мастером прежде всего является Эдгар По. Между прочим, это при взгляде на зеленый томик его сочинений, который стоит следующим по порядку на моей любимой полке, у меня возник ряд мыслей. Я полагаю, что Эдгар По — величайший зачинатель короткого рассказа, когда-либо живший на свете. Его ум подобен стручку, полному семян, которые беззаботно разлетаются вокруг и откуда происходят почти все типы современного рассказа. Вспомните только, какие произведения он создал в присущей ему непринужденной и многообразной манере, редко заботясь о повторении успеха, но стремясь к новым достижениям. Можно сказать, что он — прародитель ужасного поколения писателей детективного жанра, “Quarum pars parva fui” [Малой частью которых был и я (лат.)]. В каждом из таких писателей есть что-то свое, но основное влияние на их искусство, как это можно проследить, оказали превосходные рассказы месье Дюпена, столь замечательные по своему мастерству, сдержанности, драматическому накалу. Проницательный ум — вот в конце концов то единственное качество, каким должен обладать идеальный детектив. И если такой проницательности хватает с избытком, то последователи Эдгара По должны непременно довольствоваться тем, чтобы все время идти по этому главному следу. Но Эдгар По не только родоначальник жанра детективных рассказов. Все рассказы о поисках сокровищ и расшифровке криптограмм ведут начало от “Золотого жука” [“Золотой жук” (1843) — рассказ Эдгара По, построенный на комбинации анализа и интуиции, что приводит к синтезу-разгадке], как и все псевдонаучные жюльверновско-уэллсовские произведения имеют своим прототипом роман “С Земли на Луну” [“С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут” (1865) — фантастический и приключенческий роман французского писателя Жюля Верна] и рассказ “Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром” [один из “страшных” рассказов Э.По (1865)]. Если каждый из тех, кто получает гонорар за рассказ, обязанный своим появлением на свет Эдгару По, начнет “уплачивать десятину” его монументу, то Эдгару По будет воздвигнута такая же огромная пирамида, как и Хеопсу. И все же в число избранных мной произведений я могу включить лишь два рассказа Эдгара По. Это “Золотой жук” и “Убийство на улице Морг”. Я не знаю, каким образом можно было бы усовершенствовать каждый из этих рассказов. Однако другие его рассказы я не нахожу абсолютно безупречными. “Золотой жук” и “Убийство” обладают соразмерностью и широтой, чего недостает другим произведениям По; идея названных двух рассказов заключает в себе ужас или фатализм, что усугубляется беспристрастностью рассказчика и главного действующего лица, Леграна в первом случае и Дюпена во втором. Все сказанное можно отнести и к Брету Гарту, также одному из тех замечательных рассказчиков, которые не проявили себя в создании произведений большой формы. Писатель всегда напоминает одного из своих золотоискателей, который напал на богатое месторождение золота, однако неистощимой золотой жилы так и не нашел. Месторождение, увы, оказалось весьма скромным, зато золото было высшей пробы. Рассказы “Счастье Ревущего Стана” и “Компаньон Теннессис” оба заслуживают места среди тех произведений, которые я считаю бессмертными. Безусловно, они несут на себе такой отпечаток влияния Диккенса, что представляются чуть ли не пародией на этого мастера. Но в них есть симметрия и убедительная завершенность произведений этого жанра, чего Диккенс никогда не достигал. Я не завидую человеку, который без глубокого волнения сможет прочитать эти два рассказа. А Стивенсон? Два его произведения, несомненно, должны также войти в число избранных мной, поскольку где еще мы найдем более тонкое понимание того, каким может быть рассказ? По моему мнению, Стивенсон за свою жизнь создал два шедевра, и оба они, по сути, рассказы, хотя один из них и опубликован в виде книги. Это “Странная история д-ра Джекиля и мистера Хайда”. Будете ли вы рассматривать ее как яркое повествование или же как удивительно глубокую и верную аллегорию — все равно это в высшей степени замечательное произведение. Другой рассказ, “Дом на дюнах”, — я полагаю истинный образец драматического повествования. Это произведение очень ясно запечатлелось в моем сознании, еще когда я прочитал его в журнале “Корнхилл мэгэзин”. Поэтому, снова встретившись с ним много лет спустя, уже опубликованным в виде книги, я сразу же обнаружил два небольших изменения в тексте, причем каждое из них оставляет желать лучшего по сравнению с журнальным вариантом. Изменения были незначительными, однако наводили на мысль об отбитых кусочках на совершенной статуе. Вне сомнения, только прекрасное произведение искусства может произвести столь сильное впечатление. Конечно, есть не менее десятка творений Стивенсона, которые могут посрамить лучшие работы среднего писателя. Всем таким произведениям Стивенсона присущ какой-то удивительный стивенсоновский романтический колорит, о чем я скажу позже. Но только о “Д-ре Джекиле” и “Доме на дюнах” я мог бы заявить, что их абсолютное совершенство дает им право попасть в число избранных мной. А кто еще? Если не будет дерзостью назвать произведение современника, то я, конечно, выбрал бы из Киплинга. Сила, сжатость, драматизм, умение придать повествованию яркость, когда оно разгорается, точно вспыхнувший факел, — все это отмечает его как большого мастера. Но что же мы должны выбрать из обширного и разнообразного собрания его творений, где многие претендуют на самую высокую оценку? Основываясь на собственной памяти, могу сказать, что на меня более всего произвели впечатление рассказы “Барабанщики передового и тылового”, “Человек, который был бы королем”, “Человек, который был” и “Истребитель микробов”. Возможно, в итоге, именно первые два из них я и выбрал бы для моего списка шедевров. Есть рассказы, которые располагают к критике и в то же время представляют для нее непреодолимые трудности. Самый искусный игрок в крикет — тот, кто играет не так, как принято, всякий раз позволяя вольности, в чем отказано игрокам более низкого класса, и все же добиваясь блестящей победы, несмотря на пренебрежение правилами. Так обстоит дело и в данном случае. Думаю, что для молодых писателей Киплинг — наиболее опасный пример для подражания. Его рассказам присуще отклонение от темы — самый большой недостаток короткого повествования, а также и непоследовательность. Им не хватает соразмерности, когда действие в рассказе на протяжении нескольких страниц буквально застывает на одном месте, а потом в немногих фразах точно несется вскачь. Но гений преодолевает все это, как и величайший игрок в крикет, который берет неимоверно трудный мяч. В рассказах Киплинга есть стремительный порыв, буйство красок, полнокровное, уверенное мастерство, которое берет все препятствия на своем пути. Ни одно собрание бессмертных творений не будет полным, если в него не войдут по крайней мере два рассказа Киплинга. Ну а что же мы выберем теперь? Натаниел Готорн [Натаниел Готорн (1804—1864) — американский писатель, литературной известности добился на поприще новеллистики. Начиная с 1837 года, публикуются его “Дважды рассказанные рассказы” (1837, 1842), “Легенды старой усадьбы” (1846), “Снегурочка и другие дважды рассказанные рассказы” (1852). Нравственную стойкость своих героев в них писатель противопоставляет лицемерию и эгоизму буржуазного мира. С этих же позиций написан и лучший роман Готорна “Алая буква” (1850), где на фоне событий из истории Новой Англии разыгрывается трагедия женщины, осужденной ложной пуританской моралью.] никогда мне особенно не нравился. Уверен, это моя вина. Но я всегда жаждал чего-то большего, чем он мог дать мне. Чтобы произвести на читателя впечатление, его произведения слишком утонченны и трудны для понимания. Меня, признаться, больше взволновали некоторые из рассказов его сына Джулиана [имеется в виду Джулиан Готорн (1846—1934), американский писатель, часть жизни проведший в Англии, автор романа “Арчибалд Мелмезон” (1884) о раздвоении личности и др., а также нескольких фактографических книг о своей семье: “Натаниел Готорн и его жена” (1884), “Готорн и его окружение” (1903)], хотя я прекрасно понимаю, какой большой художник старший писатель и какое тонкое очарование заключено в его стиле. Претендентом выступает также и Булвер-Литтон [Эдвард Джордж Эрли Булвер, лорд Литтон (1803—1873) — английский писатель, автор многих психологических, исторических, уголовных романов. Широко известен его роман “Пелэм, или Приключения джентльмена” (1828), основная тема которого — бессмысленность суеты политической и частной жизни английской аристократии и тщеславия, разъедающего это общество в 20-е годы XIX века. Считается, что в этом романе Булвер-Литтон предвосхитил Теккерея в изображении нравов английского света. Писатель создал также много рассказов (“Привидения”, 1859; “Странная история”, 1862), в которых с успехом представил “оккультные силы”.]. Его “Привидения” — это самый замечательный рассказ на эту тему из тех, что мне известны. Поэтому следует включить его в мой перечень. В одном из старых номеров журнала “Блэквуд” был напечатан рассказ под названием “Метемпсихоз”, который произвел на меня столь глубокое впечатление, что я присоединил бы его к числу лучших рассказов, хотя прошло много лет с тех пор, как я с ним познакомился. Все эти дидактические рассуждения возникли у меня при взгляде на потертую зеленую обложку томика Эдгара По. Уверен, что если бы мне пришлось назвать немногие книги, которые действительно оказали влияние на мою жизнь, то после “Очерков” Маколея я назвал бы книгу Эдгара По. Я читал его в молодости, когда мой ум был гибким. По стимулировал мое воображение и дал мне высочайший пример величия и действенной силы умения писать рассказы. Возможно, правда, это не совсем здоровое нравственное влияние. Слишком уж настойчиво оно обращает мысли к явлениям болезненным и ужасным. Эдгар По был натурой мрачной, не склонной к шуткам и веселости, любившей страшное и гротескное. Читатель сам должен обладать противоядием против этого, иначе писатель может стать его недобрым спутником. Известно, какими опасными путями вел писателя его странный ум и в какую непролазную трясину завел, вплоть до того пасмурного утра в октябрьское воскресенье, когда его, умирающего, подобрали на обочине тротуара в Балтиморе в возрасте, обещавшем самый расцвет творческих и физических сил. Я уже говорил, что считаю Эдгара По непревзойденным мастером рассказа. Ближайшим же его соперником мне представляется Мопассан [Ги де Мопассан (1850—1893) — французский писатель, автор романов “Жизнь” (1883), “Милый друг” (1885), “Монт-Ориоль” (1886) и др., а также сборников новелл “Заведение Телье” (1881), “Мадемуазель Фифи” (1882), “Дядюшка Милон” (1883), которым присуща острая антибуржуазная критика духовного убожества буржуа.]. Знаменитый нормандец никогда не достигал той поразительной действенной силы и самобытности, которые присущи американцу, но от природы обладал способностью и врожденной интуицией как добиваться нужного ему эффекта, что отмечает его как большого художника. Мопассан писал рассказы, потому что не мог не писать. И делал это так же естественно и замечательно, как яблоня родит яблоки. И какая же у него прекрасная и тонкая манера! Как ненавязчиво и деликатно преподносит он “соль” рассказа! Какой у него ясный и выразительный слог, свободный от излишеств, что портит так много произведений английской литературы! Писатель избавляется от них буквально до последнего слова. Я не могу писать о Мопассане, не вспомнив того, что в моей собственной жизни явилось либо духовным посредничеством, либо удивительным совпадением. Я путешествовал по Швейцарии и среди других мест побывал на перевале Жемми, где огромная скала разделяет французский и немецкий кантоны. На вершине этой скалы находится небольшая гостиница, где мы и остановились во время нашего путешествия. Нам объяснили, что, хотя гостиница обитаема круглый год, все же почти в течение трех зимних месяцев она полностью отрезана от мира. Обычно добраться до гостиницы можно лишь по извилистым горным тропинкам, а когда их заносит снегом, то подняться наверх и спуститься вниз уже невозможно. Оставшиеся в гостинице могут видеть внизу в долине огни, но они так одиноки, будто живут на Луне. Безусловно, столь необычная ситуация повлияла на мое воображение, и я поспешно стал сочинять в голове рассказ о группе решительных, но противоположных по характеру людей, застрявших в гостинице. Они ненавидят друг друга, но все же абсолютно неспособны избавиться от общества друг друга, хотя каждый день приближает их к трагедии. Почти неделю, пока продолжалось мое путешествие, я обдумывал такую идею. К концу этого путешествия я возвращался домой через Францию и, поскольку читать мне было нечего, случайно купил томик рассказов Мопассана, которых прежде и в глаза не видел. Первый же рассказ в нем назывался “L’Auberge” (“Гостиница”), и, пробежав глазами страницу, я поразился, увидев слова “Kandersteg” [Кандерштег — курортный городок в Швейцарии] и “проход Жемми”. Я сел и со все возрастающим изумлением прочитал рассказ. Действие его происходило в гостинице, где я останавливался. Сюжетом послужило одиночество людей, зимующих в гостинице, погребенной под снегом. В рассказе оказалось все, что я создал в своем воображении. Кроме того, там была еще злая собака. Безусловно, генезис рассказа достаточно ясен. Мопассану довелось побывать в этой же гостинице, и у него, как и у меня, возникла в голове та же самая цепочка мыслей. Все это вполне понятно. Но самое удивительное, что во время столь короткого путешествия мне случилось купить ту единственную в мире книгу, которая помешала мне выставить себя перед всеми в глупом виде. Ведь кто бы поверил, что мой рассказ не является подражанием? Я думаю, что гипотеза случайного стечения обстоятельств не объясняет происходящие факты. Это был один из тех случаев в моей жизни, который убедил меня в духовном посредничестве, о внушении со стороны какой-то благотворной силы вне нас, пытающейся помочь нам там, где она может. Старый католический догмат об ангеле-xpaнителе не только прекрасен, но заключает в себе, как я считаю, зерно истины. А может быть, это то, что наше подсознательное “я”, прибегая к жаргону новой психологии, или же наше астральное “я”, выражаясь словами новой теологии, может узнать и сообщить нашему интеллекту то, что наши собственные чувства не могут постичь? Однако это слишком долгий разговор, который уведет нас от темы, чтобы начинать его. Если бы Мопассан захотел, то мог бы стать почти равным Эдгару По в этой сфере странного и сверхъестественного, которую американец сделал полностью своим владением. Знаком ли вам рассказ Мопассана “Орля”? [повесть Мопассана (1886)] В нем, если хотите, есть немало diablerie [Колдовство, дьявольщина (фр.)]. Но палитра француза, вне сомнения, гораздо красочней. Он обладает обостренным чувством юмора, нарушающим в его рассказах все внешние приличия, который, однако, придает какой-то привлекательный оттенок. И еще. Теперь, когда уже все оказано, кто может сомневаться в том, что суровый и вселяющий ужас американец куда более значительный и самобытный ум из них двоих? Рассуждая с вами о “страшных” рассказах в американской литературе, мне хочется спросить: читали ли вы какие-либо произведения Амброза Бирса? Здесь у меня есть сборник его рассказов “В гуще жизни”. У этого писателя собственный почерк, и в своем роде он был большим художником слова. Чтение рассказов Бирса отнюдь не воодушевляет, но они оставляют след в душе. И это говорит в пользу истинного произведения. Я нередко размышлял о том, откуда у По его стиль? Лучшим творениям писателя присуще какое-то мрачное величие, точно они высечены из блестящего черного янтаря, который принадлежит только ему одному. Осмелюсь сказать, что если я сниму этот томик По с полки, то, открыв его в любом месте, найду отрывок, подтверждающий мои мысли. Вот пример: “Да, прекрасные сказания заключены в томах Волхвов — в окованных железом печальных томах Волхвов. Там, говорю я, чудесные летописи о Небе и о Земле и о могучем море — и о Джиннах, что завладели морем и землей и высоким небом. Много мудрого таилось и в речениях Сивилл; и священные, священные слова были услышаны встарь под тусклой листвой, трепетавшей вокруг Додоны, — но, клянусь Аллахом, ту притчу, что поведал мне Демон, восседая рядом со мною в тени могильного камня, я числю чудеснейшей из всех!” [Эдгар По. Полное собрание рассказов. М., Наука, 1970, с. 144] Или еще: “И тогда мы семеро в ужасе вскочили с мест и стояли, дрожа и трепеща, ибо звуки ее голоса были не звуками голоса какого-либо одного существа, но звуками голосов бесчисленных существ, и, переливаясь из слога в слог, сумрачно поразили наш слух отлично памятные и знакомые нам голоса многих тысяч ушедших друзей” [Эдгар По. Полное собрание рассказов. М., Наука, 1970, с. 128]. Разве нет здесь сурового величия? Ни один человек не изобретает свой стиль. Он всегда является следствием какого-либо влияния, или, что более часто, компромиссом между несколькими влияниями. Но влияния, которые испытывал Эдгар По, я проследить не могу. <…> 1907 Перевод Т.Шишкиной Приложение 2 Сэр А.Конан Дойл и случай миссис Кристи Психометрия и работа детектива [В письме говорится о случае, действительно произошедшем с известной английской писательницей Агатой Кристи (1891— 1976). Он имел место в 1926 году. Как пишут некоторые английские и американские критики, да и сама писательница, она пережила нервный срыв после изнурительной работы над романом “Убийство Роджера Акройда”. В это же время умерла мать писательницы, а муж писательницы полковник Арчибалд Кристи предложил ей разойтись с ним. Дело кончилось тем, что однажды зимним вечером Агата Кристи бросила свою машину где-то в поле, а сама скрылась в неизвестном направлении. Сообщение анонимного информатора привело полицию через несколько дней к небольшому отелю в Хэрроугейте, где писательница поселилась под чужим именем и выступала с маленьким оркестром, играя на фортепиано. Врачи определили ее заболевание как приступ амнезии, то есть частичной потери памяти, а английская пресса обвинила ее в саморекламе.] “Морнинг пост” 20 декабря 1926 года Сэр, случай миссис Кристи — это замечательный пример использования психометрии как помощи детективу. Следует признать, что психометрия является силой неуловимой и неопределенной, но временами достигающей необыкновенной действенности. К ней часто обращается французская и немецкая полиция, но если такое произойдет когда-либо с нашей собственной английской полицией, то это должно быть sub rosa [По секрету, тайно, потихоньку (лат.)], поскольку для нее затруднительно прибегать к тем самым силам, которые закон заставляет ее подвергать гонениям. В данном же случае я раздобыл перчатку миссис Кристи и попросил мистера Хорэйса Лифа, превосходного психометриста, высказать свое мнение. Я не сделал ему никакого намека на то, что хотел бы от него услышать или кому принадлежала эта вещь. Он никогда не видел ее, пока я не положил ее перед ним на стол в самый момент консультации, и не было ничего, чтобы как-то ассоциировать эту вещь либо меня со случаем миссис Кристи. Наша встреча происходила в прошлое воскресенье. Мистер Лиф сразу же назвал имя: “Агата”. “С этим предметом связывается неприятность. Владелица его находится в полубессознательном состоянии. Но она жива. И я думаю, что в следующую среду вы о ней услышите”, — сказал мистер Лиф. Миссис Кристи обнаружили во вторник вечером, и была уже среда, когда я узнал об этом. Так что все в толковании, насколько я мог проверить, оказалось верным (было также достаточно сказано о ее характере, причинах поступка, но это уже находилось вне моей компетенции). Единственное неверное суждение состояло в том, что у мистера Лифа создалось представление о водной стихии. Однако, что лежало в основе этого, сказать по меньшей мере трудно. В тот же вечер я отослал полковнику Кристи это сообщение. Артур Конан Дойл Библиотека, музей, а также книжная лавка, где продаются книги по спиритизму и духовная литература Виктория-стрит, 2, Вестминстер, Ю.З. 16 декабря Перевод Е.Любимовой и А.Маркова Составление комментариев Т.Шишкиной Тексты даются по изданию: Конан Дойл А. Жизнь, полная приключений. М.: Вагриус, 2001, с. 27-28, 68-78, 86-127, 305-312, 365-366.