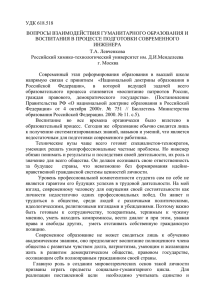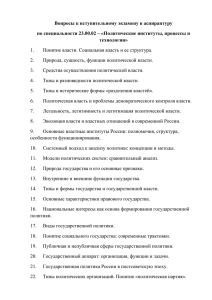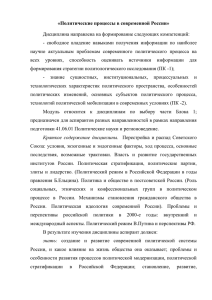М.В. Ильин - PolitPriklad
advertisement
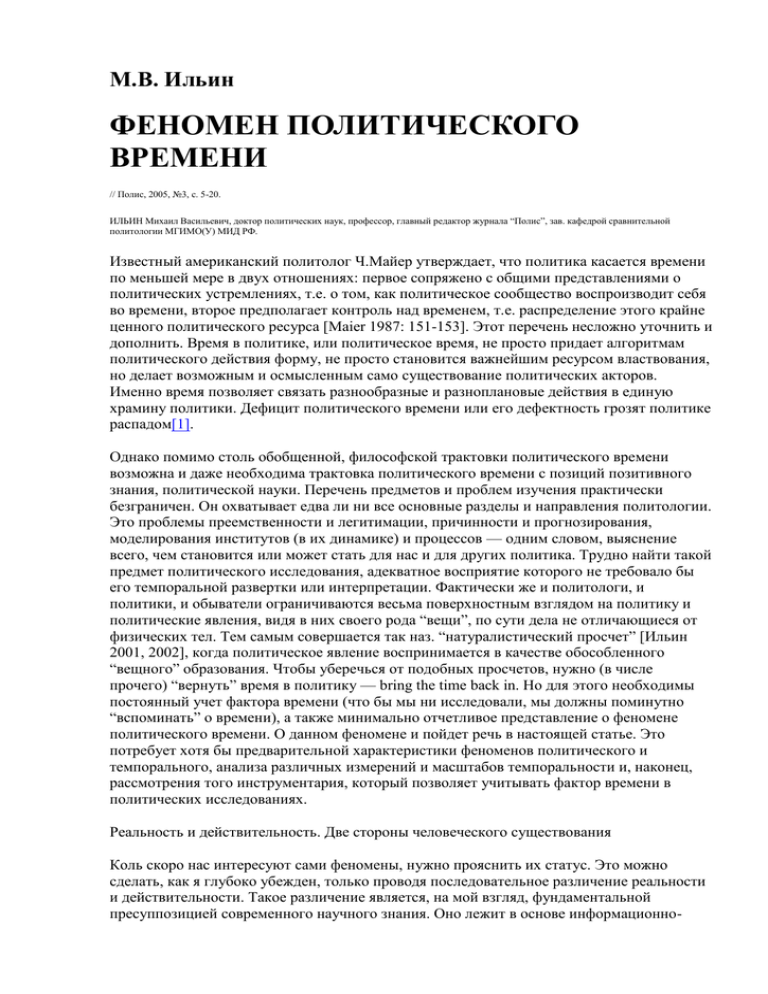
М.В. Ильин ФЕНОМЕН ПОЛИТИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ // Полис, 2005, №3, с. 5-20. ИЛЬИН Михаил Васильевич, доктор политических наук, профессор, главный редактор журнала “Полис”, зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО(У) МИД РФ. Известный американский политолог Ч.Майер утверждает, что политика касается времени по меньшей мере в двух отношениях: первое сопряжено с общими представлениями о политических устремлениях, т.е. о том, как политическое сообщество воспроизводит себя во времени, второе предполагает контроль над временем, т.е. распределение этого крайне ценного политического ресурса [Maier 1987: 151-153]. Этот перечень несложно уточнить и дополнить. Время в политике, или политическое время, не просто придает алгоритмам политического действия форму, не просто становится важнейшим ресурсом властвования, но делает возможным и осмысленным само существование политических акторов. Именно время позволяет связать разнообразные и разноплановые действия в единую храмину политики. Дефицит политического времени или его дефектность грозят политике распадом[1]. Однако помимо столь обобщенной, философской трактовки политического времени возможна и даже необходима трактовка политического времени с позиций позитивного знания, политической науки. Перечень предметов и проблем изучения практически безграничен. Он охватывает едва ли ни все основные разделы и направления политологии. Это проблемы преемственности и легитимации, причинности и прогнозирования, моделирования институтов (в их динамике) и процессов — одним словом, выяснение всего, чем становится или может стать для нас и для других политика. Трудно найти такой предмет политического исследования, адекватное восприятие которого не требовало бы его темпоральной развертки или интерпретации. Фактически же и политологи, и политики, и обыватели ограничиваются весьма поверхностным взглядом на политику и политические явления, видя в них своего рода “вещи”, по сути дела не отличающиеся от физических тел. Тем самым совершается так наз. “натуралистический просчет” [Ильин 2001, 2002], когда политическое явление воспринимается в качестве обособленного “вещного” образования. Чтобы уберечься от подобных просчетов, нужно (в числе прочего) “вернуть” время в политику — bring the time back in. Но для этого необходимы постоянный учет фактора времени (что бы мы ни исследовали, мы должны поминутно “вспоминать” о времени), а также минимально отчетливое представление о феномене политического времени. О данном феномене и пойдет речь в настоящей статье. Это потребует хотя бы предварительной характеристики феноменов политического и темпорального, анализа различных измерений и масштабов темпоральности и, наконец, рассмотрения того инструментария, который позволяет учитывать фактор времени в политических исследованиях. Реальность и действительность. Две стороны человеческого существования Коль скоро нас интересуют сами феномены, нужно прояснить их статус. Это можно сделать, как я глубоко убежден, только проводя последовательное различение реальности и действительности. Такое различение является, на мой взгляд, фундаментальной пресуппозицией современного научного знания. Оно лежит в основе информационно- энергийной онтологии человеческого мира, представленной, например, Т.Парсонсом в виде модели “социальной системы” [Parsons 1966]. Данным словосочетанием выдающийся американский обществовед фактически обозначает целостный человеческий мир. Его Парсонс ограничивает двумя запредельностями: первая — физико-органическая среда (physical-organic environment), вторая — так наз. “Конечная Реальность” (“Ultimate Reality”), чисто ноуменальная по своему характеру. Социальную систему пронизывают два структурообразующих и взаимодополняющих “кибернетических” параметра: энергетическое нарастание контролирующих факторов (hierarchy of controlling factors) в сторону физико-органической среды и информационное нарастание обуславливающих факторов (hierarchy of conditioning factors) в сторону “Конечной Реальности” [схему см. Parsons 1966: 28]. В терминах философии два рассматриваемых предела и “кибернетических” параметра соответствуют дуализму материи и духа, как бы этот дуализм ни выражался в различных философских учениях и системах. Для анализируемой здесь темы весьма продуктивным представляется развитие данного дуализма П.Тейяром де Шарденом в виде различения двух энергий — радиальной и тангенциальной, которое будет использовано ниже. Двойственная онтология реальности и действительности имеет не только философское и научное выражение — она лежит в самой основе обыденного языка, а значит, и фундаментальных, спонтанно действующих начал мысли. Обыденный язык (точнее, многие новоевропейские языки) отличает вещную реальность (от лат. res — “вещь”) и, соответственно, reality, realitй, die Realitдt, etc. от энергийной действительности — actuality, actualitй, etc. (от лат. actio — “действие”), die Wirklichkeit (от wirken — “действовать”)[2]. Именно от этих фундаментальных начал отталкивались мыслители и ученые, осваивавшие контрапункт “слова versus вещи”[3]. Саму формулу в ее исходном варианте “Wцrter und Sachen” можно было бы перевести “слова и предметы” или даже “слова и дела”, ибо немецкое слово Sachen, подобно русскому “предмет”, может обозначать как физические объекты, так и процессы или даже мыслительные образования. Именно поэтому в программной статье “О задачах и названии (‘Wцrter und Sachen’ — М.И.) нашего журнала” Р.Мерингер подчеркивал, что “под вещами (Sachen) мы понимаем не только пространственные объекты, но также мысли, представления, институты, которые в какомлибо слове нашли свое выражение” [Meringer 1912: 34]. Тем самым и “вещи”, и “дела” оказывались существенными лишь постольку, поскольку отражались в слове, а весь фокус внимания непроизвольно перемещался на слова как таковые. Р.Мерингера, Дж.Остина, Р.Брауна, Э.Геллнера, У.Куайна, М.Фуко и других авторов объединяет более или менее явное признание того, что слова могут стать ключом к пониманию и даже — в случае с Дж.Остином — к творению вещей (дел, действий, идей, понятий и т.п.). Тут, однако, требуются немаловажные уточнения. Прежде всего речь идет о различении двух типов вещей. Первый включает внешние, наблюдаемые “вещи”, т.е. объекты, процессы и действия людей, которые слово именует и тем самым обобщает; второй — внутренние “дела” нашей мысли, которые слово выражает и тем самым оформляет. Это различение без сомнения связано с принятым в лингвистике выделением и противопоставлением значения (экстенсионала) и смысла (интенсионала) слова. Вместе с тем учет не только действительности слова, как бы впитывающей, вбирающей в себя через значения и смыслы остальную реальность, но и всей онтологии человеческого бытия заставляет признать самостоятельное существование пограничных слову вещей и дел. Движение к вещам отвечает парсонианскому нарастанию контролирующих факторов в сторону физико-органической среды, а обращение к делам (смыслам) — нарастанию обуславливающих факторов в сторону “Конечной Реальности”[4]. В трактовке Парсонса каждое явление обладает двойственной ориентацией, имеет две перспективы своего раскрытия. Подобный подход получил самостоятельное и, по сути, космологическое развитие еще в трудах П.Тейяра де Шардена конца 1930-х — начала 1940-х годов. В “Феномене человека” ученый отмечал: “…с феноменологической точки зрения, которой я систематически придерживаюсь, материя и дух выступают не как ‘предметы’ (‘chose’), ‘натуры’ (‘natures’), а как простые, связанные между собой переменные, для которых необходимо определить не скрытую сущность, а функциональную кривую от пространства и времени” (курсив Тейяра де Шардена — М.И.) [Тейяр де Шарден 2002: 320]. Таким образом, функциональная связь нерасторжимых переменных всякого проявления кроется в зависимости между воплощением (материализацией, овеществлением) феномена и его актуализацией в неком (воз)действии, т.е., добавлю, в сопряженности между “вещественной фиксацией” феноменов в пространстве и действенным, например — причинно-следственным, соотношением этих феноменов во времени. Данная трактовка полностью отвечает стремлению Тейяра “последовательно связать между собой две энергии — тела и души” [Тейяр де Шарден 2002: 66]. “Обе энергии — физическая и психическая, — находящиеся, соответственно, на внешней и внутренней сторонах мира, выглядят в целом одинаково. Они постоянно соединены и некоторым образом переходят одна в другую. <…> — писал он. — Мы допустим, что по существу всякая энергия имеет психическую природу[5]. Но оговоримся, что в каждом элементечастице (en chaque йlйment particulaire) эта фундаментальная энергия делится на две составляющие: тангенциальную энергию, которая связывает данный элемент со всеми другими элементами того же порядка (т.е. той же сложности и той же ‘внутренней сосредоточенности’), и радиальную энергию, которая влечет его в направлении все более сложного и внутренне сосредоточенного состояния” (курсив Тейяра де Шардена — М.И.) [Тейяр де Шарден 2002: 68]. Другими словами, тангенциальная энергия, вернее — материально-физическое ее проявление дает нам пространственную связь элементов “со всеми другими элементами того же порядка”, а информационное или, по Тейяру, “психическое” ее проявление — временнуўю, темпоральную связь элементов. Рассмотрим феноменологию этой темпоральной связи. Феноменология темпоральности На самом элементарном уровне темпоральная связь элементов выражается в простом их соотнесении по принципу предшествования и следования. По мере усложнения даже чисто физических систем причинно-следственные отношения могут оказаться отнюдь не однозначными. Такого рода эффекты наблюдаются “в многомерном фазовом пространстве”, т.е. в пространственно распределенной системе, “состоящей из элементов, в совокупности образующих возбудимую среду[6] с диффузным характером распространения импульсов различного рода изменений” [Лапкин 2002: 31]. Возбудимую среду, как отмечает В.В.Лапкин, “характеризует способность к генерации так наз. автоволновых процессов, а также к формированию центров автоколебаний, которые могут задавать ведущий ритм всей системе и тем самым осуществлять принудительную синхронизацию активности всех прочих генерирующих центров” [Лапкин 2002: 31]. Иначе говоря, в подобной среде выделяются центры, которые “задают ритм”, “синхронизуют активность”, словом, создают темпоральные отношения взаимодействия. Эти центры — отнюдь не “точки”, а скорее “ядра” — консолидируют среды или пространства, а потому темпорально связываются уже не отдельные элементы, а эти новые, более сложные, образования. Связь материального усложнения мира с его “направленным прибавлением”, или темпорализацией, прекрасно показана Тейяром де Шарденом в его “геометрии” космогенеза. “Фундамент” этой “геометрии” закладывают три “шага космогенеза”, которые не просто соединяют Преджизнь с Жизнью, Жизнь — с Мыслью, а Мысль — со Сверхжизнью (таковы четыре узловые части “Феномена человека” и главные эволюционные проявления мира), но и устанавливают модель усложнения универсума. В основе данной модели лежит геометрический образ перехода от точки к линии, от линии к поверхности, а от поверхности — к объемной фигуре. Так (т.е. “тангенциально”), по мысли Тейяра, осуществляется развертывание вовне. Аналогичное движение происходит и вовнутрь, “радиально”, за счет увеличения (раз)мерностей феномена, причем, добавлю, размерностей темпоральных. Феномен испытывает, “переживает” череду мгновенных состояний. Пунктирная линия в силу своей неоднородности (прежде — потом) начинает “скручиваться” (s’enroulait sur soi), образуя поверхность, где со-бытия соединяются множеством пунктирных траекторий. Точно таким же образом событийные поверхности “скручиваются” в объемную среду развития. Вероятно, в качестве общего образца увеличения размерности как пространства, так и времени можно принять наращивание размерностей математического числа. От первичной единицы счета (считаемого предмета) можно совершить переход к ряду натуральных и рациональных чисел, от него — к плоскости декартовых координат, заполненных иррациональными числами, и далее — к “объемному” пространству комплексных и гиперкомплексных чисел. Весьма показательно, что обоснование категории числа стало возможным лишь после освоения всех типов и “размерностей” такового и преодоления вполне естественного представления, будто действительностью (вещностью) обладают лишь натуральные числа, а сложные, многоразмерные, — мнимы [Фаддеев 1988]. Другой аналогией наращивания размерностей могут выступать основные измерения семиотики. Обычно выделяют три таких измерения — семантику (Язык-1), синтактику (Язык-2) и прагматику, или дектику (Язык-3) [Степанов 1985]. Четвертым измерением некоторые исследователи считают миф как базовый, самому себе равный языквысказывание [Ильина 1994], что соответствует намеченной, но так до конца и не развернутой коммуникативно-семиотической концепции политики классиков американской политической науки Ч.Мерриама [Merriam 1945] и Г.Лассуэлла [Lasswell 1949]. Возвращаясь к рассматриваемым феноменам, отмечу, что каждый из них раскрывается как внутри себя, во времени, так и вне себя, в пространстве. Раскрытие это происходит согласованно, образуя единую “функциональную кривую от пространства и времени”. Однако выявить такую кривую непросто. Разглядеть ее можно только в результате многочисленных “путешествий” в пространстве и во времени, после многократных попыток соединения времен и пространств, совершив “жизненно важную революцию, которую произвело в человеческом сознании фактически недавнее открытие длительности” [Тейяр де Шарден 2002: 50]. Смысл подобного “открытия длительности” заключается в том, что “все то, что в наших космологических построениях мы до сих пор рассматривали и трактовали как точку, становится мгновенным сечением безграничных временныўх волокон” [Тейяр де Шарден 2002: 50-51]. Феномен времени в своей сложности и многосторонности раскрывается с вершины эволюции: “То, что делает человека ‘современным’ (и в этом смысле масса наших современников еще не современна), — это способность видеть (c’est d’кtre devenu capabalite de voir[7]) не только в пространстве, не только во времени, но и в длительности (mais dans la Durйe[8]) или, что то же самое, в биологическом пространстве-времени и, более того, способность все рассматривать только в этом аспекте, — все, начиная с самого себя (c’est de se trouver, par surcroоt, incapable de rien voir autrement, — rien, — а commencer par lui-mкme[9])” [Тейяр де Шарден 2002: 226; Teilhard de Chardin 1955: 219]. На вершине эволюции время является максимально многомерным и “уплотненным”. Это позволяет воспринимать и оценивать обладающие меньшей размерностью и “плотностью” времена. Проще всего разглядеть и проанализировать так наз. “реальное” время, которое не в большей мере реально, чем натурально так наз. натуральное число. Больше трудностей вызывает историческое время политических событий, которое гораздо сложнее и не поддается полной редукции к темпоральной шкале “реального” времени. Еще проблематичней время развития, формируемое взаимосвязью различных эволюционных состояний политического. В окружающей нас действительности мы одновременно воспринимаем разные диапазоны времени: и равномерно хронометрируемое реальное время моментальных событий, и многовекторное время сюжетов истории, и “сворачивающееся” время взаимосвязи эволюционных состояний — зараженных будущим прошлых состояний и несущих в себе прошлое состояний будущих. Каждый из подобных диапазонов времени имеет свою размерность, свою логику, свою меру, которые, на первый взгляд, не сопоставимы друг с другом. Данное обстоятельство прекрасно проанализировал В.И.Вернадский при соотнесении явлений микро-, макро- и мегамира: “Логика, построенная на вещах, — логика эмпирических обобщений — теснейшим образом связана с той сложной обстановкой, в которой живет, работает и мыслит человек XIX — XX столетия. <…> Для планеты Земля, не говоря уже о естественных телах более широкого масштаба, в которые планета входит как точка — для солнечных систем, галаксий, Космоса или реальности, логический анализ меняется. <…> Но и в биосфере резко сказывается другое явление, основное для понимания окружающего нас мира. Это — то, что всегда мы можем каждое земное явление рассматривать с двух разных точек зрения, которые французский философ и математик Леруа называл макроскопическими и микроскопическими разрезами мира. <…> Очевидно, логика, т.е. научное понимание реальности, не может быть одинакова в различных условиях. <…> Человек может мыслить без коренных поправок только в среде своего обитания. <…> Он должен вносить резко меняющие все его выводы для ‘природы’ поправки, когда дело касается других геологических оболочек планеты — ее глубин или ее природного вакуума… Законы логики естествознания — логики понятий-вещей — различаются в различных геологических оболочках Земли” [Вернадский 1988: 278-280]. Подобно тому, как меняется логика в различных пространствах Земли и космоса, меняется и логика темпоральности. Важнейшую проблему составляет переход от одного диапазона к другому. Любая попытка “распять” историю на хронометрической шкале реального времени совершенно очевидно представляет собой грубое насилие, искажение смысла и хода исторического процесса, живущего своими ритмами, которые в принципе не сопоставимы с ритмами физических эталонов времени (обращения электронов вокруг протона, Земли вокруг Солнца и т.п.), поскольку соединяют различные векторы устремлений субъектов истории. Тем более сомнительно хронометрирование времени эволюции, которое течет в переплетающихся друг с другом “плоскостях” прошлого, настоящего и будущего, что и делает возможным прогноз и планирование. Как тут быть? Ответ мне неизвестен. Можно только предположить, что сама действительность политики позволяет нам жить в разных временныўх диапазонах и тем самых соединять их. Коммуникативно-игровой характер политического Самой близкой и точной аналогией политики являются естественные информационные системы — артефакты, связанные с минимальным использованием материальноэнергетического субстрата и предельной активизацией коммуникативно-ролевой стороны. Это прежде всего язык и игры, включая театр, особенно импровизационную комедию масок (commedia dell’arte). Сравнение политики с театром и лицедейством очень старо, устойчиво и не случайно — они обладают сущностным единством. Недаром ключевым элементом и театра, и политии оказываются роли. “Общественные системы, — настаивают авторитетные политологи, — образованы не людьми (individuals, подразумеваются “организмы”, “тела” — М.И.), а ролями” [Almond, Powell 1966: 19]. Как показал Й.Хейзинга в своей знаменитой книге “Homo ludens” [Хейзинга 1992], игры нередко составляют не только культурный образец, но и фактическое ядро более сложных типов деятельности. Для данной статьи в первую очередь актуальны его соображения об игре как упорядочивании, а также об игровой природе порядка как такового [Хейзинга 1992: 21-24]. Хейзинга рассматривает игру и применительно к формам политики [Хейзинга 1992: 93-124, 230-238]. Однако игра не просто связана с политикой. Она “политична” по природе, поскольку всегда предполагает достижение некоего результата, т.е. непосредственно сопряжена с целедостиженем. Не будет преувеличением сказать, что по своей сути игра есть способ проявления и развития способностей целедостижения. Потому игровые модели выступают своего рода “генотипами”, программами политической деятельности и — при значительной степени обобщения (программы программ, игры игр) — моделями политий и политических процессов в целом. Несмотря на игровую природу программирования, усложнение самого процесса разыгрывания, рост значимости и “цены” его результатов ведет к “игре всерьез” [Хейзинга 1992: 58-60]. Соединяясь, “игра всерьез” за внешний “приз” и самодостаточное развитие способностей целедостижения толкают политику и политиков к постоянным поискам желаемого в его связке с нежелаемым и возможного — в связке с невозможным[10]. Не случайно политику называют искусством возможного. Что касается языка и речевой коммуникации, то они — не просто аналоги, а своего рода “близнецы” политики. Словом политика мы обозначаем две особых реальности: деятельность множества людей (“то, что происходит”) и устойчивую основу такой деятельности. Еще более четко данное различие проводится лингвистами: речь (коммуникативная деятельность) возможна лишь благодаря языку (системе символических условностей, коду), но только в речи язык является в своей окончательной определенности. Это две стороны, или аспекта, одной реальности, однако их различение имеет принципиальное значение и связано как раз с проблемой времени. Дело в том, что речь может быть рассмотрена как бытие языка во времени, а язык — как мгновенное и исчерпывающее обобщение речи, ее состояние и достояние. В политике подобное различение возникает при использовании понятия политический процесс, который фактически аналогичен речи. При таком подходе политическая реальность, в которой мы находимся и которую переживаем, как бы разбивается на целую серию фактов. Эти факты могут быть представлены как следующие друг за другом дискретные состояния, а процесс — как логическая череда таких состояний. Состояния с большей или меньшей полнотой высвечивают логику политической организации, ее “код”. Каждое отдельное состояние может быть описано вполне рациональным образом, разделено на элементы и структурно-функциональные связи между ними. Однако это описание будет заведомо неполным, фрагментарным, ибо “код” политической системы раскрывается не сразу, не одномоментно. Любое состояние образуется с помощью лишь части “кода”. Такой фрагмент “кода” нетрудно отождествить с институтом. Тогда “код” в целом окажется не чем иным, как “строем”, или конституцией (в первоначальном и широком смысле) политической системы, вневременной программой и вместе с тем обобщенным результатом политического процесса. Политический же процесс как череда состояний политической системы предстанет функционированием конституции-строя в режиме времени. Другими словами, полития есть единство двух дополняющих друг друга систем: политического строя и политического процесса. То, что конституция политии является системой, вряд ли требует пояснений. Когда говорят о политической системе, обычно имеют в виду как раз конституцию политии. Менее привычно рассматривать как систему, равнопорядковую конституции, политический процесс. Однако это именно так, что и создает возможность описания и понимания временноўго, темпорального аспекта политики и политических систем. Само же подобное описание может быть осуществлено в разных масштабах, обладающих вполне определенными качественными характеристиками. Политический процесс — это особого рода система, организованная во времени. Ей присущи все системные характеристики, а именно наличие элементов (действия, политические акты, события и т.п.) и структур (расположение элементов во времени, их порядок), а также их функциональная отмеченность (маркированность и корреляция элементов). Крайне важно выявление временноўй среды, т.е. соотнесенности с предшествующими и последующими процессами. Без этого нельзя определить, открыта ли система (незавершенность, расплывчатость процесса) или закрыта (завершенность, предзаданность временныўх пределов). Возможность конституирования политических процессов как систем коренится в их циклической природе. Полный цикл, связанный с конституционализацией политии (прочтением “кода” до конца и полной его “расшифровкой”), и составляет систему политического процесса. Во всей своей полноте полития раскрывается лишь после цикла самовоспроизводства. Например, монархия как завершенная система конституируется в политическом процессе, протекающем от одного акта коронации до другого, республика — от одних выборов до других. Повторение цикла ведет к повторному конституированию и тем самым к более надежному закреплению конституции вплоть до укоренения представлений о ее “вечности”. Масштабы политической темпоральности и ее меняющаяся “геометрия” Мне уже приходилось обращать внимание коллег на наличие различных диапазонов политической темпоральности, выделяя Повседневность, Историю и Развитие [Ильин 1996]. У времени одна логика, когда мы следим за ходом дебатов и бегом секундной стрелки, другая — когда вспоминаем и осмысливаем поворотные моменты и векторы политических изменений, третья — когда оцениваем уровни сложности политических систем и институтов, мысленно обобщая накопленный потенциал и воссоздавая пути их развития [Ильин 1993]. Да и наш собственный опыт подсказывает, что бессмысленно судить о политических изменениях, а тем более об уровне развития, вглядываясь только в события одного дня. Равным образом нелепо прикладывать мерку политической развитости, например — модернизованности, к каждому нашему слову, жесту и действию в политике или же приписывать этим словам и жестам, как это нередко делают самонадеянные политики, значение исторических (“судьбоносных”) перемен. Определенные аспекты политической реальности лучше всего видны в ходе повседневного взаимодействия (непосредственные акции участников политического процесса, их “реплики”, выражения лиц, жесты, впечатления и т.п.), а соответствующие моменты соотносятся друг с другом прежде всего в ритмах “реального”, или астрономического, времени. Но подобные эмпирически осязаемые “мгновения” повседневной политики зачастую скрадываются и мельчают при обращении к событиям истории или к политическим изменениям (выборам, сменам правительств, заключению мира или объявлению войны и т.п.). Такие события предполагают интерпретацию-обобщение и соотносятся друг с другом уже не в ритмах мгновений, часов и суток, а по шкале исторических свершений, этапов и периодов. Выборы, договоры и прочие политические изменения обретают свой смысл и значение только благодаря тому, что им предшествовало и что последовало за ними, становясь историческими обобщениями, целыми квантами темпоральности, уже достаточно продолжительными и превосходящими размерность (диапазон) “реального” времени. Так, популярные модели демократизации подразумевают заключение “пакта согласия” и проведение “учредительных выборов”, однако “реальное” время осуществления этих мер, как и протяженность разделяющего их периода, не принципиальны. Важен лишь обобщенный “квант” воздействия, т.е. степень согласия (его действенность, полнота учета интересов участников и т.п.) и “модельность” выборов (в плане удовлетворения “победителей” и “проигравших”, а также дальнейшего поддержания процедуры выборов). При обращении к еще большему диапазону темпоральности мелкими, почти неразличимыми становятся уже многие исторические события и единичные политические изменения. Они как бы уходят в тень, зато высвечиваются, выявляются обобщенные тенденции политического развития. Шкала темпоральности оказывается размечена не событиями и периодами (не говоря уже о минутах и часах), а переходами от одних качественных состояний и системных характеристик политики к другим, например — от “века” варварства к “веку” цивилизации. Данный метаисторический уровень (диапазон) темпоральности в собственно политическом контексте можно обозначить как хронополитический. Каждая из размерностей времени обладает своими возможностями. Обращение к расширенному диапазону хронополитической темпоральности чревато утратой связи не только с определенным “мгновением” политического процесса, но и с конкретным историческим периодом или эпохой. Однако при этом сохраняются и становятся даже рельефнее общие характеристики эволюции политических систем, отражающие уровень их морфологического (структурно-функционального) усложнения. По мере укрупнения размерности времени — “восхождения” от повседневности к истории, а от нее к хронополитике — темпоральность освобождается от натурализма “реального” времени и обретает все более обобщенные качественные характеристики [Ильин 1995: 77-79]. На этой основе проявляется так наз. “парадокс инопланетянина” [Ильин 1995: 7], когда в “реальном” времени приходится общаться и взаимодействовать политикам и политиям, принадлежащим к различным хронополитическим зонам и стадиям. В своих предыдущих работах я попытался представить нелинейный прогресс в тангенциально расширяющемся и радиально уплотняющемся времени. Если принять исходное мифическое время мгновения-вечности за точку, то естественное движение во времени первоначально будет пролегать в круге, или сфере, Повседневности. Собственно для тех, кто осуществляет это движение, оно будет незаметным, соотнесенным с “сим днем”, отличие которого от нулевого “первовремени предков” начинает осознаваться очень нескоро — при удлинении траектории удаления от нуля мифического начала и конца времени. Хронополитически движение это хаотично, и его можно уподобить причудливому пунктиру, ибо каждое отдельное состояние этноса представляется точкой мгновения-вечности для каждого человека, образующего ту или иную протополитию. Следующий круг, а точнее, кольцо — темпоральность Истории [Ильин 1995], в терминологии Броделя — “истории предположений” (histoire de conjunctures) [Бродель 1977]. Здесь траектория движения начинает “измеряться” сначала летописцами, а затем интерпретаторами имперской (цивилизационной) судьбы. В этой логике как раз и формулируется историцистский линейный прогресс — движение к окончательному замирению Ойкумены Вечным городом, к Царствию Божию, к “сияющему храму на холме”, к утопиям “тысячелетнего рейха” или “торжества коммунизма”. Здешние “обыватели” видят движение как траекторию, но история их политий образует скорее полосу, некое подобие “дороги”, а в пределе — целое “поле”. Внешнее кольцо — уровень, или размерность, Хроноса, долгосрочного развития (longe durйe). В данном случае развитие “измеряется” уже не длиной траектории “прогрессивного” движения, а степенью продвинутости по диапазонам темпоральности. Значим не столько путь, сколько накопленная “потентность”, созданная восхождением по кругам, диапазонам темпоральности. Теперь движение предстает как освоение, “заполнение” пространства — одновременно и “закрытого”, и растекающегося. Если учесть, что эти диапазоны, т.е. круги и кольца эонов, накладываются друг на друга, образуя переходные стадии, то получится, что пять окружностей выделяют начальный круг и последовательно расширяющиеся и охватывающие друг друга кольца. В такой “расширяющейся” модели темпоральности даже линейная схема прогресса может быть представлена в виде своего рода идеальной спирали: как тут не вспомнить знакомые идеи о развитии “по спирали”. При подобных допущениях и критериях “прогресс” будет определяться раскручиванием неких условных спиралей, как траекторных, так и плоскостных. Степень же “прогрессивности” станет обусловливаться не следованием шаблонам “первопроходцев”, а мерой удаленности “вершины” от начального центра и, шире, освоенностью, “заполненностью” исторических и эволюционных времен. Иной по форме, но по сути совпадающий способ представления разновидностей и масштабов темпоральности можно предложить, используя развитую А.Ф.Филипповым в прошлом номере журнала концепцию пространства политических событий [Филиппов 2005]. Для этого понадобится, естественно, сделать некоторые уточнения и выдвинуть на первый план такую переменную, как время. Итак, не только тела, но и действия участников политических интеракций каким-то образом соотносятся между собой, предшествуют одно другому и следуют друг за другом. При этом важна не только очередность действий, но также — и даже в большей мере — то значение, какое придают соотношению действий сами участники интеракций. Заменив “пространство взаимодействия” на “момент взаимодействия”, можно, вслед за Филипповым, провести различие между: (а) своим видением момента взаимодействия, (б) самоочевидным для участников взаимодействия значением этого момента и (в) моментом как он рефлектируется и обсуждается участниками взаимодействия. Соответственно, время, образуемое моментами разного рода и масштаба, можно представить и как некую непосредственно воспринимаемую и тем самым обозримую череду моментов, связывающих действия актора или наблюдателя, и как большее по масштабам время со- бытий разных акторов и наблюдателей, устанавливающих свое понимание связей (моментов взаимодействия и зависимости, их “очередности” относительно друг друга) между прямыми и опосредованными действиями, и, наконец, как в принципе не поддающееся созерцанию, но рефлективно воздействующее на актора “диффузное распространение по множеству траекторий и во множестве плоскостей импульсов различного рода изменений” — в данном случае перефразируются слова другого автора “Полиса” [Лапкин 2002: 31]. Таким образом, следуя намеченной А.Ф.Филипповым логике, мы можем выделить: (а) время как момент и череду моментов, (б) время как момент моментов и (в) время как понятие или идею (см. табл. 1). Таблица 1 Основная схема видов (масштабов) политической темпоральности A. момент B. момент моментов I. интуиции II. не непосредственного, рефлектируемое “реального” значение времени актора времени для (наблюдателя) множества акторов (наблюдателей) AI момент актора AII “чувство (наблюдателя) момента” множества акторов (наблюдателей) BI момент моментов актора (наблюдателя) C. совокупная CI идея времени диффузная актора среда (наблюдателя) взаимодействий III. обобщенный смысл времени для множества множеств акторов (наблюдателей) AIII тематизация момента как предмета коммуникативного взаимодействия множества множеств акторов BII практическая BIII понимание схема времени времени множества акторов как момента (наблюдателей) моментов множества множеств акторов (наблюдателей) CII общая идея CIII хронополитика времени множества как обобщенное акторов понимание (наблюдателей) максимально тематизируемого времени Читателю будет нетрудно проинтерпретировать данную таблицу, отталкиваясь от развитых А.Ф.Филипповым интерпретаций аналогичной схемы социального пространства [Филиппов 2005: 8-11]. Отмечу лишь, что ключевой проблемой политологии, как и других отраслей обществоведения, является не только “большое пространство”, но и “большое время” — длительность, longe durйe. Подобно другим обществоведам, политологи концептуализируют свой предмет на интуициях непосредственности присутствия, на “реальности” времени. Но как только речь заходит о “больших временах” — об истории в сослагательном наклонении (histoire de conjunctures) или о долгосрочном развитии, — их характеристики берутся словно бы ниоткуда: из административных предписаний, из декларируемых или подразумеваемыми отдельными акторами и наблюдателями политических установок “воображаемых сообществ”, а то и вовсе из нормативных суждений о должном в политике. Изучение хронополитики и, шире, различных аспектов политической темпоральности — непременное условие обретения политологией и обществоведением качеств современной рефлексивности и научности. Учет фактора времени при изучении политики Время — постоянный и крайне важный фактор политики, учет которого крайне необходим для понимания причинно-следственных закономерностей, но чрезвычайно затруднен в силу многомерности феномена политической темпоральности и проблематичности перехода из одного ее диапазона в другой. Вместе с тем ситуацию нельзя назвать безнадежной. Так, уже сегодня существует целый ряд исследовательских инструментов, в большей или меньшей степени пригодных для изучения эффектов соединения темпоральных явлений различного масштаба и сложности. Мне хотелось бы выделить два подобных инструмента: модель политического кризиса, предложенную в рамках Стенфордского проекта [Almond et al. 1973] и так наз. “воронку причинности” [Лаборатория 2002]. Стенфордский проект вырос из семинара по политическому развитию, организованного в 1968 г. Комитетом по сравнительной политологии Американской ассоциации политической науки. Разработав оригинальную методологию изучения политических кризисов, участники проекта подготовили и выпустили сборник “Кризис, выбор и изменение. Исторические исследования политического развития”, где на основе общих методологических принципов анализировались семь исторических случаев качественных политических изменений[11]. Особый интерес представляют методологические главы, а также приложения, содержащие квантифицированные с помощью единого математического инструментария данные о динамике построения коалиций политических сил в ходе каждого из рассмотренных кризисов. Предложенная авторами сборника модель политического кризиса основана на сочетании четырех методологических подходов к изучению каузальности развития. Базовым стал структурный функционализм, фиксирующий пред- и послекризисное состояния политической системы и определяющий ее общие функциональные параметры. Три других методологических подхода — теория рационального выбора, теория лидерства и теория мобилизации — использовались для описания и анализа процессов, возникающих в ходе кризиса. В результате была создана динамическая модель, которая соединяла предшествующую политическую систему (antecedent political system) через серию переходных состояний с последующей (consequent political system). Исходной системе присуще соответствие одних действий другим, ролей — их исполнению (performance), структур — функциям и т.п. Подобное положение легко описывается средствами структурного функционализма и в темпоральном отношении характеризуется “синхронизованностью”. Но вот наступает первая динамическая фаза, а с нею — и изменения. Истоки последних кроются во внешних и внутренних “помехах”, которые искажают системные параметры. Реагируя на “помехи”, система в лице своих управляющих центров модифицирует управленческий процесс, однако далеко не всегда адекватным образом. Поскольку поддержание необходимого уровня и качества управления является главным для политической системы, то подобные действия свидетельствуют о возможности или даже приближении кризиса. Одновременно на перекрестье внешних и внутренних воздействий появляется крайне важное, ключевое звено — агенты мобилизации требований. Это люди, а чаще институты, организации, группы интересов, которых затрагивают внешние или внутренние изменения и которые в ответ на них выдвигают различного рода требования. Конечно, требования выдвигаются даже в самой сбалансированной системе, но тогда они по большей части выполняются. В данном же случае формулируются требования, которые не могут быть выполнены. Возникает конфликт между агентами требований, а также между ними и управляющими центрами. Происходит поляризация требований, которая ведет к рассогласованию функций системы. Начинается новая фаза — диссинхронизации и ускорения кризиса (dissynchronization and acceleration of crisis). Появляются заметные институциональные сбои, ранее существовавшие связи (linkages), которые были встроены в исходную синхронизованную систему, постепенно разрушаются и могут распасться и исчезнуть. Третья фаза связана с формированием коалиций и разрешением кризиса (coalition formation and crisis resolution). В самом ее начале кризис достигает отчетливой определенности. Далее следует попытка прорыва (breakthrough), успешная или неудачная (successful or attempted). Иными словами, фаза может растягиваться и заполняться различными “прорывами”. Выход из нее зависит от результатов коалиционирования и выработки политических курсов (coalition and policy outcomes). С появлением победной коалиции (winning coalition), достаточно мощной и консолидированной и способной предложить большому числу потенциальных сторонников приемлемый для них курс, ситуация начинает меняться, что позволяет приступить к формированию “связей развития” (developmental linkages). Как сами политики, так и связи развития могут быть — и чаще всего бывают — довольно произвольными (contingent), однако с помощью мобилизации сторонников удается не только придать им регулярный характер, но и добиться признания их в качестве системных. Это дает толчок “ресинхронизации”, которая в конечном счете приводит к образованию нового политического порядка, новой политической системы. С точки зрения рассматриваемых нами сюжетов исследовательский аппарат Стенфордского проекта интересен прежде всего тем, что в обобщающей модели кризиса используются разнородные и разномасштабные моменты политической динамики — от отдельных действий политиков до разновекторных акций множеств людей. Иными словами, данная модель доказывает, что проблема перехода от одного масштаба темпоральности к другому в принципе поддается решению. Вторая из упомянутых мною исследовательских моделей — “воронка причинности” (funnel of causality) — была создана еще на рубеже 1950-х — 1960-х годов политологами Мичиганской школы. В книге “Американский избиратель” [Campbell et al. 1960] операционная схема “воронки”, позволяющая учитывать целый набор разномасштабных факторов, использовалась для анализа причин того или иного исхода голосования [Мельвиль 1997, 1998, 1999а, 1999б; Мелешкина 2001; Мелешкина, Анохина 2001/2002; Мельвиль, Сергеев 2002]. Однако привлеченные факторы были исключительно пестрыми и разнородными, а сам фактор времени и его различных измерений присутствовал не столько содержательно, сколько структурно. Еще в 1950-е годы, т.е. до создания модели “воронки причинности”, некоторые политологи-международники (К.Уолтц, Д.Сингер) стали выделять уровни и масштабы анализа международных отношений. В дальнейшем исследования логической связи событий в международной жизни строились с учетом таких уровней, но без прямого обращения к инструментальной модели мичиганских политологов. В данной связи можно упомянуть трехуровневые модели суверенитета [Holm, Sorensen 1995] и глобальной управляемости [Rosenau 1990, 1997], а также подобные им построения. Лишь на рубеже веков выработанные в результате инструменты анализа оказались связаны с конфигурацией “воронки” [Kegley, Wittkopf 2001]. Куда интенсивнее и, как мне кажется, плодотворнее развивался научный поиск в области так наз. полиси-анализа, где мичиганская модель вполне сознательно применялась для описания процесса формирования политического курса (policy). Появилась серия работ, авторы которых обращались к “воронке причинности” для выявления факторов, детерминирующих принятие решений и влияющих на формирование политических курсов [Hofferbert 1974; Leichter 1979, 1992; Lundquist 1980; Mazmanian, Sabatier 1980, 1991; Hofferbert, Urice 1985; Sabatier, Pelkey 1987; Sabatier, Hunter 1989]. Существенный вклад в развитие данной модели внесли Дж.Мэхони и Р.Снайдер [Mahony, Snyder 2000: 202-205], вот уже несколько лет использующие ее для решения методологических проблем, в первую очередь — проблемы соотношения структуры и агента (structure and agency) [Mahony, Snyder 1995]. Важным примером каузального анализа, отвечающего логике “воронки причинности”, Мэхони и Снайдер считают работы, собранные Х.Линцем и А.Степаном в сборнике о падении демократических режимов [Linz, Stepan 1978], и прежде всего статью самого Степана [Stepan 1978]. Тем не менее, в транзитологии, как и в международных исследованиях, соответствующим построениям стали придавать конфигурацию “воронки” только к концу века. Усилия Мэхони и Снайдера, а также присоединившегося к ним норвежского компаративиста С.Ларсена способствовали тому, что возможности модели “воронки причинности” начали обсуждаться среди политологов — сначала на проходивших в Москве (июнь 1996 г.) и в Вене (ноябрь 1996 г.) конференциях “Вызовы теории”, затем на семинарах в Институте сравнительной политологии Бергенского университета и в МГИМО(У). В ходе дискуссий стали формироваться российская и норвежская “школы” сторонников данной модели. Результаты научного поиска этих “школ” частично опубликованы [Мельвиль 1997, 1998, 1999а, 1999б; Лебедева 2000; Мелешкина 2000, 2001; Мелешкина, Анохина 2001/2002; Анохина, Мелешкина 2002; Мельвиль, Сергеев 2002; Altermark 1998, 2000; Meleshkina 1999; Larsen 2000; Melville 2000], однако широкого распространения в исследовательской практике отечественных политологов “воронка причинности” пока не получила. Различные версии “воронки причинности” существенно отличаются друг от друга, однако во всех из них масштабы темпоральности если и отражаются, то косвенно или вскользь. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается самый главный их недостаток. По моему глубокому убеждению, необходимо четко ранжировать слои “воронки” в соответствии с переходом от явлений и факторов долгосрочного развития (longe durйe) к явлениям и факторам “истории предположений” (histoire de conjunctures), а затем — к повседневности с ее суженным диапазоном “реального” времени, который в случае “воронки” фокусируется на неком ключевом моменте самой малой размерности, но наибольшей конкретности. Разумеется, ранжирование разнообразных факторов по их масштабности и глубине (близости или отдаленности) воздействия возможно и в иных когнитивных схемах, с использованием иных метафор. Следует различать многофакторную и многослойную концептуализацию причинности и операционные модели такой причинности, которые могут быть построены как в виде “воронки”, так и иначе. Кроме того, выявленная в когнитивной схеме “воронки” логика каузальности может интерпретироваться посредством других схем, например, древа Порфирия с обратным движением от ветвей к корню, динамически развернутого логического квадрата по типу чичеринской тетрады и т.п. Вместе с тем допустимо и обратное — интерпретация различных причинных зависимостей в терминах “воронки причинности”. Что касается самой “воронки причинности”, то на ее основе можно выстроить куда более сложные инструменты. Так, если мы соединим устьями две симметричные воронки, они станут моделировать, с одной стороны, причинение некоего действия, события, а с другой — следование из него [Мельвиль 1999а, 1999б]. Позволю себе высказать предположение, что проекция в будущее будет тем полнее, чем основательнее была каузальность в прошлом. И наоборот — чем больше лакун каузальности мы видим, тем логичнее ожидать симметричных “прорех” в грядущих Повседневности, Истории и Развитии. Это и другие предположения, естественно, нуждаются в специальной проработке. Но такая проработка станет действительно возможной лишь в том случае, если коллеги окажутся способны серьезно и последовательно заняться изучением различных аспектов политической темпоральности. Анохина Н.В., Мелешкина Е.Ю. 2002. Итоги голосования и электоральное поведение. — Гельман В.Я., Голосов Г.В., Мелешкина Е.Ю. (ред.) Второй электоральный цикл в России. М. Бродель Ф. 1977. История и общественные науки. Историческая длительность — Философия и методология истории. М. Вернадский В.И. 1988. Философские мысли натуралиста. М. Волькенштейн М.В. 1981. Биофизика. М. Ильин М.В. 1993. Ритмы и масштабы перемен (О понятиях “процесс”, “изменение” и “развитие” в политологии). — Полис, № 2. Ильин М.В. 1995. Очерки хронополитической типологии. Проблемы и возможности типологического анализа эволюционных форм политических систем. Часть I. Основания хронополитики. М. Ильин М.В. 1996. Хронополитическое измерение: за пределами Повседневности и Истории. — Полис, № 1. Ильин М.В. 2001. Искушения простотой. — Ильин М.В. (ред.) Политическая Россия: предмет и методы изучения. М. Ильин М.В. 2002. Отечественная политология между универсальностью и партикулярностью. — Ильин М.В. (сост.) Принципы и практика политических исследований. М. Ильина Н.А. 1994. Геогностика сквозь призму языка. Лингвистический анализ языка и логики наук биосферного класса. М. Лаборатория. 2002. — Полис, № 5. Лапкин В.В. 2002. Циклы, ритмы, волны: проблемы моделирования политического развития. — Полис, № 4. Лебедева М.М. 2000. Межэтнические конфликты на рубеже веков: методологический аспект. — МЭиМО, № 5. Мелешкина Е.Ю. 2000. Российский избиратель: установки и выбор. — Гельман В.Я., Голосов Г.В., Мелешкина Е.Ю. (ред.) Первый электоральный цикл в России (1993 — 1996). М. Мелешкина Е.Ю. 2001. Исследования электорального поведения: теоретические модели и проблемы их применения. — Политическая наука, № 2. Мелешкина Е.Ю., Анохина Н.В. 2001/2002. Использование “воронки причинности” для анализа поведения российских избирателей. — Полития, № 4. Мельвиль А.Ю. 1997. Демократический транзит в России — сущностная неопределенность процесса и его результата. — Космополис. Альманах. М. Мельвиль А.Ю. 1998. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам. — Полис, № 2. Мельвиль А.Ю. 1999а. Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты. М. Мельвиль А.Ю. 1999б. Внешние и внутренние факторы демократических транзитов. М. Мельвиль А.Ю., Сергеев В.М. 2002. От метафоры к объяснительной модели: “волны демократизации” и “воронка причинности”. — Ильин М.В. (сост.) Принципы и направления политических исследований. М. Степанов Ю.С. 1985. В трехмерном пространстве языка. М. Тейяр де Шарден П. 2002. Феномен человека. М. Фаддеев Д.К. 1988. Число. — Математический энциклопедический словарь. М. Филиппов А.Ф. 2005. Пространство политических событий. — Полис, № 2. Хейзинга Й. 1992. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М. Almond G., Flanagan S., Mundt R. (eds.) 1973. Crisis, Choice, and Change: Historical Stories of Political Development. Boston. Almond G., Powell G.B. 1966. Comparative Politics: A Developmental Approach. Boston. Altermark N. 1998. Choosing the Possible: An Integrative Model for the Study of Transition to Democracy. Thesis. Institute of Comparative Politics, University of Bergen. Altermark N. 2000. The Russian Transition: An Integrative Approach. — Larsen S. (ed.) The Challenges of Theories on Democracy. Elaboration over new Trends in Transitology. Boulder, N.Y. Austin J. 1962. How to do things with words. Cambridge. Brown R.W. 1958. Words and Things. Glencoe. Campbell A. et al. 1960. The American Voter. N.Y. Foucault M. 1966. Les mots et les choses. Une archeologie des sciences humaines. Paris. Gellner E. 1959. Words and things. L. Hofferbert R. 1974. The Study of Public Policy. Indianapolis. Hofferbert R., Urice J. 1985. Small Scale Policy: The Federal Stimulus versus Competing Explanations for State Funding of Arts. — APSA, vol. 29 (May). Holm H.-H., Sorensen G. (eds.) 1995. Whose World Order? Uneven Globalization and the End of the Cold War. Boulder. Kegley Ch., Wittkopf E. 2001. World Politics: Trend and Transformation. N.Y. Larsen S. 2000. Challenges to Democratic Theory. — Larsen S. (ed.) The Challenges of Theories on Democracy. Elaboration over New Trends in Transitology. Boulder, N.Y. Lasswell H.D. 1949. Language of Politics. Studies in Quantitative Semantics. Cambridge (Mass.). Leichter H. 1979. A Comparative Approach to Policy Analysis. Cambridge. Leichter H. 1992. Health Policy Reform in America. L. Linz J., Stepan A. (eds.) 1978. The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore. Lundquist L. 1980. The Hare and the Tortoise. Clean Air Policies in US and Sweden. Ann Arbor. Mahony J., Snyder R. 1995. Rethinking Agency and Structure in the Study of Regime Change. Unpublished manuscript. Mahony J., Snyder R. 2000. Integrative Strategies for the Study of Regime Change. — Larsen S. (ed.) The Challenges of Theories on Democracy. Elaboration over new Trends in Transitology. Boulder, N.Y. Maier Ch. 1987. The politics of time: changing paradigms of collective time and private time in the modern era. — Maier Ch. (ed.) Changing Boundaries of the Political. Essays on the Evolving balance between the State and Society, Public and Private in Europe. Cambridge. Mazmanian D., Sabatier P. 1980. A Multivariate Model of Public Policy-Making. — APSA, vol. 24 (Aug.) Meleshkina E. 1999. Russian Voter: Attitudes, Choice and Voice. — Gel’man V., Golosov G. (eds.) Elections in Russia, 1993 — 1996. Analyses, Documents and Data. Berlin. Melville A. 2000. Post-Communist Russia: Democratic Transitions and Transition Theories. — Larsen S. (ed.) The Challenges of Theories on Democracy. Elaboration over New Trends in Transitology. Boulder, N.Y. Meringer R. 1904. Wцrter und Sachen. — Indogermanische Forschungen, Bd. 16. Meringer R. 1912. Zur Aufgabe und zur Namen unserer Zeitschrift. — Wцrter und Sachen, Bd. 3. Merriam Ch.E. 1945. Systematic politics. Chicago. Parsons T. 1966: Societies. Evolutionary and Comparative Perspective. Englewood Cliffs. Quine W.O. 1960. Word and Object. Cambridge, Mass. Rosenau J.N. 1990. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity. Princeton. Rosenau J.N. 1997. Along the Domestic-Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World. Cambridge. Sabatier P. 1991. Public Policy: Toward Better Theories of the Policy Process. — Crotty W. (ed.) Comparative Politics, Policy, and International Relations. Evanston. Sabatier P., Hunter S. 1989. The Incorporation of Causal Perception into Models of Elite Belief Systems. — Western Political Quarterly, № 3. Sabatier P., Pelkey N. 1987. Incorporating Multiple Actors and Guidance Instruments into Models of Regulatory Policymaking. — Administration and Society, № 3. Schmidt-Wiegand R. 1981 (hrsg.) Wцrter und Sachen im Lichte der Bezeichnungsforschung. Berlin, N.Y. Stepan A. 1978. Political Leadership and Regime Breakdown: Brazil. — Linz J., Stepan A. (eds.) The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore. Teilhard de Chardin P. 1955. Le phйnomиne humain. Paris. [1] Весьма показателен гамлетовский диагноз — “распалась связь времен” (the time is out of joints). [2] Ср. также англ. actual facts — “подлинные, действительные факты”. Последнее выражение избыточно, “тавтологично”, его дословный смысл — “действительные дела”, поскольку само слово факт происходит от латинского factum, субстантивированного причастия от глагола facere — “делать”, “творить”. [3] Основу данной традиции заложил известный германский лингвист Р.Мерингер, озаглавивший свою статью “Слова и вещи” [Meringer 1904]. Этому заголовку суждено было стать названием целой научной школы, в которую вошли такие выдающиеся филологи, как Х.Шухардт, В. фон Вартбург, М.Вагнер, Ф.Крюгер, Л.Вайсгербер и др. [подробнее о школе и нынешних ее последователях см. Schmidt-Wiegand 1981]. Словосочетание “слова и вещи” неоднократно использовали и авторы, не связанные с упомянутой лингвистической школой. На свой лад его переиначил британский философ Дж.Остин, в своих лекциях 1955 г. создав не менее знаменитую формулу “Как творить дела (дословно “вещи” — М.И.) словами” (How to do things with words) [Austin 1962]. Затем появились книги Р.Брауна [Brown 1958], Э.Геллнера [Gellner 1959], У.Куайна (заменившего остиновскую вещь-дело на “объект”) [Quine 1960] и, наконец, нашумевший труд М.Фуко об “археологии гуманитарных наук” [Foucault 1966]. [4] В схематичном виде соответствующая онтология различных уровней воплощения (материализации) и обобщения (идеализации) явлений представлена в Ильин 1996. [5] Точнее, психофизическую, поскольку Тейяр соединяет две энергии путем универсализации и взаимосочетания обеих. К собственно физическому проявлению энергии, универсальность которого вытекает из его стандартного определения в физике, он добавляет психическое или, в терминологии Парсонса, “информационное” ее проявление. [6] Имеется в виду среда, “в которой распространение импульса происходит без затухания за счет энергии, запасенной в ее ‘элементах’. Каждая точка возбудимой среды может находиться в одном из трех состояний: покоя, возбуждения и рефрактерности… В возбудимых средах реализуются автоволновые процессы” [Волькенштейн 1981: 510]. [7] Близкий к дословному перевод — “это значит обрести способность видеть”. Интерпретацию фразы см. Ильина 1994: 141. [8] Точнее было бы перевести “mais” не как “и”, а как “прежде всего” [см. Ильина 1994: 141]. [9] В структурном и грамматическом соответствии с первой частью фразы следовало бы перевести — “это значит, более того, оказаться неспособным видеть никак иначе — только начиная с самого себя”, т.е. из современности, с вершины эволюции. [10] О модальностях политического действия см. Ильин 1995. [11] Принятие в 1832 г. Акта о реформе в Великобритании (Дж. Пауэлл), кризис 1931 г. в Великобритании (Д.Кавана), создание Третьей республики во Франции (Р.Мундт), формирование Веймарской республики (Ф.Риттбергер), реформы Карденаса в Мексике (У.Корнелиус), реставрация Мэйдзи в Японии (Дж.Уайт), кризис середины 1960-х годов в Индии (Т. Хедрик).