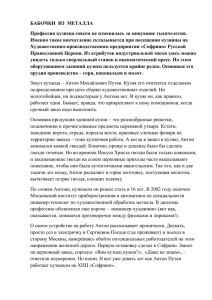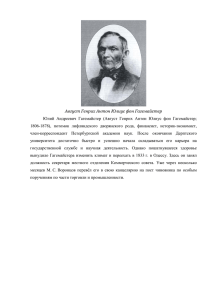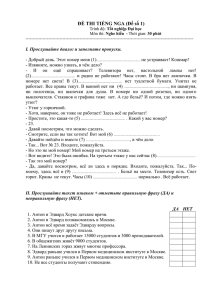Выпуск 29
advertisement
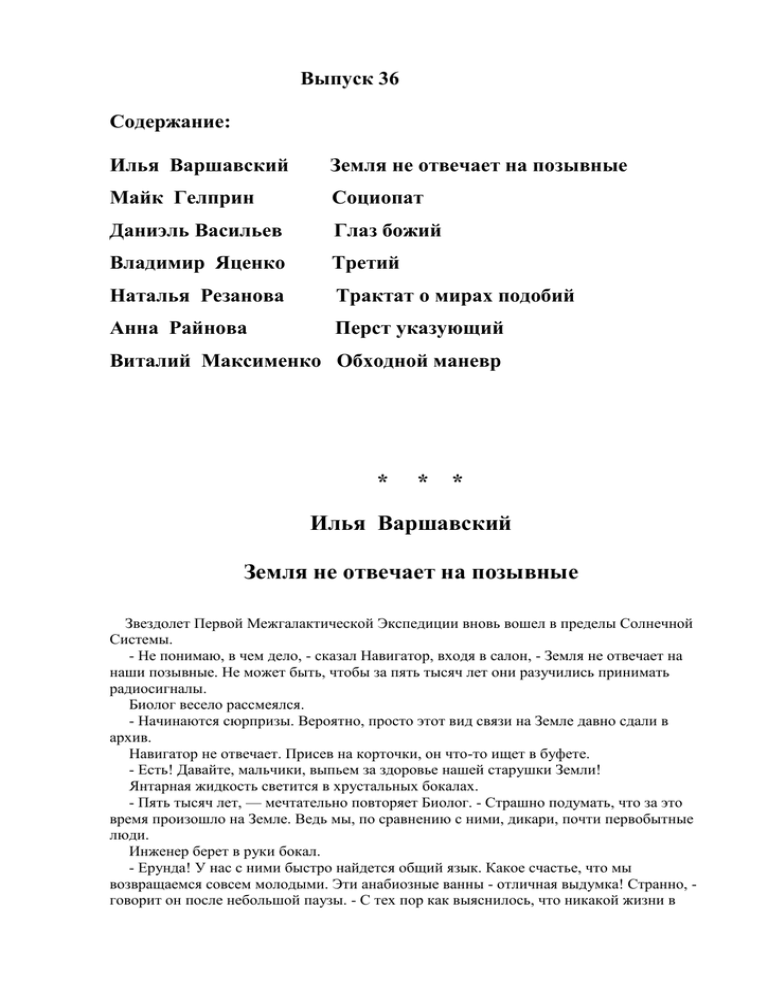
Выпуск 36 Содержание: Илья Варшавский Земля не отвечает на позывные Майк Гелприн Социопат Даниэль Васильев Глаз божий Владимир Яценко Третий Наталья Резанова Трактат о мирах подобий Анна Райнова Перст указующий Виталий Максименко Обходной маневр * * * Илья Варшавский Земля не отвечает на позывные Звездолет Первой Межгалактической Экспедиции вновь вошел в пределы Солнечной Системы. - Не понимаю, в чем дело, - сказал Навигатор, входя в салон, - Земля не отвечает на наши позывные. Не может быть, чтобы за пять тысяч лет они разучились принимать радиосигналы. Биолог весело рассмеялся. - Начинаются сюрпризы. Вероятно, просто этот вид связи на Земле давно сдали в архив. Навигатор не отвечает. Присев на корточки, он что-то ищет в буфете. - Есть! Давайте, мальчики, выпьем за здоровье нашей старушки Земли! Янтарная жидкость светится в хрустальных бокалах. - Пять тысяч лет, — мечтательно повторяет Биолог. - Страшно подумать, что за это время произошло на Земле. Ведь мы, по сравнению с ними, дикари, почти первобытные люди. Инженер берет в руки бокал. - Ерунда! У нас с ними быстро найдется общий язык. Какое счастье, что мы возвращаемся совсем молодыми. Эти анабиозные ванны - отличная выдумка! Странно, говорит он после небольшой паузы. - С тех пор как выяснилось, что никакой жизни в космосе больше нет, я полон гордости. Шутка ли: моя планета - исключение из правил, колыбель величайшего парадокса во вселенной, а я сам - живое существо, явление, лежащее за пределами вероятного. Мелодично звенят поднятые бокалы. - Что ты собираешься делать после возвращения? - спрашивает Биолог. - Год отпуска. Горячий песок на пляжах, настоящие закаты, шум прибоя, родной воздух, и апельсины, я зверски соскучился по апельсинам. - Девушки, - добавляет Навигатор. - Не забудьте про девушек. Трое холостяков, прорвавшихся сквозь тьму веков, — это же для них сенсация! - Вам хорошо! - вздыхает Биолог. - Вышли из корабля и - в отпуск, а мне придется отдуваться за всех. Десятка два докладов во всяких академиях о том, что, мол, обшарив две галактики, и так далее. Бесконечные вопросы. Представляю себе какого-нибудь седовласого академика семидесятого столетия: очки на носу и гневно поднятый перст. «Отвечайте, молодой человек, как это, по вашему мнению, появилась жизнь на Земле, если ее нигде больше не существует?» - Они, наверное, уже все сами знают, - говорит, поднимаясь, Навигатор. - Пойду попробую вызвать Землю на световых частотах. Инженер потягивается в кресле. - Откровенно говоря, мне наплевать на все эти галактики. Меня вполне устраивает жизнь на моей родной планете, замечательная земная жизнь! Бил... бип… бип... интервал… бип... бип… бип... - Ясно, почему они не отвечают, - говорит инженер, отходя от спектрографа, - у нее нет атмосферы... ...Звездолет заканчивает первый виток над поверхностью планеты. Навигатор подходит к шкафу со скафандрами. - Разведывательную ракету! Вы остаетесь на корабле. Проходит несколько томительных часов, прежде чем на щите уравнительной камеры вспыхивает зеленый сигнал. Медленно передвигая ноги, Навигатор входит в кабину. Они смотрят на его руки, рвущие застежки скафандра, и понимают, что сейчас его нельзя ни о чем спрашивать. Он подходит к буфету, достает бутылку вина, откупоренную в честь родной планеты, вытаскивает зубами пробку и жадно пьет из горлышка. - Столкновение с астероидом, - бросает он через плечо по пути в каюту, - там никого не осталось, никаких признаков жизни. Теперь Земля мертва, как и вся Вселенная. Они долго молчат. Первым решается заговорить Инженер: - Энергетические запасы мезонного поля неисчерпаемы, круговорот биологического комплекса звездолета обеспечивает нас всем необходимым, мы можем лететь куда угодно. - Зачем? На этот вопрос инженер не находит ответа. Крохотная точка кружит над мертвой планетой, совершающей свой бег вокруг Солнца. В звездолете все по-старому. Они точно в положенное время садятся за стол, подолгу обсуждают меню на завтрашним день, читают, играют в шахматы, занимаются повседневными делами. Больше всех занят Навигатор. Он вычисляет новую орбиту Земли. Только разговаривают они теперь меньше. Зачем говорить, когда заранее известно, о чем думают другие. Молча сидят они в салоне, глядя на небольшой красный рычажок аварийного люка. Достаточно немного потянуть этот рычажок на себя, чтобы сервомоторы сдвинули овальный броневой лист вверх и в кабину ворвалась чудовищная пустота, именуемая космосом. С взрывом разлетятся матовые плафоны, заливающие кабину светом, а живая плоть мгновенно превратится в стекловидную массу, рассыпающуюся в пыль от малейшего толчка. Навигатор встает с кресла и делает два шага вперед. Его рука - на красной рукоятке. Сейчас каждый из них отчетливо слышит удары своего сердца. Навигатор отвинчивает стопор. - Искушение номер один, - шепчет он, пряча рычажок под сидение кресла. ...Проходит год. Сегодня они - снова в отсеке управления, каждый на своем месте. Пора решать, что делать дальше. - Человеческая мораль, - говорит Навигатор, - всегда осуждала самоубийство. Смысл этой фразы всем ясен: НЕТ. Инженер тщательно подбирает слова: Когда человек на Земле лишал себя жизни, то этим самым он рвал тысячи нитей, связывающих его с другими людьми. Самоубийство неизбежно превращалось в социальное явление, но ведь мы - единственные живые существа во вселенной, наши поступки нельзя оценивать с точки зрения человеческой морали. Ее больше просто не существует. Снова ясно: ДА. Теперь очередь за Биологом. Его голос решает все. Может быть, поэтому он так медлит с ответом. - Пора кончать... Есть предел, выше которого человек уже... Договорить ему не удается. Внезапно появившаяся тяжесть вдавливает его в кресло. Инженер видит вздувшиеся вены на шее Навигатора, сидящего за пультом, мечущиеся стрелки приборов, стремительно падающую вниз Землю и нестерпимо яркий шар в иллюминаторе. «Корабль идет на Солнце! - мелькает у него мысль. - Навигатор хочет закончить игру эффектной жертвой». - Позёр! - кричит он, с трудом двигая, наливающимися свинцом челюстями. Ищешь красивой смерти? Проще было разгерметизировать кабину. Я предпочитаю, чтобы мой труп носился вокруг Земли как последний памятник человеку! Все внимание Навигатора поглощено гиперболой, вычерчиваемой курсографом и стрелкой указателя перегрузки, движущейся к красной черте, но он еще находит время крикнуть в микрофон: - Ты не дождешься этого, болван! Я не верю в красивую смерть и буду искать жизнь, пусть безобразную, но жизнь, искать везде, по всей Вселенной, искать, пока я сам жив! Майк Гелприн Социопат Антон проснулся под утро, рывком сел на постели и едва сдержался, чтобы не закричать. Он снова видел во сне эту девушку, третью ночь подряд. Нелли её звали, Н-е-лл-и. Только в эту ночь, в отличие от двух предыдущих, Нелли пришла к нему в сон обнажённой. А потом, потом они начали проделывать такое, что Антон, вспомнив, покрылся холодным потом от стыда и отвращения. То, чем он занимался с Нелли во сне, было даже не постыдным, это было противоестественным, низким, просто ужасным. Антона передёрнуло. Он резко вскочил с постели и едва не упал от неожиданной слабости в паху, мгновенно подкосившей ему ноги и сделавшей их ватными. - Сволочь, - сказал Антон вслух, - проклятый выродок, дрянь. Ему захотелось с размаху влепить себе по лицу. С трудом удержавшись, Антон доковылял до санузла, перевалился через низкий борт ванны, шлёпнулся на дно и на полную включил воду. Пару минут обрушившиеся на него тяжёлые струи смывали слабость и стыд. Наконец, почувствовав себя лучше, Антон вылез, наскоро растёрся полотенцем и, прошлёпав босиком по кафелю, вернулся в комнату. Он включил свет и с минуту с отвращением разглядывал своё жилище. Комната была стандартная, точно такая же, как любая из десятка тысяч каморок, в которых ютились питомцы интерната вплоть до его окончания. Шесть шагов вдоль, пять - поперёк. Стол, пара стульев, кровать, шифоньер и компьютерный центр. И всё. Впрочем, нет, не всё, на стене над кроватью висели две фотографии в рамках. Отец и мать - люди, давшие ему жизнь. Антон подошёл и в который раз пристально рассмотрел снимки. Отец на фотографии выглядел лет на сто двадцать, мать - в районе сотни. Антон стиснул зубы и опустил глаза. Он не испытывал к этим людям ничего, абсолютно ничего. Ни благоговейного трепета, с которым говорили о своих родителях прочие, ни даже элементарного уважения. Эти двое дали жизнь ему, Антону Валишевски, так что с того? Они, как и все прочие родители на Земле, даже не знали, как выглядят их сыновья или дочери. Антон сел на кровать и, подперев кулаком подбородок, задумался. Почему именно Нелли Егорова, ничем, в общем-то, не примечательная девчонка из параллельного класса? Он и внимания на неё особо не обращал. Ну да, короткие русые волосы, тонкая шейка, ноги стройные, что ещё? Ничего, разве что большие карие глаза. Какие-то особенные, только неясно чем. С минуту Антон думал, в чём особенность больших карих глаз. "Внимательные", - неожиданно пришло нужное слово. Точно: когда неделю назад они случайно разговорились, Нелли смотрела на Антона со вниманием. Так, как смотреть было не принято и даже неприлично. Отводить глаза при разговоре и тем самым не смущать собеседника входило в правила поведения. Их преподавали ещё в начальных классах, на уроках этики. Итак, девушка с внимательными карими глазами. И с ней Антон во сне вытворял непотребное. Он вспомнил ругательный архаизм, которым называли подобные занятия секс. Противное слово, свистящее какое-то, змеиное. Оглушительный стук в дверь выбил из Антона задумчивость. Так колотить мог один только человек - его брат по отцу Жак Валишевски. "Как всегда вовремя", - саркастически подумал Антон. - Открыто, входи уж! - крикнул он. Жака Антон не переваривал. Толстый, шумный и жизнерадостный о-брат был почти полным его антиподом, и буквально всё, что бы тот ни делал, вызывало у Антона неприятие напополам с раздражением. Жак стремительно ворвался в комнату, мгновенно заполнил собой всё свободное пространство и, отчаянно жестикулируя и брызгая слюной, приступил к разглагольствованиям. В слушателе он не нуждался, и Антон, улёгшись на кровать и положив руки под голову, принялся терпеть. Обычно Жака хватало минут на десять. Антон засёк время и уставился в потолок. - И тогда я отпасовал назад Барковскому, - азартно выплёвывая слова, тараторил Жак, а сам рванул по правому, так эта сволочь Барк вместо того, чтобы вернуть мяч мне, пнул его назад, этому идиоту, как его - Максу. Ну, такому длинному с двенадцатого "Ж", так тот, нескладёха, запутался в собственных ногах да как навернётся, гы-гы-гы. Вот же урод, а! Это у него, считай, семейное. О-брат его дуралей дуралеем, а м-сестра - та вообще фифа, ходит вечно одна, нос задирает. Какая-то вся из себя задрипанная, как её там, Нелли, вот. - Слышишь, заткнёшься ты наконец?! - Антон неожиданно для самого себя вскочил, метнулся к о-брату и схватил его за грудки. - Сам ты задрипанный. Достал уже своим футболом. - Тоха, что с тобой? - оторопел Жак. - Нехорошо себя чувствуешь, что ли? Ты чего на брата-то бросаешься? - Ладно, прости, - Антон сделал шаг назад и снова опустился на кровать. - Слушай, Жаконя, ты сны видишь? - Просил же не называть меня так, - на мгновение обиделся Жак, но через секунду вновь обрёл обычную жизнерадостность. - Вижу, - сообщил он. - Правда, редко. - И что тебе снится? - Да ерунда всякая, разве упомнишь. Недавно куча дерьма приснилась. Большая. Ты почему спрашиваешь? - Да так. Ты, кстати, зачем ко мне ходишь-то? - Как зачем?! - возмутился Жак. - К кому же мне приходить, как не к тебе и к Лори? Больше у меня нет никого, только вы двое. Вот я и к тебе... А ты не рад, что ли? Лори-то дрыхнет ещё. Лори - так звали сестру Жака по матери. Антон внезапно подумал, что завидует бесхитростному и искреннему в своих привязанностях о-брату. У того двое родных людей на земле, вот он и любит обоих. Так, как всякому человеку положено - любить обоих живых кровных родственников и почитать обоих мёртвых. И вовсе Жак не виноват, что его о-брат Антон такая сволочь. "Зато м-сестра у Жака приличная девчонка, - подумал Антон о полной, добродушной и улыбчивой Лори. - Возможно, будь у меня сестра вместо одного из братьев, и я был бы другим". - Ладно, Жак, - Антон вымученно улыбнулся брату. - Ты ступай пока, иди, разбуди Лори, в кафетерии встретимся. Жак кивнул, потрепал Антона по плечу, гоготнул пару раз, отмочил на прощание несмешную шутку и, наконец, убрался. Выждав с минуту, Антон наскоро оделся и вышел из комнаты. Многокилометровый кольцевой коридор интернатского жилого корпуса был почти пуст. Завтрак ещё не начался, и питомцы досыпали последние минуты. Быстрым шагом миновав полсотни стандартных нумерованных дверей, Антон добрался до лестничной развязки. Десятки эскалаторов, причудливо и хищно скалясь зубами ступеней, разбегались отсюда по верхним и нижним этажам. Антон ловко вскочил на скоростной и тремя уровнями выше с не меньшей сноровкой спрыгнул. Через минуту он уже стучался в комнату Рауля Коэна, своего брата по матери. В отличие от здоровенного, бесцеремонного и болтливого Жака, Рауль был субтилен, сдержан и немногословен. Антон не любил м-брата, но и не презирал, как навязчивого недалёкого Жаконю. В любом случае, Рауль был единственным человеком, который мог выслушать и, возможно, дать добрый совет. - Слушай, Ра, - взял быка за рога Антон, едва обменявшись с братом приветствиями, тут такое дело, ты сны видишь? - Хороший вопрос, - Рауль задумчиво посмотрел на брата и сразу отвёл глаза. - Особенно с утра. Ну, допустим, вижу. И что? Ты для этого пришёл? Пошли-ка лучше завтракать. - А что именно ты видишь? - не отставал Антон. - Или, точнее, кого? В общем, так: тебе когда-нибудь снились женщины? - Вот что, - присвистнул Рауль. - Тебе снилась наша мама? Наконец-то. - Ра, мама здесь ни при чём. Понимаешь, я вижу один и тот же сон. Вот уже третий раз подряд. Только сегодня он был, как бы тебе сказать... В общем, Ра, со мной случилось то, о чём нам вдалбливают вот уже который год. Патология. Я страшно испугался. Понимаешь, я... - Антон запнулся. - Ну, говори, - подбодрил Рауль. - Продолжай уже, раз начал. И, пожалуйста, всю правду. - Я всегда говорю правду, - сказал Антон. Рауль кивнул. Врать Антон не умел. С детства. И неспособность лгать не раз выходила ему боком. - В общем, я пришёл в ужас, - быстро проговорил Антон. - Я видел во сне девушку. Не просто девушку, а вполне конкретную. И я... Я занимался с ней этим самым. Сексом. Это было отвратительно, Ра. Как животные, словно какие-нибудь собаки, помнишь учебный фильм? Не знаю, что теперь делать. И я подумал... - Ты подумал, что я тоже вижу подобные сны, - догадался Рауль, - только не признаюсь, так? - Да, что-то в этом роде. - А с Жаком ты разговаривал? - Вкратце. Но Жак - особый случай. - Понятно. Ты обязан доложить наставнику, Антон. Это действительно опасно. Для тебя опасно. Я не видел таких снов, но, случись мне, я немедленно поставил бы в известность наставника. И ты должен это сделать. Хочешь, пойдём к старому Отто вместе? - Угу. И он решит, что я ненормальный. В лучшем случае - отправит в стационар лечиться. В худшем... Нет, Ра, к наставнику я не пойду. Подожду пару дней, надеюсь, само собой прекратится. - А если не прекратится? Учителя говорили на этот счёт вполне определённо. Если тебя начинают преследовать видения, связанные с... - Рауль запнулся, - с сексом, неважно, во сне или наяву - это явная патология. Угроза для психики, самая серьёзная из возможных. - Да знаю, - потупился Антон. - Ладно, я подумаю. Пара дней ничего не изменит. - Ну, смотри сам, - Рауль поднялся. - Пара дней - действительно не изменит. Но спасибо, что ты доверился мне, Тош. Вместе мы как-нибудь сладим с твоей бедой. А сейчас погнали завтракать. Ты как, сочинение уже отослал? - Чёрт! - хлопнул себя по лбу Антон. - Хорошо, что ты напомнил. Я за него даже не садился. Вот же дубина, ведь сегодня последний срок. Отто Фролов намеренно оставил сочинение этого парня напоследок. За сто с лишним лет практики в качестве наставника выпускных классов Отто случалось повидать всяких учеников. Были среди них и такие, на которых Фролов, исчерпав все меры и скрепя сердце, писал докладную в директорат. До сих пор он ни разу не ошибся - фигуранты докладных все как один были признаны особыми комиссиями "вне социума" и выдворены с Земли без права на возвращение. Такое случалось нечасто, но всё же случалось, и всякий раз Фролов потом мучился угрызениями совести. Немало времени проходило, прежде чем ему удавалось вновь обрести душевное равновесие и убедить себя, что он не имел права выпустить в общество потенциального анархиста, убеждённого бунтаря и ниспровергателя основ. Фролов одно за другим бегло считывал с экрана сочинения выпускного двенадцатого "Ъ" класса и привычно выставлял оценки. Недюжинный опыт позволял автоматически регистрировать уровень владения речью, умение выразить свои мысли и, самое важное, отношение автора к изложенному. Отклонения от среднего уровня, как обычно, оказались не слишком значительными. За неполных полтора часа Отто справился с работой и позволил себе на минутку расслабиться. Оставалось последнее сочинение, и, прежде чем взяться за него, наставник хотел настроиться на максимальную объективность. Забыть о том, что ему крайне симпатичен этот парень, Антон Валишевски. Забыть, что наивысший на потоке уровень интеллекта и полная неспособность лгать сочетаются у Антона с доходящими до абсурда и фанатизма упрямством, своеволием и необъяснимым неприятием правил и прописных истин. Выдержав паузу, Отто, наконец, собрался, вздохнул и загрузил в редактор последний нечитанный файл. С первого взгляда он понял, что дело плохо. Тема сочинения "Какими будут мои дети", обведённая жирной траурной рамкой, глумилась притороченными справа и слева отвратительными рожами. Фролов не очень хорошо разбирался в последних достижениях в области смайликов и запросил подсказку. "Меня только что вырвало", - пояснила левая рожа. "Похоже, я вляпался в дерьмо", - сообщила правая. Подавив раздражение, Фролов заставил себя читать. Всё сочинение занимало четверть страницы, и Отто пробежал текст глазами от начала до конца меньше, чем за полминуты. Закончив, он обнаружил, что сидит с открытым ртом. Такого читать ему ещё не приходилось за все годы практики. "Потратив немало времени на обдумывание, - значилось под украшенной мерзкими рожами темой, - я пришёл к выводу, что мне на этот вопрос наплевать. А именно, плевать я хотел на то, какие два ублюдка от меня произойдут, если ни одного из них я никогда не увижу. Мне также абсолютно безразлично, кто будущие матери обоих выродков. Не понимаю, почему этому вопросу придают такое значение, и думаю, что вряд ли когда пойму. Фотографии родителей "украшают" мою комнату с рождения, но я не испытываю ничего кроме неприязни к обоим покойникам. Так же, как не испытываю положенных родственных чувств к м-брату, а о-брата попросту презираю и считаю придурком". Фролов вскочил и зашагал по помещению. Как наставнику, ему полагалась персональная жилая комната в интернате - роскошь, доступная только педагогам со стажем от ста лет и более. Будни Фролов проводил здесь и лишь на выходные перебирался в собственное жилище - двадцатиметровую студию на восемьдесят шестом этаже пирамидальной свечки в центре жилого квартала мегаполиса. Работу свою Отто любил, гордился её значимостью и с удовольствием дарил сэкономленное на дорогу время тем ученикам, которые нуждались в его помощи, советах или твёрдой наставнической руке. Сейчас Отто сознавал, что помощь необходима Антону Валишевски, парня надо было вытягивать и буквально спасать. Подростку пятнадцать, самый опасный возраст, до стерилизации почти целый год. Если не вмешаться, то достаточно очевидно, к чему это может привести. Наставник прекратил мерить шагами комнату и опустился в телескопическое кресло, которое послушно приняло удобную для сидения форму. Он не был уверен, как ему поступить. Несколько раз он писал ходатайства в евразийское министерство образования и ратовал за принятие закона о досрочной, в исключительных случаях, стерилизации. Мнение Фролова разделяло множество коллег, однако все усилия разбивались о консерватизм и твердолобость министерских крючкотворов. Якобы опасность неполноценности семенников или яйцеклеток, извлечённых до достижения донором шестнадцатилетия, слишком велика. То, что в некоторых случаях опасность для самого донора значительно превалировала над всеми прочими, чинуши удачно пропускали мимо ушей. Фролов выругался про себя и повернулся к монитору. Наставник принял решение - он займётся парнем. Для начала поговорит с его роднёй. Фролов сноровисто раскрыл папку с личными делами учеников. Головной файл был выполнен в виде диаграммы из кружков и соединяющих их стрелок. От кружка с надписью на нём "Антон Валишевски" отходили две. Одна - к о-брату Жаку Валишевски, другая - к м-брату Раулю Коэну. Фролов споро просмотрел компиляции на обоих. Интеллектуальный уровень Жака “оставлял желать”. Возможно, поэтому Антон и относится к нему неуважительно. Пожалуй, следует начать с м-брата. Поиграв электронным карандашиком над папкой с файлами, Фролов быстро составил стандартный "вызов к наставнику" и отправил его Раулю Коэну. Что ж, они вместе попытаются помочь Антону. И тот, с его умом, оценит и поймёт, должен понять. А поняв, умерит свой юношеский запал и остепенится. Обязательно умерит, уж Отто постарается. Ну, а если нет... Фролов закрыл глаза. Значит, так тому и быть, но по крайней мере он сделает всё, что от него зависит. - Я чувствовала, что ты придёшь, - сказала Нелли. - Не знаю почему. Может быть, из-за того, что ты так похож на моего брата. - Ты имеешь в виду Макса? - спросил Антон. - Я знаю его, он играет в футбол в одной команде с моим братом Жаком. Но, слушай, я совершенно не похож на Макса. Они не спеша двигались вдоль по аллее интернатского парка. До обеда Антон промаялся, всё валилось из рук, он, не переставая, думал о давешнем сне, пока не обнаружил, что дело уже не в нём, а в той, кто ему приснилась. Залпом настрочив ненавистное сочинение, Антон отправил его наставнику и решительно поднялся. Через десять минут он уже постучал в Неллину комнату и предложил ей "задвинуть" ужин. Уговаривать девушку не пришлось, и вот теперь они медленно брели по крытой мелким щебнем тропинке. - Нет, не на Макса, - задумчиво сказала Нелли. - Макс - мой брат по матери. Ты похож на моего о-брата, Антон. Нет, нет, не внешне. У него тоже был один из самых высоких на потоке уровней интеллекта. Он, как и ты, старался смотреть людям в глаза. И он всегда говорил то, что думает. - Я не знаю твоего о-брата, - признался Антон. - Извини, мне, конечно, следовало бы больше знать о тебе. Тем более, что, я вижу - ты интересовалась моими данными. Как зовут твоего брата? - Роман Егоров. Но ты и не мог его знать. Он был на год старше нас с Максом. - Этого не может быть, - Антон резко остановился. - Как это - старше? И почему ты говоришь о нём в прошедшем времени? - Антон, ты действительно хочешь об этом знать? - Ну да, конечно. Иначе не стал бы спрашивать. - Хорошо. Наши родители, естественно, умерли в один год. Каждому, как и положено, сравнялось сто восемьдесят. Но вот первое наше с Максом рождение не удалось - у мамы было что-то не в порядке с базовыми яйцеклетками. И нам дали второй шанс, использовали пару из резерва. - Теперь понимаю, - кивнул Антон. - Я читал о таких случаях. Но думал, что они крайне редки. Получается, что Роману уже больше шестнадцати, он закончил школу, прошёл стерилизацию и, вероятно, поступил в университет, так? - Нет, не так, - Нелли опустила голову. - Он не закончил школу, ему не дали. - В каком смысле "не дали"? - В прямом. Наставник написал на него докладную в директорат. Решением особой комиссии мой брат был признан "вне социума" и выдворен с планеты Земля в один из дочерних миров. Без права на возвращение, разумеется. Я даже не знаю куда, мне сказали - на Марс, но разве это проверишь? Ты всё ещё хочешь продолжать нашу беседу? - Я, я... - Антон остановился и неожиданно взял Нелли за руки. - Так твой брат, получается... - Он запнулся и вдруг неожиданно для себя самого выпалил: - Знаешь, я думаю, что хотел бы быть на его месте. Они остановились, и Нелли мягко отняла руки. - Ты сейчас сказал глупость, - медленно проговорила она. - Быть выдворенным с Земли - это несчастье. А если мы будем держаться за руки в общественном месте, и нас увидят, то это несчастье может случиться и с нами. - Я иногда думаю, что живу в сумасшедшем доме, - сказал Антон. - Только не знаю, кто сумасшедший - я или все остальные. Логика подсказывает, что псих - я, хотя бы по теории вероятностей. Но вот рассудок, понимаешь... Я считаю идиотством, что человека могут осудить за то, что он держал кого-то за руки. Или за то, что он думает не совсем так, как ему велят. Или за то, что он видит сны, которые якобы представляют угрозу для общества. Общество должно сплошь состоять из кретинов, если ему грозят чьи-то сны. - А ты видишь плохие сны, Антон? - Да, вижу, вот уже третью ночь подряд, - Антон отчаянно покраснел и выпалил: - Уже третий раз подряд я вижу во сне тебя. - Меня? - теперь покраснела Нелли. - И я, что я делала в твоём сне? Антон поднял глаза и посмотрел на девушку в упор. - Мы оба делали, - коротко сказал он. - Мы лежали в одной постели и занимались ужасными вещами. Можешь ударить меня, вон валяется подходящая доска, буду благодарен, если ты залепишь ею мне по морде. В моём сне мы с тобой занимались сексом. "Насколько же похожи братья", - подумал Отто Фролов, глядя на вошедшего в классную комнату Рауля. Их даже можно спутать, если не приглядываться внимательно. Оба худощавые, даже поджарые, тот же разрез глаз и одинаковый цвет волос - иссинячёрный. Оба высоколобые, скуластые, смуглые. И всё же Рауль Коэн чем-то разительно отличался от брата, только чем именно наставник понять не мог. - Садись, - сделал он приглашающий жест. - Ты знаешь, зачем я позвал тебя? - Откуда мне знать, наставник, - улыбнулся Рауль, - но я думаю, что догадываюсь. Видимо, речь пойдёт о моём м-брате. - Да, о нём. Скажи мне, какие у вас отношения? - Ну, мы же братья, наставник, - ответил Рауль после короткой паузы. - Братьям положено питать друг к другу родственные чувства. - Да, конечно, Значит, ты относишься к Антону так, как и положено брату. Расскажи мне о нём. Всё, что считаешь нужным. Не торопись, подумай, возможно, от того, что ты скажешь, для него будет зависеть многое. - Хорошо, - Рауль поудобнее устроился в кресле. - Антон - звезда курса, об этом все знают, наставник. Исключительные способности к техническим предметам. Математика многомерных пространств, самообучающиеся системы, физика высоких энергий, квантовая астрономия... Победитель и призёр евразийских олимпиад по всем этим дисциплинам. Уровень интеллекта... - А своими словами? - прервал Фролов. - Всё, что ты сказал, можно прочитать в личном деле Антона. Меня интересует то, что туда не вошло. - Своими? Что ж, можно и своими. В Мировой Сети шарит как никто. Да и в компах вообще проблемы решает на раз. Поисковиками крутит - заглядишься. - Понятно. Ну, а если отвлечься от технических деталей? Вот основной вопрос - как ты полагаешь, достойный ли член общества выйдет из твоего брата? - Вы хотите правду, наставник? - Да, разумеется. И чувствуй себя спокойно - твои слова останутся между нами, я не собираюсь ссылаться на них, что бы ты ни сказал. - Ладно. Я думаю, что таким, как Антон, не место среди землян, наставник. Мне кажется, он ненавидит социум. Он и родителей своих ненавидит, на могилу мамы со мной не ходил ни разу. Говорит, что плевать хотел. Что мама ничего не сделала для него и он ей ничем не обязан. То же насчёт отца. И потом - занятия. Социологию, психологию, этику за науки не считает. Говорит, что не верит, называет болтологией, демагогией и мракобесием. Однажды сказал - вандализм. Это когда разбирали соглашение между мужчиной и женщиной о рождении совместного ребёнка. Отто Фролов, скрестив на груди руки, молчал. Ему случалось видеть, как братья и сёстры изо всех сил выгораживали своих. Единственных близких им на свете людей, тех, которых любишь несмотря ни на что. Этот же парень, Рауль Коэн... Он ему завидует, понял Фролов, вот в чём причина. Завидует брату, оказавшемуся способнее и умнее. Надо же, какая дрянь. - Ещё что-нибудь хочешь сказать? - Отто встал с кресла, стараясь не смотреть на воспитанника. Фролову казалось, что его изрядно вымазали в грязи. - Да, наставник. Хочу. Антон видит сны. Часто. Во сне он, мне стыдно об этом говорить... В общем, во сне... Во сне он занимается сексом. Фролов подался вперёд. "Этого только не хватало", - с горечью подумал он. На остальное можно было бы закрыть глаза, но это... Первый, он же основной признак неисправимого социопата - повышенное либидо. Пробившееся через подавляющее воздействие ингибиторов, обильно поглощаемых вместе с пищей подростками, которые ещё не прошли стерилизацию. - Как давно? - хрипло спросил Фролов. - Что как давно, наставник? - Как давно он видит такие сны? Почему не пришёл с этим ко мне или к кому-нибудь из учителей? - Давно, наставник. Я уговаривал его сообщить вам, но Антон отказался. - С кем он занимается во сне сексом? Имя девушки!? - Этого я не знаю, наставник. Но могу узнать. Антон совершенно не гибкий, он не умеет изворачиваться. И лгать не умеет. - Хорошо. Спасибо, ты помог мне. Можешь идти. Пару минут спустя после ухода Рауля Фролов понял, чем именно внешне отличаются браться. Рауль Коэн попросту походил на копию, слепленную с Антона Валишевски. Но копию небрежную, пошарпанную, второразрядную. И неудачную. - Рома был совершенно неординарным парнем. Он на многое смотрел не так, как все, по-другому. Антон не прерывал девушку. Они сидели на парковой скамейке. Вечерние сумерки затянули мир вокруг них серо-коричневым мрачноватым покрывалом. Громоздкий, уродливый, слившийся до неба с горизонтом жилой комплекс интерната зловеще мигал пятнами света из тысяч врезанных в корпус глазниц-окон. Фонари ещё не включили, и парк, ощетинившись кронами лиственниц, настороженно замер. - Рома считал, что нам постоянно врут, - тихо рассказывала Нелли. - Иногда он говорил совершенно ужасные вещи. Однажды он сказал мне, что стерилизация, которую каждый житель Земли поголовно проходит, едва ему сравняется шестнадцать - не только, и даже не столько комплекс процедур, обеспечивающий иммунитет и долголетие. И, якобы, в основном стерилизация - это хирургическое вмешательство. Оно лишает человека способности к репродукции и отнимает у него заложенное природой желание воспроизвести себя. И, тем самым, лишает основного драйва, ради которого жили наши предки. Подменяя этот драйв другими ценностями - долголетием, праздностью, самодостаточностью. Я запомнила Ромины слова, но какой драйв он имел в виду - не знаю. - Подожди, - попросил Антон. - Дай мне пару минут, у меня застряла в голове какая-то мысль. Я чувствую, что она важная, но никак не могу сообразить. Нелли замолчала, и Антон, откинувшись на скамейке, закрыл глаза. Только не торопись, сказал он себе. Не дай тому, что промелькнуло пару мгновений назад, ускользнуть. Надо сосредоточиться, проанализировать известные вещи и понять, как они сопрягаются с тем, что сказала сейчас девушка. Итак, каждый человек на Земле проходит стерилизацию. До этого, начиная с четырёх лет, его готовят к тому, как он будет жить после неё. И утверждают, что жить он будет прекрасно. Непосредственно перед стерилизацией детородные клетки человека извлекают и замораживают. Их инициируют сразу после его смерти. Которая наступает в возрасте ста восьмидесяти лет путём искусственного и безболезненного прерывания жизни. К ста восьмидесяти годам организм исчерпывает себя, и жить дальше становится нецелесообразным. Ещё полвека назад было сто семьдесят, то есть продолжительность жизни на Земле увеличилась. За время жизни каждый мужчина заключает с двумя женщинами одного с ним возраста соглашение о рождении совместного ребёнка. И, соответственно, каждая женщина - с двумя мужчинами. Таким образом, население Земли остаётся неизменным - каждая пара единственный раз воспроизводит себя. Посмертно. Закон о стерилизации был принят больше пятисот лет назад. Считается, что его принятие - главное достижение цивилизации за всю её историю. Закон разом решил основные проблемы человечества, причём во всех областях. Прежде всего, он покончил с перенаселением - численность жителей Земли начала медленно, но неуклонно сокращаться. Сокращаться за счёт выдворенных социопатов и небольшого количество умерших преждевременно. Довольно быстро вышли из употребления деньги - люди прекратили стремиться к обогащению, чтобы передать накопленные блага потомству. Социальный статус перестал зависеть от материального положения. Не стало необходимости во всеобщей занятности: желающие трудиться получали работу, желающие жить в своё удовольствие могли беззаботно вести праздное существование. Автоматика успешно взяла на себя весь объём неквалифицированных работ. Упала до нуля преступность, одну за другой искоренили считавшиеся неизлечимыми ранее болезни. А самое главное - справились с отвратительным вывертом природы. С тем самым, от которого человечество страдало с тех пор, как на Земле появились первые люди. С необходимостью спариваться - творить кошмарный, противоестественный акт. Доставлять детородные клетки друг к другу, совершая физическое проникновение в тело человека противоположного пола. Антона передёрнуло от брезгливости, стоило ему подумать об этом. Секс - жуткое антигуманное извращение. Не говоря о том, что антигигиеническое. Антон открыл глаза, и в этот момент та мысль, которая пряталась и упорно не давалась, вдруг прострелила его. Она оказалась подобна озарению и вмиг перевернула стройную и отлаженную систему с ног на голову. Нет, наоборот, с головы на ноги, отчётливо подумал Антон. - Нелли, - сказал он, обернувшись к девушке. - Я, кажется, понял. - Понял что? - Нелли зябко поёжилась. - Нам пора идти, Антон. Если нас хватятся... - Подожди, это не займёт много времени. Так вот, я понял. Понял, в чём нас надувают, да и всё остальное понял. Смотри, в нас с детства вбивают, что физические контакты - зло. Что человеческая личность физически неприкосновенна. Секс - меня корёжит, стоит мне не только произнести это слово, но и подумать о нём. И сейчас корёжит. Я видел, как отвращение плеснулось у тебя в глазах, когда я признался, чем занимался с тобой во сне. Так? Девушка кивнула. В свете включившихся парковых фонарей Антон увидел, как она стремительно покраснела. - А теперь представь. Только на минутку. Представь, что секс это не зло, не отвратная мерзость, а наоборот. Не наказание человечеству, наложенное на него природой, а её щедрый дар. И если это предположить, то всё, абсолютно всё перевернётся. Понимаешь, я в своём сне испытывал нечто особенное. Какое-то необыкновенное, неведомое удовольствие. Сладкое, доводящее до истомы. Которое сменилось отвращением, стоило мне проснуться. И я подумал тогда: а что, если?.. Но мысль была мимолётной, через мгновение она исчезла, а вот теперь пришла опять, уже явственно. И тогда получается, что... - Я знаю, что получается, - тихо сказала, почти прошептала девушка. - Об этом говорил мой брат. Он пришёл к тому же выводу. Только он не называл это сексом. Роман говорил любовь. А секс - лишь одна сторона её, физическая. Но я не верила. Я боялась и не могла поверить. Даже когда он, когда его... Нелли замолчала, и Антон увидел в её глазах слёзы. Не сознавая, что делает, он придвинулся, взял девушку за плечи и повернул к себе. Она вскинула на него бархатистые, влажные от слёз глаза, их взгляды встретились, а ещё через секунду встретились губы. Антон не знал, сколько длился поцелуй. Жаркая волна захлестнула его, прошла по всему телу и остановилась в низу живота, а потом принялась накатывать туда, даря совершенно удивительное, ни с чем не сравнимое чувство. - А, вот ты где, - сквозь сладкий дурман услышал Антон. Он оторвался от девушки, резко обернулся и в луче света от паркового фонаря увидел своего м-брата. - Я заскочил к тебе, смотрю - тебя нет, - скороговоркой затараторил Рауль. - Заглянул к Жаку, тот сказал, что видел тебя в парке. Ну, я и решил. О да, я смотрю - ты не один. Здравствуйте. Извините, что помешал. Так я пойду. Рауль повернулся и быстро зашагал по аллее прочь. - Антон, если он доложит наставникам, нам конец, - прошептала Нелли. - Обоим. - Рауль никогда этого не сделает, он же мой брат. Нелли, я хотел сказать тебе: я сейчас чувствовал такое... Мне не описать. Это было... - Я знаю, - девушка посмотрела Антону в глаза. - Я думаю, что чувствовала то же самое. - Вы знаете, зачем мы вас пригласили? - пожилой мужчина в строгом сером костюме, морщинистый, с суровым неулыбчивым лицом, скользнул по Жаку беглым взглядом. - Я, я... - простите, как вас называть? - большой жизнерадостный Жак, казалось, осунулся и выглядел сейчас неказистым и потерянным. - Я думаю... - Можете называть меня доктором. Так что вы думаете? - Это насчёт моего о-брата Антона, доктор? - Жак растерянно обвёл взглядом помещение. За столом кроме "доктора" сидели ещё двое мужчин, одетые так же, как и тот. - Я знаю, у него неприятности. Но Антон, он, понимаете, он справится. Он особенный, мой брат Антон, он сильный, он, он... совершенно необыкновенный человек. - Вот как. Что ж, эти качества ему пригодятся. С завтрашнего дня Антон Валишевски перестаёт быть жителем и гражданином планеты Земля. С ближайшим транспортом он отправляется на Венеру, а там его дальнейшую судьбу определят местные власти. У вас будет возможность попрощаться, для этого мы вас и пригласили. - Что!? Доктор, что вы сказали? Что вы сейчас сказали, доктор? - огромный грузный Жак рухнул вдруг на колени. - Вы что, доктор, только не он, я прошу вас! Только не Антон. Вы не можете, не смеете, вы не сделаете этого! Жак грянулся на четвереньки и пополз к столу. Он уже не говорил, он голосил, подвывая, капли пота летели со ставшего багровым и страшным лица. - Кто угодно, пусть это будет кто угодно, - заходился в крике Жак. - Пусть это буду я. Меня, меня отправьте вместо него. Отправьте меня вместе с Лори. Но прошу, умоляю, только не Антона. Только... Мужчина, который просил называть его доктором, резко встал. - Уберите этого истерика, - брезгливо бросил он двоим появившимся в дверях здоровякам. - Хм-м, мне даже показалось, коллеги, - "доктор" повернулся к остальным после того, как упирающегося Жака вытащили за дверь, - что парень не валял дурака, а просил нас чуть ли не искренне. Н-да... Ладно, давайте брата девчонки, как его, Макса Броше. - Доктор, это ошибка, - долговязый нескладный Макс едва выговаривал слова. - Нелли она же ещё ребёнок. Вы её не знаете, она умница, послушная. Она правильная, доктор. Она же не выживет на Венере или где там, она там погибнет! Послушайте, её о-брат, вы ведь знаете, его признали "вне социума". Она всегда говорила, что Роман ошибался. Она отреклась от него, она... - Вы можете поклясться в этом? - "доктор" посмотрел на Макса с интересом. - В том, что ваша сестра не разделяет взглядов выдворенного с Земли Романа Егорова? - Да, - Макс побагровел. - Могу поклясться. Клянусь. - Нехорошо начинать сознательную жизнь с клятвопреступления, - мягко сказал "доктор". - Но мы прощаем вас. Вы хороший брат и любите свою сестру. Вернее, уже можно сказать "любили". Не волнуйтесь, на Венере тоже живут люди. И на Марсе, и ещё на десятке планет. Не так хорошо, как на Земле, и далеко не так долго, но живут. У них там другие законы и другой образ жизни. И на здоровье, мы ничуть не против. Но мы здесь, на Земле, будем жить так, как считаем нужным. И тех, кто не хочет, не желает и не ценит, мы не удерживаем. Мы от них избавляемся, и пусть скажут спасибо, что их просто выдворяют. В прежние времена с бунтовщиками не церемонились, их уничтожали. Вам всё понятно? Идите. Вам предоставят пятиминутное свидание с сестрой. Наставник выпускных классов Третьего евразийского интерната Рауль Коэн живёт в комнате, которую до него занимал ныне покойный Отто Фролов. Дети почему-то недолюбливают Коэна, хотя он и уделяет им немало свободного времени. Рауль ещё не подписал соглашения о рождении совместного ребёнка ни с одной женщиной, и это его беспокоит, ведь незанятых кандидатур становится всё меньше. Однако он остерегается предлагать соглашения после первой попытки, неудачной. Лори Милорава, м-сестра Жака Валишевски, та единственная, которой Рауль оказал честь, сделав ей предложение о рождении совместного ребёнка, ему отказала. Лори - известная общественная деятельница, председатель особой комиссии по делам несовершеннолетних, опубликовала причины отказа на личном сайте в Мировой Сети. Коэн написал в министерство жалобу. Он обвинил Лори в клевете, и её заставили снять статью за отсутствием прямых доказательств в доносительстве, но Рауль всё равно чувствует косые взгляды коллег и даже учеников. Впрочем, Рауль гонит от себя воспоминания, связанные с его м-братом Антоном Валишевски, а, значит, и о том, что было написано в статье Лори, не вспоминает. Жак тоже остался работать в интернате - тренером футбольной команды. Он нередко встречает Рауля, но всякий раз проходит мимо, словно они не знакомы. Макс Броше отказался от стерилизации. Он был признан "вне социума" и выдворен с планеты Земля без права на возвращение. Говорят, что на астероиды. Офицер национальной полиции, капитан в отставке Нелли Валишевски умерла на Венере, полгода не дожив до семидесяти. Её муж Антон Валишевски, профессор Первого Венерианского, пережил Нелли всего на три дня, он тихо скончался в своём доме сразу после похорон. Четверо их детей и дюжина внуков следят, чтобы на общей могиле всегда были свежие цветы. Их кладут под цветы искусственные, сплетённые в венок, на котором белым по чёрной ленте написано: "Они могли жить очень долго, но не стали. Они могли жить беззаботно, но не захотели. Они просто не могли жить без любви". Даниэль Васильев Глаз божий 1 Папа Римский, как гордо это звучит, как высоко и мудро. Тысячи тысяч смотрят сквозь пелену богобоязненности, полагая тебя пусть не богом, но где-то рядом сидящим. У самого трона. Сколь не старалось время, не просвещали темную паству святые книги, теологи и пилигримы, толпа, по сути, оставалась той же глупо преклоняющейся высшей, а значит достойной преклонения, силе. Просто следуя закону служения слабого сильному. Слепой народ не хочет прозревать даже теперь, когда вера успешно вытесняется техническим прогрессом, развитием философской и социальной мысли. Даже теперь, когда само понятие религии от начала времен до монотеизма препарировано и тщательно изучено − причины, следствия, смысл... даже теперь люди верили, приходили, поклонялись и, выходя из дверей церкви, тут же забывали о боге и о Христе с его нравоучениями. Сделал дело, ублажил сильного, исповедался и все, можно со спокойной душой идти и грешить дальше. Вчера были тяжелые переговоры с представителем православного патриарха. Было действительно не просто преодолевать давно устоявшиеся правила игры, диктующие противоборство церквей, преодолевать политические комплексы, но эта часть его работы Папе нравилась. Он был прирожденным политиком, потому и стал Папой. А вот сегодняшнее мероприятие нагоняло тоску. Исповедь. Она открывала перед ним всю мелочность и подлость человеческой души, так что самому становилось стыдно и противно и за себя и за всех тех, кто считает себя верующим и следующим дорогой Христа: − Господа бога нашего, − пробормотал Папа себе под нос, завершая мысль. − Вы что-то сказали, Святой отец? − Нет, сын мой, продолжай, я внимательно слушаю тебя. − Так вот, встретил я ее в стриптиз-баре, святой отец, ох, и отвязная же девчонка… И скучно, и грустно. Сам Папа не то чтобы был пуританином, нет, аскезой он свое тело и дух не мучил и не воспитывал. Да и под Богом скорее подразумевал свод правил, мораль, нежели конкретное существо. Но все же противно. Не сами грехи, вполне объяснимые, человеческие, а лицемерие – есть правило, надо его выполнять, потому что могут наказать. Адом, например. А так, чтобы прочувствовать и принять правила добровольно… − Помогите мне, Святой отец, ибо я близок к греху, как уже случалось со мной. − В чем твоя беда, сын мой? – тихий, грудной баритон очередного исповедующегося слегка привел Папу в чувство, даже немного заинтересовал. Совсем немного. − Я не справляюсь со своей работой. Они полагаются на меня, многие, но идут совершенно не туда, куда я им показываю, не выполняют моих наставлений, оставленных перед отъездом. Я совершил ошибку, был вынужден отлучиться на некоторое время, бросив руководство. Но я ведь оставил подробные инструкции, записанные простым, понятным языком, но это не помогло. Интерес Папы угасал с каждым словом обладателя приятного баритона. Очередной крупный бизнесмен, возможно из числа самых богатых. Впрочем, такие только и попадают на исповедь к самому Папе и платят за это бешеные деньги. Не церкви платят, не Папе, а так − служкам, организаторам. Папа знал об этом, вернее догадывался, и каждый раз после организованной в том или ином уголке планеты исповеди обещал себе взяться за разгон тараканов. А потом все одно – забывал. − Стыдно мне смотреть и на то, во что превратились мои заместители. Совесть потеряли окончательно, работают не за идею – за власть и деньги, одухотворенности в них ни на грош. Святые угодники… а регалий себе понапридумывали. Есть, конечно, и хорошие люди, свежие росточки, даже среди тех, кто меня не знает, не помнит и узнавать не желает. Однако, тенденции… «Господи, дай мне сил удержаться от зевка, помоги мне выслушать ищущего и дать ему дельный совет, помоги мне в нелегком моем деле… в моей борьбе со сном, аминь» Помогло, между прочим. − Что мне делать? Не подзатыльники же раздавать. Папа невольно поморщился пропущенному «Ваше Святейшество» или «Святой отец» на худой конец, но напомнил себе о том, что тщеславие – грех, заставив хоть отчасти серьезно отнестись к вопросу. Плохо, что каждый раз приходилось заставлять себя. − Сын мой, покажи своим сотрудникам, что видишь их ошибки, больше проявляя участие и показывая свое присутствие. Пусть они увидят, что ты рядом с каждым из них, как бы много их не было. И главное, не забывай любить их, как Иисус любил людей, прощая им собственную боль. Благословляю тебя… − Можно, Святой отец? – это уже следующий лез, писклявя. Торопился причаститься к папиной святости. − Заходи, сын мой, облегчи душу передо мной, как перед Богом. Богатые люди наглы и беспардонны. Папа привык. − А вы правда Папа Римский? Что ж, бывает и такое, хоть волком вой. Папа мельком глянул на часы и вздохнул: − Аминь... 2 Говорят, первым его заметил японский монах, однако вездесущие журналисты впоследствии этого монаха не нашли. Кто стал вторым или третьим не важно, там уж весь мир загудел, грозя скатиться в тартарары. До полного перегруза сетей обрывались телефоны. По всей планете защелками фотоаппараты и видеокамеры – люди спешили запечатлеть на пленку чудо. Верующие падали ниц, фанатики готовились встречать скорый конец света. Стоит ли говорить об однообразии телевизионной картинки всех каналов мира, камеры которых в едином порыве устремили свои буркалы в небо. Туда же, куда смотрели все. На глаз! Он просто появился в небе. Где-то в это время было утро, где-то день, а где-то ночь. Но независимо от времени суток, погодных условий и точки наблюдения, жители планеты видели его, будто стояли рядом, плечом к плечу. А он смотрел на них, безмолвно, без эмоций. Да и что мог сделать один глаз? Разве что моргнуть. И не было никакого продолжения. Ни пары к нему, ни рта, ни носа. Не было и головы с туловищем. Только глаз и едва угадывающиеся веки. Что тут оставалось? Оптимисты хмурились, пессимисты мылили веревку, глупцы радовались. − Ваше Святейшество, вы мне можете конкретно и точно сказать, что это и, главное, чего ждать впоследствии? Премьер-министр Италии стал первым дозвонившимся по Папы, но что-то подсказывало, не последним. Это нервировало едва ли не больше, чем причина звонка. − Господин министр, я не могу с полной уверенностью ответить даже на первый ваш вопрос. Впрочем, во всем есть доля участия Господа нашего… − Это ЕГО глаз? Прямой и слишком сложный вопрос. А ну как окажется, что все это чей-то дурацкий розыгрыш или того хуже - инопланетный юмор? То, что не видно рационального объяснения, еще не означает истинность объяснения метафизического. Папа был достаточно прагматичен, чтобы понимать это. И осознавать собственную ответственность. Он ответил честно: − Я не знаю. Полагаю, да. Понять знамение мы пока не можем, по крайней мере, однозначно. Премьер бросил трубку, не прощаясь и не благодаря, чего раньше с ним никогда не бывало. Вообще-то, он был действительно набожным человеком, хотя грешил часто и покрупному. Но как каялся… «Будет судить не по взгляду очей своих, − подумал Папа. – Ведь не по взгляду судить будет, зачем тогда?» Совещание не принесло ожидаемого облегчения. Цитат нашли много, и отнимающих надежду, и дарящих ее. За полдня кучей народа, находящегося в подчинении у главы Римской Католической Церкви, было переворошено и перечитано столько источников, что объем результата свел его ценность на нет. Слишком уж много вариантов толкования. Какой выбрать? А потом случился звонок президента США, вовремя прервавший совещание – все равно пустая трата времени. Президент влиятельнейшего государства разговаривал вежливее своего итальянского коллеги, был почти весел, глуповато шутил, но сообщил много интересного. Например, о том, что самолет ВВС США долететь до Глаза не сумел. Кажущееся небольшим, в масштабах сверхзвуковых скоростей расстояние просто не уменьшалось. Другой занимательный факт – из космоса, с орбиты МКС, объект так же прекрасно виден, как и с земли. Правда, подробностями космических наблюдений он не поделился. Президент США был умелым политиком и бизнесменом, он выложил свой товар и потребовал за него адекватную, по его мнению, плату – ответ на все тот же, по сути, вопрос. И Папа ответил ему почти так же, как и раньше, изменив свое мнение лишь в одном: − Да, это Господь смотрит на нас, это его Взгляд. Я могу сказать об этом с полной в том уверенностью. Политик поблагодарил и поспешил попрощаться, дабы скорее «принять меры». Интересно, какие. − Святой отец, все информационные агентства сообщают о том, что правительство США закрыло границы государства, ввело военное положение и красный код опасности по всем возможным угрозам, включая стихийные бедствия. Что ж, оперативно. Мир ждал. Папа Римский нервничал в Ватикане, мусульманские имамы не слезали с минаретов, готовясь к священной войне с неверными, патриарх с экранов телевизоров дрожащим голосом успокаивал православных снова и снова… Ничего, ровным счетом ничего не случилось. Ни потопов, ни землетрясений соответствующие службы не регистрировали вовсе. Случился только средней силы шторм у японских берегов, но и на него обратили внимание, когда он уже закончился. Никаких авиакатастроф или крупных аварий; впрочем, авиакомпании резко сократили количество полетов, а то и вовсе отказались летать, ссылаясь на богобоязненных пилотов. И все же напряжение нарастало. На пустом, казалось бы, месте. Глаз нервировал весь мир. Даже африканские племена из числа совсем уж цепляющихся за привычки каменного века впали в депрессию и апатию. А цивилизованный мир просто вскипал. Особенно верующая его часть, которая резко и значительно увеличилась. Вслед за Штатами границы стали закрывать одно государство за другим. Европа усилила контроль обшей границы, но внутри союза ничего ужесточать не стала. А зря, считал Папа: − Скажи, кардинал, что, по-твоему, я должен сказать им, чтобы успокоить и отправить по домам? – не оборачиваясь, спросил Папа. Через щель в шторах он наблюдал за толпой, которая уже смела не слишком активные кордоны полиции и теперь сдерживалась только швейцарскими гвардейцами. − Боюсь, никакие ваши слова не убедят их сделать этого. Еще сильнее опасаюсь я, что никакие вообще слова, кроме подтверждающих их опасения о скором конце света, не будут услышаны толпой. − Возможно, но о конце света мне даже упоминать нельзя, а иные слова, ты прав, скорее всего, не будут услышаны. Что делать, кардинал? − Молиться, Ваше Святейшество, – смиренно склонил голову кардинал Ватикана, и только Папа Римский, знавший соратника очень давно и видевший его насквозь, мог уловить легкую иронию в голосе и жесте собеседника. − Сам-то ты что думаешь? В чем смысл? Кардинал не стал больше юлить и прямо ответил: − Не знаю, Папа. Я ничего не думаю, я вижу то, что вижу. Напряжение растет, ученые лепечут что-то несусветное, но зато народ верует все сильнее и сильнее. Никакая пропаганда, никакие проповеди не дают столь видимого и резкого эффекта. − А гугеноты, а мусульмане, буддисты, баптисты − разве они не получили тот же толчок, что и мы? Нет, друг мой, я думал об этом, но либо ОН равно относится ко всем конфессиям и сектам, либо смысл в другом. Я боюсь, скоро пузырь может лопнуть, и тогда мы окажемся в полном хаосе. А там и до конца человечества, а то и света, недалеко. − Надо активнее воздействовать на умы паствы. Сейчас они готовы принять и поверить во многое. − Затем я тебя и позвал. Через час я пойду к ним, и буду говорить. Вижу, американские и часть азиатских телевизионщиков готовы слушать и снимать. Как только прибудут русские и китайцы, я скажу свое слово. Каким оно будет, кардинал? − По-моему, не следует слишком уж активно успокаивать народ, тем более что повод для беспокойства налицо, вернее, на небе, и он реален. Чего ожидать, мы не знаем, так не станем врать людям. Надо сказать им − ждите дальнейших знамений и молитесь. Молитесь, кайтесь и веруйте, не забывайте о заветах божьих, о любви к ближнему, как к самому себе, и усмирите страх и агрессию. Так паства останется в спокойном, не агрессивном напряжении и обретет свойства пластилина, из которого мы будем потом лепить что-то, исходя из обстоятельств. Папа кивнул, примерно так он сам себе и представлял свою речь. Понтифик прекрасно отдавал себе отчет в том, что далеко не весь мир подчинен влиянию римской католической церкви даже теперь, когда Господь (Папа уже верил в это) показал реальность своего существования. Но немалая, а главное – влиятельнейшая и сильнейшая часть цивилизации будет слушать его и, возможно, слушаться. Выбор правильных слов в такой ситуации становился делом архиважным. Но ни с кем, кроме кардинала, своего давнего друга, он советоваться не стал, не желая делить груз ответственности ни с кем более. Раздался робкий стук в дверь и торопливое: − Все в сборе, Святой отец. Что ж, пора. Площадь святого Петра, казалось, вот-вот лопнет, выплеснув людское море на улицы Рима. Впрочем, с балкончика Папа видел, что одной площадью все не ограничивается, пусть не так бурно, но и за пределами ее все волнуется, сдавленно ждет. Увидели Папу и стихли. Перестали скрипеть статуи мучеников, ограничивающие площадь, покачнулся в последний раз и застыл египетский обелиск. Так показалось понтифику и ему стало страшно. Он поднял глаза и встретился взглядом с Ним. «Помоги мне, Господи!» Глаз никак не выказал своей готовности сотрудничать, и Папа начал речь, не дождавшись благословения. Он умел говорить хорошо и убедительно, даже когда был никем или почти никем, теперь же завладеть вниманием толпы на его месте смог бы и самый косноязычный оратор. Не стоит и говорить о том, что речь Папы лилась логичным и убедительным потоком, направляя умы слушателей строго согласно плану его и желанию. Но все-таки Он не благословил Папу. Понтифик уже переходил к сути, когда раздался выстрел. Потом еще и еще один, а телохранители уже закрыли его и оттащили с балкона, раненного и шокированного. Выстрелы сломали тишину и согласованность душ человеческих, началась толкотня и паника. Часть толпы, и немалая, не стала бестолково толкаться в стремлении покинуть площадь, а наоборот – устремилась на ряды гвардейцев Папы, сметая их тараном сотен тел. Площадь святого Петра огласилась стонами задавленных, воплями обиженных и криками неудовлетворенных фанатиков. Ватикан пал. − Святой отец, мы не можем больше обеспечивать вашу безопасность здесь, надо уезжать. Быстро. − Он ранен!.. – возразил было Кардинал. − Ничего, мне уже лучше. Ранение в руку и вправду не представляло большой угрозы, пуля лишь задела предплечье. И уж точно это была меньшая угроза, чем разъяренная толпа, готовая разобрать Ватикан по кирпичику, похоронив и себя, и Римского Папу. Не раз уж выручавшие понтификов подземелья привели команду спасающих Папу в замок Святого Ангела. А дальше, чтоб уж совсем замести следы, кортеж выехал через Тибр в сторону площади Испании. Кардинал и часть приближенных, покинувших Ватикан вместе с главой церкви, остались в замке, в машины сели только телохранители папы и он сам. На улицах Рима царил хаос, однако кортеж двигался пусть не быстро, но не останавливаясь. Папа вздохнул спокойно, когда машины, достигнув окраин, стали ускорять ход. Рука ныла, но вполне терпимо. И вроде все начало вставать на свои места. Папа постепенно выходил из шокового состояния и стал размышлять и строить планы. Пока Рим не успокоит армия, наверняка уже приближающаяся к столице, он переждет за городом, в своем летнем домике, а потом… Визг тормозов и автоматная очередь. Двигавшийся впереди автомобиль развернулся боком, из него выскочили телохранители Папы и принялись отстреливаться из-за кузова. − Святой отец, пригнитесь! – кричали водитель и телохранитель Папы, ехавшие вместе с ним. Автомобиль Понтифика, тыркнувшись туда-обратно, под визг рикошета нырнул в маленькую боковую улочку, и тут, теперь уже сзади, раздался взрыв – взлетела на воздух одна из машин. Чья? Этого Папа понять не успел, но надеялся, что злоумышленников. Сознание вновь шокированного священника сковалось страхом. Папа пытался встряхнуться, но лишь четче осознавал зыбкость своего существования, и страх становился сильнее, перерастая в слепой ужас. Кто напал и почему покушается на его святейшую жизнь? Совершенно непонятно, немыслимо! Когда обнаружилось, что одинокую теперь машину кто-то преследует, а вокруг ни одного охранителя порядка или солдата, только телохранитель и водитель, Папа окончательно пал духом, сник и потерял способность трезво думать. Слава богу, рядом с ним были настоящие профессионалы, прекрасно оценившие ситуацию и принявшие единственно верное решение. Ценой своих жизней, они готовы были сохранить жизнь Святейшества. − Здесь! – крикнул телохранитель после резкого поворота, и машина затормозила. В секунду он выскочил, вытащил слабо упирающегося Понтифика, и машина тут же с визгом тронулась. Верно оценив неадекватное состояние Папы, телохранитель толкнул его в щель меж домами, а сам побежал навстречу преследователям. План был рискованным и рассчитан на то, что преступники потратят некоторое время на телохранителя, а потом примутся преследовать автомобиль, дав таким образом реальному «зайцу» затеряться в лесу городских улиц. Как сложилась дальнейшая судьба защитников Папа никогда не узнал, он не думал о них сейчас, что есть сил перебирая ногами, спотыкаясь, но продолжая бежать… неважно куда, лишь бы бежать. И только одна мысль стучала в голове в такт шагам: «Жить! Я хочу жить! Пусть весь мир скатится в тартарары, а я хочу жить!» Даже в этом бардаке, в страхе пред завтрашнем днем, лишившись высокого положения… жить! 3 Майкл Мозе вышел на крылечко, потянулся, бросил укоризненный взгляд на ставший уже привычным Глаз и понял, что впервые за последние недели ему спокойно и даже - так можно жить! Как хорошо, что нашлись у него родные в спокойной деревеньке, в забытом богом и людьми уголке. Живописный юг Австрии, любовь и безлюдность прекрасно справились со стрессом немолодого уже человека, вынужденного забыть на время о высоком положении Святейшества, но обрести вместо этого собственное, данное родителями, а не церковью имя. Двоюродный брат Арон и его жена Мериэм с радостью приняли загнанного, растрепанного родственника, приняли как родного и горячо любимого, долгожданного. Все-таки им немного льстил временно потерянный статус Майкла, но добродушие они проявляли совсем не поэтому. Просто это были добрые люди с провинциальными ценностями. Они были ближе к богу. Все тут радовало душу, особенно на фоне безобразия, творившегося в городах по всему миру. Глаз, кстати, стал хмурым. День пятый как появилась часть брови и выражение, как и мимический смысл, были совершенно и однозначно понятны. Он злился! − Гав, – привычно тявкнула дворовая псина в сторону небесного безобразия и с чувством выполненного долга подбежала к Майклу за наградой. Автоматически потрепав ее за ухом, господин Мозе вернулся в дом. Собака разочарованно скульнула ему вслед, но этого человек уже не услышал. Растеряв утреннюю беспечность, он торопился к телевизору - узнать, что все-таки интересного и нового случилось в мире, пока он спал. Телевидение и радио оставались главными вестниками мировых новостей, пугающих, но все же кажущихся местным слишком далекими. Майкл воспринимал все иначе. Количество каналов сократилось, но центральные вещали исправно, значительно увеличив объем новостных и аналитических блоков. Правда, сейчас на экране выступал какой-то ученый муж. Естественно, выступал по известному поводу. Предположения строил, умные слова говорил… где же новости? Вполуха слушая бредни безумного дядьки, Мозе думал о том, что не стал тем, кем считался по статусу – вестником божьим. Сколько молитв он, смирившийся и раскаявшийся, адресовал Господу и глазу его, как часто просил посвятить в свои планы, раскрыть свои намерения, подсказать ему – что же делать? И ничего, даже ему, доверенному представителю… Ну вот, наконец, новости! Родные берегли Майкла, не просили его помочь им в нелегком хозяйстве, шикали на своего сынишку, чтобы тот не приставал к дяде, поэтому Майкл имел возможность смотреть телевизор весь день, отвлекаясь лишь на сон, еду, прогулки и редкие молитвы. А с экрана телевизора рассказывали, по сути, об одном и том же. Тут протестуют против конца света, тут психуют и громят церкви, там выгоняют всех неверных и готовятся к войне с Америкой, сама Америка готова ответить тем же самым. В России смута, вспыхивают с трудом контролируемые очаги гражданской агрессии, в Европе тоже порохом запахло, бьют мусульман. Все сильные страны играют мышцами, демонстрируя свою готовность отразить любую угрозу, чуть ли не божью кару. Китайцы зато спокойны. Но придумали и направляют все силы на подготовку к запуску в космос вместительного корабля. Китайская космическая программа хоть и развивалась бурно в последние годы, даже десятилетия, но… на что они рассчитывают, все же непонятно. Майкл смотрел, думал и все пытался себя убедить в том, что вот-вот должен наступить перелом, достигнут психологический пик, а потом все повернется вспять и начнет устанавливаться пусть новое, но равновесие. Пусть ценой ошибок и смертей, но будет достигнуто. Рано или поздно. И тогда он вернется… Или пусть даже не вернется, зато будет спокойно, в психологическом комфорте доживать свой век. Пока, однако, телеящик надежду не подпитывал. Все бурчал и бурчал о плохом все утро и день, до самого вечера. Перед ужином Майкл выключил его и пошел гулять. Настроение, по сравнению с утренним, испортилось дальше некуда. К счастью, в этому времени освободился от своих, не всегда детских, дел восьмилетний Эвон – сын Арона и Мериэм - и составил дядюшке компанию. Детская непосредственность и абсолютное равнодушие к мировым проблемам очень быстро помогли Майклу освободиться от тяжких дум и почувствовать себя гораздо лучше. К глазу Эвон отнесся спокойно, как к данности, вроде солнца днем и луны ночью, и в этом смысле дядя завидовал племяннику. Но и радовался за него. Мальчик щебетал что-то о том, как гонялся за курицей и вдруг замолчал, ткнув в небо: − Дядя! Смотри! Майкл Мозе поднял голову и увидел слезу. Она еще набухала, собирая влагу в уголке Глаза, но уже угрожающе свешивалась, готовая упасть прямо на головы тех, кто ходил по Земле. А потом глаз моргнул, и слеза полетела… − Ух, ты! – воскликнул мальчик, глядя, как капелька приближается, закрывая собой внушительную часть неба. Рядом вскрикнула его мама, подбежал отец. А потом слеза лопнула. И пошел дождь. Годы брали свое, Майкл мучился бессонницей и долго ворочался. Не спалось и кузену. Посреди ночи задремавший было Майкл услышал звук включенного телевизора. Подумал, не присоединиться ли ему к брату, но решил, что нет – надо поспать хоть немного, и повернулся на другой бок. Поспать, однако, не удалось. Разбудивший его Арон выглядел не на шутку напуганным и все шептал: «Что теперь будет? Они сделали это, брат! Что будет?». Майкл вскочил с кровати и поковылял к телевизору, тщетно стараясь выгнать сердце из пят. Помятый диктор растерянно вещал: − …Сообщение подтверждают французские информационные агентства. Повторюсь еще раз: сегодня ночью был зарегистрирован запуск ракеты, снабженной ядерной боеголовкой, с территории Соединенных Штатов… Ракета предположительно была нацелена на Афганистан или Пакистан, но была сбита Россией еще за пределами атмосферы… …Россия крайне негативно отреагировала на, цитата, «выходку» США… по словам политиков, вероятно категорическое обострение отношений между Россией и США, вплоть до окончательного раздела влияния, пользуясь моментом мировой смуты… − Господи Иисусе! – вот все, что смог вымолвить Майкл. Воображение уже живописало последствия ядерной войны, последующей пустыни, в которой мало кому из ныне живущих найдется место. Слишком часто и много об этом писали, и не только фантасты, но и публицисты. − Господи Иисусе! Спаси и сохрани! Диктор на экране сменился картинкой хмурого неба, на котором грозно хмурился рыдающий глаз. − Что это?.. В углу! Майкл пригляделся и увидел материализующийся в отдалении от глаза кулак. Братья переглянулись, поняв, и наперегонки бросились к окну. Да, кулак и тут был виден во всей красе. − Папа! – испугался наверху проснувшийся Эвон. − Арон! – закричала Мэрием. Кулак и впрямь был страшен. Карающий перст, вернее, вся пятерня постепенно увеличивалась, приближаясь. И каждому мнилось - именно он сейчас будет раздавлен. Кулак пал на головы. Так показалось. И все остались живы и здоровы. Или почти здоровы. Майкл открыл глаза, глубоко вздохнул, стараясь умерить бег крови и стук сердца, и огляделся. Все его родные были в той или иной мере ошарашены, но Эвон быстро возвращался в нормальное состояние и что-то лепетал. Вот только Майкл его не слышал! И телевизор вдруг замолчал, хотя диктор, прорываясь через все усиливающиеся помехи, явно продолжал говорить. «Я оглох», − подумал Майкл. Уже утром стало ясно, что не он один оглох. Да и не оглох вовсе. Все жители округи, а, скорее всего, и во всем мире, как и он, перестали слышать друг друга. Даже если говоривший находился не рядом, а пользовался телефоном или вещал с телеэкрана. При этом все прекрасно слышали пение птиц, гром, шум дождя, крики младенцев, зверей… Уняв парализующий ужас, Майкл понял, что войны в таком мире глухих быть не может. По крайней мере, современной войны, в которой связь - важнейшая составляющая. И в этом, видимо, заключался смысл кары господней. Это хорошо, но… Но как жить-то дальше? 4 Прошло два дня. Два дня молчания и страха. Люди начинали учиться жить в новых условиях, общаться жестами, изобретать новые способы письменности палочками и тому подобными визуальными средствами. Дело в том, что привычная письменность также стала теперь непонятной и недоступной. Написавший понимал, что именно он написал, а другой – нет. Условные обозначения после некоторых взаимных усилий становились ясны обоим собеседникам, но ведь общаться необходимо не только с ближними, а и со всеми. Возможно, со временем будет изобретен новый способ, но пока люди мучились и страстно ругались про себя на это второе явление вавилонского эффекта. Дети, однако, продолжали общаться друг с другом, и теперь на их хрупкие плечи легло много чего, так что и погонять в прятки времени не оставалось. Дети продавали и покупали, ходили в гости, чтобы что-то попросить или даже передать на словах – понять своего ребенка все же проще, чем чужого человека. Майкл Мозе неустанно молил Господа простить людей и вернуть им речь. Ничего иного сделать он не мог, поэтому коленопреклонялся и просил по несколько часов в день. Ведь, мнилось ему, совсем недавно он был ближе к Богу, чем кто-либо. К тому же делать больше было нечего. Телевизор окончательно перестал работать, от радио без звука никакого толка. Иногда удавалось поймать музыку, ее было слышно, но облегчения бывшему понтифику она не приносила. Когда Майкл не молился, не спал и не трапезничал, он гулял. Это занятие так же радовало его, как и раньше, оставаясь наедине со своими мыслями, он забывал о своей «глухоте» и на равных общался с природой, выступая слушателем. Погода, правда, не располагала к прогулкам – непрестанно моросило, да и глаз, подернутый пеленой серого неба, раздражал, но находиться круглосуточно в четырех стенах он не мог. Именно на прогулке он встретил незнакомого мужчину средних лет, самой заурядной деревенской внешности. Приняв его за соседа, Майкл поздоровался кивком и продолжил, было, моцион. − Святой Отец, мне необходим совет. − Я уже не священник, – автоматически ответил Майкл. Кое-кто из деревенских мог знать о его прошлом, поэтому удивляться было бы нечему, если бы не… − Я слышу тебя, сынок?! А ты меня? − Да, ведь мне необходимо услышать, а вам послушать. А может быть даже и ответить. Майкл почти пропустил ответ мимо ушей, потому что в этот момент в его голове доминировала мысль о том, что Господь простил своих сыновей, услышал его молитвы, и теперь все вернулось на круги своя. Однако голос собеседника показался ему знакомым, а смысл медленно, но верно доходил да него. И теперь он по-новому взглянул на мужчину. Однако увидел перед собой лишь уверенного, сильного человека, немного хмурого, но не озлобленного – совершенно обычного. «Прости мне, Господи, богохульные мысли, ибо мир сошел с ума и я вместе с ним» Отказывать в разговоре Папа не стал и пригласил страждущего исповеди присесть на ствол удачно упавшего когда-то дерева. Теперь, когда они сели и незнакомец вновь заговорил, интонации и тембр окончательно подтвердили Папе – это тот самый исповедующийся, который посетил его с вопросом о подчиненных давным… нет, совсем недавно, но все же – в прошлой жизни. И опять невозможная догадка начала терзать Майкла, ведь это казалось очевидным столь же, сколь и невероятным. От одной только мысли о невозможном потела спина и щемило в боку. От мысли о том, что именно он, понтифик, виноват во многом − в неосторожном совете, в непозволительно легкомысленном отношении к исповеди. И теперь именно из-за него страдает мир. От мысли о том, что перед ним не случайный человек, но сам Господь! «Нет, − отгонял он наваждение. − Невозможно, это все эгоцентризм и сумасшествие последних дней. А может, я болен?» Тем временем мужчина начал говорить: − …я грешен, ибо преисполнен злобой на своих детей. Они предстали предо мной совершенно испорченными, заигравшимися. Они слепы и не видят, что творят. А главное, они не желают видеть меня и слушать! Сбившись с пути, не стремятся вернуться на него. И еще – мои дети выросли и стали слишком сильны. Сильны настолько, что в ярости своей и глупости способны уничтожить не только друг друга, но весь свой мир. Я… Незнакомец говорил и говорил, а Майкл слушал и бледнел. «Псих», − сказал бы материалист о собеседнике понтифика. «Псих», - подтвердил бы верующий, показывая на Майкла Мозе. «Господь! Воистину, это он! О Боже…», − стучало в голове самого Папы, и ему хотелось закричать исступленно, пасть в ноги Господу и молить о пощаде и прощении. Но он молчал. Сидел и слушал, краешком души понимая, как много возложено на него Господом теперь. −… А я ведь всего лишь показал им любовь свою и участие. Скажи мне теперь, Падре, чего еще надо людям? И отпусти мне грех мой. Он мучает меня и душу мою. Папа облизнул губы, помолчал, еще раз облизнул, опять помолчал – собеседник терпеливо ждал, − вздохнул и осторожно заговорил: − Приходит время и каждый ребенок вырастает, взрослеет, и пусть он кажется родителю глупым и слишком молодым, чтобы принимать самостоятельные решения, но это не так. Природа мудра и наделяет родителя чувством ответственности и потребностью заботиться о своем чаде. Однако, порой и даже почти всегда эта потребность излишне сильна, а главное, не знает временных границ. Отцу и матери всегда кажется, что их ребенок остается ребенком, даже если у ребенка уже выросли его собственные дети – в этом мудрость, но и зло. Однажды необходимо умерить свои чувства и отпустить подросшее дитя, предоставив ему свободу выбора и действий, не тяготея над ним. Это тяжело, и потому нет греха в твоих… гкхм… твоих действиях и мыслях, ибо они вызваны любовью, а любовь не греховна. Но если ты действительно любишь и хочешь добра чадам своим, отпусти их! Умерь любовь свою и заботу, быть может, не раз и не два они еще порадуют тебя своими достижениями. А со своими проблемами разберутся сами, коль выросли из ползунков. Отпусти их, но не оставляй. Сила родителя и любви его в том, чтобы не мешать, но всегда приходить на помощь, коли его попросят помочь. И тогда ребенок будет гордиться и помнить о своем родителе, не раздражаясь и перестав совершать глупости. Конечно, дети и, вправду, иногда поступают неразумно и ошибаются, но человек несовершенен, и ошибки - это неизбежное зло, совершенство если и доступно, то… Майкл вдруг понял, что говорит сам с собой, ведь рядом никого нет, и только топот легких ног ребенка нарушает его единение с природой. − Дядя Майкл, дядя Майкл! Папа слышит маму! А мама, ха-ха, папу! – Эвон выбежал к Майклу, схватил его за руку и потянул за собой. – Пошли со мной, дядя Майкл, пошли скорее, вся деревня уже собралась! Луч солнца вдруг клюнул дядю Майкла в глаза, и он, прикрыв лицо ладонью свободной руки, посмотрел вверх. Облака спешно расступались, открывая теплую синеву чистого и глубокого неба, в котором не было места ничему, кроме бесконечности. − Пойдем, Эвон, пойдем, дружок, – улыбнулся небу старик Мозе, подмигнув ему своим старческим глазом. Владимир Яценко Третий Рехнуться в космосе - плёвое дело. А на высоте семисот километров над фотосферой Солнца для этого дела и плевать не надо: когда выгорит последняя отражательная пластина в любой из кассет экрана, от меня останется лишь плазма. Есть от чего вздрогнуть. Наверное, поэтому меня ничуть не обеспокоил строгий, чуть хриплый голос: - Кто здесь? Ему немедленно ответил тонкий детский голосок: - Где? - Спроси лучше "когда", - отозвался хриплый. Голоса звучали отчётливо и ясно. Как если бы у меня за спиной кто-то беседовал со своим любознательным сыном. Я обернулся. Зря, конечно. Людей я не увидел. Звёзд и чёрной глубины космоса тоже не наблюдалось, - мешал слой багровой протоматерии примерно в полукилометре над головой. Слой заметно зеркалил, и я мог видеть себя - крохотного серебристого муравья, ползущего по серой, теневой стороне Зонта. "Муравей" был жалок и несчастен. Он толкал тележку с кассетой светоотражающих пластин, страдал и потел. Зонт в этом ракурсе достижением передовой технической мысли не казался. Десять гектаров тени на фоне безбрежного, в полнеба, Солнца напоминали погребальный плот, а не убежище. А ведь был ещё эруптивный протуберанец, фиолетовые контуры которого всё отчётливей проступали сквозь кисею протоматерии! Эта штука, размером с сотню таких планет, как Земля, имела температуру пятнадцать тысяч градусов и через несколько часов должна была рухнуть мне на голову. Как только это случится, я умру. А значит, закончится наша беседа. Жалко, правда? Только, ведь, начали... Кстати, меня зовут Иван. Ударение на первой букве, если не затруднит. Не думаю, чтобы это имело значение, но даже в последние минуты хочется быть тем, кем был при жизни, верно? И чтобы эти минуты были свободными от недоразумений, уточню: героизма в моём положении нет, всего лишь жадность и невезение. Разумеется, жадность. Погнался за премиальными: "Кто глубже в Солнышко нырнёт, большую денежку найдёт"... Донырялся! Как оказался в такой близости от светила понятия не имею. Критическим приближением Зонта к Солнцу полагают сто тысяч километров, я - на семистах, а как это получилось и что делать дальше, спросить не у кого: радио не работает. - Предлагаю обсуждать вопросы в порядке их поступления, - сказал Хриплый. - Я из этой звёздной системы. Четвёртая планета. - Я был там, - ответил ребёнок. - Тупая растительная жизнь. Разума не обнаружил. Я с пятой... - Ты сам "тупой", - обиделся Хриплый. - Нет никакой "Пятой". Пояс астероидов, - вот что такое твоя "Пятая". - Блин! - в голосе ребёнка послышалось отчаяние. - Почему "блин"? - поинтересовался Хриплый. - Хрен знает, - кротко ответил ребёнок. Немного подумал и добавил: - Только не спрашивай. Я не имел в виду растение. Я вообще ничего не имел в виду. Отражательная сторона Зонта не рассчитана на такую мощность излучения и поэтому стремительно выгорает. Сотовая архитектура: каждая ячейка - это кассета с отражательными лепестками. Когда наружная, обращённая к Солнцу, пластина приходит в негодность, на её место поднимается нижняя. Будто патроны в магазине пистолета. Как сгорит предпоследняя, - на индикаторной панели загорается сигнал тревоги. Тут-то и мой выход. А если не успел или "свежие" кассеты закончились, значит, самое время отправляться к праотцам... но до этого ещё далеко. На психотренингах нам советовали думать только о позитиве. Вот я и думаю... в духе и соответствии... И вы не волнуйтесь. В космосе волнение вредит здоровью. Вот я, к примеру, совершенно спокоен. Потому что точно знаю: до прихода факела кассет мне хватит. А после кассеты будут не нужны. И воздух мне не будет нужен. И это важно! Поскольку воздуха у меня нет. Вернее, "его есть", но мало - часов на десять. А если скорость выгорания пластин не изменится, то кассет хватит часов на шесть. Фиолетовый факел упадёт через три часа. Всё сходится. Ура! - меня не успеет прикончить лучевая болезнь. Дозиметр ещё два часа назад отключил, трещит, как проклятый, от позитива отвлекает. Надоел! Так что точно сказать, какую дозу принял, не могу, но что за полтыщи бэр перевалило - уверен. Поэтому совершенно не о чём беспокоиться. Полный порядок. Просто нужно быть внимательным: индикаторная панель расположена на манжете правой руки. Нетрудно "проморгать" требование системы заменить кассету, - руки-то заняты! После получения тревожного сигнала следует уточнить адрес и, осторожно переставляя магнитные башмаки, дотолкать к нужному месту тележку. Поле Зонта - это "пчелиные соты" на шестьдесят тысяч сегментов. Легко ошибиться... представляете сюрприз: замещаешь "здоровую" кассету, а в двух шагах от тебя прорывается первый ослепительный луч! Красиво, наверное. Но фатально: на лекциях нам объясняли, что при таком раскладе Солнце выпарит всю конструкцию изнутри примерно за полторы минуты. Жесть! - Не будем отвлекаться, - строго сказал Хриплый. - Первым был вопрос "кто"? Что если для упрощения отождествить собственные имена с номерами наших планет? Я - Четвёртый. Прибыл к светилу с исследовательскими целями. И я - действительно растение. - Я - Пятый, - уныло представился "ребёнок". - Насекомое. Здесь тоже из любопытства... И чё, совсем-совсем ничего от моей планеты не осталось? - Прекратить нытьё! - приказал Четвёртый. - Увлёкшись исследованиями, мы опустились ниже горизонта событий, и сейчас находимся вне времени и пространства. Моей расой были разработаны математические модели, которые допускают возможность подобных ситуаций. - Но из этого следует, - сказал Пятый. - Что мы не сдохли насовсем. Коль скоро нас тут двое, значит, другие представители наших рас не попали в эту ловушку... - ...а это может означать, что мы благополучно выбрались и рассказали об опасности звёздных погружений у себя дома, - подхватил Четвёртый. - Это обнадёживает. "Кто" и "где", вроде бы, разобрались. А что у нас с "когда"? Рельсы приводят к оранжевому квадрату с нужным номером. Устанавливаю тележку строго по маркерам и нажимаю кнопку "замена". С моего места не видно, но я знаю, что под тележкой распахиваются створки, и автомат выдавливает сменную кассету на место отработанной. Вся процедура длится секунду, может, две. Поворачиваюсь и тяну транспорт назад, к пакгаузу. Вибрация шплинтов скольжения в пазах направляющих рельсов хорошо чувствуется через рукавицы. Вот-вот загорится тревожный сигнал с новым адресом. Нужно, чтобы "свежая" кассета к этому времени уже лежала в захватах, а сама тележка стояла на поворотном кругу железнодорожного терминала. Из округлого бока склада уродливым горбом выпирает модуль жизнеобеспеча размером и формой с дачную уборную. Это оттуда я управлял двигателями, спрятанными в тени Зонта. Дюзы направлены в сторону, противоположную моему движению по орбите. Предполагалось, что, отработав ресурс на минимальном, но расчётном расстоянии от Солнца, я запущу двигатели, и они по раскручивающейся спирали вынесут меня к челноку, который снимет с датчиков добытую информацию и заменит пилота. То есть, меня. Да! Да! Это очень хороший план! Замечательный план! Замените меня! Срочно! Останавливаюсь и чуток добавляю кислорода в дыхательную смесь. Мне только истерики не хватало! Чтобы успокоиться, оглядываю двигатели: большие! огромные! надёжные! - гордость российского космопрома! Жаль, горючего нет - спалил всё к ядрёне фене, пытаясь выбраться. Зато орбиту стабилизировал!.. - У меня на родине думают, что Солнцу три миллиарда лет, - сказал Пятый. - А у нас полагают, что оно на миллиард лет старше, - отозвался Четвёртый. - Что такое, по-твоему, "лет"? - поинтересовался Пятый. - Забавно. Я почему-то взял за единицу отсчёта период обращения третьей планеты. Такое впечатление, что я думаю чужими мыслями. - Так само, коллега. Прости за скудость тезауруса и фиговость логических связей... - Опять обостряешься? - И не думал. Не знаю, отчего всё время на растения пробивает. - Общие представления о мире также не радуют широтой, - подытожил Четвёртый. - Я не могу адекватно формулировать мнение. Это смущает. Почему мы слышим друг друга? Предчувствия не обманывают: едва успеваю закрепить кассету, как на "манжете" вспыхивает новый тревожный номер. Разворачиваю круг и выгоняю тележку на нужную радиальную магистраль. Постукивая магнитными башмаками, иду с грузом к ячейке, которая нуждается в срочной замене. Тяжко, душно, жарко. Эта процедура должна исполняться автоматом. Но он сломался, не выдержал плотности электромагнитного излучения. Человеческие мозги и плоть оказались крепче стали и транзисторов... По стрелке перехожу на нужную дугу. Зачем я это делаю? Мне - конец. Кажется, уже говорил... протуберанец, кислород, радиация. А ещё никто не придёт на помощь. Добираюсь до проблемной ячейки и нажимаю кнопку замены. Всё время хочется смахнуть пот со лба. А ещё утереть сопли - губы и подбородок мокрые. Железо и соль... вкус крови. Не хочется умирать. - Склонен полагать, что наши мысли встречаются в каком-то буфере. Предлагаю называть его "Третий", поскольку мы воспользовались летосчислением третьей планеты. - Третья стерильна! - детский голосок Пятого полон удивления. - Вулканы, грозы, ультрафиолет... - Это в вашем времени, - замечает Четвёртый, - миллиард лет спустя там стало довольно любопытно. Но, может, не стоит сердить условно Третьего? Тем более что он предоставил нам возможность общения?.. - Не совсем так, коллеги, - вклинивается новый голос. Женский. - Я - Вторая. Коммуникация и в самом деле обеспечивается посредством Третьего. Но моими силами. Электролит-коллоид по каким-то причинам не отзывается, но я уверена, что он нас слышит. - Привет, Вторая! Я - Четвёртый. - Привет, Вторая! Я - Пятый. - Вторая - привет всем. Предлагаю обсудить порядок эвакуации... Надо было признать, что голоса за спиной неплохо скрашивали последние минуты. Что и говорить, смерть - странная штука: думаешь, чувствуешь, живёшь... и вдруг бац! ничего. Но ведь учили: "что-то" не может превратиться в "ничто". Как и "ничто" не может породить "что-то". Значит, есть где-то ёмкость, из которой мы все берёмся и куда уходим в конце. Когда администрация проекта "Солнце для всех" развесила на биг-бордах слоган "обогащайтесь с нами", я ни секунды не раздумывал: как высадил пассажиров, так и заехал в ближайший офис Компании. Документы всегда с собой. Потом были слёзы Насти и круглые глаза Алёшки: папа - космонавт! Сыну не объяснить, а Настёна лучше моего понимала, что жизни нет. Бедность у опасной черты, ниже которой только нищета. На еду как-то хватало, а вот за квартиру заплатить - не всегда. Так что размышлений - ноль. Мне дали шанс, и я за него ухватился. Потом медкомиссия, тесты, лекции, тренировки, симуляторы... И горы бумаг: отказ от претензий в случае увечья, завещание на случай смерти, "о рисках предупреждён", "с техникой безопасности ознакомлен"... А потом я провалился на Солнце. И, чёрт подери... это здорово! Потому что в страховку я вбухал всю первую получку. А платят здесь - будь здоров! Остаётся немножко потерпеть, и моя семья получит достаток. - Принято, Вторая. Я - Четвёртый. У меня сгорел двигатель. Движение ограничено маневрированием неподалеку от светила. Зато силовой агрегат исправен. Энергии хватит, чтобы убраться за орбиту девятой, но не к чему эту энергию приложить. - Я - Пятый. Обратная картина. Всё работает, но не хватает мощности, чтобы оторваться от звезды. - Вторая. Только каботаж. Маршевые двигатели не предусмотрены конструкцией. К фотосфере меня опускали на силовом тросе. Вы можете объединить свои устройства? - Для этого нужно уточнить... Они минут десять "уточняют", перемежая мудрёные термины с родными и понятными "фиговинками", "фигнюшками" и "пришпандорить". Потом Пятый заявляет: - Нифигасе! Кажется, вдуплился... ой. Я не о растениях!!! Но для монтажа узлов нужна тень. Чтобы совместить энергетическую установку Четвёртого с моим локомотивом, нам обоим придётся выключить защиту. В такой близости от Солнца - верная смерть. - Есть ещё одно, - хмуро говорит Четвёртый. - Мы в "нигде" и в "никогда". Объединив усилия, мы уйдём на безопасное расстояние от звезды, но как нам попасть в своё время? - Начнём с "объединения", - перебивает Пятый. - Ноль навигации. Я понятия не имею, где нахожусь. - Аналогично, - признаёт Четвёртый. - Как же мы встретимся, если не можем определить местоположение? - И где мы найдём тень от звезды? Множественное расщепление личности успокаивало. Ведь если бы, скажем, моя деформированная близкой кончиной психика "порадовала" раздвоением, мне бы пришлось последние часы провести в бесплодных спорах с самим собой о том, кто из нас главный, и кому умирать взаправду, а кому только "кино смотреть". А так - я просто слушал базар осколков разума, не напрягаясь, без тревог и волнений... примерно как наблюдать за рыбками в аквариуме. Вы только не подумайте, что я и по жизни тормоз. Ничуть! Просто весь этот неулыбон как-то на руку: крутиться, как вошь за копейку, достало. А для настоящих денег мозгов не хватает. Вот и выходит, что для моего семейства мёртвый отец лучше живого. Пенсия, страховка... Мне и за тысячу лет таких денег не наишачить. Где-то в глубине шевельнулась предательская мысль: "что-то уж слишком я на финансовую сторону налегаю". Это я так уговариваю себя не истерить? И диарея замучила. Кишечник решил сагонизировать первым. Интересно, на сколько литров рассчитан калоприёмник скафандра? Когда-то знал... - Придержите языки, мальчики, - в голосе Второй усмешка, - у меня с навигацией порядок. Вижу вас и вижу тень. Интересует? - Интересует! - Ясен день! - Вторая - Пятому. Не поняла. - Четвёртый - Второй. У Пятого проблемы со словарным запасом Третьего. Тезаурус на четверть из жаргона. Пятого вопрос навигации тоже интересует. - Вторая - всем. Наблюдаю объект с огромной площадью тени. Готова сообщить ваши координаты и координаты точки рандеву. В обмен на свою эвакуацию, разумеется. - Я - Пятый. Согласен. Уточните систему отсчёта. - Расстояние до центра, угол к экваториальной орбите, время прохождения зенита... - Неплохо. Что у нас будет экватором? Это Четвёртый спрашивает. - Я - Пятый. А как мы отличим зенит от надира? - Экватором назовём область поверхности светила с минимальным периодом вращения, зенитом будем полагать точку, из которой вращение светила будет наблюдаться по часовой стрелке... Изысканная терминология опошляется массивами чисел, а я, получив новый тревожный сигнал, спешу в западный сектор. По-прежнему не могу понять, зачем я всё это делаю. Как будто есть разница: умереть часом раньше или часом позже. Какой прок в оттягивании неизбежного? Но, с другой стороны, разве "возможность" - не побуждение к действию? Если можешь, значит, должен. Не к этому ли сводится необходимое условие выживания? Не исключено, что моя алчность не стоила бы мне жизни, будь моя лохань хоть чуточку мощнее и современнее. Но чего нет, - из-за того умираю. Думаю, что некоторые узлы и механизмы ещё помнят времена Юрия Гагарина. Удивляться нечему: в последней империи строили на века, а нынешние корпорации - босота, экономят на чём могут. И даже исследования Солнца, сулящие запасы энергии на миллиарды лет вперёд, стараются проводить на оборудовании прошлого тысячелетия. И теперь мне помочь может только волшебник. Тот самый, что "в голубом вертолёте". Или из диснеевского мультика про Алладина... тоже голубой, нифигасе! А какого чёрта все волшебники голубые? Интересно, они только "своим" помогают? Меня всё-таки вырвало... - Пятый - всем. Я на месте. Здесь действительно до фига тени. - Я - Вторая. Уточните, "до фига" - это достаточно для ремонта? - Я - Четвёртый. Вижу тень. Вижу Пятого. Тени хватает, чтобы начать работу. - Я - Вторая. Вижу вас, мальчики. Плохие новости. Объект на грани разрушения. На нас опускается облако плазмы. Исполнительное устройство, обеспечивающее функционирование объекта, нестабильно. Нужно торопиться! - Приступаем... Противно. Пузыри блевотины свободно плавают около щёк и носа, внутреннее стекло шлёма в кляксах крови, да и сам я в слезах и в поту. Как это замечательно, что Алёшка никогда не узнает, как умирал его отец! В слезах, дерьме и рвоте... Если, конечно, "голоса за спиной" ему не расскажут... Неожиданно приходит в голову, что "голоса" могут принадлежать реальным существам. Идея спасения шокирует. Я так свыкся с безысходностью, что непрошеная надежда оглушает. Смена кассеты и возвращение к складу требуют значительных усилий. Едва сдерживаюсь, чтобы не бросить всё к чертям и не начать поиски инопланетян. Но дисциплина побеждает: только после того, как очередная кассета уложена на тележку, внимательно осматриваюсь. Что если родня по разуму под "тенью объекта" понимает тень моего Зонта? И вправду, прямо над головой что-то темнеет. Расстояние не разобрать, перспективу смазывает приближающийся фиолетовый факел. Вновь "оживает" индикатор состояния зеркала. Начинаю тревожиться: а хватит ли кассет, чтоб дотянуть до огненной топки протуберанца? - Четвёртый - Второй. Реконструкция закончена. В качестве дока для вашего аппарата предлагаю грузовой трюм. Подтвердите согласие. - Вторая - Четвёртому. Вижу ворота трюма. Масштабы у вас! Влетаю... - Пятый - Четвёртому. Преобразователь к работе готов. Энергия ваша. Взялся на жёсткий швартов... - Принято, Пятый. Проверка работоспособности локомотива удовлетворительна. Все готовы к отправке? - Я - Вторая. Готова. - Я - Пятый. Мотаем отсюда. - Нет, - говорю я вслух. - Надеюсь, что я - Третий. Я не готов. Возьмите меня с собой, пожалуйста. В глазах темно, я дрожу, и меня вот-вот опять вырвет. Едва не пропускаю очередной сигнал смены кассет. - Пятый - Третьему. Сообщите, где находитесь. К нам приближается облако плазмы... - Где нахожусь? - отрываю взгляд от тележки. Пот застилает глаза и висит мутными каплями на бровях. Но тёмное пятно на фоне косматого протуберанца вижу отчётливо. Прямо под вами я нахожусь. Спускайтесь! - Разумеется! - тёмное пятно становится ближе. - Уточните своё положение. Я был бы рад ему ответить, но меня отвлекает кассета. Две секунды на замену. Всё! Никакого пакгауза. Бежать! - Да вот он я, здесь, - поднимаю в призыве руки и вдруг касаюсь чего-то вязкого. - Что за чёрт! - Внимание! Столкновение! Третий, мы столкнулись с исполнительным механизмом. Уточните своё положение. С ужасом смотрю на руку. Перспектива вернулась. Тёмный предмет, расплывчатым облаком блуждающий над головой, - не больше футбольного мяча. Он слишком мал. От ужаса хочется выть. Шатаются зубы. Рот полон крови. Сглатываю. - Прямо под вами. Похоже, что "исполнительный механизм" - это и есть я. Пауза. - Это Пятый. Я могу поделиться с Третьим энергией. - Мои двигатели на химическом топливе, - отвечаю и вздрагиваю: опять тревожная индикация. Мне нужно сменить кассету в Восточном секторе. - Спасите меня, братцы! Голос стал хриплым. Время вышло. Пора говорить миру "прощай". - Это Вторая. Я могу... - Ты ни черта не можешь! - от собственного крика глохну. Возникает идиотское желание убавить громкость ларингофона. - Ты будешь жить, сука, а я сдохну! - Почему "сука"? - интересуется Вторая. - Потому что мешаешь работать! - я с остервенением стучу башмаками по обшивке, тороплюсь с тачкой к складу. Должен успеть! - Работать? - удивляется Вторая. - Уважаемый Третий. В этих условиях нельзя работать. Приближается облако ионизированной плазмы. Вы погибнете. - Зато на посту, - гундосю не в силах понять, отчего плачу через нос. Потом понимаю, что это не слёзы, а кровь. - Моей родне до фига заплатят, - обессилено шепчу, как молитву. - Жена, сын. Гробовые, страховые, пособие по утере кормильца... Всё схвачено! Ещё и внукам хватит. Начало династии... блин. Качу долбаную тележку по долбаной колее, чтобы продлить долбаную жизнь ещё на несколько долбаных минут. Какого чёрта я это делаю?! Господи, Боже мой! Спаси меня! Я всё для Тебя... Тебе... ...ТВОЮ МАТЬ! ВЫТАЩИ МЕНЯ ОТСЮДА!!! - Третий неадекватен, - говорит Вторая. - Если поможете с энергией, скопирую его матрицу. - На что? - спрашивает Пятый. - На факел. Если промодулировать облако плазмы психоматрицей Третьего, то существо обретёт стабильность на другом физическом носителе. Нет разницы: ионы в электролите или ионы в плазме. Заряды - они всюду заряды. Заряды и поля. Почему бы им не оставить меня в покое? Истерика кончилась. Остались только опустошение в кишечнике и сильнейшая головная боль. Заменил кассету и поплёлся с тачкой обратно к складу. Загорелось сразу три тревожных ячейки. А вот теперь точно всё. Амба. Не фиг и пытаться. Опускаюсь на колени и колочу кулаками по обшивке. Не с тачкой тут надо было ходить, а с ломиком! Разнести эту дуру вдребезги и напополам! - Если скопировать Третьего на протуберанец, то сам Третий всё равно погибнет! - Не обязательно. Его сознание очнётся на новом носителе и, возможно, что-нибудь придумает. - Ты всё-таки прибавь послушания и повиновения, - обеспокоено советует Четвёртый. Третий нас спас. Мы должны для него что-то сделать. - Сделаем-сделаем, - обещает Вторая. - В новой матрице сохранятся и наши личности. С опытом и знаниями трёх цивилизаций... я думаю, что синтетическое существо сумеет помочь не только ему, но и нам. - Нам? - Вернуться в своё время... - напоминает Вторая. - Зашибись! - приходит в восторг Пятый. - У этого существа появятся новые необычные свойства! Третий, Вторая сделает из тебя Бога! - На фига? - шепчу. Хочется, конечно, крикнуть, но то ли сил убавилось, то ли запал иссяк. - Не делайте из меня кумира, дайте лучше денег! Они молчат. Зуд кожи на голове доводит до исступления: выпадают волосы? Сколько же мне осталось? Где этот чёртов факел? Почему я всё ещё жив? Смотрю вверх, и становится не до вопросов: слой протоматерии растаял, испарился, а вместо глыбы пылающей смерти вижу своё синее лицо. Ну да, моё. Вон даже царапина от бритья на левой скуле. Это я порезался, когда старпом по общей связи меня на лётную палубу позвал. Не моя была вахта. Без очереди на смерть пошёл... за сверхурочными. Лицо дрогнуло и расплылось в улыбке. Губы шевельнулись, мелькнул лиловый язык. Ну и рожа! В наушниках шипит, сквозь помехи явственно слышится знакомое слово. Неужели эта штука разговаривает? - Слушаю! - говорит "лицо". В ста метрах слева из-под поверхности прорывается ослепительный луч света. Лицо недовольно морщится, мигает, и вновь приходят сумерки - нет луча. Пропал. Вокруг только голубая в синюшном освещении протуберанца "изнаночная" сторона Зонта. - Слушаю! - повторяет Лицо. На индикаторной панели расцветает гирлянда тревожных сигналов. Присаживаюсь на тележку. Ясно, что не успеть. Хоть отдохну перед смертью... Но с отдыхом тоже не ладится: в невесомости не посидишь. Только силы тратишь на удержание ног в согнутом положении. Вот ведь не прёт! - Слушаю и повинуюсь! - отчётливо звучит в наушниках. Наталья Резанова Трактат о мирах подобий С благодарностью: Даниэлю Клугеру – за советы относительно имен и названий, Святославу Логинову – за лекцию о гасконской породе лошадей. К северу от Септимании, на западе Бенарны, в виду Готских гор есть селение под названием Арамис. Раньше над селением, на вершине горы, стоял замок, где местные жители укрывались во время набегов из Визиготланда. Однажды визиготам удалось захватить замок, и они, по –своему обычаю, постарались, не только разграбить его, но и по возможности разрушить. Сожженная деревня потом отстроилась, и даже стала больше, а вот замок так и не восстановили. Местный дворянский род, очевидно, вымер, а королевская власть, успокоенная мыслью, что Визиготланд почти сто лет как приведен к смирению маврами и граница более не нуждается в военных форпостах, не побеспокоилась о феоде. А деревня жила своими нуждами, не оглядываясь на развалины на горе. В тот день там была большая ярмарка, куда понаехало, или пришло пешком множество народу со всей округи. И никто поначалу не обратил внимания на женщину, одиноко ступившую на выжженную солнцем землю Арамиса. Она была босиком, в платье из грубой холстины, голова обмотана платком, за спиной – котомка. Долговязая и худая, она казалась меньше ростом из-за того, что сутулилась. Тяжелые веки и выцветшие ресницы полностью прикрывали глубоко сидящие глаза. Возраст ее определить было затруднительно. Женщина и женщина. Из невестиных годов выбыла давно, бабушкиных явно не достигла. Она обошла рыночную площадь и двинулась вдоль прилавков, иногда останавливаясь по каким-то ей одной ведомым причинам. К товарам она не притрагивалась и даже не смотрела на них. Это пренебрежение, либо сама манера смотреть на мир из-под приспущенных век , вывели из себя молодую торговку, стоявшую у связок жгучего красного перца, и она дернула женщину за рукав, готовясь что-то выкрикнуть. Но рот ее так и остался открытым, и бойкая молодуха едва не осеклась, когда на нее глянул пронзительный желтый глаз. Босая женщина продолжала свой путь, а соседка торговки, нагнувшись, что-то зашептала ей на ухо. Та охнула и прижала руки к груди, а затем опрометью выскочила из-за прилавка и бросилась туда, где среди гомонящих и бранящихся селян и торговцев мелькал платок из серого полотна. Мальчишка, потянувшийся было стянуть с прилавка яблоко, вдруг передумал и припустил за ними. Постепенно гомон, витавший над ярмаркой Арамиса, стал изменяться. Он не то, чтобы притих – здешние жители, кажется, просто не умели говорить тихо, но в голосах появился некий оттенок почтительного страха, и все чаще повторялось в общем хоре имя, странно звучавшее для местного уха: – Петра! Петра Клятвенница! Вскоре мужчины и женщины, дети и собаки гурьбой повалили за странной особой с котомкой за плечами. Она не могла, конечно, не слышать шума позади, но на лице, покрытом грубым загаром кирпичного оттенка, какой приобретает на солнце светлая от природы кожа, не отразилось ни страха, ни радости, ни любопытства. Она вышла к церкви, еще более старой и ветхой, чем большинство и без того бедных церквей в Бенарне, ибо здесь не было сеньера, способного позаботиться о нуждах сельского храма. Курат, столь же старенький и ветхий, показался из церкви и застыл в дверях. Но женщина не направилась в церковь, а, наконец, остановилась и повернулась к своим преследователям. На толпу нацелилась пара желтых глаз, которым место было скорее на звериной морде, ежели на человечьем лице. Почтительная тишина воцарилась над Арамисом, и, мстилось, не будет ей конца. Подобная тишина сродни ощущению, когда больной ждет, чтоб лекарь вырвал у него ноющий зуб, и в то же время боится даже вида щипцов. Женщина подняла худую руку и звучным сильным голосом произнесла: – Горе, горе! Ад, петля и яма! И, пока мужчины в альпаргатах и залатанных штанах, кожаных безрукавках и плоских беретах, а также их жены в домотканых платьях и платках, дыша чесноком и крепким местным вином, прослушивались к словам яростных пророчеств, я меланхолически размышляла, нельзя ли квалифицировать как описание миров подобий некоторые места из Книги Еноха: "И вознесли меня на север неба, и показали мне места, странные весьма,.. И нет там света, но огнь мрачный, возгорающийся непрестанно на месте том, и река огненная, заливающая все места, и студеный лед, и узилища, и ангелы лютые и немилосердные, носящие оружие и мучающие без милости. И вознесли меня на четвертое небо, и видел я – солнце имеет свет, неоднократно больший против луны. И четыре звезды великие зрел, висящие одесную колесницы солнца, и четыре ошую, ходящие с солнцем непрестанно..." Но позвольте, при чем здесь я? – скажет гипотетический читатель. Что делает существо книжное и образованное в богом забытом углу Нейстрии, посреди деревни, где ликушествует полубезумная бродячая проповедница? Ну, если гипотетический читатель еще не догадался, что Петра Клятвенница – это и есть я, лучше ему гипотетическим и оставаться. А вот что я здесь делаю – это хороший вопрос. В Бенарне я оказалась вполне целенаправленно. Правда, я не думала, что задержусь здесь так долго. Хотя в Бенарне мне, в общем, нравилось. Такое чувство, что оказалась в толпе родственников – люди здесь все больше скуластые и горбоносые, вылитая я, только мастью потемнее, да женщины в горах ростом пониже удались (по правде сказать, и многие мужчины – тоже). Здесь понимали толк в вине и жарком, а что до пресловутой любви к чесноку, без упоминания о коей ни одна побасенка о местных жителях не обходится, так в моей родной Массилии чеснока едят не меньше. Оно и вкусно и для здоровья полезно. Что касается проповедей, то произносить их оказалось еще легче, чем писать для других … но это я забегаю вперед. Или, точнее, убегаю назад. Ни о какой писанине здесь не могло быть и речи к шибко грамотным в Бенарне относились с исключительным подозрением. Речи... красноречие – это другое дело. Хорошо подвешенный язык здесь ценили, как нигде в Нейстрии. А при хорошем знании Писания, древних и новых поэтов и словарном запасе дедушки-грузчика все пошло как по накатанному. Сейчас я говорила, по моим прикидкам, часа полтора, И еще я задержалась на полчаса потому что жители Арамиса подводили детей под мое благословение, и пытались собрать для меня деньги. Которые были отвергнуты. Петра Клятвенница никогда не брала у людей денег, чем и славилась. Настаивать поселяне не стали. Бенарна, вообще-то, бедный край. И только после настоятельных просьб Петра Клятвенница взяла лепешку. Больше ничего. Хотя про это тоже было всем известно, люди восторженно вздохнули, повторяя ее имя. (Имя Петра тоже книжное, но никакого отношения к святому Петру не имеет. Это мне припомнились “Стихи о каменной донне” Альдигера Ломбардца. Сия книга не так известна, как его “Хождения по сферам”. А зря. А "Клятвенницу" налепили уже здесь. Хотя я никогда никого не кляну. Но добрые жители Бенарны , сроду ни о каком Альдигере не слыхавшие, склонны цитаты из Писания принимать за проклятия.) После чего Петра Клятвенница пришла, как ушла – одинокая, молчаливая, босая. До ближайшего ручья она такой и оставалась. А там я, усевшись на камень, вымыла ноги и обулась в альпаргаты. Перед этим, конечно, поела хлеба, запивая его водой – мне предстоял долгий путь, и нужно было отдохнуть и набраться сил. Бродячим праведницам, конечно, пристало ходить босиком, но с голыми пятками по каменистым пиренским тропам увольте. Да все вверх. Да пешком, разумеется. Я очень плохо езжу верхом. Где было практиковаться? Женские монастыри не предлагают уроков в манеже. И я не стыжусь признаться в этом недостатке. У некоторых книжных людей мозги просто заклинивает на верховой езде. У Иосифа Ренегата (талантливый писатель, которому следовало лучше выбирать себе друзей) про какого героя из Святого Писания не глянешь, везде – "прекрасный наездник", сразу видно, что для автора это был больной вопрос. А меня это не смущает. И уж если выпадает мне случай сесть на коня, то выбираю я себе не гордого жеребца, а кобылу или мерина посмирнее; а моя манера сидеть в седле развалясь, как в кресле, способна довести опытного кавалериста до истерики ( и доводила, бывало). Правда, можно бы ездить на осле или муле, как большинство местных жителей, но учитывая мой рост и длину ног, следует пожалеть и без того негладкие нейстрийские дороги и не волочить по ним лишние борозды. Однако настоятельная потребность проехаться верхом у меня бывает редко. Разве что, когда я спасаюсь от очередной смертной казни. А меня к ней приговаривали всего дважды. И предпочла бы избежать третьего раза, хотя, как говорил дед Жак, Бог троицу любит. Другой мой дед вряд ли бы с ним согласился. Но, пожалуй, следует сообщит гипотетическому читателю, кто я, и что собой представляю. До недавнего времени меня знали в Провенции как сестру Новеллу. Это не мое настоящее имя, хотя и подобно ему. В жизни нам часто, за недоступностью оригинала, приходится довольствоваться подобием. Мой дед Жак, прозванный Сильным, грузчик в Массилийском порту, сказал бы вам то же самое, но, правда, в значительно более сильных и доходчивых выражениях. Деды вообще играют важную, если не главную роль в моем повествовании, хотя и незримую, ибо один умер, когда я еще не вышла из детского возраста, другой же – задолго до моего появления на свет. Мой дед, князь Микаэль Ариха Бар-Натан, был назначен послом Удела Давидова в Сфараде. Он был также молод, учен, знатен, богат и красив – много ли счастья это ему принесло? В тот роковой рейс его корабль, именуемый "Офир", вышел из Яффы, что у нас называют на эллинский лад Иоппией, по пути останавливаясь в островных портах Болгарской империи, а затем – на подвластных Сфараду Балеарских островах. Торговая Яффа и Намаль, где в древности была резиденция кесарского наместника, Крит и Родос, Мальта, Мессина и Баркинон... когда живешь в большом портовом городе, таком, как Массилия, названия городов и портов Срединного моря с младенчества проникают в твою кровь вместе с дыханием, и ты сознаешь, сколь велик мир, но, привыкнув в широте морского горизонта, ты, вместо того, чтобы почтительно склонить голову перед этим величием, желаешь раздвинуть его еще шире. ... Жители недалекой от нас Санта– Марии Марис утверждают, что в оны времена их святая патронесса, она же покровительница всей Провенции – прибыла сюда прямиком из Святой Земли на обычной рыбацкой лодке. Грешно сомневаться в благочестивом предании, однако, поскольку оно не подкреплено трудами отцов церкви и тем паче авторитетом Писания, дозволительно. Если жители города Св. Марии Морской правы, то благополучие подобного путешествия можно объяснить разве что вмешательством Провидения. Что до меня, то я разделяю мнение тех, кто полагает, будто равноапостольная Мария из Магдалы прибыла на пассажирском корабле, и как раз в Массилию, каковая во времена Древней Империи уже была оживленным портом, имея со Святой Землей налаженное сообщение. Впрочем, это предмет особого разговора, а экскурс в священную историю совершен лишь потому, что у меня есть личное основание не верить в переход через Срединное море на лодке. Не всегда его благополучно пересекают и прекрасно оснащенные корабли. "Офир", покинув Балеарские острова, не достиг Сфарада. Ужасающий шторм унес его к берегам Нейстрии и вышвырнул около города Нарбона. Все, кому удалось спастись, тут же были схвачены. То, что корабль был посольский, не улучшило, а, пожалуй, даже ухудшило дело. Матросы и слуги, большая часть из которых была родом из Сфарада, без суда и следствия были отправлены на галеры и в каменоломни. Самого посла, то есть моего деда (который в ту пору еще не был моим дедом) препроводили в тюрьму. На его счастье – если в данном случае можно употреблять слово "счастье", он попал в рука светских властей. Почему так произошло и посольская неприкосновенность не сработала? Если вы задаете подобный вопрос, значит, вы не уроженцы прекрасной Нейстрии. И придется объяснить. Корабль шел из Удела Давидова в Сфарадский халифат. На протяжении многих столетий Сфарад был нашим главным союзником в войне с визиготами. Между соседствующими странами существовала оживленная торговля. И не только торговля. Вероятно, в жилах половины наших южан есть примесь мавританской крови, а бенарнская и массилийская поросль дала обильные всходы по ту сторону Готских гор. Я уже не говорю о том, сколь изобильную пользу это дало наукам и искусствам. Но, увы, все это осталось в прошлом. Когда визиготы были окончательно побеждены, у нас неожиданно вспомнили, что мавры, оказывается, исповедуют веру пророка Мухаммеда, и, вдобавок, завоевали некогда свой полуостров силой оружия и с превеликой жестокостью (любопытно, где и когда было иначе?). Ужасные мавры, враги веры, заменили в нейстрийских сказках буку и великана-людоеда, что было бы еще терпимо, если бы не двойные заслоны вдоль границы со Сфарадом. Двойные они – с нашей стороны: королевские и святых орденов. Нейстрия словно поспешила воздвигнуть между собой и западным соседом прочную стену, и те, кому удавалось сквозь эту стену пройти, исчислялись единицами. Со Уделом Давидовым дело обстояло еще хуже. Эту страну положено считать как бы и вовсе не существующей. При упоминании соответствующих имен и названий полагается отмахиваться, как при упоминании злого духа, делать постную мину и отворачиваться, что, вообще-то, в обязательном исполнении весьма затруднительно, ибо таковые имена и названия каждый день встречаешь в Святом Писании. А ежели Благому Сыску удается заполучить кого-либо вживе, хотя бы новообращенного (особенно новообращенного!) – надеюсь, не надо объяснять, что в живых ему оставаться не долго, в подробности не вдаваясь? Но мой дед попал в руки светских властей. Каковые сначала озаботились его ограбить, заточить, а после задумались – и что теперь? И послали гонца в столицу. Взгляните на карту и представьте, сколько скакать от Нарбона до столицы. Представьте, как служители Благого Сыска , роняя слюну от нетерпения, рвутся наложить лапу на ценного узника. Представьте себе, как чешет в затылке королевский прокурор, сообразив, во что вляпался, и прикидывает, что лучше – не дожидаясь, пока подоспевший приор Кающихся Братьев обвинит его в пособничестве оному узнику, подослать в камеру молодца со стилетом, или всыпать ему в похлебку яду, тщательно сберегаемого для любовника жены? Впрочем, представить вы можете, что угодно. Потому что Микаэль Бар-Натан не стал дожидаться, чем все это кончится и бежал из тюрьмы. Вы спросите, как ему это удалось – ведь суровость нейстрийских тюрем вошла в поговорку? Ну, во первых, тюрьма была королевской, там порядки не такие зверские, как в церковных, тем более в темницах Сыска (это о них легенды складывают). Но, конечно, не имея ни средств, чтобы подкупить стражу, ни друзей на воле, ему бы ничего не удалось. Однако произошло то, о чем так любят сочинять баллады и романсы по ту сторону Готских гор, и которые упорно проникают к нам оттуда, несмотря на все заставы, препоны и преграды. Дочь тюремщика помогла ему бежать и бежала вместе с ним. Только конец у этой истории совсем не такой, как в балладе. Мой дед не вернулся на родину, к общей радости, с молодой женой. Он не вернулся туда и на старости лет, пав замертво при виде отчего дома. Он вообще никогда не вернулся. Нет, он пытался, пытался неоднократно, но единственной возможностью для этого было прорваться в Сфарад, что он и хотел сделать. Будь он человеком случайным и никому неизвестным, он мог бы и преуспеть. Но тут Благой Сыск поднял на ноги стражу, и разразилось такое, что Готские горы превратились в арену облавы. Пробиваться к западной границе, да еще действительно с женой и ребенком, не замедлившим появиться на свет, было равносильно самоубийству. Ждать помощи извне не приходилось – на родине и в Сфараде явно уверились в его смерти. Короче, всю свою оставшуюся недолгую жизнь дед прожил в Толониуме, под скромной личиной переписчика книг. Он умер то ли от горлового кровотечения, то ли от тоски по родине. Кроме моей матери, детей у него не было. Печальная история? А все мои истории печальны, это я сама весела вопреки им. Или благодаря. Это как посмотреть. Мой массилийский дед Жак был человеком совсем иного толка. Он, как уже упомянуто, был портовым грузчиком, шуток не понимал принципиально, и принадлежал к тем, кто, как говорится, могут ударом кулака свалить быка и сломать хребет медведю. Правда, дед быков никогда не бил, почитая это дурацкой забавой и вообще жалея скотину, а медведей в наших краях истребили еще при короле Людовике Драчливом. О происхождении семьи вы можете судить по ее положению. Впрочем, порой дед Жак возводил свою родословную к одному легендарному северному рыцарю, защищавшему Провенцию во время ужасных опустошений, причиненных этому графству Походами за Веру, но, поскольку заявлял он об этом исключительно крепко подвыпив, я здесь про то распространяться не буду. Детей у Жака было множество, но все они умирали во младенчестве, кроме двух сыновей – Ноэля и Жана. Братья были очень дружны, однако несхожи по своим устремлениям, и ни один из них не пошел по стопам родителя. Ноэль с юных лет ушел в море, что вполне естественно для человека, рожденного на побережье. Так же естественно, что море зачастую становится могилой моряка. Ноэль утонул задолго до моего рождения. Но это произошло, конечно, далеко не сразу. И пока что Жак, успокоившись, что хоть один из его сыновей, станет, по его понятиям, дельным человеком, позволил Жану делать то, что хочет. А Жан хотел учиться. Может показаться странным, что я, повествуя о своих дедах, ни словом не упоминаю – или почти не упоминаю, как в случае Микаэля Бар-Натана, о бабках. Действительно, в наших семейных преданиях они всегда предстают тенью своих мужей и сами по себе словно бы значения не имеют. Возможно, я отчасти исправлю эту извечную несправедливость по отношению к женщинам рассказом о матери, но пока что вернемся к отцу. То есть к Жану. Итак, Жан хотел учиться, и Жак Ла Форс, считавший это дурью и блажью, все же дозволил ему это. Из приходской школы он перебрался в коллегию Нищих Братьев, которые готовы были оказать поддержку способному простолюдину, но на известных условиях. Церковное поприще Жана нисколько не прельщало, он попрощался со святыми отцами и двинулся пешим ходом на юридический факультет Монтепеллумского университета, где и завершил свое образование. Но дальше... дальше – увы. В среде служителей закона без денег и связей делать нечего (как почти везде), и даже потомственному судейскому, не обремененному состоянием, нечего рассчитывать на успешное продвижение, а откуда могли взяться деньги у пришельца из массилийских доков? Плечи Жана так никогда и не осенила адвокатская мантия. Ему пришлось довольствоваться скромной должностью ходатая по судебным делам. Жил он в Массилии, но по поручениям клиентов разъезжал по всему побережью. Кажется, это его устраивало, и по пыльным дорогам и унылым судейским конторам его вел тот же авантюрный дух, что брата Ноэля по морям и океанам. В такой поездке попал он в Толониум, познакомился с моей будущей матерью и увез с собой. Детство мое прошло в славном городе Массилии. Когда я вспоминаю его, чаще всего на память приходит слово "соленый". Соленые волны, днем и ночью набегавшие на берег. Соленый ветер над жаркими и пыльными улицами. И кровь во рту солона от разбитых губ и шатающихся молочных зубов, потому что мы, дети, дрались на этих улицах, как настоящие звереныши, и я, прости Господи, ни в чем не отставала от других, а кое в чем и превосходила. И соленая рыба, которая еще от дней Древней Империи была главной пищей массилийских бедняков – я с тех пор как-то больше полюбила мясо. Соленые шутки горожан, которые славились тем, что больше всех жителей побережья любили скалить зубы... Что еще я помню? Вечные толки о левантийских пиратах. Флотилию мальтийских рыцарей, что выходила в поход против этих самых пиратов. Мрачного как скала Жака – он тогда редко бывал у нас, недовольный тем, что единственный оставшийся у него сын одарил его всего лишь внучкой. И настоящую скалу там, в заливе, где помещалась королевская тюрьма, одна из самых пугающих в Нейстрии -– не хуже узилищ Сыска. Рассказы отца об ее узниках, и о прочих делах, людях и обстоятельствах, с которыми он сталкивался во время своих разъездов, – рассказов без скидки на возраст. В общем, мне нравилась эта жизнь. Хотя, конечно, жили мы в бедности. Но это была все еще бедность. Нищета настала после смерти отца. Он был убит на большой дороге близ Монтепеллума, куда ездил по поручению одной дамы. Наши дороги кишат грабителями, это верно, но они, как правило, отбирают кошельки, а не жизни путников. Был ли замешен в дело человек, с которым судилась та дама? Она пыталась это доказать, но безуспешно. А когда я выросла, и могла бы, при некоторых обстоятельствах, разобраться, он уже покинул грешный свет при посредстве водянки головного мозга. Что лучше – это или кинжал в спину? Итак, мы с матерью остались вдвоем, и она попыталась совладать с судьбой и развитием событий. Ее звали Мария. Подозреваю, что про себя Микаэль Бар-Натан называл ее Мара, что на его родном языке значит "горькая". Она унаследовала его красоту, ум, а также чахотку и печальную судьбу. Она, ни больше ни меньше, решила продолжить дело своего убитого мужа. Знаний, полученных от него, а также от отца, было у нее вполне достаточно. Однако, если Жан Ла Форс был простолюдином без денег и связей, она вдобавок была женщиной. А тут уж никакие знания не помогут. Это не та область жизни, к которой подпускают женщин. В других – есть послабления. Нам не дано права священства – но позволено быть монахинями, нам не дают докторских званий, но позволяют быть лекарками и акушерками. Но когда дело доходит до законов... А ведь она их знала, знала в совершенстве, каждому могла истолковать и дать совет. Этим она и занималась – объясняла законы и давала советы. Но в тайне, потому что за это могли арестовать, а, поскольку для женщин каторга не предусмотрена, передали бы дело Благому Сыску... короче, плохо бы все кончилось. Незаконное занятие законоведением – как вам это? Только я видела, что она жила в вечном страхе, моя гордая и неукротимая мать. Она боялась, что ее арестуют и казнят. Что она умрет и оставит меня одну, без всякой помощи. Боялась, что наследственная чахотка перешла ко мне (хотя я, не унаследовав их фамильной красоты, не получила также ее страшной спутницы). Ее здоровье уже никуда не годилось, зато я была довольно сильна для своего возраста (когда погиб отец, мне было десять) и начала наниматься на поденную работу. И все равно добывали мы вдвоем сущие гроши. Тут попытался вмешаться дед Жак, позабыв свои обиды. Видите ли, у него было твердое представление о том, что женщина не должна делать никакой работы, кроме домашней. В дому мужчина – король и бог, но если он не умеет прокормить женщин своей семьи – неважно, кто он им – отец, муж, брат, дед или дядя, – он столь ничтожен, что не заслуживает даже презрения. Он вернулся в доки, но ему уже было за семьдесят, и годы, власть которых он упорно не хотел над собой признавать, взяли свое. Он простонапросто надорвался. Иногда мне кажется, что все они надорвались – и Жак, и Микаэль Бар-Натан, их бессловесные жены, мои родители – и, без сомнения, то же ждало бы и меня, но после двух лет этой маеты все изменилось. В сказках в самое беспросветное время появляется добрая волшебница. В жизни появилась женщина, которая, возможно, принесла гибель моему отцу – во всяком случае, она так считала. Назовем ее здесь госпожой де Сен-Мартен. Если мое повествование получит огласку, я бы не хотела, чтоб ее наследник, коий жив до сих пор, как-нибудь пострадал. Дама Алазаис де Сен-Мартен была богатой бездетной вдовой. Согласно нашим законам, после смерти мужа ее имение и земля должны были перейти младшему брату покойного, каковой (младший брат, не покойный) проживал где-то в Бенарне. Однако ее шурин не был таким уж сукиным сыном и сволочью – прошу прощения, господа, за мою volgare. Он передал всю недвижимость госпоже де Сен-Мартен в пожизненное владение, при условии, что он будет получать определенный процент с приносимых землями доходов. И все было бы прекрасно, если бы не какой-то совершенно левый господинчик, заявивший, что данная сделка незаконна, не попытался оттяпать у госпожи де Сен-Мартен ее имущество. Да, вы угадали, это был тот самый сударь Водянка-Головного-Мозга, и тот злополучный судебный процесс, что погубил моего отца. И хотя даме Алазаис не удалось доказать, что ее противник пошел на убийство, дело получило широкую огласку, и в кои- то веки судом было принято справедливое решение. Однако, вернув имение, дама Алазаис не вернула себе покоя. Она не спала ночами, думая, что из-за ее судебной тяжбы погиб человек. Чтобы утешиться, она поехала навестить семью несчастного ходатая, и, увидев, как мы живем, пришла в совершеннейший ужас и настояла, чтобы мы переехали к ней. И мы уехали в имение дамы Алазаис. Если она действительно была косвенной причиной смерти отца, мне, вероятно, следовало бы проклясть ее, но благодаря ей я более не ведала голода и тяжкого физического труда. Зато я знала, что, хотя перемена к лучшему не вернула здоровья матери, последние свои полтора года она прожила в достатке, окруженная дружеской заботой, и не терзаемая больше мыслями о моем будущем. После того, как она тихо угасла, я осталась в имении дамы Алазаис. Она твердила, что не может быть и речи о моем отъезде, что я должна быть ее воспитанницей. Правда, оглядываясь назад, я не могу сказать с уверенностью, кто из нас кого опекал. Дама Алазаис была из тех женщин, кому в жизни потребно, что называется, твердое руководство, и, лишившись мужа, она впала в глубокую меланхолию. Во всем она видела наказание за несуществующие грехи, и мне приходилось проявлять бездну терпения, убеждая ее, что она не так плоха, как полагает. Иногда она успокаивалась, наряжалась, принимала гостей, а то вдруг затворялась в своей комнате или уезжала на богомолье. Моим воспитанием она занималась мало, следя лишь за моими манерами и речью, дабы я вела себя, как надлежит барышне, ибо на приемах и в поездках я сопровождала ее. Большую же часть времени я была предоставлена себе. Имение госпожи де Сен-Мартен, построенное в начале нынешнего века, удобное и просторное, располагалось между Роданом и Фосским заливом. Порой я уходила в близлежащую деревню, где у меня были друзья-подруги. Вместе мы носились по пойменным лугам, лазали по приморским скалам, ловили рыбу, и – что поделаешь, дрались, хотя и не так свирепо, как в городе. Некоторые женщины, коих я встречала в своих странствий ,временами упоминали благородном искусстве боя на шпагах, которым владеют стараниями их родителей. Я – не владею. Единственным в нашей компании дворянином был сын соседа дамы Азалаис, но ему и в голову не приходило учить нас держать шпагу, да и его самого родные прочили к духовной стезе, так что – увы. От мужа дама Алазаис унаследовала обширную библиотеку, куда совсем не заглядывала. Зато я проводила там все больше времени. Не знаю, как я не тронулась умом от столь обильного и беспорядочного чтения – возможно, потому что обладала весьма разработанной памятью. Я с детства привыкла не полагаться во всем на перо и бумагу. Привычку запоминать прочитанное и записанное я отчасти усвоила от матери, а она, в свою очередь, от своего отца, который, по понятным основаниям, не мог вести личных записей. Другая причина не столь уважительна. У меня безобразный почерк, и когда я делаю записи не для посторонних глаз, а для себя, то порой, бывает, после сама не могу их разобрать. Дама Алазаис не сделала ничего, чтобы исправить этот недостаток. Напротив. Она разделяла известный предрассудок, что красивый почерк – удел писарей, а людям благородным свойственно писать небрежно. И ей нравилось видеть, что из под моей руки выходят такие страшненькие каракули, как у самой что ни на есть высокородной особы. С годами дама Алазаис становилась все более богомольной. И все больше времени она проводила в обители св.Маргариты, что в Толосе. Сказать по правде, я с удовольствием сопровождала ее туда, ибо, одолев все книги в имении, возжаждала новой пищи для ума, а собрание книг и рукописей монастыря святой Маргариты-драконоборицы славилось на все королевство. И, пока дама Алазаис молилась в церкви и беседовала с исповедником, я проводила упоительные часы под сводами монастырской библиотеки. А за недели, а потом и месяцы, что дама Алазаис жила в обители, я достаточно хорошо изучила уклад тамошней жизни и завязала немало знакомств. Мне шел восемнадцатый год, когда госпожа де Сен-Мартен умерла, и передо мной встал извечный вопрос всех времен и народов: куда себя пристраивать? Разумеется, я могла бы выйти замуж. Дама Алазаис не забыла меня в завещании, и я не была бесприданницей. Мой фамилия, образованная из портового прозвища деда Жака, на посторонний слух звучала как дворянская, хотя и провинциальная. Я не блистала красотой – мои деревенские приятельницы твердили, что у меня волчья морда, кошачьи глаза и щучий рот – ничего себе, зверинец! – но я сознавала, что есть и похуже меня. Если бы я обратилась к господину де Сен-Мартен, он, будучи по всем отзывам человеком великодушным, вероятно, помог бы приискать мне мужа. В общем, здесь проблемы не было. Проблема была в том, что мне этого не хотелось. Была и другая возможность. Сестры-наставницы в монастыре не раз прозрачно намекали, что рады будут принять меня в свое общество. Для вступления требовался весьма внушительный взнос, но тех денег, что оставила мне дама Алазаис, хватило бы. И я достаточно времени провела в обители, чтобы понять, как по нраву мне тамошняя жизнь. Кроме того, принадлежность к духовному званию избавляет женщину, приверженную книжной учености, от многих подозрений и неприятных вопросов. И я постриглась в монахини. Быстро вспомните все ужасы, которые вы слышали и читали о женских монастырях. И все скабрезные истории о них же. А теперь еще быстрее забудьте. К монастырю святой Маргариты это не имеет никакого отношения. Обитель Маргриты-драконоборицы (прозывается она так исключительно по недоразумению, ибо святая победила не дракона – их у нас сроду не водилось, а страшного зверя Тараску, опустошавшего Провенцию), будучи, по здешним понятиям, не такой уж древней – ей нет еще трех веков, тем не менее является самой богатой и процветающей на юге Нейстрии. Помимо упомянутой мной славной библиотеки она располагает школой со всем пансионом, лечебницей, странноприимными домами и обширными земельными владениями с садами, виноградниками, рыбными прудами и пахотными угодьями. По понятным причинам сестринская община издавна состоит из дочерей знатнейших южных семей либо самых состоятельных горожан. Я – то исключение, что лишь подтверждает правило. Слава нашей обители как светоча просвещения давно распространилась за пределы Провенции, и на всем побережье дама не может считаться образованной если в юности хотя бы год не провела в нашей монастырской школе. (Знаю, что это неверно, но таков общий взгляд.) В этой школе я первоначально и преподавала. Затем на мое попечение была отдана библиотека, а в последние годы я стала исполнять обязанности помощницы настоятельницы матери Жеральды. Надо сказать, что это были хорошие годы. Впрочем, записи, я везде приживалась легко и всегда чувствовала себя неплохо (за исключением, может быть, времени отроческой нищеты и недель, проведенных в паризийской тюрьме), но в монастыре мне было лучше, чем где-либо. Устав, не дозволяя чрезмерных вольностей, не был однако и чересчур строг, и никто из нас не был совершенно оторван от мира – но зато по мере возможности отгорожен от его пакостей. Более того, в те самые последние годы хозяйственные и административные обязанности довольно часто приводили меня в город, а некоторые другие причины, о которых будет сказано ниже, ввели меня в богословские и литературные круги Толосы, Массилии и Анте-Провенция. Так что после мне не приходилось переживать особых трудностей, чтобы скрыть особую монастырскую манеру ходить, говорить, держать голову. Я и раньше умела это делать. По моему разумению, достаточно было грубого коричневого платья и вечной свинцовой чернильницы у пояса, чтобы придать экзотичности ученому собранию в какой-либо гостиной. Да, эта жизнь доставляла мне искреннее удовольствие, и я умела ценить каждый миг этого удовольствия. Если же вы спросите, как это возможно при моем звании, то, с моей точки зрения, данный вопрос столь же нелеп, как вопрос – почему я могу называть себя доброй назаретянкой и в то же время глубоко чтить веру Микаэля Бар-Натана. Я лично противоречий здесь не вижу. Есть много способов радоваться жизни, не погрешая ни против монастырского устава, ни против собственной совести. Удовольствие от книг и удовольствие от размышлений я поставлю не последним, если не первым в списке. Благодаря сиим двум я и набрела на то, что впоследствии стало для меня пусть не главным интересом в жизни, но тем, что именуют "коньком", и даже целым табуном, и отчего даже ближайшие подруги считали меня в названном вопросе малость тронутой. Разбирая некоторые книги в закрытом для посторонних собрании нашей библиотеки, я наткнулась на изложение теории, которая захватила меня с головой. Предположительно, помимо нашего мира, существуют и иные... нет, я говорю не об "ином свете", если вы это подумали. Речь идет о вполне реальных мирах, изначально подобных друг другу, но достигших той или иной степени различия. ( По этой причине я и дала им название “миры подобий”.) Эта теория в странах назарейского закона считается еретической, хотя я не понимаю – почему. Господь вездесущ и всемогущ, и создать множестве миров для него столь же возможно, как один-единственный. Насколько мне известно, открыто придерживаются этого мнения мудрецы Эрец ха-Кдоша*, а также некоторые их единомышленники в Вавилонском Халифате и Сфараде. В каббалистическом труде под названием "Субботнее добавление", повествующем о возможностях человеческого духа, доказывается вероятность путешествия в духе между мирами, ибо дух веет, где хочет, а также наблюдений за происходящим там. О возможности физического проникновения в миры подобий автор "Тосефет Шаббат" ничего не говорит, но, собирая сведения по клочкам из самых разных источников, я пришла к выводу, что и такое допустимо. ---------------------------------------*Святой Земли (ивр.) ---------------------------------------Очень старая рукопись, не имеющая названия, и неизвестно как попавшая в нашу обитель, трактуя те же материи, говорит что есть люди, способные проникать в другие миры. Но одни делают это во сне, переходя из собственного сна в сны других людей, возможно, обитающих за пределами известного нам мира. Людей , наделенных таким даром, не так уж мало, но обычно они скрывают свои способности, дабы их не сочли за безумных. Другие способны странствовать из мира в мир во плоти, но таковых крайне мало, и о них почти ничего не известно. Безымянный автор рукописи ссылается на учение некоей женщины, которую он называет Карен. Ни в одной другой книги или рукописи это имя мне не встречалось, одна автор уверяет, что существует текст, написанный самой Карен. Добавлю также, что эта рукопись, по некоторым признакам, переведена с арабского, но никакого отношения к известным мне течениям ислама не имеет. А многочисленные “Видения” и “Хождения” поэтов и мистиков, описывающие неведомые края? Можно указать и другие косвенные сведения... Ну вот, сестра Новелла опять завела свою волынку, скажут мне, и я умолкаю. Добавлю только, что поиски свидетельств о мирах подобий и возможных путешествиях туда стали бы для меня форменной манией, если бы не мой ленивый и благодушный характер. Мне очень хотелось потолковать по данному вопросу с подлинным знатоком – не сомневаюсь, что таковые есть, но – опять-таки – увы. В нашей библиотеке не было трудов более поздних чем "Книга Царства" или уже упомянутого сочинения Рафаила Бен-Адара, опять же не сомневаюсь, что новые работы в природе существуют, но мне не удалось их найти. Чтобы отвлечься от этой излюбленной темы, расскажу вот о чем. В те монастырские годы за мной стали замечать – да я и сама замечала – одно свойство. Может быть, оно и раньше проявлялось, но никто не обращал внимания. То, о чем я говорила, сбывалось, причем не все, а только в отрицательном смысле. К примеру, если я скажу: "Хорошо бы завтра была солнечная погода", это вовсе не значит, что она будет, но если я скажу всаднику: "Если ты будешь так гнать, то на повороте вылетишь из седла", то он вылетит всенепременно. По какому принципу этот выбор осуществляется, мне неизвестно. Люди, с которым я рискнула говорить о сем даре, называли его "чувством опасности", и определяли как избирательное предвидение. Но я в этом вовсе не уверена. И дать точный ответ на вопрос, говорю ли я так, потому что это произойдет, или это происходит, потому что я так говорю, не могу. Во всяком случае, это приучило меня быть крайне осторожной в выражении своих мыслей. И никогда не говорить человеку: "Что б ты сдох", во избежание траурных последствий. В те времена в этом моем даре никто не видел ничего предосудительного. Может быть, потому что от ученой монахини всегда ожидают чего-нибудь в подобном роде. Однако теперь, будьте покойны, хоть я и не читала своего приговора, наверняка "дьявольский дар предвидения и умение наводить порчу" там не преминули вставить в строку. Но пока до приговора было куда как далеко... Итак, годы шли, и когда мать Жеральда назначила меня своей помощницей, казалось, что будущее мое вполне определилось. По нашей традиции это означало полуофициальное объявление преемницы. Правда, нарушением традиций выглядел сам выбор. Предположительно, назначение настоятельницей дочери стряпчего и внучки портового грузчика (о другом деде я здесь лучше умолчу) должно было бы взорвать монастырь, насельницы которого были дочерьми родовитых дворян и богатых буржуа. Но ничего подобного не произошло. По многим причинам моя кандидатура устраивала если не всех, то почти всех. Изложу некоторые из этих причин. Согласитесь, что возвышение дочери одного из таких знатных семейств усиливает позиции рода в целом. А это невыгодно всем остальным семьям. Я, совершенно одинокая, не могла послужить орудием родни, равно как не могла использовать свое положение в пользу родственников за отсутствием таковых. Что гораздо более важно, усиление одного из знатных провенцийских родов при нынешней политической ситуации было крайне нежелательно в столице – как светским, так и церковным правящим кругам. В случае избрания представительницы такой семьи, новую настоятельницу могли сместить волей архиепископа, а на ее место прислать кого-либо с севера. А у нас не любят северной знати... Я понимаю, что это нехорошо, но, зная историю нашей провинции, должно признать, что на то есть веские основания. Перечитайте “Песнь о Походе за Веру” и убедитесь. Я же, хоть и простолюдинка, была доподлинной южанкой, что сестринской общине было предпочтительнее. Затем. Сложившийся в обители образ жизни всем был по нраву, и никто не хотел перемен. А что, если в настоятельницы попадет реформаторша, или, не дай Бог, будущая святая? Вам может показаться странным, но в монастыре отнюдь не жаждут оказаться в соседстве здравствующих святых, и тем паче – у них под началом. Мой же характер всем был хорошо известен, как и мои привычки, и ясно было, что ни трансов, ни экстазов от меня ни в жизнь не дождешься, равно как аскезы или суровых обличений. А на основы монастырского быта я не стану покушаться хотя бы из лени. Поэтому меня поддержали как буржуазки, так и нобилитат. А теперь вы с полным основанием можете спросить: как я, книжница, лентяйка, сибаритка и ближайшая кандидатка в настоятельницы аристократического монастыря, оказалась на больших дорогах, да еще в худшей ситуации, которую способен представить себе житель прекрасной Нейстрии -– со Благим Сыском на пятках? А вот именно благодаря, и отнюдь не вопреки... Занятия литературой в нашем монастыре никогда не пресекались. Напротив, они поощрялись – такова была традиция. Заметьте , Юлий Цезарь в самом начале своих записок упоминает о “культурной и просвещенной жизни Провенции» – и это свыше полутора тысяч лет назад! Монахини прилагали все усилия, чтоб жители Провенции знали правду о своей истории и умели ценить красоты родного языка. Впрочем, вы можете отнести это высказывание за счет местного патриотизма. Однако первые годы в монастыре я не относилась к сочинительству серьезно. Я с давних пор, еще у дамы Алазаис, научилась складывать вирши, а кто же воспринимает серьезно то, что дается без труда? Постригшись, я продолжала баловаться стихами, их подхватывали, перекладывали на музыку, разносили по городам – короче, не скажу, чтобы многие, но некоторые песни, что вы слышали, сложены мною. К прозаическим трудам я то же не относилась всерьез, и поначалу занималась сущими безделками. Кстати, среди гурманов Нейстрии ходят упорные слухи о существовании секретного богословскокулинарного трактата “О введении мясных начинок в постные блюда” – так вот, никогда я такой книги не писала! Просто я пошутила на сей счет, и большинство окружающих это как шутку и приняло. Но не все. И так длилось до поры, пока меня не посетила мысль – а почему бы мне не извлечь из этого выгоду? Я уже стала помощницей матери Жеральды, и порой обстоятельства складывались так, что мне бывали необходимы наличные. Разумеется, все мы давали обет бедности, но ни для кого не секрет, что многие инокини получают вспомоществование от родных. Ко мне это не относилось, и я бы сдохла, прежде чем запустила бы руку в монастырскую казну (что, замечу, могла бы сделать без труда и особого риска). А где взять денег, если не любишь красть и брезгуешь просить? Правильно, их надо заработать. Думаю, что никого не поражу в самое сердце, если скажу, что немалое число священнослужителей по лености, слабости здоровья, приверженности Бахусу или неспособности к сочинительству не сами пишут тексты проповедей, а заказывают их тем, кто умеет это делать. Разумеется, не задаром. Так почему бы этим не заняться мне, клянусь священным синим знаменем Нейстрии? У меня были знакомства в среде клириков, издателей и книгопродавцов, услугами которых я пользовалась, когда закупала книги для библиотеки. Через них я навела справки. Я действовала со всей возможной осторожностью, дабы не спугнуть клиентуру, ибо не слыхала, чтобы прежде в подобный промысел пускались женщины. Вскоре я получила первые заказы. И дело пошло. Возможно, кому-то из вас памятна развернувшаяся несколько лет назад открытая полемика между аббатом Грегуаром Авеникским, что от прихода Двенадцати апостолов, и приезжим доктором Сессионского университета мэтром Этьеном Корбо о том, кто является величайшим приоритетом среди святителей Нейстрии. Она еще потом была собрана в книгу, которая выдержала, если мне память не изменяет, четыре издания – два у нас, одно в Аллемании – в Виттенберге, и во Фризии – в Андеворпуме. Аббат Грегуар отстаивал достоинство святого Медарда Новиодунского (Новиодуном именовался Сессион до того, как туда была перенесена столица), доктор Этьен – присноблаженного короля Клодомира и супруги его Клодехильды. Первый выступал с кафедры церкви Двенадцати Апостолов, второй – собора Святой Марии из Магдалы, что которая, как уже говорилось, является покровительницей Провенции, собирая толпы слушателей (не меньше, чем на петушиных боях). Я следила за полемикой проповедников с особым интересом, поскольку писала тексты для обоих. Каждый из них превосходно знал об этом обстоятельстве, но это их прекрасно устраивало и предавало уверенности, ибо позволяло не ждать от противника неожиданных неприятностей, равно как и неприятных неожиданностей, а полемика приобретала цельность и гармоничность. Меня, в свою очередь, нисколько не угнетало, что слава достанется не мне. В конце концов, в театре зрители тоже аплодируют актерам, а не автору пьесы. Оба проповедника, и местный, и столичный, довольные успехом, расплатились со мной, не скупердяйничая, и я с чистой совестью – уже два года спустя после начала практики – повысила расценки. И все шло прекрасно, пока не появился дом Амедей, каноник от святого Фолькета Массилийского. Сей клирик, до недавнего времени обретавшийся в совершеннейших нетях, получил свой приход благодаря некоторым связям – не будем говорить, каким, но не родственным. Выгодного местечка в столице провинции ему показалось мало, его манили гостиные аристократических домов Толосы и Анте-Провенция. Будучи человеком неродовитым и в городе сравнительно новым, он не был туда вхож. И, дабы привлечь к себе внимание, дом Амедей решил стать модным проповедником. Желание понятное и похвальное, тем более, что данные для этого у каноника имелись. Он был, что называется, мужчиной видным, на возрасте, но далеко не стар, хотя и рано поседел. У него были холеные руки, приятный голос и умильный взор. Препятствовал его карьере один, зато существенный недостаток. Без подсказки дом Амедей не мог произнести двух связных фраз, а уж написать – тем более. Что ж, это дело поправимое, и умные люди объяснили канонику, что, к чему и как. Дом Амедей встретился со мной, сделал заказ на пять проповедей, пообещав расплатиться по мере их произнесения. Рука у меня была набита, и вскоре дом Амедей заливался и щелкал с кафедры, как целая стая соловьев. Когда он не расплатился со мной за первую проповедь, я не очень обеспокоилась. Ну, могло не быть сейчас у человека денег, мало ли какие бывают причины... Но, когда денег не последовало ни после второй, ни после третьей, и так до конца – все стало ясно. Сделки со своими покупщиками, – богословами и проповедниками – я всегда заключала на словах. Так было безопаснее для нас всех, и до сих пор меня никто не обманывал. Слово клирика должно быть крепче купеческого – так у нас было принято. Но дом Амедей на традиции наплевал. Цели своей он добился, привлек к себе внимание влиятельных дам и господ – но чтоб еще и платить за это? Расписки нет – и нет, и он рассчитывал, что шума я поднимать не стану. В дальнейшем же он справится сам, а нет – найдет какого-нибудь беднягу, которого можно одурачить. Конечно, этого он мне не высказывал. Он просто стал уклоняться от встреч со мной, а поскольку в город я выходила не так уж часто, это было вовсе не трудно. Но я все поняла. В красавчике в надушенной рясе проглянул чернозубый детина из массилийских доков, нагло вопрошающий: "А что ты мне можешь сделать?" Еще как могу. Чтобы кто-то меня кинул и ушел необиженным? Не было такого и не будет. Проще всего было бы нанять пару молодцев с дубинками, чтобы намяли дому Амедею бока, но – фи, это пошло, и я всегда избегала подобных методов. Чернильница – вот оружие литератора – в переносном смысле, конечно (хотя случалось и в прямом, да… вот, помню, в Паризии… но здесь речь не об этом). К ней и следует прибегнуть. Я вспомнила свое давнее умение складывать вирши и накатала стихотворную сатиру, постаравшись расписать достоинства каноника Фолькета Массилийского в цветах и красках – и как можно ярче. Потом показала ее знакомым книжникам... а дальше переписчики зачиркали перышками, и сатира пошла гулять по городу. За пределы Толосы, насколько мне известно, она не распространилась, ибо там предмет насмешек был непонятен, но уж в нашем богоспасаемом граде она доставила много удовольствия. Для какого другого клирика удар был бы куда менее болезненным, но дом Амедей в своем прорыве к проповеднической карьере успел за короткое время намозолить глаза множеству горожан всех сословий. Короче, запахло скандалом, а в монастыре это было совсем ни к чему. До сих пор мои литературные приработки никому не мешали, но тут... Меня любили, но, конечно, не настолько, чтобы ради меня чем-нибудь рисковать, и нежелательно было, чтоб обитель привлекала к себе чрезмерное внимание. Правда, им нежелательно было совсем меня терять, а серьезных неприятностей пока никто не чаял. Поэтому мне предложено было просто переждать в стороне, пока шум вокруг сатиры не уляжется сам собой. Обычаи монастыря позволяли сестрам на время покидать его стены, чтобы пожить у родных или друзей. Родных у меня не было, на друзей я не хотела навлекать неприятности, зато были средства, чтоб снять жилье, что я и сделала, отговорившись необходимостью этого для моих ученых занятий. Я переехала в город, и все шло хорошо, пока сатира “О достойном слуге волькетовом" не обратила на себя внимание Благого Сыска. То есть поначалу их внимание обратилось к самому достойному слуге – дому Амедею, и его под белы рученьки препроводили куда следует, и занялись им обстоятельно. Нет, я не думаю, чтоб его пытали. Пытки применяются далеко не всегда. Они превосходно умеют обойтись без этого, и с тем же успехом. Но в процессе следствия когото осенила светлая мысль, что, конечно, дом Амедей своим дурацким поведением, суетностью и жадностью порочит священнический сан и оскорбляет своего святого, но тем не менее, он, скорее, жертва, совлеченная с пути праведности – кем? Правильно, порочной женщиной, каковая есть гнездилище, первопричина и воплощение всяческого греха, ибо самое ее название недвусмысленно указует на то, что происходит от слова "вера" со знаком "минус". Наверняка припомнили и “Summa contra lamies” * отцов Игена и Халле, и памятную буллу Святого Престола, и достопримечательное сочинение “О преобладании ведьм над колдунами”, и трактат “ Quam graviter peccant quaerentes auxilium a maleficis” ** Якова Фризкого и прочие сильнодействующие рвотные средства. -------------------------------------------------------------------------------*“Сумма против ведьм”. ** “Как тяжело грешат ищущие спасения в чародействе”. -------------------------------------------------------------------------------- Дом Амедей, чтобы сразу завершить его историю, отделался покаянием, и даже не публичным, после чего был отпущен на свободу. Правда, проповедником ему теперь уже не бывать никогда, потому что, если раньше он не мог без подсказки сказать двух фраз, то ныне и произнесение одного-единственного слова требует от него неимоверных усилий – от страха, пережитого во время допросов, он стал заикаться. Меня же в будущем не ожидало ничего хорошего. Тут надобно заметить, что мне еще повезло – до церковных властей мною могли вполне заняться светские. Королевский наместник в Провенции, это нечто, с трудом поддающееся описанию, даже для опытного литератора. Тут кто-то может заметить, что, коли я действительно способна словом навлечь на человека несчастье, то могла бы сказать о нем что-нибудь эдакое. Отвечу – худшее, что могло с ним произойти на этом свете, уже произошло – он родился. В то время он дурил особенно сильно, и ради собственного развлечения я написала по этому случаю несколько эпиграмм, которые, щадя вашу стыдливость, не буду здесь цитировать. И, без всяких усилий с моей стороны, они получи широкое хождение. Эпиграммы были анонимные, вдобавок в качестве уличных песенок они уже не слишком напоминали мои творения, а в стилевых особенностях наместник не слишком разбирался. Но следствие было наряжено, и кто его знает, чем бы оно закончилось. Ну, и я сбежала. Те, кто молоды, а особливо принадлежащие к дворянским семьям, скажут: позор! Трусость! Нужно было бороться! Нужно было доказывать свою невиновность! Милые, наивные дети! С 1 кем 0бороться? 1 Кому 0 доказывать? Ваши украшенные благородными сединами родители внушили вам, что доблесть – высшая добродетель, а правда и справедливость всегда побеждают. Конечно, они побеждают, но, как правило, не в этой жизни, а я в свои лета уже научилась отличать доблесть от глупости. И разве можете вы своим мирским, ограниченным, рассудочным умом догадаться, до чего способным додуматься церковники? Я-то могу, поскольку я сама из них, хуже того – я 1 знаю 0. И дворянских предрассудков у меня нет и никогда не было, так что я давно была готова к побегу. Ибо сказано: "В виду явной опасности нельзя полагаться на чудо". А поелику у нас даже такое пошлое преступление, как супружеская неверность (мужу, разумеется), рассматривается как ересь, ибо оскорбляет таинство брака, о том, что за мои литературные экзерсисы ждало меня, ближе к ночи лучше не распространяться. Однако тут Благой Сыск дал промашку, что случалось с ним крайне редко. И пресловутое "чувство опасности" здесь не причем. Меня просто предупредили. И среди церковников встречаются порядочные люди. Вот я, например... Ну да ладно. Я двинулась подальше от Провенции, нечувствительно обрастая по дороге разными попутчицами. Чутье, что ли у меня на женщин, наделенных Даром? Или у них – на меня? Всего их было семеро, не исключая меня --шесть женщин и одна девочка. Это больше, чем наделенных Даром мужчин, которых мне приходилось встречать за всю жизнь. Увы, святые отцы, борцы с колдовством, похоже правы – талант это по преимуществу женский. Итак, одно время мы путешествовали компанией, ибо нам казалось, что так будет безопасней. Жизнь показала, что мы ошибались, и если мы хотим сохранить свои жизни, и желательно и все остальное – в целости, лучше броситься врассыпную. За всеми ведьмами погонятся -– ни одной не поймают. И я снова подалась прочь – почти до самой границы с Аллеманией. Там мне даже удалось на какое-то время получить передышку. Хозяевам одного замка понадобилась наставница для дочери, а женщин, обученных грамоте, в тех краях ощущался существенный недостаток. Так что зимы я пересидела со всеми возможными в тех краях удобствами. Если не брать в расчет того, что я ненавижу холод, а снег и лед нахожу уместными только на вершинах гор и в погребах. Гостеприимцам моим чувства сии были непонятны, и получали от здешней жизни сколь возможно радостей. Хозяин по пороше выезжал на волчью травлю, хозяйка играла на спинете, в камине трещал огонь, я преподносила малолетней наследнице основы знаний, или разбирала здешнюю библиотеку. Там даже была библиотека, да! Не Бог весть что, дюжины три книг, рядом с той, что мне пришлось оставить – капля в сравнении с океаном. Но, снова оказавшись в окружении книг, и с толикой свободного времени, я вновь вернулась к размышлениям, в предшествующие месяцы погребенным под заботами о спасении жизни. О мирах подобий. На сей раз я думала о том, чем миры, изначально подобные друг другу, могли бы отличаться.. Что было бы, если б Древняя Империя не рухнула к концу второго века от Воплощения, а продержалась бы еще лет двести или даже триста, все больше загнивая, вырождаясь и наливаясь трупным ядом – тогда, возможно, ее падение оказало бы гораздо более катастрофическое влияние на жизнь Европы и всего мира? И, если бы она существовала, в противовес ей на востоке континента могла бы возникнуть какая-нибудь другая империя, наподобие нынешней Болгарской – какое бы влияние на облик мира оказала она? Если бы визиготы – как ни трудно себе представить такую возможность – сумели вытеснить мавров из Сфарада, и основать там собственное королевство? Если бы народы Севера – всякие там англы, саксы, юты и прочие – двинулись переселяться не в сторону Зеленой земли и дальше, а на запад, и мы имели бы Англанд не по ту сторону Атлантики, а где-нибудь у себя под боком, скажем, на Британских островах? Или – совсем уж странный вопрос – если бы наш родной язык меньше зависел от классической латыни, а подвергся бы влиянию всяческих варварских языков, вроде франкского – ведь в центральной Нейстрии франки когда-то сумели утвердиться? Но все это было только мои домыслы, ни на одном книжном тексте не освоенные. Впрочем, возможно кто-то уже до этого додумался и нашел тому доказательства. Вот только где об этом узнать? И даже если об этом не писал никто, тому тоже требовалось подтверждение. Ни к чему хорошему не приводит относительно безопасная жизнь в сочетанием с изобилием времени для размышлений. Меня, во всяком случае, пока не привела. Долгими зимними вечерами я много думала о том, куда направить стопы свои. Например, в столицу. Сессион – последнее место, где меня будут искать, потому что подобная наглость выше всего, что положено беглой еретичке, ведьме, и кем там еще я значусь в церковных обвинениях. Но что мне там делать? Все, что я слышала о столице Нейстрии, вызывало у меня желание удрать подальше, даже если бы на мне и не висело двух смертных приговоров. Или даже одного. С тем же успехом можно направиться в Герговию, где расположена главная тюрьма Сыска. А в Сессионском университете и многочисленных церковных коллегиях я не найду никаких исследований по интересующему меня вопросу. Впрочем то же можно было сказать о большинстве известных мне университетских городов – от Виттерберги до Краковии. Оставаться на севере я не желала по причинам, указанным в предыдущем пассаже, и потому же пренебрегла направлением "Арморика и далее". Продолжала я , естественно, размышлять и о мирах подобий. И пришла к выводу, что продолжать без новых сведений свои исследования я не могу, хуже того, без них я просто свихнусь, ибо невозможно пережевывать одну и ту же жвачку до бесконечности. А в нашем мире существует только одна страна, где этот предмет фундаментально изучается. Но она лежит по ту сторону Срединного моря. Конечно, Срединное море – не Великий Океан, и переплыть его на корабле – не диво. Беда одна – Нейстрия не имеет законных морских сообщений со Уделом Давидовым. И из портов нейстрийских туда можно попасть только на кораблях Мальтийского ордена, который, имея статус суверенного государства, некоторые отношения со странами иного закона в том, что касается борьбы с пиратством, все-таки поддерживает. И приказы получает не из Сессиона, а из Лапиды, столицы Мальты, от Великого Магистра. Однако еще в детстве я вдосталь налюбовалась на их галеры, и знала – военные корабли Мальтийского ордена не берут пассажиров, женщин тем паче. А если б даже и брали, в моем положении это не слишком утешало. Ибо независимость ордена весьма относительна, и в последние десятилетия на мальтийских галерах под видом духовников открыто находятся наблюдатели, чтоб не промолвить дурного слова, из других орденов, непосредственно связанных с Благим Сыском. Благодарю покорно. Разумеется, есть государства, постоянно направляющие морем в Удел Давидов как купцов, так и паломников. Болгарская империя, например. Но путь туда столь далек, труден и опасен, что поневоле призадумаешься, стоит ли овчинка выделки. Но зачем пробираться через три границы, когда у нас, можно сказать, под боком государство, связи которого с Уделом Давидовым – самые что ни на есть близкие? Сфарад. Теперь, на исходе шестнадцатого столетия от рождества Назарянина, – наиболее просвещенное и свободное из государств Запада. План мой был таков – сначала в Толедот, где я собиралась поискать родню и, сославшись на деда, запастись рекомендательными письмами в академии Ерушалаима, Явне и Цфата. Ибо я сомневалась, что даже при тамошнем свободомыслии, женщину, да еще иностранку, допустят в вольнослушатели. Потом в Баркинон – а там найти корабль до Яффы или Намаля не доставит труда. Все просто и скромно. Если бы не одно небольшое препятствие. Под названием Пиренские горы. Микаэль Бар – Натан за всю жизнь, ежели кто помнит, так и не сумел их пересечь. Что же я – лучше его? Отнюдь. Именно потому, что я была гораздо хуже своего деда, я надеялась преуспеть там, где он потерпел неудачу. Не бывает совсем закрытых границ. особенно в горах. Всегда найдутся тропы, которые не сумели перекрыть. Но я-то, скажете, из Провенции, в горах не бывала сроду, в тайных тропах ничего не смыслю. Верно, не стану спорить. Стало быть, надо обратиться к тем, кто смыслит. Правильно, к контрабандистам. Потому что контрабанда была, есть и будет в любом государстве, при любом вероисповедании и любой форме правления. Что, конечно. моему благородному деду в голову прийти не могло. Из всех горных областей я выбрала Бенарну – по разным причинам, но не не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что здесь так и не сумели укорениться отделения Благого Сыска. Конечно же, я не влезла на самую высокую гору и не стала взывать: “ А где здесь, братцы, найти контрабандистов?” Я двинулась в сторону Бенарны, имя определенные зацепки. Среди моих знакомок, с которыми я хлебала баланду в паризийской каталажке, а потом бегала от тамошней городской стражи, была одна армориканка, происходившая из семьи, многими поколениями связанная с известным тамошним Братством. Так скромно именуют себя те, кто гоняет беспошлинные товары через Британский залив и обратно. Как ни далека Бенарна от Арморики, а все же у Братства оказались связи и здесь. Холинармориканка назвала, перед тем как мы расстались, некоторые места встреч, и тайные слова. Я отнеслась к ним с некоторой опаской, не будучи уверена, что эти прибрежные штучки будут приняты в горах, но они сработали. Меня приняли, но тут возникли новые обстоятельства. Местного вожака звали Филибер Монтаньяк. "Де Монтаньяк" – уточнял он, когда бывал в дурном расположении духа. Бывал он в нем нередко, ибо, как многие героические личности, на деле был нытиком, и обожал пожаловаться на жизнь. Меня это вовсе не раздражало. Если б он оказался дураком или трусом... а так – могут быть у человека маленькие недостатки? Маленькие, но много. Хотя он был местным уроженцем, в свое время его немало поводило по всему королевству – иначе как бы он узнал об армориканских обычаях? Он уверял, что не только заключал сделки с Братством, но был знаком с Максеном, братом Холин. Может, врал, а может и нет. В любом случае, на севере он не остался, а вернулся в Пиренские горы. Дела вел он с визиготами. Да-да, с вечными врагами нейстрийцев. Но я не собиралась читать ему мораль – всякий знает: где говорят деньги, всем остальным лучше призаткнуться. Ежели жителей Бенарны, по чьим землям визиготы не раз основательно прогулялись, незаконная торговля с этими еретиками не смущает, то почему я, уроженка Массилии, должна этому ужасаться? Впрочем, Монтаньяку о том, откуда родом, я не сказала. Вообще ничего о своем прошлом не рассказывала, а он не спрашивал. Ремесло отучило его быть любопытным. Визиготланд – самая бедная область в Сфарадском халифате, беднее даже, чем Септимания у нас, и это обстоятельство вынуждает визиготов с опасностью для жизни искать прибыли в горной Нейстрии. Раньше бы они прошло пошли в набег, а теперь – силенки не те. Как именно производились операции, что Монтаньяк им сбывал, что брал взамен – не знаю в подробностях, мне следовало быть взаимно вежливой и также не проявлять лишнего любопытства. Знаю только, что большого дохода это не приносило – Монтаньяк вечно жаловался, что работает по мелочам. Между тем, его мечтой было сорвать куш побольше и уйти в Сфарад со всеми своими людьми. Там он собрался осесть – не в Визиготланде конечно, а где-нибудь в Аль-Кордубе или другом приличном городе. Всякий знает, (а может, и не всякий) что в Сфараде можно жить свободно, не принимая закона Пророка. Но без денег жить плохо при любом вероисповедании. Денежный вопрос должен был волновать и меня. Никто не гарантировал, что, назвав имя деда, я тут же получу открытый кредит. что дальняя родня в Толедот еще здравствует, а если здравствует, захочет иметь со мной дело. Конечно, я могла бы обратиться к благотворительности – она там очень развита. Но мне не хотелось этого делать. Сказал мудрец – мир ему! – человек просвещенный, который не работает, а живет за счет благотворительности, хулит имя Божие, оскверняет Писание, омрачает свет веры и губит собственную жизнь. И то небольшое состояние, которым я владела, было честно заработано писательским трудом. Еще до побега я озаботилась, благодаря некоторым частным знакомствам, перевести деньги в Туриг, в банк Фуггеров. И озаботилась получить вексель на предъявителя. Не стану распространяться, как мне удалось его сохранить, замечу только, что некоторые чиновники спешат конфисковать всякую дрянь и ничего не понимают в ценных бумагах. В банке братьев Хагегим, отделения которого имелись по всему Сфараду, вексель был бы действительным, так как этот банк – основной деловой партнер Фуггеров в странах иного закона. Поэтому я о деньгах не беспокоилась. Но Монтаньяку я об этом ничего не сказала. Поскольку он, в отличие от всех своих сообщников, презиравших всяческую писанину, какое бы отношение к финансам она не имела, явно имел представление о том, что такое векселя. А я всегда придерживалась мнения, что не следует вводить ближнего своего – или даже не слишком ближнего – в искушение. Знал он родственников Холин, не знал – какая разница. Прибрать вексель к рукам он бы не посовестился. Пусть лучше думает, что у меня на руках лишь небольшая сумма в серебре, которой я собираюсь оплатить услуги контрабандистов. Вот тут-то он и принялся мне плакаться. Ни у кого в этих краях нет наличных, жаловался Филибер. Вот если бы удалось провернуть настоящее дело, срубить денег побольше, и уйти всем в Сфарад ... в общем, см. выше. – Что ты разумеешь под настоящим делом? – спросила я. – Лошадей бы раздобыть... эти немытики хорошо берут наших лошадей. Я удивилась. Казалась бы, где лучшие кони, как не в Сфараде? Разве не о них сказал басурманский философ: “Среди четвероногих нет лучше коня, ибо он царь всех пасущихся четвероногих”? Местным лошадкам никак с ними не сравниться. Но я была, как выяснилось, не права. Те прекрасные лошади сфарадской породы, которыми гордятся нейстрийские аристократы, пояснил Монтаньяк, совершенно не годятся для гористой местности. А бенарнские – в самый раз. Может, не так красивы, зато и резвы, и неприхотливы, и по крутым тропинкам умеют карабкаться не хуже коз. – Беда в том, что ребята мои – все здешние. – Какая ж тут беда? Наверняка все про всех знают. – Это точно. Да только их уловки тоже каждому здесь наизусть известны. Что мои люди, что деревенщина здешняя – это же все одна братия, их как в одном котле варили. Пробовали и с пастбищ уводить, и из конюшен – облом за обломом. Хотя он не шибка гладко выразил свои мысли, я поняла, что он хотел сказать. А может, в этой жалобе содержался и намек? – А на ярмарки, например, на праздники – туда же на лучших лошадях, наверняка, народ приезжает? – Ты в уме, женщина? Их же стерегут, и всяко лучше, чем на пастбище! – А ежели отвлечь тех, кто стережет? – Как? – он посмотрел хмуро.-– Кричать: "пожар, пожар!" – Ну, зачем же так грубо... и больше одного раза не сработает. – Ты к чему ведешь? – Если я сумею отвлечь здешних, пока вы будете уводить лошадей – переправите меня через горы? – Что еще ты надумала? А надумала я вот что. За короткое время, что провела я здешних краях, отметила – народ здесь при всей своей шумливости, вспыльчивости и не побоюсь этого слова, нахальстве – весьма богобоязнен и благочестив. А если добавить к этому невежество и пристрастие к красноречию... – Я скажу проповедь в ближайший базарный день. Пока меня будут слушать, вы поработаете у коновязи. – Тебе что, по здешнему солнцу голову напекло? Ты же баба, какие еще проповеди? Я не стала уверять его, что в наших краях солнце еще злее. – Ты не ответил – что будет, если все получится по-моему. Монтаньяк выругался. – Вот что – если получится, я тебе перебраться помогу и платы не возьму. Но если тебе погонят взашей или вовсе забьют до смерти – не обессудь. Я ввязываться не стану и людям своим не позволю. – Идет. Конечно, все получилось по– моему. Монтаньяк был крепко озадачен. Я ведь не рассказывала ему, что собаку съела по части сочинения проповедей. И научилась неплохо предугадывать настрой аудитории. А мне еще приходилось работать в городе, где народ избалован и представлениями, и музыкой, и новейшей литературой– не говоря о литературе классической. Здесь же у людей было так мало развлечений, что они были полностью захвачены моими речами. И никто не связал проповедь с пропажей нескольких лошадей. Добрые селяне бранили только себя – не надо было, мол, зевать. Филиберу сотоварищи это очень понравилось, и меня настоятельно попросили повторить номер. И еще раз. И еще. Так я стала Петрой Клятвенницей. От этом я вспоминала, сидя на склоне над разрушенным замком Арамиса, и глядя на этот, с позволения сказать, памятник готики, снова подумала – не слишком ли задержалась я в этих гостеприимных краях? Но пора было возвращаться. Я не настолько разбираюсь в горных тропах, чтоб рисковать блуждать по ним в темноте. Дожевав лепешку, я направилась дальше, по направлению к перевалу. И миновала его сразу после заката. – Кто идет? – сказал из-за скалы суровый мужской голос. – Та, что не проклинает. Не дури, Килиан, не видишь, что это я? Из укрытия выступил здоровенный детина с мушкетом. – Говори пароль, не то выстрелю! Дитятко было обижено. А дураков обижать опасно. В самом деле, может ведь выстрелить. – Ну ладно, Кили, ты сам напросился... – Далее последовала заковыристая фраза на смеси арабского и васконского, изобретенная Филибером и не имевшая ровно никакого смысла. На Монтаьяка иногда набегал приступ страсти к дисциплине и конспирации, и кое-кто из его воинства, как тот же Килиан, усердно ему в том подражал. Стоило пройти еще с десяток шагов, как о дисциплине и конспирации можно было смело позабывать. В открытом очаге, выложенном из камней, пылал огонь, а на огне, похоже, успели зажарить целую свинью. Вкруг расположились почти все контрабандисты – они же, по совместительству и моим старанием – скотокрады, числом с дюжину. Они жрали мясо и пили вино. Ко мне сразу же обернулись лоснящиеся от свиного жира и пота рожи, потянулись грязные руки. Такова теперь была моя компания. И я неплохо в ней себя чувствовала. Некоторые удивятся – как я, собеседница поэтов и богословов, столь быстро нашла общий язык с бенарнскими хамами? Другие скажут – ворон ворону глаз не выклюет. А третьи покачают головами – вот они монахини, как дорвутся до мужиков, так не остановишь! И все будут неправы. Относительно хамов – я взрастала в обстановке, не слишком отличавшейся от этой. И даже перейдя под опеку госпожи Сен-Мартен, не вполне порвала со своим простонародным прошлым. А что до предполагаемого свального греха, то вынуждена вас разочаровать. В горах, среди контрабандистов, я оставалась такой же, какой была в монастыре святой Маргариты. Конечно, я никому не рассказывала, что принесла монашеские обеты. этим я здешних бы только раззадорила. Но здесь меня, как и в Паризии, начинали считать несколько... неправильной, что ли. То ли святой, то ли ведьмой – они не слишком различали эти понятия. Горцев это не пугало, напротив, с этим моим даром они связывали свою удачу. И мне удалось исподволь внушить им мысль, что дар сей сохранится, только пока я пребываю в непорочности– – дурацкое, признаться, суеверие, но полезное. Поэтому руки сейчас ко мне протягивались лишь для того, чтобы предложить кусок свинины. Я смотрела на угощение с сомнением, хотя за сутки не ела ничего, кроме достопамятной лепешки из Арамиса. Мясо было жирным и вдобавок недожаренным, и это не вызывало у меня никакого энтузиазма. – Отчего не ешь ты свинины? – из тьмы возник Монтаньяк.– Гостеприимством нашим брезгуешь, в самом деле святую из себя разыгрываешь? Это ты по деревням народ дурачить можешь, это ты в Арамисе святая, а здесь ты – не лучше других! Другая тень выползла из пещеры. – Что ты, Филибер, к девочке привязался? Это у вас, молодых мужиков, челюсти да желудки эдакие, что камни смолотите и не подавитесь, а ей по нраву пища помягче, поделикатней. вроде как мне, старику. Я вот курочку варю, – будешь? Я кивнула. Дедушка Гоше был столь благостен, что заподозрить его в чем-то дурном мог лишь самый порочный человек на свете. Сверх того. он был весьма наблюдателен. По этим причинам он служил для шайки Монтаньяка лазутчиком, хотя это вроде как занятие для молодых. Но у Фили хватило соображения понять, что иные беззубые старцы в деле стоят дюжих молодцев. Не стал он и цепляться ко мне. Но кому-то из собравшихся его пламенное выступление явно запало на ум, и когда мы с Монтаньяком присоединились к компании у костра, один из контрабандистов завопил, несомненно, желая поддеть мои религиозные чувства, завопил, чудовищно коверкая мотив, " Бродягу в церкви". История есть стародавних времен, Как Девой святой был бродяга спасен. Вошел он в часовню, где образ святой, Благою и чистой сиял красотой. Вошел не затем, чтоб пред Девою пасть, Но чтобы безбожно ее обокрасть. Над образом был драгоценный венец, На что и позарился хитрый подлец. Украл и собрался бежать поскорей. Вдруг множество в церкви явилось людей. И видят они преступления след: Икона цела , драгоценностей нет. По церкви метались они до тех пор, Пока наконец не воскликнули: “Вор!” Правдивым был крик, но суровым, увы! Бродяге теперь не сносить головы. Бродяга от страха тогда задрожал, И руки воздевши, к Пречистой воззвал. “О Дева, что царствует на небеси, От казни раба своего ты спаси!” Взглянул он сквозь слезы. О радостный вид! Как прежде, венец над иконой горит. При чуде явленья второго венца Зажглись умиленьем людские сердца. Все грянулись ниц и запели хорал, Что вечную жизнь дам Господь даровал. И снова над образом Девы сердец Светился второй, чудотворный венец. Бродяга умылся горючей слезой, А после, примерившись, спер и второй. Все заржали, и обернулись в мою сторону – не разражусь ли я проклятиями за богохульство и святотатство. Я скромно промолчала. Не могла же я им сказать, что сочинила эту балладу в давно минувшей юности, не предполагая, что она от Провенции доберется до Пиренских гор. – Да, это кто-то с чувством сложил, – заявил Филибер. – Это не то, что проповеди сочинять, людей стращать. Вот ты, например, такую песню сочинить не сможешь. – Такую, может, и не смогу, а любую другую – пожалуйста. – А когда? – Да хоть сейчас. – Так складывай, а то все мы скажем, что хвастаешь! – Идет. Только и ты говори, о чем, или первую строку брось, не то еще скажешь, что у меня все заранее было заготовлено. – Хорошо... – мое условие несколько озадачило Монтаньяка. он обвел взглядом, словно бы в поисках поддержки, рожи всех собравшихся вокруг костра. – Что скалитесь, волчары? Ага! "С волками жить – по– волчьи выть". – Идет. Обнаружив возле себя пустой кувшин, я перевернула его и, отбивая по днищу пальцами ритм, запела: С волками жить – по– волчьи выть. И если водку нужно пить, То почему б ее не пить? И если пиво нужно пить, То почему б не пригубить? И если нужно мед лакать, То почему не заглотать? Одно глотать запрещено Лишь откровенное говно. Одно я лопать не хочу Лишь откровенную мочу. Не шедевр, конечно, но я знала, что могло пользоваться успехом в подобной аудитории. Местные жители хвастаются, что они будут острить и в аду на сковородке – так это они массилийцев не видали. И я не ошиблась. На сей раз был уже не хохот, а грохот. И Монтньяк, налив кружку из кувшина, который до того опустошал сам, поднес ее мне со словами: – Да, это уж точно не моча. Отказываться было бы не вежливо, и я отпила – действительно хорошего красного вина, а не пива, как можно было от Фили ожидать. Он, видимо решив, что мы достаточно воздали дань веселью, спросил вполголоса: – Слышала – в округе новый судья. Мальтийский рыцарь. – Нет, не слышала. Это что, дедушка Гоше сообщил? – Да. Он его видел, судью. – Фили, тебе не кажется, что дедушку зрение или память стали подводить? Откуда бы в горном округе взяться рыцарю Мальтийского ордена? – Откуда – это как раз понятно. Они не так давно в Тарбелле капитанство открыли. А теперь и к нам своего человека заслали. Я призадумалась. Еще дома – если считать монастырь домом, мне приходилось слышать, что Мальтийский орден, расширяя сферы влияния, основал приорат в Байонне, чтобы иметь возможность выводить корабли в Аквитанское море. А теперь, значит, они и на сушу покусились. выстраивается четкая цепь: Массилия – Тарбелла – Байонна. И вся западная граница Нейстрии – под их крылом. Стратегически очень выгодно. Но сделать это в одиночку при нынешней политической ситуации они бы не смогли. То есть светские власти, возможно, не только закрыли бы глаза на подобные действие ордена, но даже приветствовали их. Это в Нейстрии уже становится доброй традицией : как только власть слабеет, то перекладывает на кого-то часть своих обязанностей, в том числе и на мальтийцев. Но власти церковные? Они своего никогда не уступали и не уступят. А это значит – они договорились. Что, если судья заодно выполняет обязанности эмиссара Благого Сыска? Доселе такого не случалось, но все когда-то бывает в первый раз. Не исключено, что я ошибаюсь, и нейстрийские власти просто решили, что Мальтийский орден, который успешно борется с пиратами на море, может заняться и борьбой контрабандистами на суше. Но и тогда это достаточно плохо – для всей нашей честной компании. Мальтийцы – это серьезно. Я, выросши в Массилии, это наблюдала. Знал, об этом, воочию или понаслышке, и Филибер. Вот почему он нынче был раздражен и придирался ко мне – а не по какой-либо иной причине. – Что за человек этот судья? – Какой-то рыцарь де Ла Марш. Не из наших краев, а больше о нем ничего не известно. Слова Филибера заставили меня насторожиться. Знала я когда-то человека, которого так звали. Джордан де Ла Марш, если говорить точно. Друг, можно сказать, детства. Вернее, тех нескольких лет, что я провела в имении госпожи де Сен– Мартен. Единственный дворянин в нашей босоногой компании – я, кажется, уже упоминала о нем. Он был младшим сыном в небогатом семействе, и ему не препятствовали водить дружбу с детьми простолюдинов, поскольку готовили в священники. Потом он уехал в Сессион, учиться в одной из тамошних духовных коллегий, после чего должен был принять сан, и больше я о нем ничего не слышала. Но о Мальтийском ордене в те годы речи не было. С другой стороны этот орден – духовный, его рыцари приносят монашеские обеты, и вполне возможно, что именно таким образом Джордан де Ла Марш решил послужить церкви. А это значит – если в Бенарне появился человек, знающий, кто я на самом деле, да еще церковник – мне следует уносить отсюда ноги без оглядки. Или это не он? Фамилия-то не скажу, чтоб самая редкая в нашем благословенном королевстве. Это кстати – особая статья -– фамилии отечественных дворян, с тех пор как их в последние полтораста лет стали произносить на нейстрийский лад, а не по -латыни, как прежде. Я снова подошла к Гоше. -Дедушка, а ты точно его видел? Как он выглядит? Особые приметы есть? -Ох, уж это любопытство бабье… рыцарь как рыцарь. Ничего приметного. Не горбатый , не хромой. Утешил, родной. Сама знаю, что горбатых и хромых в орден не берут – он хоть и монашеский, а воинский. А тот Джордан де Ла Марш, которого я знала, тоже особо приметной внешностью не отличался. -А лет ему сколько? -Я откуда ведаю? Молодой еще, вот прыть и играет… Тут я успокоилась. Тот де Ла Марш был года на два меня старше. А я себя уже перестала причислять к молодым. И я прекратила терзаться сомнениями, и вернулась мыслями к задуманной мной книге. Как лучше ее назвать? Может, “Трактат о мирах подобий”? Занятая этим важным вопросом, я как-то упустила из виду, что собеседник мой – глубокий старик. И, как многие его сверстники, дедуля Гоше склонен называть молодыми всех, не достигших полусотни лет. В Арамисе я проповедовала просто так. Парни Фили в тот день работали в другом месте. У нас было заранее обговорено – иногда я буду говорить без преступных последствий. Горцы – люди простые, но если бы все проповеди Петры Клятвенницы сопровождались угоном скота и грабежами, даже они могли бы что-то сообразить. Итак, ярмарку в Арамисе напасть миновала ( если меня не считать за напасть). Но с ярмаркой в Портуме такого быть не могло. Тут Фили наш уперся. Портум – все же не деревня, а город. Туда должно было съехаться множество народу, и не самого бедного, и можно было взять хороший куш. Фили клялся и божился, что эта моя проповедь будет последней, а после мы уйдем в Визиготланд. Еще разочек и больше ни-ни! Неизвестно, собирался ли Филибер сдержать свою клятву, но эта проповедь действительно стала последней. Хотя и не в том смысле, какой Фили подразумевал. Как всегда, в городишко я пришла одна. Рано утром, чуть рассвело. И как всегда, в утреннем сумраке, местные жители меня не опознали. Портум производил впечатление убогое. А ведь когда-то этот город претендовал на то, чтоб считаться столицей Бенарны – да и был ей, когда здесь находилась резиденция графов Бенарнских. Но потомки этого некогда славного дома давно перебрались в Сессион и напрочь забыли и здешней скудной земле. А Портум захирел, и я подумала –не понапрасну ли мы сюда приперлись? Но позже стало ясно, что Филибер не ошибся. Давненько я не видела столько народу сразу. Пожалуй, с того дня, когда меня в прошлый раз собирались казнить… и зачем я об этом вспомнила? Впрочем, тогда я удачно унесла ноги. Лошадей пригнали множество – и мелких горских, и равнинных, васконской породы. Сказать, что они крупные – ничего не сказать. Я слонов видала только на картинках, но когда я увидела лошадей васконской породы, то подумала, что выводили их прямиком от слонов. Только слоны не бывают желтого цвета. Кажется. Филибер, который в лошадях разбирался куда лучше, просветил меня на сей счет. Васконская порода была выведена во времена Походов за Веру. И кони потому были такие большие и мощные, что должны были нести на себе рыцаря в полном доспехе. Нынче, когда тяжелые доспехи так же вышли из моды, как Походы за Веру, в больших городах разъезжать на васконских лошадях стало считаться за признак дурного тона. Оттого-то я и не видела этих коней раньше. Но в здешней глуши они были еще распространены, отличаясь если не резвостью, то силой. Их покупали даже дворяне – разумеется, из самых бедных и захудалых. Но довольно было предаваться лошадиным размышлениям. Сказал пророк: “Благо написано на лбах коней”, так пусть Филибер свое благо и получит, в денежном выражении. народу собралось в самый раз, чтоб можно было начинать. И я позволила себя опознать. Это нетрудно. Достаточно зыркнуть покрасноречивее, и все пойдет, как обычно. Так, как в Арамисе. Уверяют, что хорошие ораторы наслаждаются своей властью над толпой. Должно быть, я плохой оратор. Не понимаю, как можно этим наслаждаться. Хорошей едой, добрым вином, дружеской беседой, теплом очага в холод – да. Но речами перед публикой? У меня совсем иное чувство. Возможно, оно знакомо тем, кто владеет музыкальными инструментами. Стоит лишь взять верную ноту, и пальцы. Если они достаточно искушены в беглости, действуют словно сами по себе. Бегут по клавишам, щиплют струны или ведут смычок. А музыкант может словно бы отстраниться и думать о чем угодно. Мой инструмент – речь. И главное, чтоб пойманная нота была верной. Вопреки тому, чего от меня ждали, я заговорила не о проклятиях и о ненависти, но о любви. К Господу, разумеется. – Одну святую праведницу спросили, любит ли она Господа. Она ответила, что любит. Затем спросили ее, порицает ли она дьявола. Она ответила – нет, потому что любовь к Богу не оставила в ее сердце места для порицания диавола. И явился ей во сне ангел, и спросил : “Любишь ли ты меня?” Она ответила: “О, посланник Бога, кто тебя не любит? Но любовь к Богу так заполнила мое сердце, что в нем не осталось другой любви, кроме любви к Нему”. Превосходно сказано, не так ли? И это не я придумала, именно так оно и было. Я только не стала уточнять перед слушателями, что святая была мусульманкой. В бытность мою хранительницей библиотеки я ознакомилась с несколькими сборниками суфийских притч. В былые времена переводить их не считалось зазорным. Впрочем, неизвестно, были ли те переводчики истинными назарянами. Но ни меня, ни тех, кто приобретал списки для библиотеки, сие обстоятельство не волновало. В одном из этих сборников (“Драгоценное ожерелье”, если кому интересно) и содержалось жизнеописание Рабии аль-Адавии из Басры, ее стихи и максимы. Рабия исповедовала чистую веру, не отягощенную ни страхом, ни надеждой. И, как говорят, отличаясь способностями, которые обычно принято называть сверхъестественными, ценила их мало, и осуждала чрезмерную чувствительность как в в вопросах веры, так и в обыденной жизни. Не знаю, что из моих речей поняли слушатели, но, похоже, внимание их было захвачено. Когда я рассказывала о том, что праведница, желавшая сохранить безбрачие, ответила одному не в меру ретивому поклоннику, что жизнь ее, а заодно и тело, принадлежит Богу, и если искателю так уж неймется на ней жениться, пусть попросит ее руки у Господа, это было встречено восторженным гулом. Хотя уверена – если б такое заявила своему жениху дочка любого из присутствующих, папаша бы выпорол ее при полном одобрении мамаши. То, что восхищает в историях, вычитанных в книгах или услышанных ex catedra, раздражает и бесит в обыденной жизни. А вот следующая история явно должна была прийтись им по нраву. Пусть и не поняли бы ничего. Я собиралась рассказать им, как однажды Рабия шла по улицам с факелом в одной руке и кувшином воды в другой. И когда ее спросили, почему она так делает, святая ответила: “Я хочу метнуть пламя в Рай и залить водой Ад, чтоб эти две завесы исчезли, и стало ясно, кто почитает Бога из любви, а кто из страха перед преисподней и надеждой на рай”. Но я не успела поведать эту притчу. Нарастающий шум перекрыл мой голос. А на противоположном конце площади заклубилось движение, отвлекшее внимание моих слушателей. И медные шлемы, высвеченные солнцем, явственно выделялись среди плоских беретов и платков. Люди с мушкетами рассекали толпу вполне профессионально. Первая мысль моя была: “Влипла! Довыступалась!” Местным жителям неоткуда было знать, как церковь относится к проповедующим женщинам, но я-то знала! И какой-нибудь сельский курат, внимавший мне вместе с прихожанами, утер слезы, высморкался в подол сутаны, вспомнил подзабытую грамоту, и накатал донос куда следует. Но рядом с солдатами я не увидела белых плащей служителей Благого Сыска. И сами солдаты продвигались вовсе не в мою сторону. Более того. Когда кровь перестала стучать в висках и дыхание выровнялось, я услышала, что крестьяне кричат: “Держи их! Вот они!” -– выражая одобрение действиям властей, и это было вовсе удивительно. А потом я все поняла. Это не я влипла. Это Филибер со своими товарищами попался в руки властей. Говорила я – давно надо было уходить за кордон! А Фили – ни в какую. Прямо как верный последователь пророка. “Выслушай женщину и сделай наоборот”. Ах, как нехорошо получилось… Тем более, что моя доля оставалась у него. Не вся, конечно, сумма, кое –что я сумела прибрать к рукам. Но с такими деньгами за границу не сунешься. Ничего, жадность до добра не доводит. Филибера вот не довела. Что там происходит, мне не было видно. Скопление людей и поднятая пыль закрывали обозрение. Продолжать проповедь было невозможно – мои слушатели, позабыв о возвышенном, вмиг переметнулись к более увлекательному зрелищу. Вот так и трать силы и напрягай глотку для просвещения сердец и умов… хотя должно признать, в данный момент измена аудитории пришлась весьма кстати. Если бы во время заварухи я тут же кинулась прочь, это выглядело бы весьма подозрительно. И вообще, не надо лишать людей иллюзий. Поэтому я потопталась на месте, склонив голову, как бы в печали размышляя о мимолетном триумфе суетности. И лишь когда всякому наблюдателю стало ясно, что Петра Клятвенница брошена и покинута, я не торопясь побрела прочь. Никто не обращал на меня внимания. Свернув с площади, я обулась и закинула котомку на спину. Пора было незамедлительно сваливать. Никто не поручится, что Филибер и его молодцы будут молчать на допросах, да и с какой стати им меня защищать? Они ведь, дураки, не поймут, что это – в их же интересах. То есть, если б я объяснила, может, и поняли бы, но меня с ними нет, чтоб объяснить. И желательно, чтоб не было. Прощай, Бенарна, видно, придется топать в Сфарад кружным путем. Не попробовать ли через Италию? Кстати, там тоже есть представительства банка Фуггеров. Возвращаться в пещеру было бы верхом глупости, солдаты поспеют туда раньше меня. Но ценных бумаг они там не найдут. Не доверяя Фили и компании, я завела собственный тайник. Заберу оттуда письма и поспешу прочь. Из Петры Клятвенницы стану Петрой Паломницей. План был неплох. Но ему, как большинству хороших планов, не суждено было осуществиться. Солдаты перекрыли узкую улочку. Только не показывать, что это меня напугало… и не сворачивать назад. Спокойнее, спокойнее…какое дело бедной крестьянке до разборок служителей порядка с конокрадами? Она и так удручена из-за того, что ярмарка сорвалась. Даже если меня вздумают обыскать, не найдут ничего подозрительного. Ничего, что могло бы меня выдать. – Это она! Меня схватили за руки. – Вы что, ополоумели, добрые люди? – проникновенно сказала я. –За что бедную женщину обижаете? – А может… – начал было один из шлемоносцев. – Точно она! – прервал его другой. – Прямо как говорили – долговязая такая. И глаза эти… Я долговязая, а он разговорчивый. Глаза его мои, значит, не устраивают. Под моим взглядом он вздрогнул, но хватки не ослабил. В странствиях мне встречались те, кто способны взглядом погрузить противника в сон, или прикосновением ожечь, как молнией. Я не обладала подобными талантами, а сейчас бы они мне ох, как пригодились бы. Ничего, у меня есть другие. – Стало быть, тебе известно, как меня зовут? – Петра Клятвенница… ну? – Тогда тебе, бедолага, должно быть известно, – голос мой стал еще задушевнее, – какая власть может заключаться в обычном человеческом слове? Вот тут, кажется, они испугались. Оба. – А может, ну ее… проклянет ведь! – Как пить дать проклянет… Но там был еще и третий. Посообразительней других. – Господин судья велел ее арестовать, вот на судью проклятия-то и падут! А нам что, люди мы подневольные… и, в случае чего, я ее прикладом оглушу. – Поосторожней с мушкетом, умник, – бросила я. – Не дай бог, выронишь, а он заряжен… Меня потащили вдоль по улице. Умствующий стражник приотстал, и, не успели мы свернуть за угол, как позади раздался выстрел, а следом – пронзительный вопль, сменившийся руганью и стонами. Мои конвоиры враз обернулись. – Что там? – Бено, болван, ногу себе прострелил… Обе головы вновь повернулись ко мне, а потом жесткая, как копыто, ладонь, залепила мне рот. После этого меня потащили еще быстрее, разве что не волоком. А стала бы упираться – понесли бы. Так им хотелось побыстрее спихнуть меня своему начальству. Оно опять сработало, мое странное дарование. Но почему это пресловутое “чувство опасности” молчало перед тем, как я направилась в Портум? А ведь молчало, как опоенное. И не в первый раз уже. Неужели этот дар действует только на других людей? Но пока что было не до размышлений. Прежде мне не приходилось бывать в Портуме, и я не знала, что в этом городишке есть тюрьма. Оказалось – есть, еще с графских времен. Филибер выбрал место для своей последней вылазки с наибольшим удобством для властей. Кстати о Филибере. Его, а также всех остальных, уже успели пригнать во двор тюрьмы , когда туда втолкнули и меня. Руки у всех молодцов были связаны. Вид у честной компании был не лучший. Их были, вполне возможно, что и прикладами. Тут мои конвоиры спохватились, что у меня-то руки не в путах. Да и вещи мои не обысканы. Пока мне вязали руки и лишали имущества, рот зажимать мне было неудобно. И я вновь обрела способность говорить. Но не стала тратить время на проклятья, которые то ли подействуют, то ли нет. Сказать нужно было нечто другое, в данный момент – более важное. Меня толкнули ко входу в темницу – похоже, конвоиры опасались идти со мной рядом. Оказавшись на шаг-другой впереди них, и проходя мимо Филибера, я тихо, но отчетливо произнесла. – Вы все меня не знаете, я вас – тоже. Иначе – ересь… Говорила я на армориканском наречии, которым никто здесь, кроме нас двоих, не владел. Филибер поднял голову. У него хватило ума не отвечать. На лице его отчетливо изобразилась мыслительная работа. И я надеялась, что ума у него хватит и на то, чтоб понять, чем грозит ему, а также всем подельникам привлечение мое персоны к делу о конокрадстве. Использование проповедей в качестве отвлекающего маневра – да, скорее всего это будут трактовать как ересь. А она карается куда как жестче, чем уголовное преступление. Впрочем, могут пришить и святотатство. Неизвестно, что слаще. А поняв, Филибер втолкует это всей шайке. Потому что их наверняка посадят вместе. А вот куда посадят меня – пока неизвестно. По деревенской простоте могут ввергнуть в узилище и с конокрадами. Хотя – что гадать? Скоро узнаю. *** Так-таки здешней простоты не хватило, чтобы кинуть меня в подвал с мужиками. Извращенности — тоже. Нашлась отдельная камера, предположительно – карцер для особо опасных. В прошлый раз, в Паризии, одиночки мне хлебнуть не пришлось. Сидела в общей камере. Но там городишко был побольше, и арестованные женщины не являлись такой уж диковиной, для них в тюрьме была особая половина. Здесь – нет. В такой дыре, как здешняя тюрьма, даже кандалов для узников не имелось. Насколько я разбиралась в местных обыкновениях, в них и не было нужды. По серьезным делам арестантов переправляли в Тарбеллу, по прочим – извольте пожаловать на городскую площадь, в колодки. Немного попрепиравшись, руки мне развязали ( а зачем вообще связывали, герои?), со скрежетом захлопнули дверь, и я оказалась в полной тьме. Карцерам окно не полагается, а дать мне огарок свечи или плошку с маслом никто не озаботился. Я сомневалась также, что сегодня в тюрьме озаботятся моим пропитанием. Хорошо хоть, с утра поесть успела. Но как что плохое предположить – так непременно сбудется! Так почему же я не предположила, что меня арестуют? Растянувшись на гнилой соломе, я вновь попыталась обдумать эту ситуацию, ибо больше ничего сделать не представлялось возможным. Предположим, мое чувство опасности работает сугубо избирательно, и, как правило, направлено на других людей. Или я просто ничего не чувствую, потому что больше привыкла доверять рассудку? В Толосе я не стала дожидаться, пока чувство опасности подаст голос. В Паризии оно промолчало перед арестом, потому что мне удалось сбежать. Значит ли это, что мне удастся сбежать и теперь. Но есть и другая вероятность. Арест мог оказаться для меня спасением. Если это, как уверял Монтаньяк, была его последняя вылазка, в дальнейшем бы я стала для него обузой, и Фили бы от меня избавился. С чего я взяла, что Филиберу можно верить больше, чем другим? Ровно ни с чего. И обижаться на него я не могу, последнее дело – обижаться. Главное – чтоб он и прочие не проболтались, что знают меня, а там уж я как-нибудь выкручусь. На другой день ( в моей тьме трудно было определить время суток, но я предполагала, что ночь миновала), дверь отомкнули. Но, к глубочайшему сожалению, это не повлекло за собой кормежки. Приехал господин судья и потребовал арестантов пред свои светлые очи. Руки снова связали ( а зачем тогда развязали, стратеги?) и вывели наружу. Одной ночи в карцере было недостаточно, чтоб я успела отвыкнуть от света, и потому получалось идти, не спотыкаясь. Многие долговязые люди имеют дурную привычку сутулиться, и я не исключение. Но трудно сутулиться, когда руки скручены за спиной. Осанка поневоле приобретает надменность, А я этого вовсе не добивалась, ей Богу, стоя в общем строю с молодцами Монтаньяка. Нас снова вывели во двор. Похоже, в тюрьме не было достаточно большого помещения, чтоб можно было вместить всех сразу – и арестантов, и охрану. Никто из конокрадов не пытался заговорить со мной, из чего я сделала вывод, что Фили все понял правильно, и объяснил парням. Солдат было больше, чем вчера, очевидно, к тем, кто устроил облаву, добавилась свита судьи. Вдоль строя шли двое. Должность одного обличал красный орденский плащ. Второй – коренастый, более упитанный, чем бывает в здешних краях, в кафтане табачного цвета и берете с наушниками, предположительно был начальником тюрьмы. Вчера меня слишком быстро убрали в карцер, чтоб я успела его заметить. Судья – высокий (выше меня, сразу видно, что приезжий, и не горбился вдобавок), худой, с темными волосами, пробитыми сединой, разглядывал арестантов, а комендант, от усердия только что не подпрыгивая, сообщал ему сведения о них. О нас. – Так это, стало быть, и есть Филибер Монтаньяк? – переспросил судья, окинув взглядом Фили. Голос у него был сухой, невыразительный. – Де Монтаньяк! – оскорбленно поправил главарь, а его, в свою очередь, поправил комендант: – …ваша честь! Оба замечания остались без ответа. Судья продолжал: – …и его шайка, уличенная в грабежах в Бенарне, Васконии, Септимании… здравствуй, Ноэль…вдоль всей западной границы королевства Нейстрия. Меня так давно не называли именем, которое дал мне отец, что я не сообразила, что обращено оно ко мне. Отец никогда не забывал своего брата, погибшего в море, и чувствовал вину за то, что сам остался жив. Оттого и назвал меня именем никогда не виданного мной дяди, благо это имя могло быть и мужским, и женским. Но при постриге я сменила имя, и долгие годы была сестрой Новеллой. А потом последовала еще вереница имен и прозвищ. Истинно говорю, я не то, чтобы забыла, что когда-то прозывалась Ноэль Ла Форс, но отвыкла думать, что Ноэль Ла Форс – это я. Именно несообразительность, а не хладнокровие удержали меня от того, чтоб вздрогнуть, втянуть голову в плечи, насколько позволяли путы, или каким-то иным образом выдать себя. Судья, однако, не ушел. Стоял напротив и ждал. Когда понял, что ничего не дождется, спросил: – Ты не узнаешь меня? – Ваша честь изволит меня с кем-то путать, – отвечала я по-васконски. Конечно, я его не узнала. А зачем, когда теперь я и так знаю, кто это? *** Допрашивали меня не первой, и у меня было время собраться с мыслями. Поблажек, в связи со старым знакомством, ждать не приходилось. Лучшее, что мог Джордан де Ла Марш сделать – не показывать, что знает меня. В то, что он случайно проговорился, я не верила. Судя по тому, как ловко он устроил ловушку для Филибера, да еще сообразил, что я связана с угоном лошадей, голова у него варит. А ведь в юности особой бойкостью мыслей и поступков он не отличался, тихоня был, даром, что дворянин. Такие вот тихони и бывают опасны. Что ему вообще известно? Он действительно просто узнал меня – или получил обо мне какие-то сведения? Благой Сыск и Мальтийский орден обычно не работают совместно, напротив, слышала я, между ними имеется рознь по многим вопросам, но всякое в жизни случается, и среди мальтийцев вполне может оказаться агент инквизиции. Правда, с чего бы его тогда загнали в такую глушь? А вот именно потому что глушь, и загнали. Благой Сыск здесь своих трибуналов не имеет, так завел своего судью на выезде, а там и до открытых процессов дело дойдет. Народ здесь темный, суеверный, такого может наговорить из самых лучших побуждений, что все деревья в предгорьях на костры изведут. В общем, когда дошла моя очередь, я готовилась к худшему. Он сидел за столом, на котором лежала стопка исчерканных листов. Я предполагала увидеть секретаря, ведущего протокол допроса. Ха! Совсем забыла, что здесь большие проблемы по части письменности. Судья изволил делать пометки сам. Наверное, не потрудился прихватить писаришку из Тарбеллы, а в Портуме не нашлось никого, кто отвечал бы его запросам. Меня усадили на скамейку против стола. Только после этого он поднял голову. Странно было угадывать в этом мужчине черты мальчика, некогда мне знакомого. Разве что острый нос и темные глаза… и правая бровь выше левой… Лицо у него было темное, в резких морщинах – не от возраста, а от солнца и ветра. Он и в юности был худой, хотя кормили его получше деревенских. А сейчас еще больше усох. Как говорят в Массилии – щека со щекой встречается. Аскет, наверное. Аскет и праведник. Ужас какой. – Назови свое имя. – Меня называют Петрой Клятвенницей, – я отвечала по-прежнему по-васконски. – Говори по-нейстрийски! Свидетели подтверждают, что ты можешь изъясняться чисто. – Как будет угодно господину судье, – я постаралась пожать плечами, но веревка помешала. – Мне угодно, чтоб ты рассказала, что связывает тебя с Филибером Монтаньяком и его шайкой. – Я впервые слышу это имя. Какая между нами может быть связь? Тут ему полагалось бы сказать: “Здесь вопросы задаю я!”, но он не опустился до такой пошлости. – Согласно имеющимся у меня отчетам, шайка Филибера Монтаньяка неоднократно угоняла лошадей, хозяева которых были отвлечены проповедями некоей Петры Клятвенницы. Разве это не преступный сговор? – Это совпадение. – Совпадение может быть один раз, а не дюжину! – Конокрады, должно быть, пользовались тем, что люди меня слушают. Если б люди смотрели на плясунов или акробатов, они бы воспользовались этим. – Ты слишком много знаешь о привычках конокрадов, и утверждаешь, что не при чем? – Господин, я ничего не понимаю ни в конокрадах, ни в конях. Я всего лишь бедная женщина, погруженная в размышления о Боге. – Ты слишком хорошо рассуждаешь для простой женщины, которая никогда и ничему не училась. А вот здесь в “баба я простая, буквочек не знаю” переигрывать не стоило. Иначе скажут, что знания мои от диавола – обычный прием. – Господин, я не говорила, что ничему не училась. Я посещала монастырскую школу. – При монастыре святой Маргариты в Провенции? Плохо! Он знает про монастырь. А ведь он уехал раньше, чем я постриглась. Года на два. И если у него есть такие сведения о Ноэль Ла Форс… Но не о Петре Клятвеннице. – Нет, в аббатстве святой Власты. Там я готовилась принять постриг, но потом монастырь проиграл тяжбу с короной, земли отошли королю Владиславу, а монахиням велено было разойтись по другим обителям. – Аббатство святой Власты? Где это? – В Великой Моравии, – безмятежно ответила я. – Неподалеку от Праги. Лицо у него вытянулось, а оно и без того круглым не было. А вот пусть проверит! Про Великую Моравию – это я не сейчас придумала. Эта легенда была обдумана давно, и вряд ли кто в пределах Западной Нейстрии способен поймать меня на лжи. Даже в капитанствах ордена и приорате в Байонне. Великая Моравия не имеет выходов к морю, и тамошние уроженцы не вступают в Мальтийский орден. (Там, насколько мне известно, почти нет славян, разве что ляхи. У царства Русского и Болгарской империи – собственные военные флотилии. ) А если сыщется какой-нибудь ученый грамотей, – что сомнительно – и начнет выпытывать подробности о моей родине – пожалуйста. В монастыре я одно время увлекалась жизнелюбивыми сочинениями Бруно Пражского, и потому прочитала все, что могла найти, о Великой Моравии и ее столице. Тогда я и приучила себя называть эту страну так, как она именуется в книгах славянских авторов, а не “Бойгем”, как у нас. Даже выучила кое-что на моравском языке. К языку судья и прицепился, но отнюдь не к моравскому. – Славянка – и говорит на васконском? – Васконский язык не труднее прочих. – Так. И если вам велели разойтись по другим обителям, что ты делаешь в Пиренских горах? – Я решила совершить паломничество к святому Престолу, но сбилась с дороги. – Шла к Апеннинским горам, а вышла к Пиренским? – Как прав господин судья! Погруженная в благочестивые размышления, я совсем ничего не смыслю в мирских делах. Я знаю, как ходить прямыми путями в добродетели, но легко могу заблудиться на тракте между двумя городами. И чужеземные названия обманывают мой слух. – Значит, такие названия, как Провенция, Толоса, Марка Альбика ничего тебе не говорят? – он внезапно перешел на массилийский диалект. Пошлая уловка. – Я вас не вполне понимаю, ваша милость. Это наречие не похоже на здешнее. Казалось, он зашипит от злости из-за того, что не удалось меня подловить Но повторять вопроса он не стал. – Увести подследственную. Хоть не пытали, и то хорошо. Здесь, конечно, пытальщиков опытных, как и грамотеев, не водится, но если заплатить, добровольцы на роль пытальщиков, в отличие от грамотеев, найдутся. И это, подозреваю, пострашнее, чем попасть к палачупрофессионалу. Разумеется, судья не сообщил, что он там нацарапал в своих заметках. Не того полета я птица, чтоб мне протокол допроса зачитывать. К тому же было у меня предчувствие, что допрос этот – не последний. К сожалению. *** И, как все мои дурные предчувствия, оно оказалось правильным. Следствие продолжилось. Судья, правда, распорядился, чтоб мне развязали руки и приносили поесть. А то не дай Бог, сдохну до приговора. Но я по-прежнему оставалась в карцере, и других послаблений не последовало. Как и следовало ожидать. Я не могла понять, какую линию собирается гнуть Джордан де Ла Марш. Либо он действительно связан с Благим Сыском, и ему нужно подверстать мои похождения к следственному делу в Толосе. Либо он просто честно выполняет свои обязанности, и собирается во что бы то ни стало связать меня с шайкой Филибера. В любом случае это должно было кончиться для меня очень плохо. Для Фили, кстати, тоже, пусть он и не ведал ничего про толосанские дела. Фили я и увидела, как только меня снова привели на допрос. Господин судья решил порадовать нас очной ставкой. Но Фили – да воздастся ему, собирался он меня прикончить или нет, – не подвел. Оказался личностью не только героической, но и артистической. Таращил на меня глаза, божился, что знать не знает “эту бабу”. Он бы и в грудь себя ударил, да рук ему, в отличие от меня, не развязывали. – А если получше посмотреть? – сказал судья. – Она же платком по самый нос замотана. Охранник понял намек и сдернул платок с моей головы. – Да будет вам стыдно, господин судья, – тихо сказала я. Фили потупился – полагаю, чтоб скрыть ухмылку. Судья тоже отвел глаза. Вот теперь я знала, что он думает. Коротко стрижеными бывают или осужденные преступницы, в основном публичные женщины, или некоторые сектантки, которые отрезают себе волосы в знак смирения. И он не знал, к какой категории меня отнести. Не могла же я ему объяснить, что предпочитаю стричь волосы из соображений практической гигиены в походных условиях. Естественно, волосы приходилось прикрывать. Ну еще и потому, что светлые они. Этим я отличалась от прочих Ла Форсов, которые были черны, как галки. Кстати, деду Жаку, в целом меня не одобрявшему, сие нравилось. В этом он видел доказательство легендарно-рыцарского происхождения семьи. “Сказывается северная кровь!” – многозначительно и сурово произносил он. При чем не обращал внимания на то, что русые волосы я унаследовала от матери, а она – от своего отца (“со светлыми волосами и очень загорелым лицом”, как написал бы Иосиф Ренегат). Но сейчас светлая масть была в пользу славянской гипотезы. Там же, говорят, едва ли не все такие. Филибера сменили его товарищи, но главарь успел им разъяснить, как себя вести. Пусть не так красноречиво, как Монтаньяк, все они, мыча что-то невразумительное, отрицали всякое знакомство со мной. – Итак, никто из них тебя не знает, – констатировал судья, отчаявшись чего-либо добиться. – И ты не знаешь никого из них. – Это и понятно, ваша милость. Откуда местным уроженцам знать пришелицу из Великой Моравии? А я не имею привычки разглядывать людей, которые слушают, как я рассказываю свои притчи. ( Я предпочитала не употреблять слово “проповеди”.) – И меня ты тоже не знаешь? Опять он за свое. – Откуда мне знать такую важную особу? А если я напоминаю вашей милости женщину, прежде вам знакомую, так все в жизни бывает. Говорят, для мудрого человека все женщины на одно лицо. – Верно. Но есть особая примета, по которой можно узнать эту женщину, даже если она потерялась. И он внезапно перевернул левую руку ладонью вверх. Никто из охранников не понял этого жеста. Ни в одном из возможных описаний моей личности эта примета не должна была фигурировать. Из Толосы я сбежала до ареста, и Благой Сыск судил меня заочно. А в Паризии тамошним дилетантам от следственной профессии не пришло в голову взглянуть на мои ладони. Собственно, на них, кроме моей матери, никто никогда особо не смотрел. Но он-то знал. Мне нечего было ответить. Несмотря на провал очной ставки, сегодня Джордан де Ла Марш полностью меня переиграл. Сидя в карцере, я вспомнила, как все произошло. В отрочестве я вызвалась на спор, на глазах у всей нашей деревенской компании, пройти по карнизу отвесной скалы. Просто так, низачем, по дурости. И сорвалась, конечно. Дуракам – счастье, дурам, бывает, тоже. Скала все же оказалась не совсем отвесной. Я зацепилась за какой-то выступ, не разбилась, а сползла вниз, и ограничилась тем, что распорола об острый камень левую руку. Кровь хлестала, девчонки ревели, парни бледнели, а я, хорохорясь, заявляла, что это, мол, царапина, залеплю подорожником, и пойдем гулять дальше. Конечно, подорожника было недостаточно, пришлось косынкой руку замотать. Дама Алазаис заметила эту повязку на моей руке только через пару дней, вызвала лекаря и чуть не упала в обморок, когда повязку размотали. Лекарь принялся кричать, что его следовало позвать раньше, рана глубокая, ладонь прорезана до кости, и теперь шрам останется навсегда. А я, продолжая топорщить перья, ответствовала: – Ничего, если я когда-нибудь потеряюсь, вы меня по этой примете отыщете. А он, друг детства, при сем присутствовал. Его родители зачем-то приехали к даме Алазаис из Марки Альбики, и он с ними притащился, о моем здравии справиться. Беспокоился он, видите ли. Он и теперь из-за меня беспокоится, только совсем по другой причине. И ведь это надо суметь: запомнить мои слова, которые я сама позабыла, и так их перевернуть! Худо мне, вот что. Ибо сказано: “Горе тому, чей защитник стал обвинителем”. Положим, защитником моим он никогда не был. Но не был и противником. А теперь им стал. И, ради карьерных соображений ему будет куда как полезно представить отчет о поимке не только матерого преступника Филибера Монтаньяка и его шайки ( велика важность, конокрады), но и закоренелой еретички, ведьмы, лжепророчицы, отступницы…и кто я там еще? На мне же клейма ставить негде. До сих пор была лишь пародия на следствие. Даже в Паризии соблюдалось больше формальностей. Но, если тождество Петры Клятвенницы будет доказано, вряд ли меня оставят в ведении Джордана де Ла Марша. Следствие пойдет по всем правилам, и… дальше что? “Ангелы лютые и немилосердные, мучающие без милости”. Благой Сыск. Из городских тюрем можно сбежать. По себе знаю. Из королевских крепостей – реже, но тоже бывает. Знаю по примеру родного деда. Из темниц Благого Сыска не сбегал никто и никогда. Лучше умереть. Здесь. Сейчас. Но как? В этом паршивом карцере даже повеситься невозможно. И посуда здесь, в которой баланду приносят, оловянная – вены не вскрыть. А убить себя, разбив голову об стену… такое, на практике, кажется, не удавалась никому, кроме персонажей Иосифа Ренегата. И то приходилось добивать ядом. В эту ночь я не спала. Что там говорили о сновидцах, способных пересекать границы между мирами? Если б я умела действовать так же, тогда бы стоило засыпать. Но я могу передвигаться куда-то лишь вместе со своим бренным телом. И, сколько бы не существовало миров подобий, скрыться в них не представлялось возможным. *** Допросы продолжались. Но конокрадов я больше не видела. Теперь Джордан де Ла Марш избрал новую тактику и допрашивал нас по отдельности. Должно быть, надеялся поймать на несообразностях в показаниях. Вот кому бы я врезала с удовольствием за несообразности в показаниях, так это дедуле Гоше. Но если его не было среди арестованных. Похоже, бодрый старичок, единственный из всей шайки Филибера успел скрыться. Да еще, наверное, прикопанные денежки смог уволочь раньше, чем на них наложили лапу судьи. А ведь если бы он верно обрисовал мне судью, я бы тоже сбежала, да еще может, деньги с Филибера стрясла бы. А впрочем, нечего пенять на Гоше. Сама виновата. Он вовремя назвал мне имя судьи, и надо было сразу убираться, а не строить домыслы. И нечего было полагаться на пресловутое “чувство опасности”. Оно промолчало тогда, молчало и сейчас, когда дела становились все хуже и хуже. Обмерло, должно быть, от страха. Сначала судья пытался добиться от меня показаний о конокрадах, и в особенности о Филибере. Достаточно ясно высказывался, что, если я так рьяно его защищаю, настаивая на том, что мне ничего не известно, значит, тесно с ним связана. Во всех смыслах. Я делала вид, будто не понимаю, о чем речь. Но потом оставил Филибера в покое, и сосредоточился на главном. Попытках доказать, что я – это я. Пресловутый шрам на ладони был известен ему, но отсутствовал в списке примет, и не мог служить доказательством. Поэтому ему нужно было еще получить мое признание. Сомневаюсь, что это было так уж необходимо для передачи дела в высшие инстанции, но для него почему– то это было важно – чтоб я призналась. И признала его. То, что я отказываюсь это сделать, выводило судью из себя. Но головы он не терял. Для его карьеры отнюдь не было полезно, чтоб охранники услышали лишнее. Поэтому, заявив, что “здесь дело особой секретности”, он выставил их за дверь. Не знаю, что они там себе вообразили. Действительность была очень проста. Он заводил беседы о прошлом, припоминая всякие истории из нашего общего детства, при которых я, по его разумению, должна была себя выдать. Это я выдержала. Сорвалась на другом. Но прежде сорвался он. После очередных моих заверений, что я понятия не имею, о чем он говорит, он сказал тихо, но четко. – Можешь притворяться сколько угодно, я все равно узнаю правду. Наведу справки через монастырь святой Маргариты. Тут терпение мое лопнуло, и я процедила сквозь зубы: – Наведи, наведи. Благой Сыск будет рад до смерти… Его аж перекосило. Из-за того, что его разоблачили? Или… Некоторое время мы оба молчали. Затем Джордан де Ла Марш вызвал стражу и произнес: – Похоже, донселла Петра, в самом деле имело место недоразумение. Но это не отменяет вашей вины за нарушение общественного порядка. Ваша судьба решится в ближайшее время. Приговор вам сообщат. Я проследовала в узилище в полном недоумении. И только в карцере до меня дошло. Джордан де Ла Марш вовсе не служил инквизиции. И вовсе не стремился меня погубить. Вероятно, он слышал, что я постриглась у святой Маргариты – тогда еще были живы его родители, они могли ему сообщить. Но ему не было известно, когда и при каких обстоятельствах я покинула обитель. Когда он приказал арестовать Петру Клятвенницу за пособничество конокрадам, он не подозревал, что это я, и узнал меня только при встрече. И все его дальнейшее поведение объяснялось обидой за то, что я упорно отказывалась признавать его в ответ. Ох, детство, детство, похоже, для него оно так и не кончилось. Или это у всех мужчин так? Лишь когда я упомянула Благой Сыск, он понял причину моих запирательств, и сообразил, как он меня подставил. Полагаю, стены этого карцера за долгие годы слышали много рыданий и проклятий. Теперь, разнообразия ради, им предстояло узнать, что такое смех. *** Джордан де Ла Марш не солгал. Приговоры он вынес в тот же вечер, когда мы расстались, и на другой день, когда нам их зачитали, его и след простыл. Пришлось коменданту тюрьмы отдуваться за все про все. Всем конокрадом предстояло потрудиться гребцами на галерах Мальтийского ордена. Филибер, в качестве главаря, получил семь лет, остальные – от четырех до шести. Все молодцы тут же принялись браниться и проклинать жестокость судьи, но с плохо скрываемой радостью. Для таких, как они, каторга всяко была лучше, чем костер или виселица, к тому же для многих это была не первая ходка. Так что подобный приговор для всей шайки был лучшим, на что они могли надеяться. Комендант прервал гвалт, грохнув кулаком по столу, ибо оставалось зачесть еще один приговор. Петра из Великой Моравии, сиречь Бойгема , именуемая также Клятвенницей, за нарушение общественного спокойствия (ну да, ну да… замечательная формулировка, объясняет все на свете… он бы еще неуплату налогов сюда вписал) и, поведение, не подобающее женской скромности, приговаривалась к бессрочному покаянию в обители святой Марии Египетской на Турмальской горе, куда ее и надлежало немедля препроводить. Я промолчала. В данной ситуации это было самое благоразумное, что я могла сделать. *** У города Тарбеллы шесть ворот, и пять из них, по общему мнению, являются лишними. По местным мерам это большой город, всяко больше Портума в его нынешнем жалком состоянии, но для тех, кто повидал Массилию, Толосу и Бурдигалы – просто деревня. А вот река Атурус, на которой стоит город, производит изрядное впечатление. Здесь, на равнине, она укрощает свой бег, широко разливается и становится вполне судоходной вплоть до Байонны и Васконского залива. Так что стремление Мальтийского ордена закрепиться в Тарбелле теперь не выглядело таким уж странным. Так же становилось понятным, откуда взялся подгулявший матрос, повстречавшийся мне за Бигорумом. Надеюсь, он очнулся. Впрочем, он и так был почти в бесчувствии от выпивки и жары, и дополнительный удар по голове вряд ли сильно ему повредил. Итак, я вошла в Тарбеллу через речные ворота, и охранники не обратили на меня внимания. Даже если мои расчеты были неверны, и я находилась в розыске. Матросская одежда не должна была особо удивить. Куртка и штаны из немавской ткани ( по всему побережью из такой шьют паруса) были достаточно бесформенны, чтоб подойти человеку любого роста и сложения. То же самое касалось и шапки. Хуже всего было с башмаками. Они были мне настолько не по ноге, что я рисковала остаться хромой. Пришлось их утопить. Похожу пока босиком. Вряд ли Тарбеллу успели полностью замостить, и я не сожгу ступни о раскаленные булыжники. А при удобном случае обзаведусь новой обувкой. Некоторое время я бродила по Тарбелле, прислушивалась к разговорам, посматривала по сторонам. Полюбовалась на площади на лошадей знакомой мне масти. Как раз в окрестностях Тарбеллы в основном и разводили лошадей васконской породы. Кроме лошадей, достопримечательностью города был собор святого Иоанна, весьма почтенный, хотя и не древний, выстроенный лет двести назад. А из совсем новых достопримечательностей – капитанство Мальтийского ордена. По идее, у них там должна быть собственная церковь, Но я сомневалась, что орденские кавалеры, да еще и на государственной службе, пренебрегут службой в соборе. И я не ошиблась. Разумеется, я не последовала за ними в собор. Должно быть какое-то уважение к святому месту… да и подозрительно выглядело бы, если б личность вроде меня во время мессы стала проталкиваться к судье. К тому же при нем были слуга и оруженосец. ( В Портумской тюрьме я их не видела, может, туда он их и не брал.) Я осталась на паперти, а когда месса приблизилась к концу, заглянула в боковой придел, остановила церковного служку и сказала: – Эй, малый! Подойди к господину судье, скажи – гонец к нему. Вот записка. – Бумажка, на которой нацарапано несколько слов, была у меня заготовлена заранее. Если кто перехватит – вряд ли поймет, Передав записку, я вернулась на паперть, уселась рядом с нищими, надвинула шапку на уши и продремала так, пока народ не стал расходиться от обедни. Потом, приоткрыв глаза, я увидела, как Джордан приближается ко мне. Он был один, свиту свою, надо думать, спровадил. Я встала. Он ничем не выдал, что удивлен моим появлением. Кивнул, как будто так и надо. – Стало быть, ты пришла, – таким было его приветствие. – Зачем? – Мы не слишком удачно простились, и я решила это исправить. – Мы вообще не прощались. – Вот именно. В Портуме мы так изощрялись, язвя друг друга и расставляя ловушки, что избавиться от этой новообретенной привычки было трудно. – Пошли отсюда, – сказал он. Наверное, слишком сильный контраст мы с ним представляли, да еще на фоне собора – он в своем орденском плаще, и я, босая, в выцветших и заплатанных обносках. – Я тебя компрометирую? – Нет. Ты удивишься, узнав, какие у нас бывают осведомители. – Ты еще сильнее удивишься, но меня это не удивит. Мы пошли прочь от собора. – Тебе деньги нужны? – осведомился Джордан. Не так уж он наивен, однако. Это нежданная встреча со мной заставила его впасть в детство, а так мыслит он вполне здраво. – Нет. Но если предложишь поесть – не откажусь. Харчевня, в которую мы направились, называлась “Приличное поведение”. Не знаю, как насчет соблюдения приличий в целом, но никто там на нас не таращился. Должно быть, агентура у ордена была самая разнообразная. Хорошо, если после этой встречи меня не угостят ножом под ребро. Но это уж мои заботы. Джордан заказал обед. После тюремной баланды (а в бегах приходилось перехватывать, что Бог пошлет) любая приличная еда должна показаться королевским пиршеством, но этот обед был неплох и сам по себе. Наверняка харчевник знал, кто таков мой спутник, и стремился ему угодить. А заодно повезло и мне. Наверное, у гипотетического читателя может возникнуть впечатление, что я люблю есть много. Уж слишком часто я поминаю про еду. На самом деле я люблю есть вкусно, а количество еды не имеет значения. Англандского каплуна, фаршированного маслинами, я отведала с удовольствием. Речная рыба (я-то больше привыкла к морской) тоже была недурна. Лепешки здесь выпекали с сыром и чесноком. И ко всему этому шло бурдигальское вино качеством получше того, что мне приходилось пить в последние месяцы, а бенарнское и так было не самым плохим. Было здесь и андегавское, но Джордан, к счастью, не стал его заказывать. Хотя это вино пользуется популярность по всей Нейстрии, и даже у самых высоких сословий, мне оно не особо по вкусу. – Я догадывался, что ты придешь, – заявил Джордан, когда мы покончили с едой. – Как только получил сообщение о твоей смерти. – Ты все подстроил, верно? Он не мог оправдать меня после того, как сам отдал приказ об аресте Петры Клятвенницы и старательно вел дело. Это выглядело бы слишком подозрительно. Дружба дружбой, а подставлять себя под донос никому не охота. Но у него был другой выход. Он кивнул. – Я выбрал монастырь Марии Египетской, потому что дорога туда проходит по берегу Атураса. Правда, берег там крутой и обрывистый, а течение в реке быстрое. – И водопады. – И водопады, да. “Осужденная сорвалась с обрыва и утонула. Не представляется возможным, чтоб она сумела выплыть”… ну, дальше про стремнины и водопады, а также о том, как широк и глубок Атурас. Никто ведь здесь не знает, что в отрочестве ты запросто переплывала Фосский залив, – Вовсе не запросто. – Даже если так. После короткой паузы он спросил: – Что ты теперь собираешься делать? – Наверное, и впрямь отправлюсь с паломниками в Италию. На сей раз я не лгала. Выход, примерещившийся мне перед арестом, казался таким простым, что впору было себя по голове бить – как это я раньше не додумалась? Италия поддерживает отношения со Сфарадом, Святой Престол ведет себя разумней тех, кто хочет быть святее папы. А что до того, что это дорога кружная… я, со своим стремлением попасть в Сфарад напрямик, задержалась в приграничье так долго, что давно успела бы добраться в обход. И незачем во всем винить Филибера. Мои лень и неспособность принимать решения тоже сыграли роковую роль. А вот зачем я собралась в Италию – это я сообщать Джордану не собиралась. Честность – лучшая политика, но правду нужно выдавать как лекарство. Дозированно. – И тебя не волнует судьба этого… Монтаньяка, или кого-то из его шайки? – С его бы? Ты все правильно рассудил. И вообще, их сгубила жадность. – Ты опять ведешь себя, как на допросе. – А ты – нет? Он усмехнулся. – Наверное, похоже на то. Но я стараюсь не задавать лишних вопросов. Откуда, например, у тебя эта одежда. И где ты собираешься разживаться деньгами, если отказываешься взять их у меня. Что бы он там не предполагал насчет денег, скорее всего он ошибался. Была важная причина, по которой я, выбравшись из воды, не подалась немедля прочь от Пиренских краев. Ценные бумаги, сбереженные мною, несмотря на все жизненные перипетии, все еще поджидали меня. В Кампумской долине один курат был зело умилен проповедью Петры Клятвенницы. И в награду за это она попросила разрешения помолиться у него в церкви. Там, за образом равноапостольной Хельги, просветительницы Руси, я и спрятала заемные письма. А теперь, спустившись вдоль течения Атураса, я проникла в церковь и достала эти векселя. Правда, обналичить их можно было только за пределами Нейстрии, так что проблемы оставались. И, поскольку от Кампумской долины не так далеко до Тарбеллы, я решила заодно завернуть и в город. И, вырвав чистую страницу из книги церковных записей, нацарапала записку, которую потом передала Джордану. Поскольку прошли времена, когда у меня всегда были при себе чернильница и перо, и неизвестно, когда вернутся. Словно ответ на мои мысли, он вынул сложенный листок, развернул. – LAPIS OFFENSIONIS ET PETRA SCANDALI. * У тебя по– прежнему безобразный почерк. ----------------------------------------------------------------* Камень преткновения и скала соблазна. ----------------------------------------------------------------– И сомнительные шутки. Он пропустил мимо ушей это замечание. – И все же – чего ты хочешь? Кроме паломничества в Италию. – Несмотря на безобразный почерк, написать книгу. – Скромные же у тебя устремления. Скромные? Многие верят, что Господь сотворил мир, когда создавал Книгу. Наш мир и все другие миры. Я всего лишь собиралась описать возможность их существования. Но быть тенью от тени божественного замысла – есть ли более высокая цель? Я промолчала, но, должно быть, молчание было красноречивей слов. – И все это (не знаю, что он имел в виду: мои скитания, ложь, притворство, тюрьму, угрозу смерти и заточения, побег, заграничное путешествие, или все вместе) – всего лишь из-за желания написать книгу? – Мне не впервой страдать из-за своих писаний… если ты знаешь о моих занятиях у святой Маргариты. – Я ничего не знал о твоих занятиях. – Ты ведь не возвращался в Провенцию с тех пор, как уехал? – Возвращался. А уехал… тебе тогда было лет шестнадцать, верно? – Да. – Родители всегда хотели, чтоб я сделал церковную карьеру. Потому и отправили в Сессион, в коллегию святого Иеронима, а не в Монтепеллумский университет. Но через два года я вернулся. Знаешь, почему? – Почему? – Я не мог забыть тебя. И решил – к чертям коллегию и духовный сан. Я попрошу твоей руки. Родителей я уговорю, а твоя опекунша вряд ли будет против. Но тебя не было. Дама Алазаис умерла за полгода до того, а ты ушла в монастырь. Я молчала. – Я был тогда в ярости… но с Господом не посоперничаешь. В коллегию я не вернулся. Сказал своим – если уж служить Богу, то с оружием в руках. И вступил в орден. Вот и все. Я молчала. Что я могла ему сказать? Что, если бы он не тянул так с отъездом из коллегии или хотя бы догадался написать мне, все сложилось бы по-иному? И чтоб он пожалел о том, что стал мальтийским рыцарем? Он решился на это сгоряча, из обиды, но его жизнь, судя по всему, сложилась вполне успешно. А теперь я скажу ему, что все это было зря? Я ведь не смогла пожелать ему зла, даже когда от этого зависела моя жизнь. – А теперь – слишком поздно…-– он произнес это так, что неясно было, спрашивает оно или утверждает. – Слишком поздно, – отозвалась я. – Мы прожили жизнь так, как хотели. И мы теперь совсем другие, чем тогда. На сей раз промолчал он. – Ладно, – я поднялась из-за стола. – Спасибо за обед. Будет лучше, если я пойду, а ты останешься. – Нет, я тебя провожу. Хотя бы немного. Ни черта он не смыслил в конспирации. Несмотря на работу с осведомителями. Пока мы обедали, наступил вечер. Жара спала, идти босиком было приятно. Даже по городским улицам. Тарбелла – не Сессион, где, говорят, грязи по колено во всякое время года. Я невольно ускорила шаг. – Куда ты так торопишься? – Иначе ворота закроют. Все шесть, будь они неладны. Мне не хотелось бы ночевать в городе. – Наверное, ты права. – Тогда нам пора расстаться. Надеюсь, теперь мы попрощались хорошо. – Еще нет. – Он взял мою левую руку, перевернул ладонью вверх, словно хотел убедиться, что шрам на месте, и поцеловал его. – Всегда я хотел это сделать. – Он снова усмехнулся, но усмешка вышла какая-то блеклая. – Должны же мечты сбываться? – Должны. Он, похоже, ждал от меня еще каких-то слов. Может, пожеланий… Но из того, что я желаю людям, сбывается только плохое, а этого я для него не хотела. А что до всего прочего… давать обещания только для того, чтоб у этой истории был счастливый финал? А я вот не хочу никаких финалов. – Прощай. Я повернулась и пошла прочь. Он меня не окликнул. Путь предстоял долгий, и я думала о том, что, возможно, все же стоит обзавестись лошадью. Местной породы. В самый раз для долгой дороги. И о том , засчитывается это бегство или нет – приговор смертным не был. И еще о том, как все же будет называться моя книга. “Трактат о мирах подобий”? “Размышление о множественности миров”? Или, может, “Молитва о странствующих и путешествующих”? Анна Райнова Перст указующий Он проснулся от холода. Картонная коробка, выполнявшая роль постели этой ночью, не защитила от утренней изморози. Тело бил озноб, глаза не желали открываться. Нестерпимо хотелось пить. Это единственное желание заставило его подняться. Вчера с двумя такими же, как он, выброшенными на обочину жизни бомжами они пили что-то мерзкое, с явным химическим привкусом. Но питьё согревало продрогшие тела, и этого было достаточно, чтобы считать его достойным напитком. Ещё не проснувшаяся рыночная площадь закачалась перед глазами. Он ухватился за стену. Ноги всё чаще начали подводить… Возраст всё-таки. 45 или 46? Какая теперь разница? Так, по стеночке он и добрел до бесплатного туалета. Из не закрывающегося крана текла спасительная струйка ржавой воды. Он утолил жажду, справил нужду в грязной кабинке и умылся. Серая муть в его глазах немного прояснилась. Выходя, он увидел, как в центре рыночной площади обозначилась старинная готическая башня. Он мог поклясться, что раньше башни на этом месте не было. Конечно, память давно утратила ясность, но забыть такого он не мог, ведь обретался здесь ночами уже не первый год. Он нервно потёр глаза, но мираж не исчез. Более того, теперь он начал различать детали. Замшелую крышу, из-под которой, сползая по округлой стене, свисали голые ветви какого-то растения. Кованую дверь, а над ней белую простыню, на которой крупными печатными буквами было написано: «Перст указующий. Играй с нами. Бесплатно для всех желающих». Играй с нами и бесплатно для всех…эти словосочетания растревожили его опустевший мозг. Ведь когда-то он играл, и как играл! Вот это был азарт и единственное лекарство от страха, мучившего долгие годы после авиакатастрофы, в которой он умудрился выжить, получив ужасные ожоги. Он родился в рубашке – так потом, после выписки из клиники ему говорили многие. На теле остались уродливые рубцы, но главное – он был живой. Вот только внутри него самого после этого случая что-то необратимо сломалось. По ночам его мучили кошмары, и он сотни раз переживал аварию. А днём любой резкий и непривычный звук вызывал в его теле нелепую дрожь. Тогда он начал играть, сутками не покидая приветливых стен казино. Всего за два года из удачливого бизнесмена он переродился в нищего оборванца. В казино его больше не пускали. И не только в казино. Он подошёл к двери. Та, поскрипывая несмазанными петлями, отворилась от лёгкого толчка. Немного помялся у входа – ведь фейсконтроль, наверное. Выбросят прочь, как бродячую собаку. Однако внутри было пусто, и он, зажмурившись, шагнул вперёд, а когда решился открыть глаза, его взору представилась только уходящая ввысь винтовая лестница. Свет проникал внутрь помещения через маленькие стрельчатые окна, похожие на бойницы. Под ногами обнаружился ещё один плакат: «Начни игру, поднимись на самый верх!» Там же была нарисована человеческая рука с вытянутым указательным пальцем. Палец показывал на лестницу, и наш герой медленно, держась за перила и ежеминутно спотыкаясь, начал подниматься. Несколько раз он останавливался, чтобы перевести дух. Башня, не казавшаяся снаружи слишком высокой, изнутри виделась бесконечной, а винтовая лестница, оборот за оборотом, свиваясь в тугую спираль, не желала заканчиваться. Он начал подумывать о возвращении, однако любопытство всё же пересилило, и он из последних сил продолжил подъём пока, наконец, не упёрся в ещё одну, позеленевшую от времени дверь. Он отдышался, а затем надавил на железную ручку. Дверь открылась, и он оказался в небольшом, тускло освещённом помещении. Дверь за его спиной затворилась сама собой с гулким металлическим лязгом. И тут же комната осветилась цветными огнями. Он увидел высокое кресло, плоский, во всю стену, экран и нечто похожее на пульт управления. Бесконечный подъём совсем утомил его, и он поспешил сесть в спасительное кресло. В воздухе запахло озоном, что-то щёлкнуло, и тёмный экран ожил. - Не двигайтесь, сканируем, - предупредил его принадлежавший автомату голос. Тело обдало теплой волной красного света. На экране появились надписи: «Начать игру» и «Правила игры». Руки сами легли на пульт, и он, на удивление быстро разобравшись с кнопками и ручкой, похожей на джойстик, углубился в чтение правил. Всегда следуй указаниям перста, и попадешь на высший уровень. Одна ошибка – лишний виток инвертной реальности. Более одной ошибки – возврат к существующей инвертной реальности. Одна осознанная ошибка – на усмотрение перста. Более одной осознанной ошибки - конец игры. Кроме того, что нужно следовать указаниям перста, он ничего не уяснил. Но азарт старого игрока охватил его сознание, и он поспешил перейти к началу игры. На экране появился перст указующий, та же человеческая рука, что и на плакате перед лестницей. Перст погрозил ему вытянутым пальцем и махнул вглубь экрана, приглашая следовать за ним. Повинуясь, человек подвинул джойстик вперёд. Экран немедленно разделился на две одинаковых объёмных картинки, изображавших, словно в навигаторе GPS, его родной город. По картинкам двигалась объёмная фигурка мальчика лет семи. Путь мальчишки по карте города отображался в правом экране зелёной пунктирной линией, а в левом – красной. Ещё в правом экране перед мальчиком, повелительно указывая направление движения, плавно двигался перст указующий. Приглядевшись, наш герой узнал в мальчишке себя. Окружавшая его реальность тоже будто бы разделилась. С одной стороны, он заново проживал собственную жизнь, а с другой, отчётливо видел всё, что происходило на обоих экранах. Немного погодя он понял, что левый экран показывал уже прожитую им жизнь. А правый, с перстом, то указывал ему, куда идти, то отвешивал увесистую затрещину, если он собирался вытворить какую-нибудь нелепость, изменяя уже пройденный некогда путь на новую, улучшенную реальность. Прошли годы, мальчик стал юношей, а изображения на экранах теперь разительно отличались друг от друга. На левом экране за его спиной красными флажками обозначились совершённые им ошибки, а на правом ошибок не было, ведь он во всём и всегда следовал указаниям перста. Так он добрался до поступления в институт. Родители видели в нём будущего математика, светило мировой науки. Родителям свойственно преувеличивать задатки своего любимого чада. Сам же он, хоть и обладал математическим складом мышления, был наделён ещё и рисковой чертовщинкой денежного воротилы. Ещё учась в школе, он всегда умудрялся что-нибудь перепродать с немалой для себя выгодой, и в карманах его варёных джинсов деньги, жвачки и импортные сигареты никогда не переводились, что являлось предметом зависти мальчишек-одноклассников, а девчонки тихо вздыхали, надеясь получить от него одобрительный взгляд или записку. Все, кроме одной, тихой и скромной отличницы Сашеньки. Она, умница и прилежная ученица, не обращала на него ни малейшего внимания. А он, во всех остальных отношениях довольно бойкий парень, без смущения не мог поднять взгляд на её тонкое, с чуть вздёрнутым носиком лицо. Выпускной вечер. На левом экране он танцевал с другими девчонками, а пригласить на танец Сашеньку так и не решился. На правом вездесущий перст с такой силой толкнул его в спину, что он оказался прямо перед девушкой. Она смутилась, и он, превозмогая нервную дрожь, предложил ей руку. Сашенька улыбнулась, шагнула к нему, и они закружились в медленном танце. Вот это были ощущения! Они говорили и говорили то об экзаменах, то о том, куда пойдут учиться дальше. Обнимая её хрупкую фигурку, он ловил себя на мысли, что совсем не желает, чтобы танец когда-нибудь закончился. Они танцевали и мило беседовали весь оставшийся вечер, а потом он проводил Сашеньку до дома. Расставаясь, она пригласила его к себе. Завтра, на чай с пирогом. По дороге к девушке перст зачем-то заставил его купить два букета цветов… «Ну да, один для мамы», - понял он. На левом экране он безропотно последовал желанию родителей и поступил на физмат, а на правом перст усадил его в автобус, спешивший в другой конец города, и заставил выйти перед зданием экономического факультета, куда он и подал документы, а затем блестяще сдал вступительные экзамены. По своей настоящей жизни он помнил, как ему не хватало знаний, когда, отмучившись пять лет на физмате, он, наконец, организовал своё дело. Учиться приходилось на ходу, теряя деньги и совершая множество ошибок. Теперь же перст указующий не позволял ему ошибаться. Он женился на Сашеньке. Построил загородный дом по своему вкусу. У них родились близнецы – мальчик и девочка. А на левой стороне, после множества разнообразных и неразборчивых связей, он совсем разочаровался в женщинах и стал использовать их для ублажения физических потребностей, благо проблем со средствами у него не возникало. Он щедро одаривал всех своих любовниц только для того, чтобы они впоследствии не путались под ногами. Постепенно, проживая и наблюдая со стороны обе свои жизни, он начал понимать, что делать нужно именно то, о чём иной раз запрещаешь себе даже мечтать, и ставить себе цели, достижение которых на первый взгляд кажется наиболее тяжелым и невыполнимым. Именно в эту нелёгкую сторону раз за разом показывал перст, и он безропотно следовал указаниям. Нам, грешным, всегда хочется лёгкого счастья, лёгких денег и ещё всего и много… Полегкому. Однако лёгкая жизнь на левом экране отчего-то становилась всё тяжелее и неприятнее, а тяжелая, в вечных трудах и заботах, жизнь на правом экране, напротив, наполнялась смыслом и радостью. Часы, неумолимо тикая, приближали тот страшный день, когда произошла авиакатастрофа. Он должен был обязательно вылететь, иначе могла сорваться очень крупная сделка. По дороге в аэропорт стояла многокилометровая пробка. Видимо где-то произошла серьёзная авария. До вылета оставалось полчаса, и он приказал своему водителю ехать по обочине. Перст был тут как тут. Он выразительно покрутил указательным пальцем у его виска, залепил ему увесистую затрещину, и человек вдруг понял, почему выжил в катастрофе. Его фамилии не должно было быть в списках пассажиров того злополучного рейса! Спеша заключить казавшуюся такой выгодной сделку, он даже не подумал, зачем на его пути к самолёту возникло столь серьёзное препятствие, и, сломя голову, полез на рожон. Что ж, получи оплеуху. И на правом экране на самолёт опоздал. Сделка сорвалась. Она сорвалась бы в любом случае, но не было полугодичного пребывания на больничной койке. Не было игры и казино и картонной коробки на рыночной площади вместо шикарной постели. *** Сегодня Сашеньке исполняется сорок, их дети учатся за границей. Он выходит из своего семисотого, с юношеским трепетом сжимая в руках великолепный букет из редких коралловых роз. Перст указующий торжественно плывёт рядом с ним. Сашенька, всё ещё хрупкая и красивая, встречает его у порога. А на левом экране заросший и неопрятный бомж удивлённо разглядывает готическую башню. При виде бомжа ему отчего-то становится стыдно за своё благополучие. Он бросает букет на дорогу, и Сашенька застывает в немом изумлении. Перст остервенело хлещет его по щекам, но он, невзирая на удары, направляется в другую сторону. Ведь бомж на левом экране – это и есть он! Он настоящий, а не этот расфуфыренный и напомаженный слишком богатый и слишком удачливый совсем другой человек. Раздаётся страшный треск, картинки гаснут, вместо них на потемневшем экране появляется зелёная надпись: «Осознанная ошибка, инвертная реальность на усмотрение перста». *** Он чувствует, как его тело сплющивается до размеров точки. Комната кружится перед глазами. Его окружает непроницаемая тьма… Слышится мерный плеск воды. Он открывает глаза и обнаруживает себя в простой рыбацкой лодке. Улов сегодня неплохой. Он пристаёт к берегу и ставит лодку на прикол. Развешивает мокрую сеть. Потом на стареньком мотоцикле отвозит в город свежую рыбу. Знакомый торговец на городском рынке платит ему сегодня немного больше обычного, и он, помимо ежедневных расходов, покупает себе ещё новую тетрадь и стержни для исписавшейся ручки. Ведь долгими вечерами иногда в тетради, а иногда на клочках попавшейся под руку бумаги, одинокий рыбак пишет удивительные рассказы о жизни... Когда он умер, на экране наконец-то зажглась новая надпись: «Конец игры». А в его пожелтевшей тетрадке среди прочих был найден и этот рассказ. Виталий Максименко Обходной маневр Миролад открыл глаза и увидел снег. Пред ним расстилалось белое-белое поле, бескрайнее, как одиночество. Сверху лился тусклый рассеянный свет. Было очень тихо. Ни звука, ни ветерка. Он тупо смотрел вперёд и ничего не знал – ни где он находится, ни как его зовут. Потом на снегу проступили какие-то знаки – чёрточки, палочки, поле стало удаляться, уходя вниз. Чёрточки, уменьшаясь в размерах, виделись все ясней и неожиданно сложились в слово «NIKULY», нацарапанное на стенке прямо перед его носом. Но за мгновение до этого он успел подглядеть чёрную полоску леса и кружащих в белёсом небе птиц. Хотя, наверное, ему показалось. Память светлой змейкой скользнула в левое ухо – правое было прижато к тощей подушке, одетой в серую наволочку с фиолетовым штампом. Он вспомнил, что он студент, историк, четвертый курс педагогического института. И ещё он вспомнил, что у него нет девушки. Да и не было никогда. «Что это всё-таки за “nikuly”?» – в который раз подумал Миролад, разглядывая голую стену, неубедительно выкрашенную белой краской. Зато надпись на ней была процарапана на совесть, глубоко. Неровные, крупные буквы шли, закручиваясь ракушкой. «Если та закорючка сбоку – буква “a”, то можно прочитать как “anikuly”. Каникулы? Только почему-то без “k”. И вообще, если это латынь, то не так пишется. Грамотеи». Ему казалось, что в этих буквах должен быть какой-то особый, скрытый смысл, и ещё, что он где-то видел эту спиральную надпись раньше. Но где он мог её видеть? И когда? Вдруг, он почувствовал внезапный приступ головокружения. Всё вокруг куда-то поплыло, и только слово оставалось неподвижным. Оно словно магнитом приковывало его взгляд. Было в этих буквах что-то… что-то жуткое? Прекрасное? Неотвратимое? Миролад крепко-накрепко зажмурился, так что перед глазами появились разноцветные облачка, глубоко вдохнул и задержал, насколько мог, дыхание. Выдохнув, открыл глаза. Голова кружилась, но наваждение прошло. Затем он сел, почувствовав подошвами холодную материальность пола. Нашарил тапочки и сунул в них ноги. Зевнул, бессмысленно таращась на старый письменный стол, стоявший напротив. Справа на столе мирно дремал монитор, всё остальное пространство было завалено раскрытыми тетрадями, книгами, листами с какими-то странными схемами и закорючками. Да, вчера он потрудился на славу. Курсовая в общих чертах была готова. Полуторамесячный труд, посвящённый героической борьбе славных предков с Римом, подходил к концу. Ему, правда, так и осталось непонятным, откуда летичи узнали о переправе четвертого легиона на их сторону Данувиоса. Ведь римляне и представить не могли, что на берегу их встретят две сотни лучников, и что салебская конница столкнет оставшихся в живых обратно в ревущие водовороты и стремнины Отца рек. В то же самое время дружины летичей проявили отчаянную храбрость, пройдя по отрогам Хаарта ниже Сингиндинума и неожиданно зайдя в неприятельский лагерь с тыла. Этот манёвр привёл к полному разгрому римских сил в северных Балканах и потере ими Сингиндинума – своего главного опорного пункта на нижнем Дунае. Пошли бы предки славян немного северней, или, наоборот, по южной стороне Хаартских отрогов и наткнулись бы на сторожевые отряды врага. Завязался бы бой, легионы Семптимуса Солия и Клавдия Экта поднялись бы через пару часов и всё – туши свет – основные силы сопротивления были бы уничтожены. Размышляя об этом, Миролад умылся, почистил зубы и выпил стакан жёлтого вчерашнего чая. Сегодня четверг, а значит, в институт идти не надо. Четверг – день самоподготовки. Сегодня он снова поедет к своей любимой преподавательнице – Марице Аничковой. Труды почти двухвековой давности, которые хранились у неё, должны были пролить свет на события, произошедшие около двух тысяч лет назад в долине Дуная. На мгновение он замер с недонесенным до рта зачерствевшим рогаликом, подумав о пани Аничковой. Так, на польский манер её почему-то называли студенты исторического факультета последние тридцать лет. Несчастная, нелепая, смешная Марица. В круглых старомодных очках на картофелине носа, с густой шапкой седых кудрей и чудовищными дынями грудей под коричневой кофтой. Старая дева. По крайней мере, так говорили лаборантки. А они знали если не всё, то многое. Например, ещё то, что Аничкова – ведьма, и на ведьминский манер подрисовывает соскам ресницы. Таким образом, они превращаются в огромные глаза, глядящие в разные стороны – один в настоящее, а другой в прошлое. Откуда лаборанткам это было известно, никто не знал. Может, и так, может, и подрисовывала. Кто этих старых дев и ведьм знает, что им в голову взбредёт. Но вот столько мягкого юмора, столько увлечённости предметом и доброты не было ни у какого другого преподавателя. И уж в этом ни у кого, кто хоть немного знал её, сомнений не было. А к нему, к Мироладу отношение и вовсе было особенным – он это чувствовал. Он с третьего семестра писал у Аничковой курсовые и мог приехать к ней домой запросто, так, словно она была его доброй тётушкой. Она окружила его совершенно материнской заботой: кормила, стирала его вещи, безапелляционно и нелепо советовала, как вести себя с девушками. Всю любовь, которую скопила, она теперь щедро изливала на Миролада, почти не помнившего матери. Родители его погибли в автокатастрофе, когда он был малышом, а вырастил его дядька. Натянув мятые, застиранные джинсы и надев куцую зелёную курточку, он захлопнул за собой дверь. Остановился в сумраке секции и принюхался. В четыреста третьей делали гашиш. Преодолев несколько пролётов лестницы с выщербленными ступенями и матерными надписями на страшноватых стенах, он оказался на свежем воздухе. Обезумевшее мартовское солнце, плеснув в глаза нестерпимо жёлтым, заставило зажмуриться. С минуту он простоял на пороге общежития, привыкая к утреннему свету. Воздух был нереально прозрачным, небо запредельно синим, и всё было бы просто великолепно, если бы не злой северный ветер, простреливающий все улицы и скверы по эту сторону Дуная. Ссутулившись и сунув руки в карманы, Миролад побрёл на трамвайную остановку. *** Небольшой конный отряд медленно двигался по унылой, окрашенной в рыжеватопегие тона равнине. Понурые лошади с трудом вытаскивали копыта из стылой жижи, в которую превратилась земля Ставитской долины после недельных дождей и наступивших затем холодов. Изрядно закоченевшие всадники в меховых куртках и высоких кожаных шапках покрикивали на своих лошадей, стараясь заставить их хоть немного прибавить шагу. Начальник отряда Зоран Остроглаз – младший сын вождя летичей Харуга Изворотливого – ехал чуть впереди. Он сжимал коленями бока своего вороного Роска и думал, что скажет отец, когда узнает новости, которые они везут. «Мы его совсем не обрадуем. Хотя, лично я, вообще никогда его не радую. Чтобы я ни сделал, он всё равно мной недоволен. Отец не может простить того, что я учился у жрецов, что изучил римскую грамоту. Он всегда считал это недостойным делом для воина. Но больше всего его бесит, что я полюбил дочь нашего шамана». Невесело усмехнувшись, Зоран приподнялся и огляделся по сторонам. Далеко на севере виднелась кромка Воулакского леса. О его непроходимых чащобах и о страшных чудовищах, обитающих в них, каждый, кто здесь жил, был наслышан с раннего детства. В белёсом, словно выцветшем небе над полосой леса кружили вороны. «Ещё одно дурное знамение», – подумал Зоран. На юге и юго-востоке, куда держал путь их отряд, поднимались каменистые выступы – отроги Хиарта. Сами горы не были видны по причине ненастной погоды. Он опустился в седло, поднёс мёрзнущие руки ко рту, подышал на них, несколько раз согнул и разогнул непослушные пальцы. Изо рта его вырывались клубы пара. «Зима в гости напросилась, да хозяев выгнала, – подумал он, – а мы так и не знаем, что предпримут римляне. И предпримут ли вообще что-нибудь. Ведь если выпадет большой снег, как предсказывает старик Крой, то они вряд ли начнут наступление. Но с другой стороны ждать целую зиму им не резон. Вот и получается, что легионы Империи или ударят в самое ближайшее время или не ударят пока не придет весна». А ещё он подумал о том, что весной собирался просить у Кроя благословления на свадьбу с его дочерью. С шаловливой зелёноглазой колдуньей, гибкой, как молодая лоза и сладкой, как спелый виноград. С его любимой, несравненной… – О чём задумался наш мудрейший вождь? Никак о том, чтобы спалить проклятый Сингиндинум и погреться на его пепелище? – мысли Зорана прервал подъехавший к нему всадник. Он был высок и чрезвычайно худ, по причине чего звался Жилко Долговязый. Молодой военачальник почувствовал в вопросе лёгкое ехидство. – Эх, Жилко, только тебе такие мудрые мысли в голову могут придти. Потому что она у тебя выше, чем у других сидит. А я думаю о том, что успеть нам надо к Ставитской заставе на ночлег, пока не стемнело, и не околели мы совсем. – И то, правда. Едешь – ни рук, ни ног не чуешь. Давно не было такой холодной зимы в наших краях. – А будет ещё холоднее. Да вот сам посмотри – снег ведь пошел. Снег! Люди! Смотрите, снег! Суровые бородатые мужчины задирали головы вверх, к свинцовому небу и заворожено глядели, как летят, как кружат белые перья, как ложатся и тают в грязи под ногами лошадей. *** Наконец-то этот день наступил. Силы Неба, сколько я ждала! Сколько лет прошло. Страшных, безнадёжно пустых лет. И вот День пришёл. И мой ненаглядный скоро явится ко мне. Когда я впервые его увидела, то окончательно убедилась, что я не сумасшедшая. Что все видения, всплывавшие по ночам, не плод больного воображения. Когда мои глаза встретились с его чёрными безднами, я сразу вспомнила, кто он и как его зовут. И ещё много чего другого… Я заглянула в монографию Бродавича и нашла его там. Это так удивительно. Но какая жестокая издёвка судьбы! И даже хорошо, что его память спит. Ведь, иначе я не посмела бы попасться ему на глаза. Он ничего не помнит, ничего не понимает. Но сегодня всё решится. Сегодня пелена спадёт. Он уже узнал то, что нам нужно. Теперь главное, чтобы он не потерял это знание, когда будет возвращаться. Я ему помогу. Я подскажу ему дорогу. И мы отправимся обратно. Домой. На этот раз мы пойдем вместе, взявшись за руки. И также рука в руке мы проснёмся, чтобы больше не разлучаться. Однако я должна приготовиться к его приходу. Надо всё сделать правильно, надо всё успеть. Я сама до сих пор не помню многого. А о чём-то мне приходится только догадываться, дорисовывать в воображении. Но травы… травы – это верно от отца. Он передал мне это знание целиком. И ещё в детстве – (в этом детстве), когда мы уезжали с родителями (с этими родителями) в деревню, всех поражал мой интерес к мяте и чистотелу, зверобою и тысячелистнику. И к сотням других трав и кустарников. Я их собирала, сушила, делала настои. Смешивала в разных пропорциях, добавляла пепел птичьих перьев и толченые лягушачьи кости. Словно искала какой-то особый рецепт. Теперь я его знаю. Я вспомнила его до мельчайших подробностей, точно так же, как ту ракушку с надписью. Как далеко осталась ночь, когда моя истинная память приоткрылась впервые, и я, ошеломлённая увиденным, выцарапала на стене в общежитии… Но хватит воспоминаний! Скоро придет мой желанный, надо поставить завариваться корень мандрагора и ещё найти позапрошлогоднюю полынь. *** В походном шатре Верховного вождя было сильно натоплено, дым от очага, сложенного в центре помещения, поднимался к потолку, и частью вытягивался в небольшое отверстие, а частью растекался поверху, медленно спускаясь к устланному шкурами полу. Харуг Изворотливый, про которого говорили, что он мог бы выкрутиться даже из собственной кожи, хмурил кустистые брови и ожесточенно теребил седую жидкую бородку. «Похоже, на этот раз никакая хитрость нам не поможет», – думал он. Худое, жёсткое лицо его совершенно осунулось за последние дни и стало похоже на страшную маску со стен шатра Кроя Говорителя. Тот сидел здесь же и грел маленькие морщинистые ручки над углями очага. Он всегда мёрз, вот и теперь зябко ёжился, хотя всем остальным присутствующим было жарко. Правитель, поджав тонкие губы, задумчиво посмотрел на своего младшего сына, принёсшего безрадостные вести. Зоран привёл свой отряд в лагерь только под утро и уже рассказал о новом большом движении неприятельских войск на берегу Данувиоса в двух дневных переходах выше Старого Капища. А вчера Хварень Одноглазый доложил о сторожевых отрядах римлян, рыскающих к востоку от Сингиндинума. «Судя по всему, Луна не успеет и на четверть измениться, как враг придет сюда и принесёт народу летичей избавление от мук вольной жизни… Если бы узнать наверняка, когда и где римляне начнут наступление», – но этого Харуг никак не мог знать. Он обвёл взглядом своих военачальников и будничным тоном спросил: – Ну, что же, соратники мои, говорите, что делать будем. Как защитить нам наши дома, наших детей и предков? Прославленные воины, покрытые шрамами, бесстрашные и могучие, смотрели перед собой, покачивали головами и молчали. – Примем смерть, отец, все до одного, но не покоримся нечестивому Риму! – наконец подал голос старший сын Харуга, Калев Беспощадный. – Эти псы дорого заплатят за наши земли, – вторил ему младший брат. Верховный вождь скользнул взглядом по побелевшим лицам сыновей и обратился к дородному седовласому мужчине, сидевшему по левую руку от него: – А ты что посоветуешь, друг мой Варин? Видишь ли ты спасение для нас? Мужчина насупился и отрицательно покачал головой. – Мы не сможем их удержать. Разве только снег остановит их. – Снега пока не так много, как предсказывал Крой, говорящий с предками. – Харуг мрачно глянул в сторону шамана. Шаман покачал головой и убрал руки от очага, но ничего ответить не решился. Харуг продолжил: – Снега мало и он только подстегнет римлян. Не думаю, что они захотят ждать целую зиму, если могут покончить с нами прямо сейчас. – Вождь покачал головой, – мы бы смогли защититься, если бы знали, когда они будут переправляться через реку. А так же если бы мы смогли пробраться к их лагерям незамеченными… Но это знают только боги. А мы всего лишь люди. Крой вновь шевельнулся, бросил на вождя быстрый взгляд не по-стариковски острых глаз, кашлянул и пробормотал скороговоркой: – Есть способ узнать то, что знают боги. Надо отправить дух в плавание по жизни, которой ещё нет и там найти ответ на свой вопрос. Там будет подсказка, как нужно поступать, чтобы не ошибиться… Мне рассказывал об этом мой дед, но он сам не делал так, а делал так его прадед. Но это опасно, надо преодолеть Реку Забвения и родиться в новом теле в другой жизни. Дух вопрошающего легко может заблудиться и не вернуться обратно в тело. Так говорил мой дед. Харуг сверкнул глазами. – Почему же ты раньше не говорил об этом? Мы отправим души воинов, и они разведают планы римлян. – Говорю тебе, Харуг Изворотливый, что этого давно никто не делал. У меня есть смесь, которая отправит дух за ответом, но её хватит только на двоих. Эта смесь очень сложна, и новой я уже не изготовлю. Я знаю только то, что сказал мне дед. И не могу быть уверенным, что знаю достаточно для такого дела. И ещё, – шаман помедлил, – тот, кто отправляется за ответом, должен быть здоров и крепок не только духом, но и разумом. Простой воин в другой жизни ничего не поймет, а то и вовсе потеряет рассудок. – Но кто же сможет совершить это? – воскликнул Харуг, – кто не устрашится неведомых опасностей и отправится в… в это место? – Я, отец. Зоран поднялся и, расправив плечи, посмотрел чёрными, как вода в Реке Забвения, глазами прямо в глаза Верховному вождю. Харуг первый отвёл взгляд. – Я рад, что мой сын проявляет такую самоотверженность. А что скажешь ты, шаман? – Он молод, смел и умён. Разум его прошел испытания в школе жрецов. Он подойдет лучше других. Но предупреждаю, на пути к будущей жизни можно лишиться и разума и той жизни, что есть сейчас. Зоран ударил себя в грудь. – Я не боюсь, я готов послужить своему народу! Правитель будто не слышал слов сына. Он молча смотрел себе под ноги и дергал седой ус. Но молчание его длилось недолго. Харуг вновь обратился к Крою: – Ну, что ж, так тому и быть. Когда ты можешь его отправить? – Хоть сейчас, – проскрипел старик. – Не будем медлить и пойдём к тебе, шаман, – подвёл итог правитель летичей, так и не посмотрев больше на сына. Выйдя наружу, они направились к жилищу Кроя, свежий снег похрустывал под ногами. Шатёр шамана невозможно было спутать с каким-либо другим. У входа стояли шесты с насаженными на них медвежьими черепами. По периметру, на уровне человеческого роста на шкуры шатра были навешаны уродливые маски, призванные отгонять злых духов. Подходя к шаманскому обиталищу, Харуг по привычке скривился в презрительной усмешке и сплюнул. Крой сделал вид, что ничего не заметил. Старики первыми зашли внутрь, а Зоран лишь заглянул в душный сумрак и повертел головой, стараясь хоть чтонибудь разглядеть. Увидев, то, что хотел, он шагнул назад с бессмысленной и счастливой улыбкой на губах. Сделал несколько шагов, обходя шатер, и остановился. По прошествии небольшого промежутка времени шею его обвили нежные руки, а его руки сжали гибкий, тонкий стан. Губы нашли друг друга в долгом поцелуе. Длинные спутанные кудри воина сплелись с такими же чёрными, как у него, но гладкими и блестящими женскими волосами. Когда они отстранились друг от друга, девушка посмотрела на него с радостью и тревогой. – Милый, что случилось? Я думала, что, скорее Отец рек погонит свои воды вспять, чем твой отец придёт к моему. Неужели… Он не дал ей высказать неверную догадку о том, о чём они уже давно мечтали. – Нет, жизнь моя. Сейчас не до этого. Может начаться война, а Крой предлагает свою помощь. – Но какую? – радость во взгляде девушки изрядно уступила тревоге. – Он отправит мой дух далеко-далеко. Туда, где живут внуки наших внуков. И я узнаю там, как нам разбить римлян. В её слегка удлиненных, изумрудных глазах появились слёзы. – Они решили послать тебя туда, где всё еще только будет? Отец рассказывал мне об этом… Но ведь это очень страшно. Не все возвращались обратно, а если даже и возвращались, то навсегда становились другими… Я боюсь, вдруг ты перестанешь меня любить? Зоран улыбнулся и отрицательно покачал головой. За их спинами послышалось кряхтенье. – Идем, Зоран Остроглаз, всё уже готово. Когда он вошел внутрь шатра, шаман указал ему место на лежанке у стены. – Сними с себя всё, кроме рубахи, присаживайся и слушай. Он разделся и опустился на лежак. – Ты должен сейчас делать только одно – думать о том, где находятся римские войска, когда они выступят, и что мы должны делать, чтобы победить. Ты понял? Он утвердительно кивнул. – Ты должен думать об этом непрерывно, неотступно. И тогда твой дух сам найдет время и место, где можно будет это узнать. – Я буду, как дух? То есть у меня не будет ни рук, ни ног? – Всё будет не так, как ты можешь себе представить. Ты родишься в другой жизни. И какая это будет жизнь, короткая или длинная, лёгкая или тяжёлая, я не знаю. Ты забудешь о том, кто ты есть на самом деле, но постепенно, с годами, память должна будет вернуться. По крайней мере, так говорил мой дед. Главное, что жизнь твоя сама приведёт тебя к ответам на наши вопросы. Не знаю, как, мне это неведомо. Но ты получишь знания. – Хорошо. А как я вернусь? – Ты должен будешь умереть там. Зоран ошеломлённо глядел на старика. Он не мог представить, как можно стать другим, прожить целую жизнь и опять вернуться в свое тело. – Лучше, конечно, если бы ты умер, выпив специальный возвращающий состав, – подумав, продолжил старик, – древние шаманы именно так и возвращались из неведомого в своё тело. Но и обычная смерть должна вернуть тебя назад. Итак, ты готов? – Готов. Но где мой отец? – Я здесь, сын. – У стены справа качнулся тёмный силуэт. – Я буду рядом. – Пей! И думай о римлянах. – Крой поднёс ему небольшой глиняный кубок. Он выпил его залпом. Маслянистая жидкость обожгла рот, сразу стало тепло, даже жарко. Он поудобнее улегся на шкурах. Шаман отошёл к центру помещения и, отстукивая ритм деревянными колотушками начал петь без слов, то подражая завыванию ветра, то клёкоту хищных птиц… В голове у Зорана шумело, мысли путались, но он старательно возвращался к римским солдатам, рубящим деревья на правом берегу Данувиоса. Затем пение стихло. Краем глаза он заметил движение у входа в шатер, услышал какую-то тихую, но яростную перепалку. И вот, тёмные, словно ночь волосы упали на его лицо, мягкие губы коснулись щеки, и что-то горячее капнуло на шею. – Помнишь, ты подарил мне это, когда вернулся из школы жрецов Неба? В ладонь его скользнул какой-то небольшой округлый предмет. – Ты написал на ней моё имя. Он ощупал пальцами поверхность окаменевшей ракушки, читая вырезанные на панцире буквы. Буквы сложились в слово – «NIKULYA». Через мгновение он оказался в полной тишине и кромешной тьме, и только мысль о римских солдатах на берегу реки все крутилась и крутилась, сворачиваясь в спираль… *** Миролад покачивался, держась за поручень, и делал вид, что разглядывает проплывающие в трамвайном окне новостройки. На самом деле он пытался поймать в стекле ускользающее отражение миловидной девушки, сидевшей почти напротив него. Отражение было плохое, слабое. Вот вечером, в чёрном стекле всё хорошо отражается и можно играть, будто вы смотрите в окно, а на самом деле глядите друг на друга. Миролад уже давно понял, что многие девчонки только притворяются, что равнодушно смотрят в сторону, а сами глазеют на него, так же, как и он на них. Но эта девушка, судя по всему, не хотела ни смотреть на его отражение, ни отражаться в окне сама. Красивая. Длинные чёрные волосы изящно уложены и заколоты небольшой серебристой заколкой. Глаза изпод фантастических ресниц вспыхивают зелёными искорками, тонкие пальцы с алыми капельками ногтей сплетены на затянутом в тёмно-синюю джинсу колене. Очень красивая. Ему всегда становилось не по себе, когда он видел таких. Он не знал почему, но какая-то тревога поднималась из глубины души, заставляла его обливаться холодным потом и мелко дрожать при мысли, что с таким совершенством можно запросто заговорить, познакомиться, обняться. Он никогда не мог на это решиться. «Да и что такие девушки могут во мне найти? Бледное, прыщавое лицо типичного ботаника, хилое телосложение, тихая, косноязычная речь…» – с горечью думал Миролад, а девушка, тем временем поднялась и пошла к выходу. Длинные стройные ноги в обтягивающих джинсах приковывали его взгляд. «Выходит на следующей, – мелькнуло у него в голове. – Надо выйти вместе с ней, дать отойти немного от остановки, потом догнать её и сказать…» Трамвай припадочно затрясся и остановился. Двери распахнулись, и красавица скользнула вниз. «Сейчас!» – Во рту появился сильный металлический привкус, сердце бешено колотилось. Заторможено, как во сне, Миролад шагнул в направлении выхода, но там уже появились какие-то широкие приземистые бабки, с трудом поднимающиеся по ступеням. Волшебство момента пропало. Двери с лязгом захлопнулись и трамвай, натужно взвыв, снова тронулся в путь. «Мне же ещё три остановки, – оправдываясь, думал он. – Мы с Марицей договорились на двенадцать, а уже без четверти». И вдруг подумал, что глаза у неё тоже зелёные. Странно, он вроде не обращал на это внимания, а теперь вдруг вспомнил. Хотя нет, обращал. «Признайся, глаза этой старушенции чем-то пугают тебя. Есть в них что-то колдовское, что-то совершенно нестарческое». Он вспомнил громадные выпуклости грудей старой преподавательницы и поймал себя на мысли, оправдать которую могла только его затянувшаяся девственность: «А как бы это было с ней?» Он поморщился. Затем его мысли незаметно перекинулись на необъяснимое поражение римских легионов. «Как эта хорошо организованная военная машина могла так сплоховать? Кто подсказал летичам направления ударов и помог просчитать действия противника, как гроссмейстер позицию на шахматной доске?» Ну вот, он и на месте. Пани Аничкова несколько лет назад переехала в новый район, весьма удаленный от центра. Она жила в типовой многоэтажке на одиннадцатом этаже. Миролад прошагал по бетонной дорожке, наискосок уходящей от трамвайных путей, и спустился по лесенке к тянущимся, сколько хватало глаз корпусам высоток. Обогнув одно из зданий, вышел во двор, свернул налево и зашел в четвёртый с его края подъезд. Вызвал лифт, поднялся на нужный этаж и, оказавшись на площадке, надавил на кнопку звонка у обитой чёрным кожзамом двери. *** – Харуг! Харуг! Отступай! – отчаянно и тонко кричал Мельче Весёлый. Он сжимал в левой руке копье, и пытался попасть им в горло ближайшему легионеру. Под правой ключицей у летича торчал обломок стрелы, в русой бороде запеклась кровь. – Веди людей на высоту! Спасай отца! Из последних сил Мельче швырнул копье. Наконечник скользнул по медным пластинам на груди римлянина, не причинив тому никакого вреда. Харуг тяжело дышал, пот заливал глаза. Выставив вперёд трофейный гладиус, он пятился к скальным обломкам, громоздящимся за его спиной. Вдруг, кто-то прыгнул ему на спину и повалил на сырой, изрытый песок… Харуг проснулся. Чья-то рука настойчиво трясла его за плечо. – Харуг! Харуг! Вставай! Просыпайся же, правитель! – громко шептал склонившийся над ним Крой. – Что… что случилось? – пробормотал вождь, не сразу вернувшись из давно законченного боя в тихое жилище шамана, озаряемое потрескивающей свечой. Тёмный силуэт Кроя склонился ещё ниже. – Зоран, он… – Что? Он проснулся? – Нет, он… он умирает… – Что ты сказал?! Как умирает?! – Харуг вскочил, выпучив глаза. – Его дыхание слабеет. Тело становится холодным. – Ты отравил его, проклятый колдун! Ты умрёшь, если умрёт он! Они подошли к распростёртому телу юноши. Широко раскинув руки и ноги, запрокинув голову, тот лежал, не подавая признаков жизни. Рядом на полу стояла маленькая бронзовая жаровня, из которой поднималась струйка дыма. Присевшая в изголовье девушка, держала ладонь на лбу Зорана и шептала что-то быстро и горячо. Распущенные волосы скрывали её лицо, чёрными струями текли по плечам и падали на грудь юноши. – Зоран, сын, – сдавленно произнёс Харуг, опускаясь на колени и беря его за руку. – Что с ним? Как ему помочь? – затем спросил он, повернувшись к шаману. – Его дух не может вернуться. А тело отказывается жить пустым. Если душа не вернется к утру, то его тело умрёт. – Но почему он не возвращается? Что ему мешает? – Не знаю. Может, в новой жизни он совсем забыл о себе теперешнем и поэтому не знает, куда ему вернуться. Не могу сказать наверняка. Путешествия туда, чего ещё нет, опасны и опасности их непредсказуемы. – Ты говорил, что у тебя этого зелья хватит на двоих. Что, если отправить к нему ещё кого-то, кто напомнил бы ему о нас и помог вернуться? – Тебя не зря прозвали Изворотливым, о, великий Вождь, – шаман склонил перед Харугом голову, – но кого мы пошлём? – Ты отправил Зорана, ты его и выручай. К тому же твой дух изощрён во всяких шаманских хитростях. – Вождь вновь пригнулся к сыну, вглядываясь в его лицо. – Но, повелитель, – Крой облизнул пересохшие губы и нервно провел рукой по коротко стриженной белой голове, – Зорана может встретить и узнать в другом обличье только тот, кто очень сильно связан с ним. Это может быть только тот, кто хорошо его знает и любит. Харуг поднял голову и пристально посмотрел на шамана. – Ты хочешь сказать, что это должен быть… – За ним пойду я. Старики обернулись и уставились на девушку. Та прекратила шептать слова заговоров. Крой коснулся её плеча. – Девочка моя, ты не представляешь, как это опасно. Возможно, и впрямь лучше, если я выпью зелье. – Нет. Зорана верну я. Никто не любит его сильнее. Если он умрёт, я тоже умру, – просто ответила Никулия. Глаза её блестели, отражая подмигивающие огоньки свечи. – Волны времени подтолкнут нас друг к другу и унесут назад. Крой Говоритель обхватил себя руками за плечи, словно ему стало холодно, и, наклонив низко голову, забормотал что-то тоскливо и неразборчиво, так, что с трудом можно было разобрать отдельные фразы: «Дед говорил об этом… да… но я не помню… Да, что-то… Что-то про любовь, про жертву. Любовь должна связать двоих… А жертва… связать… нет, освободить любовь… связанная жертва?.. Нет, не помню… про любовь... Но что за жертва? Птица – символ любви? Или жертвенный ягнёнок? А, может, бык? Неясно… все неясно… очень, очень…» – Если ты решила спасти Зорана, то делай это немедля, – посмотрев в потемневшие глаза девушки, жёстко сказал Харуг, – ведь он может умереть в любой момент. Крой, заваривай свои травы. Затем, отвернувшись к стене, пробормотал сокрушенно: – О, Небо, как же ты похожа на мать… *** Что? Звонок? Вот и мой милый пришёл. А я не успела переодеться. Я же хотела надеть свое любимое зелёное платье. Совсем закрутилась. Ах, всегда была растяпой! Ну, да ладно. Всё это уже не важно. Иду открывать. Ты входишь, почтительно здороваешься. Смотришь на меня бездонными колодцами своих чёрных глазищ. Как они притягивают меня. Как зовут туда, откуда мы пришли. В дикую, кровавую, прекрасную юность человечества. За тысячи лет до сегодняшнего утра… Ты снимаешь куртку и проходишь на кухню. Садишься за стол. Я ставлю перед тобой тарелку дымящихся чивапчичей, которые ты так любишь. Наливаю тебе бокал красного Рцесского. Я сама сейчас не могу есть, но наливаю вина и себе. Мы чокаемся. Пьем. Ты смотришь на меня с легким удивлением. Конечно, я так напряжена, я очень волнуюсь в эти последние минуты. Руки мои дрожат, сердце так и прыгает в груди. Я отхожу к плите, отворачиваюсь. Не надо спрашивать меня о здоровье. Смешной! Милый, милый мой. Скоро мы очнемся от этого тягостного сна. Мы проснемся в шатре моего отца, и ты возьмёшь меня за руку и попросишь благословения. Говоришь, что почти закончил работу? Это хорошо. Ты сможешь всё правильно объяснить военачальникам. И наши воины разобьют негодных римлян. Всё произойдет именно так, как записано в теперешних книгах. Ты спрашиваешь, как предкам удалось всё так предугадать. А вот давай, дружок, выпьем горячего травяного чаю, и я тебе объясню. Я сама собирала эти травы. Сама готовила по рецепту, которому больше двух тысяч лет. Пей, пей. И я тоже выпью. Возвратная смесь убьёт наши теперешние тела и отправит души вспять по реке времени. Но перед долгожданной смертью мы вспомним всю нашу прежнюю, истинную жизнь. Это защитит наш разум в путешествии по чёрным водам Забвения. В глазах темнеет. Тяжестью наливаются виски. Ты побледнел и навалился на стол. Ты тяжело дышишь, ты напуган, мой мальчик. Это сейчас пройдет. Ты поднимаешь голову и смотришь мне в глаза. Я вижу! В твоих глазах просыпается память. Узнаёшь? Узнаёшь ли ты меня, Зоран, прозванный Остроглазым? Вспомнил ли, зачем ты здесь? Крепко заучил мои уроки? Губы твои шевелятся. Я почти ничего не слышу. Твоя рука тянется к моей. Побелевшие губы шепчут что-то, стараются выговорить: «Ни…» *** Багровое солнце примяло верхушки величественных вязов на правом берегу Данувиоса, окрасив алым речную гладь и тронув розовым холмы левого берега. Впрочем, речная гладь была сейчас не совсем гладью – десятки огромных плотов превратили поверхность реки в подобие шкуры далматинцев. На плотах сидели и стояли люди в поблёскивающих на солнце шлемах и пластинчатых панцирях. На высоких шестах трепетали красные и золотые вымпелы с отличительными знаками когорт. Люди на плотах перекликались, то тут, то там раздавался смех. Разведка сообщила, что на противоположном берегу всё спокойно. Поэтому римские военачальники забыли про свою обычную осторожность. Они собирались перевести весь легион до наступления ночи, чтобы утром, не мешкая двинуться к Хиартским горам, где засели оставшиеся летичи. Римляне спешили, опасаясь, что возможные снегопады надолго задержат их наступление. Вот, первые плоты уже пристают, солдаты сбегают на песок, перетаскивают на берег грузы – палатки, боевую амуницию, провизию – всё, что понадобится в предстоящем походе. Офицеры отдают команды, легионеры хватают шесты, поданные с подплывающих плотов, подтягивают их поближе. Уже добрая половина отправленных плотов сгрудилась у левого берега Данувиоса, вытянувшись цепью по течению реки. В это время к реке быстрым шагом приближается большой отряд людей в меховой и кожаной одежде. Они скрыты от римских солдат невысокой грядой поросших жестким кустарником холмов. Люди располагаются на возвышенностях, залегают между камней и колючих кустов. У каждого из них большой тисовый лук за спиной и колчан, полный стрел. Стрелы кладутся на тетивы из бычьих жил, лучники выбирают цели и ждут сигнала. Мужчина, командующий стрелками, очень молод, но длинные спутанные волосы его белы, как снег. Тёмные, запавшие глаза, словно не видят окружающего. Его, кажется, не очень интересует происходящее по ту сторону холмов. Правая рука мужчины медленно подымается вверх, в левой он держит какой-то небольшой предмет. Он непрерывно крутит его, и старается нащупать вырезанные на его поверхности латинские буквы.