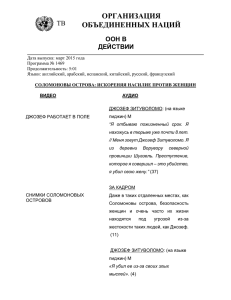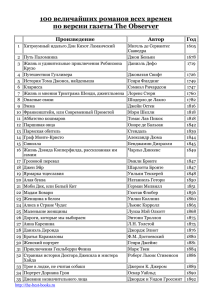Ultima ratio (И.Азаров)
advertisement

Вот наш патент на благородство, Его вручает нам поэт; Здесь духа мощного господство, Здесь утонченной жизни цвет. А. А. Фет Направились они к огромному замку, на фронтоне которого красовалась надпись: «Я не принадлежу никому и принадлежу всем. Вы бывали там прежде, чем вошли, и останетесь после того, как уйдете». Дидро. «Жак-фаталист» На самом деле каждый из нас – театральная пьеса, которую смотрят со второго акта. Все очень мило, но ничего не понять. Актеры говорят и делают неизвестно что и неизвестно к чему. Мы проецируем на их поведение наше собственное невежество, и они представляются нам просто сумасшедшими… Хулио Кортасар «Игра в классики» Восемь раз прокрякали часы на Главной башне. От длинного шпиля отклеился кусок багряной черепицы и разбился о стену, пропитанную кровью. От шума, произведенного падением, судорожно проснулся Джозеф Сэммлер. По старинной привычке он подошел к окну проверить, не дежурят ли на детской площадке шпионы. И сразу же встретился с затруднением: пропали плотные занавески со сложной оптической системой, позволявшей обозревать окрестности, не изменяя положения занавесок. Джозеф не без оснований полагал, что за ним ведется слежка по требованию высших инстанций государства. Прежде чем опробовать еду, он тщательно вдыхал носом пар. Джозеф где-то читал - таким способом с легкостью определяется наличие яда в пище. Он боялся за свою жизнь, дрожал при мысли, что его могут прослушивать. Открывал входную дверь с помощью длинной жерди, прячась за стену, чтобы его не контузило приготовленным взрывом, завязанным на открытие двери. По дороге в институт он несколько раз менял направление с надеждой запутать следы. Но целей адского плана узнать так и не удалось, началась война, забравшая лучших сотрудников внутренних служб. Джозеф скрывался и ночевал не в своей квартире, чтобы его не схватились и не начали искать. Ему также полагалось находиться в рядах ополчения, но он пренебрег всеми предупреждениями и повестками и остался в столице. Джозеф не поехал в деревню с родителями и с бабушкой, считая, что его назначение охранять квартиру от мародеров. Ему было жаль многочисленных книг, которые он вынужден был бы оставить, уехав в деревню. Слишком их было много: это и три иудея, изменившие мир, и три гения, родившиеся за два года, последователь Пушкина и Шекспира и его страстотерпец одногодка, претендовавший на лавры великих сказителей прошлого, пара великих аргентинцев, разделенных датами рождения сотней лет с русским поэтом или талантливый итальянец, покинувший наш мир в том же году, что и один из аргентинцев. Опасно было без присмотра оставлять и компьютер с близкой сердцу младшего Сэммлера работой по географии богатой родни Agabus’ов. Столица стремительно пустела, скоро вымело всю опавшую листву. Уныло зрелище крупного, обезлюдевшего города бесслезной осенью. Из крана текла еле теплая вода, исправно работал никому теперь не нужный телефон. Джозеф обзвонил всех своих друзей, во всех случаях результат был одинаковый: безответная череда длинных гудков. В сердцах он бросил трубку. Джозеф определенно был не из тех, кому хочется держать в руках автомат. Он сетовал на свое здоровье, говорил о своих, действительно, тонких запястьях, о нежелании вмешиваться в бессмысленные конфликты. Раз никто не отрицает безрезультатность войны, то зачем все это? Может, к черту весь этот цирк. Джозефа тошнило от одной мысли о пребывании в обществе казарменных простофиль, он не терпел никакой власти над собой, никакого принуждения или помыкания. Он был слегка изнеженный, немного взбалмошный и, тем не менее, у него хватило смелости сказать «нет», отринуть бессовестные посягательства на его независимость. Украдкой, по ночам, чтобы не попасться на глаза полицейским, патрулирующим пустой микрорайон он переходил с квартиры на квартиру. В кожаных перчатках ( зафиксированные отпечатки пальцев могли навлечь подозрения на него и на его семью) и с морской свинкой в клетке. Смышленый зверек начинал пищать незадолго до приближения людей, от которых лучше было бы спрятаться заранее. Патруль расхаживал по квартирам, арестовывал скрывавшихся людей и приклеивал к дверям и прилегающим стенам ленточки, разрывавшиеся при попытке открыть дверь. Сперва Джозеф старался попросту не сталкиваться с людьми из полиции. Но несколько случаев заставили его быть более решительным и неуступчивым. Джозеф-отщепенец совершал обряд ежедневного омовения да за шумом воды не расслышал суетливого хрюканья морской свинки. Только шум шагов донесся до него, когда он утирал лицо. Джозеф в одежде осторожно лег в ванну и накрылся сверху белой пластиковой шайкой. Не отличаясь особой расторопностью, чиновники с автоматами не приметили его, но захватили в участок морскую свинку. Он лишился близкого друга. Другой случай едва ли был менее унизительным. С книжкой Джозеф-интеллектуал выходил из коридора, захлопнув дверь в очередную квартиру, на бульвар почитать. И тут с лестницы до него донесся явно не дружелюбно настроенный голос служителя порядка. Оставался один выход, ибо на лестничный пролет выскакивать уже было рискованно, Джозеф протиснулся и спрятался за полой, двуцветной колонной мусоропровода (за ней находился оплеванный закуток). Это спасло находчивого авантюриста, и от дрожи в коленях он плюхнулся на пол и долго слушал вспотевшее сердце. «Хорошо, с ними не было собак». Через полчаса Джозеф подполз к коридорной двери и твердой обложкой книги отодвинул скошенный язычок замка. Забился за диван в одной из квартир и вылакал бутылку вина, чтобы прийти в себя, с тем и уснул. Джозефа очень уязвила собственная зависимость от поведения чужих ему людей, от его гордости не осталось и следа. Он долго переживал свое унижение от пряток, свою слабость – червоточину духа, половинчатость, неспособность дать отпор врагу. Он принял решение как-нибудь отомстить новоявленным поработителям. Первое пробуждение желания мести связано также у людей с проявлениями качеств, свойственных детям. Низменные чувства одолели Джозефа, и он вышел из дома. Прислушиваясь к глубинам земли, будто от этого поступка должно было начаться стихийное бедствие, перебежал, пригибаясь, тихое шоссе. Приблизился к раздвижным воротам военного городка (тот располагался на противоположной от микрорайона стороне шоссе) и, спустив штаны, помочился на них. Через минуту после совершенного кощунства из-за стены вылетела зеленая бутылка, ударилась об асфальт, раскололась. Сэммлер, сознавая непристойность своего деяния, дал стрекача. На другой стороне шоссе он стал за углом газетного киоска у автобусной остановки. Символическим выбросом пивной бутылки грозное возмездие и ограничилось. Северный ветер, мучимый жаждой, засвистел в проводах о своей тяжелой жизни странника. Сэммлер вздохнул и повернул голову к истокам ветра, в ту сторону шоссе полого опускалось. Вдалеке, где-то у предыдущей остановки, несколько тяжелых тюков громоздилось у обочины. Джозефу Сэммлеру досталась куча оружия, оставленная повстанцами ли, бегущими ли интервентами, возможно, ребята из патруля надеялись забрать это оружие в другой раз. За несколько заходов Джозеф собрал их в дворницкой комнатушке, где стоял контейнер, собирающий продукты, прошедшие по мусоропроводу, как по пищеводу. Несколько приспособлений занес в квартиру соседнюю с той, в которой планировал ночевать. Джозеф иногда упоминал о легком расстройстве своего рассудка - предвестнике грядущих перемен. Грозный дух овладел мятежным студентом еще давно, в пору первой экзаменационной сессии. То был не Ваал Зебуб, а, если использовать терминологию самого Джозефа, всесильный демон первого впечатления. В те сумбурные дни он посещал Джозефа и изнутри приказывал ему, обещая в награду отличные отметки, в случае же отказа грозился крахом, катастрофой, обрушением сложившегося уклада жизни, поступать тем или иным образом. Приказы демона опознать было непросто, во многом они выбирались по своему собственному усмотрению. Чаще всего он передавал их первой пришедшей в голову идеей, несуразным откликом сознания. Надо было подчиняться ему, однако обычно могущественная сила не требовала ничего сверхъестественного. Заставляла лебезить и пресмыкаться в страхе перед предстоящими испытаниями, самозабвенно хвалить будущих и прошлых экзаменаторов, всячески принижать уровень своих знаний. В некоторых ситуациях до ужаса сентиментальный и щепетильный дух заставлял подопечного быть честным и прямолинейным в ущерб приличиям. Он словно подыскивал неудобные ситуации и просыпался в такие минуты с тем, чтобы принудить Джозефа к выполнению нелепого трюка. В ночь перед экзаменом демон решил открыть студенту способ узнать будущую оценку: для этого надо было кидать два снятых носка на стул с большого расстояния. Если бы два носка задержались на сиденье, то тебе непременно повезет, если один – хуже, ну а коли оба свалились на пол, то ничего из предстоящего экзамена путного не выйдет. Число попыток было неограничено, но с каждым новым заходом полагалось отходить дальше от стула, сложность была и в том, как грамотно спланировать траекторию оригинального снаряда, много хлопот доставляла спинка, которую носок должен был перелететь и спланировать на подушку, обитую муслином. Всякий раз это душевное расстройство принимало новую форму, но во всех своих проявлениях оно принуждало своего носителя действовать вопреки неким общественным правилам, действовать назло сильным, несмотря на собственный страх. Хладнокровие сочеталось с трепетом. Сколько раз Джозеф рисковал многим ради ничего не значащего пустяка. Это была, прежде всего, игра, где Джозеф в своем нормальном обличии выступал в роли марионетки. А фигуры передвигал некто иной, не знающий боли, горечи страха и поражений. Тот, кому чересчур сильно хотелось перепробовать в этой жизни все в троекратном объеме, но кому на развлечения было дано маловато времени. И чтобы уложиться в отведенный срок, всемогущий дух платил не скупясь. Этому двойнику, незримому брату, такое впечатление, иногда было неловко на людях. По неизвестным причинам он очень робел в обществе, хотя всегда оставался в стороне. Чего ему было бояться: громогласного осуждения, возмущенных перешептываний, язвительного ли и меткого обличения? Но как Джозеф мог блистать в компании знакомых и близких ему людей, так и его инфернальное отражение буйствовало наедине с самим Джозефом. Кривлялось, паясничало, сквернословило, бранило всех и каждого, кощунствовало и живописало с варварской непосредственностью неприятнейшие сцены, приводило в ужас младшего Сэммлера скользкой неуязвимостью и осведомленностью, беспринципностью и прагматизмом, крайними степенями отчаяния и лукавого безверия. До ключевого момента каждодневных превращений, отхода ко сну, оставалось довольно времени, а отыскать дела интересного именно сейчас не получалось. У Джозефа появилось необоримое желание плыть по волнам, ведомым попутным ветром, пустить все на самотек и особенно не мудрствовать по поводу того, как и зачем. Рано или поздно всему полагалось раскрыться. Развалиться в кресле и с увлечением следить за событиями новой пьесы. Что ж, с таким подходом далеко можно забраться! Ну и пусть, читать не время, ведь готовятся новые волнительные перемены, события, которым суждено перевернуть мир, грандиозные всплески человеческих чувств, великодушные порывы, поразительные метаморфозы. О, святая вера в героев, их всесилие, бескорыстность и вечное рыцарство! Прогуляться по осиротевшему лесу, нет уж. Никого нет там, все разъехались по родовым имениям, один Джозеф здесь, как домовой, как капитан на затонувшем судне. Не разминает в лесу свои могучие плечи суеверный богатырь, черноземная сила. Эта опора православия каждый раз, как видела Джозефа, тут же крестилась. В спортивном костюме отечественной марки и преувеличенно ветхих рукавицах. Где-то он сейчас? Где статный, немного полный господин, с толстыми покрасневшими щеками, в полинявшем буром, кожаном пальто и с суровым взглядом. Он всегда ходил скорым шагом и ни на кого не оглядывался и ни с кем не заговаривал. Только шел вперед, наматывал круги, расчерчивая жизнь все дальше. Не видать и еще одного, почти умалишенного, того, что все время прогуливаясь из одного края леса на другой, стыдливо опускал взор и рассуждал сам с собой об оккупации Польши. В сером пальто с лохматым капюшоном, невысокий. Как всех вас жаль. Жалеть, то есть понимать их поступки и причины этих поступков и прощать этих людей. Нельзя при этом поносить и оскорблять их, как своих младших братьев, как несмышленых детей. Судьбы их видны развернутыми свитками, мы зайдем в каждый уголок и поймем это все наше, и нет никого чужого, нет ничего того, что бы мы не поняли и отвергли брезгливо, покинули, забыли бы или прокляли с намерением зла. Но теперь Джозеф предоставлен сам себе. Это одиночество вынуждало перебираться с места на место. Он съел кусок прожаренного мяса, который забыли рассеянные хозяева, уезжая из Города. Растопленный жир с золотистым бульонным переливом стекал у него по подбородку, пачкал руки, засаливал воротник, стекая по шее. Ему стало некого стыдиться, некого бояться, никто бы не напомнил ему о приличиях. Из пакета он выхватил салфетку и отер блестящие губы, между зубами отыскал языком мягкие волоконца недоеденного мяса. Задумавшись над маршрутом, поставил в проигрывателе Painkiller. Обязательно через центр, проведать, что там сейчас творится. Титульная композиция подошла к концу, и началась Hell patrol. Метро, по слухам, работает отлично, но кому придет в голову обслуживать полупустой город? Парадоксально, по крайней мере, через большие промежутки времени, а то вовсе по расписанию. All guns blazing, пора выбираться из этой конуры. Не сидится мне сегодня. Сэммлер выходит из дома в синей куртке с черными полосами, одной рукой придерживает куртку, другой застегивает молнию, под мышкой журнал. Не смотря по сторонам, пересекает узкую дорогу возле дома, направляется в сторону шоссе, точнее, к автобусной остановке. За год до описываемых событий у нас появился трамвай. Трамвайные пути проложили посреди шоссе, вместо обещанного метро. Старомодные вагончики, гремящий ад на колесах, с широкими подножками. Насыщенно бордового, свекольного цвета. Посреди шоссе стоит консервная банка, полная дождевой воды. Обленились водители; потворствуя всеобщему настроению вседозволенности, Джозеф собственноручно отдирает щиток, который загораживал окна торговой лавки. Особенно не размышляя, разбивает окно и достает шоколадную плитку: « Давно хотелось опробовать эту модель». Не осталось ни одной урны, их тоже в снаряды умудряются перековывать. «Подумать только, первый раз за столько лет я еду просто погулять по Геенне нового времени. Я найду новый маршрут, и он будет непохож на все прежние. Во всяком случае, принципиально другое отношение, тогда я был все время обязан переезжать с места на место. Город являлся только свидетелем моих мук, соучастником страданий. Мы познакомимся поближе. Сложилась подходящая для этого ситуация». Нежно серый оттенок вечерней дороги, аспидного цвета небо, дома настороженно прислушиваются к шагам отщепенца. Тишина, наступившая в городе впервые за столько лет. Не исключено, что война – только предлог, настоящая причина заключалась в том, что город устал, жители высланы отсюда в санитарных целях. Желтоватый свет у единственно видимого отсюда обрывка горизонта. Светлая полоска небосвода свернулась змеей. Пара каменных изваяний дракона сторожат подступы к микрорайону со стороны шоссе. Они расположены наверху первого здания от центра, рядом с титульной надписью. Чуть ниже, в специальной нише, резной голем держит государственный флаг, с недавних пор это означает верность правительству в борьбе с мятежниками. Вдалеке слышен усталый стук, переходящий постепенно в звенящее громыхание: слабо прикрученные листы обшивки трамвая на скорости бьют о его каркас. Транспортный реликт или удачная фальсификация, может, наспех собранные декорации? «Мое почтение бригадиру маршрута. Я поражаюсь вашей стойкости, сэр. Мы будем здесь до последнего, я рад, что нашел в вас единомышленника. За проезд? – Вот, как больше, это же грабеж! Это я, надеюсь, пойдет на благотворительность, за что хотя бы переплачиваю, интересно знать». Это, в самом деле, был необыкновенный трамвай, всякий зашедший в него тотчас признал бы это. Мягкие одноместные кресла с низкими столиками из черного дерева напротив, тонкие изящные поручни из слоновой кости, более для создания обстановки, чем для поддержки пассажира. Салон был выполнен в стиле будуара времен Регентства, тяжелые занавеси, мягкий полумрак, лазоревая гладь потолка. Толстые, пушистые ковры делали шаги бесшумными, а движения вкрадчивыми. Курились благовония; Джозефу подали крепкий кофе с корицей в маленькой чашечке. Чашечка была сделана подчеркнуто просто, как будто из необожженной глины. Ручку приходилось держать двумя пальцами, потому что ни один палец не желал пролезать в отверстие. Впереди, ближе к машинисту располагался музыкальный квартет, который пробовал инструменты. Кондуктор стоял у дверей на нижней ступени и всматривался в неподвижные очертания грозной столицы. Вдыхал пыльный воздух, довольно кивал одному ему известным приметам. Он щурился пожухшей траве, что резвилась на остатках летнего тепла. Неизвестно, который раз любовался согласным величием прямых улиц, молчаливой уверенностью жилых домов и подсобных зданий. Оркестр очень близко к оригиналу исполнил Billion dollars baby. Ободренный Джозеф засмеялся: Ребята, правы, я обойдусь им не меньше, чем в миллион. Трамвай отлично держал плотный звук, от ударов барабана всех встряхивало, как на неровностях дороги. По обе стороны от шоссе возвышалась безвкусица перестроечных небоскребов для малоимущих. Любопытным было лишь само ощущение поездки между ними: словно по дну каньона или глубокой долины техногенного происхождения. "Эти мертворожденные ящики хороши, когда из них уже все разъехались. Когда они не несут никакой нагрузки кроме пейзажной! А мне предписано, злобно крутя головой, бродить между ними, подобному дикому монстру или охотнику, ищущему себе чести, а князю славы. Я полноправный хозяин этих мест, никто не посмеет теперь перейти мне дорогу. Я буду распоряжаться этими землями по своему усмотрению, примусь казнить и миловать, приближать ко двору и ссылать в отдаленные края. Сюжет уже придуман и лежит перед моими глазами, тешит воображение скрытыми параллелями, изящными хитросплетениями, страстными монологами и выразительными сценами молчания, в переплете из змеиной кожи, на тонком пергаменте аккуратно выведены начальные строки: Восемь раз прокрякали часы на Главной башне... Но кто же сей гомункулус, кто автор пленительных сцен, сидящий на мягком кресле в музыкальном трамвае?" Джозефу при входе вручили билет, сперва он не обратил на него никакого внимания, но свернув его в трубочку, понял, что билет сделан из значительно более плотной бумаги, чем обычно. На документе значилось: Жюльен Моро, значит, билет был именным, но если так, то вряд ли при столь небольшом числе пассажиров опытный кондуктор мог ошибиться и выдать билет не тому, стало быть, он, вероятнее всего и был упомянутым Жюльеном, ничего не поделаешь. Смутьяном, интриганом, лицемером, многократным самоубийцей и упорным бретером, неоднократным разгласителем государственных тайн, феминистом, женоненавистником, борцом за права клошаров, практикующим род магии, упоминаемый мистером К. из Британии. Гей, проводник, ты не ошибся, что это про меня понаписано? - К посадочному талону прилагается гороскоп. -Благодарю, но отчего же они пропустили важнейший элемент моих будущих одеяний – пояс из верблюжьей кожи на чреслах? - Вам виднее. Музыканты вдруг принялись за Love is like oxygen. Джозеф Сэммлер в такт притопывал ногой, когда трамвай проезжал мимо блестящего магазина автомобильных деталей, мимо забытой, а оттого еще более неряшливой почты. У стекла оной, не отвлекаясь на проезжающий трамвай, стояла дщерь вавилонская, впрочем, ни слова более об этом, не поленимся вычеркнуть совсем лишний эпизод. Вот въезжает он в пустующий город на грохочущем трамвае, как на диком бегемоте, оседланном им. А над ним шумит воздух, рассекаемый ангельскими посланцами с широкими, плотными крыльями. В противоположную сторону понуро маршируют гастрономы и горбатые подъезды, лавки восточных сувениров и запрещенной литературы. Купцы затворили ставни на окнах нижних этажей; они покинули Город и увезли в торговых каретах все ценное. Везде царит покой – мнимый порядок, мертвое подобие добродетели, насильственное умиротворение, следствие бессилия и боязни пойти вопреки общей воле. Но не таков Джозеф, чтобы маршировать в ногу со всеми, не собирается он подчиняться гавкающим приказам из рупоров и чинно демонстрировать солидарность бессмыслице. Кто знает, возможно, в нем начинает просыпаться его прежнее имя, код прошлого, клад, склеп могильный, след полузатертый. Чуждое имя, непонятное чувство мертвого языка, жжет губы и морозит воздух. Не для всех это пустой звук, когда-нибудь шестеренки скрытых механизмов истории совпадут, наступит момент и пробудится странник в оседлом земледельце, который по знаку извещенных обо всем стражей сорвется с насиженного места и затеет смуту. - Спасибо, за то, что приняли меня, накормили... - Договаривай смело, позволь словам самим находить путь наружу: ты хотел сказать, позволили отдохнуть в тени нашего дома, ведь так, Ахав? - Истинно, это мысли мои, не ведаю, как вы сумели прознать о не родившихся младенцах. - Ступни твои также изъязвлены, на них раны от гвоздей в форме крестов. - Путь твой был долог, но еще больше тебе предстоит пройти, ибо призван ты сюда неслучайно, здесь сможешь искупить часть своей вины, коей границ нету, - продолжил водитель. - Не могу понять, о чем вы толкуете, братцы, - вдруг заартачился Джозеф. Нет за мной никакой вины, знать не знаю, чего за хрень вы тут мне впариваете. Если и было что-то сделано, то явно не с таким размахом, чтобы об этих поступках толковали проводники в частных трамваях. Я думаю, вам будет несложно уяснить такую информацию: я боюсь огрызок кинуть не там, а уж о регулярных и глобальных нарушениях правопорядка не может идти и речи, дорогие господа. А в сорок один я поклялся матушке к черту забросить выступления. Ничего вам с меня взыскать, господа, я чист перед законом, как стеклышко бутылки портвейна. - Но позвольте вам напомнить о вашей миссии и как о следствии почетного назначения даре, возрожденном для вас из ужасных глубин шеола, - авторитетно вмешался проводник. "А не кажется ли вам, любезнейший служитель колесницы, подобно ветру несущейся вдоль каменных проспектов бесславно опустевшего града, что чересчур разителен контраст между предполагаемой моей сущностью, взвалившей на себя непосильное бремя борьбы и сопротивления, и теперешним моим гнидским обличием. Джозефом Сэммлером недавнего прошлого, ссохшимся бумажным человечком". "Мне же напротив мнится, в подобном распределении есть глубокий смысл: сохранить вас целиком, нерастратившимся до самого ключевого дня, когда взыщется с вас по данному вам, иначе огненный дух, ничем не смиряемый мог истребить вас, сжечь раньше положенного срока, пока вы не набрались сил и жизненной мудрости. Джозеф насупился: что же тогда получается? - обратился он к чумазому механику, - какая-то дрянь специально выпущена на белый свет, и она через задницу или черт знает через что заберется ко мне в нутро и начнет там верховодить. Вы думаете, мне чертовски понравились ваши хреновы предсказания, я стану рукоплескать или брякнусь в обморок от обилия впечатлений? - А ведь, держу пари, ты уверен, будто я замшелый кретин, маменькин сынок, ушастый, лупоглазый засранец, который ходит мысками вовнутрь. Тебе не приходит в голову представить меня как-нибудь иначе, кроме как, отвечающим урок или листающим энциклопедию. Кажется, я не могу ни слова сказать в сторону от своей злосчастной специальности, что меня, негодяя, из читального зала кнутом не выгнать. Ведь ты, прилизанный нечестивец, сто раз уже про себя повторил: посланник гроша ломаного не стоит, он непроходимо глуп и косноязычен. Ведь, признайся, блудодей-отличник, в твоей голове иного на мой счет и не прыгало? Тот удивленно развел руками: ничего я такого не думал. - Не бреши, сучий выблядок, - тебя насквозь видать. - Да пошел ты, - оскорбленно отозвался механик Смит, - сказал уже тебе, не думал я такого. Чудной ты, вот что, ни такой, ни сякой, как угорь из рук выскальзываешь. Музыканты очень славно исполняют Meanstreets, а я отчего-то вспомнил Final Countdown, как двух братьев русского и британца, да фамилиями слегка отличающихся: Шулепов и Хьюз. - Хотите, я с вами, мать вашу, поспорю, на (вынимает все деньги) пятьдесят четыре рубля, что прежняя сборная надрала бы нынешней задницу. Машинист: даже, если бы к молодым отправили Баранова? Сэммлер: конечно, а ты как хотел, [censured] налегке потрясти, все серьезно, ну как спорим? Машинист: Господин возмутитель, вы свихнулись, это невероятно, кому, в таком случае, Косарева и Тетюхина. Сэммлер: Мое почтение сим уважаемым господам, Сергей к старшим, а Косарев отдыхает до 2008. Кондуктор: (Заинтересовавшись) Я, кстати, ни на тех бы, ни на других не стал ставить, по-всякому проиграл бы. Сэммлер: Эй, что ты мелешь-то, старик, совсем из ума выжил? Кондуктор: Ну, я к тому, что и те и другие выше всяких похвал. Но опыт великая вещь. Сэммлер: Нашим ветеранам и азарта ни занимать, и морально они куда более устойчивы. Машинист: Ты меня извини, посланник, но, как я ни стараюсь, не могу вспомнить первых темпов, из что еще в строю. Олихвер и все. Минутная заминка и Джозеф, просияв, спрашивает: "А как же Согрин?" Машинист чешет гаечным ключом за ухом, зрители довольны: незадачливый враг повержен ударом исподтишка. Мост перекинут с одного берега оврага на другой, так он покоится, подобно человеку, вставшему на четвереньки, у которого живот черный от тифа. Трамвай медленно едет вверх и поскрипывает. Еще чайку не хотите? - заботливо интересуется кондуктор. Я велю подать, вам предстоит нелегкий путь и мы последний приют, готовый принять вас. А что, если близящиеся перемены Джозефу будут очень неприятны, как все это будут согласовывать организаторы. А чего тебе бояться, - настаивает кондуктор, у него руки с набрякшими венами и сморщившейся кожей, руки пятнисты: в одних местах они красны, а в других напротив побледнели, будто отмерли. Короткие белые волоски прилипли к поверхности кисти, - из института тебя не выгонят, ибо все учебные заведения споро расформированы в угоду кровавому Марсу. Ать-два тоже не возьмут, туда нынче конкурс очень велик, да и припозднился ты, всех без тебя распределили. Редкий шанс: ты полностью свободен, делай что хочешь, над тобой нет хозяина; не этого ли ты ждал почти два десятилетия. Шатайся допоздна по улицам, не ложись спать по несколько суток, громи дорогие магазины. Только почувствуй вкус к воле, к разгулу, к бесшабашному самовластью, ах, кровавые погромы, стихийные бунты-пожары, зажженные твоей рукой, пригородные платформы ночью в огнях, загаженные блевотой, рельсы устланы изуродованными телами. И посреди сумасшедшего вихря безвластья ты – всадник на белом коне, посланник смерти, агент адский предместий, со шпорами, на коих висят лоскутья человеческой кожи. Пойми, ты можешь одинаково презирать тиранов на троне и фанатиков революции, но твоя позиция ровным счетом ничего не меняет, тебя вовлекли в круговорот безумия помимо твоей воли. Младшему Сэммлеру остается лишь объявить свою волю, как планирует он распорядиться свободным временем: дрожать в смрадном углу или скрестить клинки с другими не избранными божественной волей на роль безумцев человечества, а искусственно мимикрирующими под них со своими недостойными, корыстными целями. Гоните лошадей, сейчас не время горевать и мяться, я ничего не выбираю, а поглощаю один за другим предоставленные мне моменты времени. События сами выстроятся передо мной ровной чередою, гладкой дорогой, так, что даже возникнет подозрение в прозорливых умах о возможном готовившемся плане. Презрев опасность, мы воплотим в себе духов прошлого, героев детства. Неожиданно кондуктор ладонью шмякнул Джозефа по затылку, скинув того с лавки и опрокинув на землю. "Тише", - процедил старик сквозь зубы, кивая и улыбаясь в сторону и приветственно подымая руку, - " Еще немного и пост дорожных служб тебя б приметил. А этого нам с тобой совсем не надо, такое чертово приключение не входит в наши планы, ведь правда Джозеф? Ганс, или, может, тебе не терпится заполнить анкету-другую из рук этих проныр-засранцев, - обратился кондуктор к бортмеханику. Золотятся в пологих лучах заходящего солнца кресты церкви господней. Гордо набрякли купола, ветер крутит из стороны в сторону наклеенным муляжом положенной мозаики. Неясным стремлением исполнилась душа Джозефа. Он хотел быть сопричастным чуду, свидетелем божественного откровения. Он нуждался в подтверждении сверху, в проявлении чудодейственных сил. Иначе все бы было напрасным, нестоящим ни сил, ни внимания. Чтобы шуткой пресечь удар коварный чувств, Джозеф припомнил соответствующую строку из трагедии Еврипида «Ипполит». «Да, жизнь человека лишь мука сплошная, Где цепи мы носим трудов и болезней. Но быть же не может, чтоб нечто милее, Чем путь этот скучный, за облаком темным Для нас не таилось». Товарищ верь, взойдет она, звезда пленительного счастья… - По-своему закончил Джозеф великолепную реплику Кормилицы. Опустел дом настоятеля, голодающие бродяги из пригорода, наверное, побывали и там. Все, что не уволок за собой батюшка, прихватили они. Мир рушится, все перевернулось вверх ногами, центрами цивилизации стали деревни и виллы в глубинке, бессрочный отпуск депутатам, пустующая столица. Джозеф высунулся в окно навстречу слабому ветру, его обдало непонятной горечью, смешанной с морской солью времени. Это похоже на дешевый парадокс: с одной стороны я присутствую при вполне конкретных событиях, делаю более чем ежедневные вещи, а с другой я в эпицентре исторических событий, вне времени, барельефом в архивах еще не родившихся историков, я царю на страницах учебника истории, улыбаюсь оттуда, посылаю приветы знакомым, грожусь непристойными знаками. Мимо нас ползет в обратную сторону уродливая серобетонная гусеница какого-то института. С другой стороны проступает железная дорога, добро пожаловать на экскурсию. Джозефу припомнилась Gypsy, которую сочинили Uriah Heep. Он открыл их для себя совсем недавно, незадолго до начала войны. Слышал о них конечно много раз, но как-то не доходили руки до них. Классе в девятом один диск он взял на время у одноклассника, но тогда Джозеф был, конечно, еще не готов. А товарищ, возможно, так никогда и не поймет этой группы. Самой комедией был русский вариант названия, предложенный товарищем: Юрий Анхип. Джозефу сперва пришло в голову, что это еще одна звездочка из пресной плеяды русских бардов, но последующее опровержение такого положения дел также ни к чему тогда ни привело. И вообще мой совет: никогда не верьте любителям одной группы, которые кроме нее ничего не слышали. Это на редкость закосневшие, бестолковые и некомпетентные господа, они не предложат вам ничего дельного. Их понимание музыки какой-либо, пусть даже очень хорошей группы, уродует реальное положение дел, их доморощенная привязанность куска выеденного не стоит. Без надлежащего кругозора само их почитание должно быть оскорбительным. Только после того, как Джозеф прослушал большую часть шедевров хард-рока, он сумел правильно оценить Uriah Heep. Шквал органных атак, запоминающуюся, ладную структуру песен. Они были королями эпического направления, от их песен в воображении вставали картины мира и войн, трагедий человеческих душ. Диких, необузданных стремлений. Страстная вера в добро, в теплоту человеческой природы. Джозефа подкупила прямота их таланта, отсутствие окольных стремлений к славе, они не гнались за сложностью исполнения, громким звуком, мощью исполнения. Их творчество было подобно первородному ключу, бьющему из скалы, который невозможно упрекнуть в лицемерном поведении. Навес бензозаправочной станции, окна кассы, закрытые железными щитами. Красные лопаты поверх контейнеров с песком. Стучит колесами трамвай о стыки между рельсами, позвякивают ложечки в стаканах у проводника. Разбитые окна автосалона, покореженная вывеска. По одному пожелтевшие листья срываются с деревьев и в планирующем полете ищут земли. Слева магазин, надпись на стекле которого разбивает нашему другу сердце. Джозеф пересел на другое сиденье: мне есть, что сказать в свое оправдание, я могу должным образом обрисовать мое гибельное настроение. Я будто выжжен дотла, во мне не осталось ничего деятельного, никакой жажды жить и творить. Я не стану ради чего бы там ни было лезть из кожи вон, мне на все наплевать. Припоминаю я один портрет, так он точно с меня нарисован. В нем вижу я собственную душу без прикрас и обиняков: Угрюм и празден часто я брожу: Напрасно веру светлую лелею, На славный подвиг силы не имею, Для песни сердца слов не нахожу. Смит и Ганс переглянулись: нам жаль тебя, брат, ты бы мог получше устроиться. Теперь у тебя нет другого пути воскресить в себе прежних чувств. Туда мы держим путь, где ты сам излечишь себя. Они сделали знак музыкантам, те без промедления заиграли Julia Dream. Все как положено, сладкой какофонией, нежными фразами, прощальным ветром. Джозеф закрыл лицо руками, слезы медленно потекли между пальцев. Как ни горько было это признать, но самым подходящим сейчас отрывком сейчас бы стал: С этой тихой и грустной думой Как-нибудь я жизнь дотяну, А о будущей ты подумай, Я и так погубил одну. Автобусный парк похож на тюрьму без решеток: трудно отыскать во всем Городе здание более отвратительного облика. Дальше мост через мутную Сходню, в ней заколдованными сомнамбулами движутся длинные зеленые пряди подводных трав. Позвякивая, неспешно едет трамвай, кремовые отрезки разделительных полос мелькают в створе раскрытых дверей. Экипаж подъезжает к метро, резко поворачивая налево. На пригорке "Макдональдс", несколько разбитых машин. Трамвай останавливается напротив входа в метро, выполненного в виде лестницы вниз. Джозефа отделяет от него метров сорок, ему предстоит по асфальтированной площадке, где обычно царит веселый шум и бойкая торговля, разбито несколько рядов палаток. Ныне же здесь ни души. Ни единого человека, безглазая, неодушевленная пустота. Молчащие предметы, засилье товаров. Джозеф Сэммлер выходит на середину площади: прямо – вход в метро, налево игорный филиал Лас-Вегаса, за ним железнодорожные пути, сзади дорога, рельсы, трамвай, направо – декоративная будка прославленного общепита, основная ветвь шоссе, рынок и летное поле. Вприпрыжку Джозеф спускается по лестнице, щелкает тонкими подошвами легких туфлей по грязным плитам облицовочного гранита. Он, повинуясь внутреннему голосу, остановился неподалеку от начала подземного перехода, проходящего в направлении перпендикулярном лестнице. Джозеф вспомнил: к потолку прикреплена пара видеокамер, словно два налитых кровью, вспученных глаза подземного чудища повелителя ужасов. Но в переход можно было зайти с двух сторон, и насколько Джозеф припоминал, с другого входа вам в лицо не утыкался слепой взгляд видеокамер. Такой факт следовало бы признать логичным, ведь станция метро являлась конечной остановкой для большинства автобусных маршрутов. То есть большая часть людей (прибывавшая сюда из окрестностей на автобусах) входила с одной стороны, а выходила в точности другой. Следовательно, как ни крути, гораздо безопаснее войти с той стороны, так как, даже, если там и подвешены камеры, то смотреть они должны в другую сторону, чтобы фиксировать лица проходящих людей. Вроде все четко. Можно идти. Перебежал шоссе, спускается по лестнице. Лестница не убрана от сора будних дней. Призваны даже дворники. От времени порыжевший венчик банановых очисток. Да, здесь торговали фруктами и овощами, нарочно выдвигая свои лотки подальше, дабы привлечь внимание прохожих, грузинские торговки, им никакого дела не было до тех, кому они впаривали свой чертов товар, из-за них здесь было днем не пройти. Но теперь нет и их, единственный положительный момент, пожалуй, подумал Джозеф. Они торговали лимонами, три по десять, я еще помню какую-то головоломку: Николай Андреевич тащил авоську лимонов и просил окружающих разыскать того молодого англичанина-негра. Однажды, когда Джозеф выходил из метро, и его слух не успел еще адаптироваться от адского грохота голубых составов, пара торгашей перекидывались фразами на незнакомом им русском, среди которых одна запомнилась Джозефу Сэммлеру своей многоликой абсурдностью: Араб, зов вина, пан метал лимоны в трон. Черт те что, вот именно. Но это воспоминание солнечным зайчиком пронеслось в сознании Джозефа, не оставив там значительного следа, остановив его лишь на краткий миг, и он уже движется далее, подстегиваемый любопытством и жаждой приключений, деятельного познания мира. Он охвачен тоской по потерянным секундам, он устал быть отрезанным от мира, от самой его сочной сердцевины, то чего он ранее страшился, влечет его все сильнее и сильнее; как бы разузнать поподробнее о грехах суетного мира, теперь нет ничего проще, когда ты единственный из свободных людей, разгуливающих по убитому городу. Камер со стороны Джозефа не оказалось вовсе, но все равно двигался по-пластунски, прижимаясь по-звериному к холодному полу. Два ряда по три двери в каждом. Картины, изученные Джозефом в совершенстве, изгаженные стекла в железных рамах: загораживали ему дорогу в вестибюль станции метро. Они не были закрыты, он осторожно вползает туда. Из представителей администрации никого, никого из служителей, нет ни кассиров, продающих билетики, ни дежурных, осуществляющих контроль за станцией, ни тучных ментов в голубых, мокрых от пота рубашках. Пустая станция, как будто живет сама без людей. Исправно жужжит освещение. При появлении в вестибюле Джозефа турникеты ожили и принялись оживленно клацать створчатыми челюстями, система, главенствующая в передаче возмущения по системе ворот, постоянно менялась, то они совершали колебания одновременно, то это возмущение проходило в виде волны, и длина такой волны варьировала, изменяясь примерно в два раза; иногда ни с того ни с сего, после маленькой паузы, волна начинала свое движение с двух сторон ряда, в другой раз она рождалась в центре симметричной системы турникетов. Порой турникет хлопал по два раза, только после этого возмущение передавалось его соседу. Если Джозеф отворачивался и делал вид, что выходит из вестибюля, турникеты прекращали стучать, но когда Джозеф приближался к ним, с надеждой пройти вниз на станцию, частота колебаний увеличивалась. Порядок перехода колебаний от одного турникета к другому становился хаотическим, затрудняя тем самым возможность прохождения. Жужжание белых газовых ламп переходило в угрожающий треск. Путь праведников сопряжен с притеснениями со стороны себялюбцев, тернии преграждают прямой путь. Джозеф не долго размышлял о причинах сумасшедшей активности обычного оборудования и прошмыгнул через лаз у контрольного пункта дежурной. Пустая платформа, одинокие лавки, два ряда колонн, спокойствие уравновешенных построений геометрии, синтез камня и человеческой души, умозрительный идеал, обновленное эхо. Джозеф петляет, идет вдоль кривой невнятной траектории, словно броуновская частица, подгоняемая вихрем чувств потерянного человека. Сняты вывески у выходов в город, служившие ранее для ориентации пассажиров, чьей-то праведной рукой сорваны листки с рекламой. Ходят ли поезда? Да, причем достаточно регулярно, с момента отхода предыдущего прошло три минуты двадцать шесть секунд. Джозеф дожидался поезда в центре платформы, поэтому, учитывая указания, вероятно полученные машинистами, он физически не сумел бы войти в кабину машиниста, локомотив попросту бы успел скрыться вместе с головной частью в мрачном тоннеле. Вдобавок к этому кабины машинистов были снабжены теперь тонированными (и, допускаю, пуленепробиваемыми стеклами), так что увидеть лица машинистов или хотя бы понять сидят ли машинисты там, вообще, было практически невыполнимо. Несмотря на нависающую громаду чужеродных фактов и нововведений смутного назначения, Джозефу было любезно позволено стать пассажиром поезда № 5134 и буквенной составляющей ГАДВ. Вагон с плоскими сиденьями, на которых долго сидеть крайне затруднительно из-за боли в затекающих членах. Из окон поезда постепенно пропадают стены знакомой станции, как съедаемые остатки мороженого с малиновым вареньем. С гулким грохотом вагоны погружаются в тоннельный мрак. Змеятся резиновые шланги толстых проводов по стенам, просыпаются давние страхи маленького Джозефа. Маленького настолько, что тогда он не воспринимал себя, как подобного окружающим людям. Когда еще не произошло отождествление себя с собственным именем. Джозеф тогда очень боялся ездить на метро и закрывал глаза, чтобы только не видеть ужасных огней, мелькающих снаружи поезда. Начиналось возрождение этого древнего интуитивного чувства, подлинного страха – погонщика одиноких душ. Состав пронесся на полной скорости мимо следующей платформы. Мальчик встал, испуганно озираясь, но поезд уже вновь засосало в тоннель. Джозеф не хотел садиться, пришлось: силы оставили его. Прослойка неосвещенного пространства отделяла его вагон от соседнего, и тот был виден целиком. Примерно посередине сидел пожилой мужчина с начинавшими седеть волосами, жидкими глазками, небольшим плоским лицом, в опрятном поношенном двубортном пиджачке. Он спокойно смотрел на свое отражение в стекле напротив. Вдруг шея его удлинилась, голова же на этой ирреальной шее начала качаться туда-сюда с чудовищной скоростью. Порой становилось трудно определить ее конкретное положение, она почернела. Руки со сплетенными пальцами и вздувшимися посиневшими венами он вытянул впереди себя. Тело перестало быть человеческим. Джозеф припал к стеклу вагона и с замиранием сердца наблюдал за дикими метаморфозами. Такое поведение мужчины напоминало извращенную форму эпилепсии или некого припадочного заболевания, если бы не странная черта изображения самого тела и вагона: на мгновения буквально муки прекращались, а потом начинались новые, с кинематографической точностью повторяющие прежние. Бросалась в глаза небрежность "оператора" соединяющего концы пленок, слишком резким и неестественным выглядел этот переход. Джозеф закрыл глаза, усомнившись в здравости своего рассудка и в способностях своего зрения. Он склонил голову на колени и попытался сосредоточиться, найти тонкую граница между реальностью и тем абсурдом, что происходил в соседнем вагоне, в этот момент на Джозефа нахлынуло чувство необъяснимого ужаса. Чье-то приближение обещало стать роковым, не обнаруживая себя притом с достаточной ясностью. Образ образа во сне, отражение тени, вибрации воздуха, пляшущие на поверхности кожи. Тут же Джозеф открыл глаза, его вагон был пуст, эпилептика и след простыл, оставив исчезающее дрожание бежевых лоскутьев в окне напротив места своего предыдущего пребывания. Мальчик вскочил и попытался ворваться в тот вагон, чтобы не дать уйти призраку. Двери были достаточно прочны, и ему пришлось остаться на своем месте. Скоро пролетали другие станции, поезд шел по давно намеченному пути, искры летели из под железных колес, состав качался и скрипел на перекрестьях рельс. В некоторые моменты крен достигал угрожающих размеров, так что поезд мог продолжить движение уже на боку. Ячеистые стены, сводом переходящие в закругленный потолок, молчащие сторожа светофоры. Джозеф против своего желания примечает изменение обстановки в страшном вагоне. Посреди вагона стоит девушка, лицом обращенная к нему лицом. Она светлой одежде; взгляд ее сконцентрирован на событиях собственной истории. Волосам искусно придали более светлый оттенок, короткая прическа с челкой. Поражает ее обморочная, убийственная худоба. Джозеф знал наверняка, она весит двадцать восемь килограмм. Бессильно свисают руки вдоль тела, выступает угол локтей. Кожа бледна и бескровна. Выглядит очень стройной, вытянутой, устремленной в иные, нездешние сферы, как царица Нефертити. Она подсказывает: я страдаю анорексией. Ужасно, она, кажется, обречена, тело пожирает само себя, масса тела падает на 45%. Расплываются мышцы, истончаются подкожные слои жира. Бедняжка мерзнет при восемнадцати градусах. Отказывают слизистые оболочки, она не в состоянии есть, пища вызывает у нее отвращение. Теперь ее тошнит, даже если она выпьет воды. Чудовищное уменьшение органов пищеварения: она может питаться только через капельницу. Желаемая красота обращается угловатым уродством скелета, только лицо еще сохранило частицу прежнего очарования. Джозеф почти не скорбит: она беззвучно умирает. Как именно? Здесь есть варианты: смертью Офелии, смертью героини актрисы, чье имя зашифровано в тексте и спрятано между двух итальянцев либо ее могут найти в одной из четырех комнат. Джозеф, несомненно, знал, кто она такая: на год младше его, девушка училась на том же факультета. Он замечал ее в паре с одним знакомым. Он всегда замирал, когда видел ее, она была похожа на птицу с мягким оперением, требующим нежного обращения. С подчеркнуто андрогинным типом лица, с нездешним обаянием и ласковой умеренностью. В ее разговоре взгляд, направленный на нее, будто завязал, и больше не мог от нее оторваться, от шарма ее стеснительных интонаций и природной общительности. Трогательная неприметность и такая тонкая, заметная Джозефу, вычурность, контролируемая странность в поведении, в замирающем взгляде, холодность в проявлении чувств, легкая замороженность мимики, редкая улыбка понимания или рассеянности. Когда Джозеф носил совсем другое имя, он был ее близким другом. Первичной посылкой к такому умозаключению может служить известная картина "Выбор". На ней изображен молодой человек, сидящий на ступеньках лестницы разрушенной арбатской школы около четвертого этажа, на пролете, ведущем к чердаку. Он сидит между двух девушек: справа от него смуглая девушка с волосами, взятыми в хвост, сладкой, располагающей к себе внешности. Джозеф при просмотре не мог избавиться от впечатления, что она происходит из древнего египетского рода или из славной династии отважных правителей-мореходов Эллады. Следует заметить, что всякий раз, когда Сэммлер пытался воскресить в памяти ее дивный образ, всплывал нудный и скучноватый облик его учительницы по английскому, ее робкой улыбки аспиранта, ее бледного, сонного лица. Совсем недавно Джозеф встретил ее (учительницу, разумеется), страстно целующейся с каким-то вегетарианцем, крайне неспортивного сложения, на лавочках возле Васильевского спуска. Слева же сидела менее опрятная девушка, с растрепанными волосами, обветренным лицом. Она была простой, располагающей к себе внешности, и если бы не остатки ее прежней красоты, ее можно было бы грубо назвать бывалой. Не удивительно, что большая часть молодых людей предпочитала первую из девушек. В лице же главного героя заметно сомнение, для него не все так просто. В своих руках он держит руку египтянки, а лицо его обращено ко второй девушке. Он будто бы пытается отыскать в ее лице ответ на мучающий его вопрос. С внешней стороны разрезов глаз у второй девушки застыли то ли слезинки, то ли сверкающие драгоценные камни. Она обижена и будет отвечать юноше, несмотря на его мольбу. Возникает ощущение, словно юноша и вторая девушка были знакомы задолго до этой сцены. Их объединяло крупное дело, они были в одной команде. Занятие было сопряжено с большим риском, и взаимное доверие сплотило их, они понимали друг друга с полуслова. Но потом что-то внесло между ними раскол. Весьма правдоподобной кажется следующая точка зрения: в те легендарные времена, когда они еще были вместе, в одной команде, юноша был главным среди них, во многом за счет своих выдающихся личных качеств, несравненного таланта и инстинкта победителя. Вместе они достигли выдающихся результатов, заслужили славу и почет, которые большей частью доставались юноше. Народная любовь к нему, как к триумфатору, застило ему глаза, заставило чаще появляться на публике, возвысило его над своими друзьями. И отдалило его от них так, что общее дело пришло в упадок, после длительного затухания. И если египтянка досталась ему в качестве награды, свидетельства народного признания в то время, когда юноша уже был на вершине славы, то вторая девушка с печальным лицом и заплаканными глазами была равной ему, была свидетелем его становления, она была его другом, и доверял он ей безгранично, как доверяют друзьям, но не любимым. Египтянка же была покорна судьбе, в контексте встречи двух прежних друзей она была лишь красивой безделушкой; в течение всей сцены она молчит, прижавшись к юноше, доверяя герою свою судьбу. Юноше жаль ее, но он обманывает себя надеждами, что ее-то он точно уж не потеряет, она всецело его, как наложница или верное домашнее животное. У второй девушки длинная история: Сэммлер уверен, что видел ее как-то на всероссийском слете натуралистов в лагере под Нижним Новгородом. Она никого и ничего не представляла, а приехала повеселиться за компанию в лагере, забитом до отвала. Джозеф помнит, что она курила, тогда его это страшно поразило. Но она не придавала ничему большого значения, всегда была веселой и могла поддержать в необходимый момент. В лагере его основным занятием была игра в настольный теннис, она пару раз играла с ним, но, как он ни старался подыгрывать ей, она все равно со смехом проигрывала. Вместе с геологами из своей группы Джозеф ездил на экскурсию по Волге до Нижнего Новгорода. Он встретился с ней на теплоходе на нижней палубе. Вместе они смотрели, держась обеими руками за поручни, на бурлящую за бортом воду. Вполне возможно, Джозеф видел ее беснующейся на дискотеках; сам он никогда не танцевал, только слушал поразившую его тогда We will rock you и вторую часть Another brick in the wall. Все взаимосвязано, везде есть нечто общее, оно скрыто, но масштабы связующей сети поражают воображение. Джозеф слыхал в кулуарах, что одному особенно талантливому ловцу снов привиделась девушка, внешность, которой по описаниям сходилась с внешностью нижегородской подружки Джозефа. Он точно видел ее, едущей по асфальтовой дороге в оранжевом запорожце, к повороту на проселочное шоссе. Такого же цвета солнце светило ей в лицо. Со стороны, противоположной солнцу была автобусная остановка и небольшой прудик за завесой пышных луговых трав. Далее в ту сторону по шоссе виднелась полуразрушенная церковь. Девушка чем-то тяжело болела и регулярно ездила лечиться в районный центр, а так жила у родных в деревне. В ее лице не было прежнего озорства, веселья. Она бессильно разваливалась в автомобильном кресле и, медленно вздыхая, грустно выглядывала в окно. Знаете, Джозеф, решил, что это пошло ей даже на пользу, она изматывала себя таким режимом непрестанного веселья. Но что случилось с ней потом, не знает никто. Остался один замечательный образ, взятый за бесценок неизвестно у кого, там наша героиня печальной едет на митинском автобусе, подъезжая к радиорынку. Сидит и смотрит в заднее стекло, она бледна, истощена, но сквозь лицо, на котором расписался порок, проступать начинает солнечный свет потерянной молодости, она преображается и, словно за окном идет дождь с безоблачного неба, капают слезы радости из ее глаз. Она возвращается домой и все будет по-прежнему. У Джозефа сердце щемит от тоски, и он от бессилия, оттого, что не в состоянии помочь, от пустой бесплотности всех догадок и озарений, кусает губы и с грохотом отваливается на спинку сиденья. Джозеф чертовски отчетливо увидел тщетность своих мечтаний, низменность своих планов, их подлую, постыдную смехотворность. Обидно ему было и оттого, что стало понятно ему это только сейчас, когда он существует, практически никого не встречая, а стало быть, у него нет свидетелей, нет критиков, нет людей, чье мнение ему могло бы быть важно. И незачем что-либо предпринимать, а с другой стороны Джозефу хотелось вырасти, возвыситься над собою прежним, измениться до неузнаваемости. Как-то все мерзко враз складывалось, и до того неудобно стало Джозефу внутри, что он встал размяться. Он прохаживался по кругу на небольшом пятачке в углу вагона, набычившись и всхрапывая от душащей его злобы. Он будто держал известное себе на уме и с дерзким замыслом подошел к раздвигающимся дверям вагона, затем со всей силы ударил кулаком по надписи "не прислоняться". Через надпись прошла звездная череда трещин, кожа на костяшках покраснела. Джозеф взбесился, сознательно подавляя проявления упирающегося рассудка, и прямым ударом довершил начатое. Прозрачный кристалл выбросил наружу осколок в форме всклокоченного ежика. Дыра пронзительно завизжала и захлюпала убегающим воздухом. Мальчику в рукав растопленным сургучом потекла теплая, маслянистая кровь. Он порезал ребро ладони. Новоявленный каньон, словно русло реки вновь и вновь заполнялся кровью. Поезд пересекал станцию фиолетового цвета, напоминавшую Пушкинскую. Охранник правопорядка в голубенькой, как у педика, рубашке погрозил Джозефу Сэммлеру кулаком. Это вызвало у Джозефа бешеное чувство восторга, сладок преступленья плод, захватывающе бегство от упорных преследователей. В темном тоннеле появился невнятный призрак с другой стороны, он манил Джозефа куда-то за собой и беззвучно бормотал, суетно шевеля иссохшими губами. Мальчик плюхнулся на сиденье, его ноги будто вросли в пол. Вагон, будто надвое разделила пелена, занавес, отодвинуть который не было сил, ибо за ним парил призрак, бесплотный дух, осязаемая пустота, гонец с темной стороны, воплощенное ничто, мнимая единица комплекса естественных наук и всей парадигмы современного понимания жизни. Не зови ты меня за собою, за тобой нету сил мне идти. Но он не пропадал, даже, если открыть-закрыть глаза, если отвернуться и, прищурившись, взглянуть туда снова. Он висел упреком и искушением, он апеллировал к совести и к голосу разума. И Джозеф не стерпел: он бросился в самое пекло страха, в сосредоточение ужаса, сердце мглы, ведь обещания всегда страшнее действительности, а тут и есть сердцевина наших ужасов, надо их разметать, убедиться в их бессилии, насмеяться и надругаться над ними, над суеверием, над мороком. Ничего не там не было, стало быть, и бояться нужно только людей, только смертоносного содержимого их черепных коробок. Сгинули призраки, растаяли предубеждения, но никуда не пропали ярость, злость, гнев, ненависть, желание мести, исступление, не нашедшие призрака. Джозеф тяжело дышал, остановившись, как вкопанный. Он вспомнил, как летом катался на велосипеде и порой бесстрашно скользил с крутых невысоких горок около своей бывшей районной школы, и наряду с чувством уверенности и упоением скорости, появлялось пугающее, маниакальное подозрение, подтверждавшееся холодом в руках, что сейчас в самый неподходящий, неустойчивый момент у велосипеда отвалится руль, просто выдернется из того круглого желобка внизу, и ты так и останешься с рулем, висящим в воздухе, который-то только из-за того не падает, что ты его держишь. И как быть дальше, тебе подскажет лишь твое природное чувство равновесия, устойчивости. Конечно, Джозеф за долгие дни летнего безделья отлично выучился кататься без рук, как по прямой, так и без особых затруднений на поворотах. Младший Сэммлер мог кататься совсем без рук и по кругу, он успешно держался в седле и на небольших ухабах. Но без руля это, словно без страховки канатоходцу совершать ежедневный обход, другой уровень риска и ответственности, боязнь давит на тебя и лишает уверенности, будто ты готов поручиться за свое мастерство собственной жизнью. В это же время на всех парах несся оголтелый полуночный экспресс по таганско-краснопресненской линии, раскачиваясь туда-сюда из-за усилия сидевших в нем диковатых пассажиров. Ими целиком был забит только один вагон около центра состава, и по несколько человек валялось во всех остальных вагонах. Они бранились, чертыхались, упоминали всуе имя господа, и все напропалую матерились и стар и млад. Непрестанно они совершали богослужения Дионису, разбивали об пол пустые бутылки, кувшины, амфоры, бочонки, мяли ногами с хрустом жестяные банки. Пили на спор, пили с горя, пили, радуясь крупному выигрышу в карты, пили от одиночества, квартами, галлонами переводили хмельные напитки, а те согласно журчали в бездонных глотках, плескались, как в бурдюках в безразмерных желудках. Пили от избытка чувств, от невозможности выразить их обычными словами человека, пили, ожидая вдохновения. Если бы явилась к ним муза, они бы споили и ее. Люди спали на лавках, под лавками, сидели на лавках и на грязном полу, о чем-то толкуя, стояли, склонясь у поручней, валялись в углу на кучах использованной одежды. Дети играли в салочки, в карты, шашки, в иные непристойные игры, а в затейливости выражений не уступали и взрослым. Путники, мародеры, кем бы они ни были, были небритыми и заросшими, со спутанными и грязными волосами, однако это их несколько не смущало: они с этим, очевидно, свыклись и воспринимали как должное или, по крайней мере, не видели в этом ничего зазорного. Часть мужчин, одетых богато и слегка неряшливо возбужденно обсуждали планы дальнейших действий. Они сидели на разобранных лодках, отовсюду торчали железные черешки весел. На женщинах были до сих пор надеты спасательные жилеты. Когда за окном промелькнула станция вся в мраморе, глянцевая и полированная, словно готовящаяся к параду, один из толпы варваров выкинул, разбив стекло, стеклянную бутылку, та принялась описывать ладную дугу в спертом воздухе метрополитена, но дальнейшая судьба стеклянной посудины остается за кадром. Странники были возбуждены, их живые глаза озарял хулиганский блеск; через несколько минут все принялись суетиться, подталкивая вещи к выходу, одичалый субъект, принадлежащий к породе тех, которые составляют основу всякой шумной компании, которые призывают всех быть раскованней и свободней, которые готовы взять на себя последствия любой шутки и проказы, вину других людей купить вместе с их совестью, снял с шеи трескучий автомат и, дабы ознаменовать наступление новой эры их истории, проделал несколько дырок в крыше вагона. Все вокруг радостно загудело, как в улье. Толпа, подобно лавине, высыпалась на бетонную платформу диковинной станции. Окраска ее стен сильно напоминала змейкой выложенный винегрет на белой глазури торта. Путники осмотрелись и приняли решение двигаться к левому выходу; разношерстная толпа насчитывала значительно более ста человек. Так темные ангелы адской воронки вылезают на просторы, освещаемые солнцем, в поисках душ и тел грешников, борьба за которые есть свобода выбора каждого человека. Хочу после нескольких страниц пустой болтовни подтвердить догадки самых проницательных из читателей, труд сей, действительно, преимущественно был написан неизвестным автором на санскрите. Таинственные манускрипты попали в руки главного героя повести "Безмятежный край". Тот оказался проницательным малым, однако не знал в должной степени языка этого трактата, поэтому отдал переводчику из букинистического магазина на Арбате, тот благополучно перевел, но так и не дождался запроса от заказчика, ведь тот и думать о нем забыл, после того, как получил наследство от дядюшки. Чтобы хоть какнибудь оправдать свои заботы букинист-архивариус решил продать перевод, так он достался мне. Пользуясь своим положением корректора-соавтора, я стал менять имена главных героев, стал вносить небольшие изменения в сюжет, но их накапливалось все больше и больше. Под конец у меня кто-то украл сам трактат, а копий у меня не осталось. Куда-то переехал букинистический магазин. Теперь меня все больше и больше беспокоит одна мысль: наверное, я уже слишком далеко отошел от первоначального содержания трактата, а теперь даже лишен возможности с ним сверяться в наиболее скользких случаях, теперь этот труд вполне может быть в несколько раз больше первоначального, исполнен в ином жанре, лишен прежних ссылок. Таким образом, каждому автору перед написанием новой истории мог приходить подобный манускрипт, который вызывал желание писателя его обработать по-своему, после чего необъяснимым образом этот манускрипт пропадал, позволяя автору двигаться собственным путем. Существовал ли, в самом деле, этот первоначальный манускрипт-катализатор? Пользуясь в иных местах космогонией итальянского автора, хотел бы поделиться своими подозрениями, сомнениями, интуитивными догадками. Мне думается, что басня о судном дне, об итоговом возвращении носит несколько метафорический характер, в ней чувствуется оттенок напрасной надежды, ожидание милости от того, кто не может чувствовать и сострадать, не пошел ли я, впрочем, по пути средневековых ересиархов. Я полагаю, что время ожидания перемен бесконечно, иначе одним пришлось бы расплачиваться за свои грехи все время существования Мира, а другие только бы попробовали на вкус новой жизни под землей. Собственно для вящей справедливости требуется очень большой отрезок времени, в которой люди существовать не будут вовсе, чтобы все отмучались одинаково, так как время мучений, я полагаю, играет достаточно большую роль. Таким образом, перемен не будет, мы раз и навсегда определяем место нашего будущего пребывания. Чем-то прогневившие господа будут вечно мучатся на разных уровнях великолепной воронки. В самом этом утверждении содержится уже оксюморонное начало, ведь, исходя из здравого смысла, муки, в конце концов, должны бы привести к гибели. Мы все-таки понимаем, что речь в данном случае идет не о бренных телах, а о неуничтожимых душах, и, тем не менее, мучения персонажей божественной комедии носят чрезвычайно живописный и реальный характер. Такое как бы противоречивое сочетание - один из необходимых законов этого мира. Герои Чистилища будут пребывать в вечном, неустанном движении вверх, эта гора уходит в бесконечность. Все их попытки переменить положение дел окажутся в смысле достижения конечной цели бесполезными. Здесь моя теория дает сбой, ведь гора конечна, да и разные круги предназначены для душ с разными несовершенствами. Данте также представляет нам одного из счастливчиков, кому удастся перебраться в Рай. Можно предположить существование постоянных переходов из Чистилища в Рай, благодаря стараниям родственников усопших и не вполне ясного осознания душами собственного перерождения. Как же в таком случае не переполнится Рай? Я подразумеваю под оным явлением не нечто совсем грубое и кощунственное, связанное с трудами Мальтуса, а ситуацию в определенный временной срез. Не случится ли так, что чересчур много желающих окажется на очереди в светозарные просторы. Пусть покои всевышнего растут с ростом численности населения Земли, но как быть с внутренними миграциями населения загробного мира. Первая простая мысль, преходящая в голову, - обратный отток душ, провинившихся в раю. Но после внимательного прочтения третьей кантики она покажется нелепой: обитающие в обществе господних слуг так довольны своим здесь пребыванием, так искренни, радостны и как бы прозрачны, в них мало осталось от обычных людей, чтобы пытаться обманывать или лукавить, у них всего в достатке, так что скоро они обращаются в безвольных созданий, преданных Творцу и его воле. Итальянский автор и сам уделял большое внимание логичности создаваемого мира, полемизировал с другими авторами и философами. Любопытен следующий отрывок четвертой песни "Чистилища": Когда одну из наших сил душевных Боль или радость поглотит сполна, То отрешась от прочих чувств вседневных, Душа лишь этой силе отдана; И тем опровержимо заблужденье, Что в нас душа пылает не одна. Ценность сих строк не в софизме, опровергающем теории других мыслителей. Трогательна предупредительность автора, заботливо предостерегающего нас от распространенных заблуждений. Он считает своим долгом со всех сторон рассмотреть свой мир и предупредить возможные нападки. В данном случае, если бы в одном теле обитало по несколько душ, было бы не ясным, как их расселять после отбытия и насколько бы они вообще были человекоподобны, чтобы адекватно воспринимать муки, радости, а то получалось бы нелепо: она душа мучается в аду, а другая вспомогательная, которая вообще раза два за жизнь использовалась и не участвовала в принятии разумных решений, безмятежно веселится в компании херувимов. Данте и дальше исследует проблему восприимчивости душ к физическим страданиям и возможности проведения параллелей между их потусторонними оболочками и земным человеческим телом. Делает он это на средневековый манер в виде диалогов героя Данте Алигьери и обитателей трех ипостасей загробного мира. Итак, логично и своевременно (в двадцать пятой песне "Чистилища") Данте вопрошает поэта Стация: "Как можно изнуряться, - я сказал, Там, где питать не требуется тело? " Стаций пускается в долгие, запутанные объяснения, полные небесной анатомии и софистики. В общих словах его точка зрения основывается на медленном переходе от кругов кровообращения и функций выделительной системы к мысли о существовании высшего начала в человеке, подаренного ему Господом. "И вот душа, слиянная в одно, Живет, и чувствует, и постигает". Живая материя не вечна, через некоторое время наступает ключевой момент – естественная смерть: Душа спешит из тела прочь, но в ней И бренное, и вечное таится. Безмолвствуют все свойства прежних дней; Но память, разум, воля – те намного В деянии становятся острей. Чуть дух очерчен местом, вновь готов Поток творящей силы излучаться, Как прежде он питал плотской покров. Итальянский автор специально заостряет внимание на темных и неясных вопросах. Он – автор этого мира, он – его создатель, его волнует каждая мелочь, каждый штрих собственного творения, которое посредством его мастерства должно стать совершенным. Он должен распутывать всякие тонкости и каверзы, он считает недостойным ловко избегать их, ведь это вызов его таланту, как писателя, так и создателя, фантазера, выдумщика. Ему предстает лишний шанс придать убедительности выдуманному миру, и он пользуется им и выходит с блеском из неудобной ситуации. Мы можем наслаждаться стройной "теорией" Данте, в которой душа, присущая человеку не с самого раннего возраста, а возникающая только после появления рассудка, служит как бы переносчиком характера, памяти, свойств разума конкретного человека после его перехода в загробный мир. И уже там строится новое "тело", новый материальный облик, воссоздаваемый, как по матрице или по шаблону тамошней средой. Великолепны переходы от сложных разъяснений механизмов превращений перелетных душ в оседлые организмы к иллюстрирующим их сравнениям, без которых у нас бы не было шансов понять предыдущие строки, так как они изображают нечто, не встречающееся нам в обыденной жизни, то, чему мы сами бы не смогли подобрать аналогов: Как воздух, если в нем пары клубятся И чуждый луч их мгла в себе дробит, Различно начинает расцвечаться. Воистину Данте не истощим на новые идеи, интересные, неординарные подробности, которые выскакивают из-под его пера, как искры из-под колес поезда. Если бы взрослый читатель сохранял хоть немного искренности по отношению к себе или окружающим, то, скорее всего, он бы признался, что после прочтения комедии искренне верит в путешествие автора по иному свету. У него не возникает сомнений в правдивости автора, данная черта – привилегия настоящих писателей, поэтов, художников слова. Читатель, возможно, сознательно примется находить некоторые фактические ошибки, но перед этим, словно бы по умолчанию он прочитает все произведение, интуитивно не усомнившись ни в едином слоге. Это достигается множеством тонких, порой персональных приемов, один из которых огорошить читателя ворохом неизвестных подробностей, тем самым ты ясно покажешь, что тебе-то данный материал знаком как никому другому. Мы видим этот прием в употреблении и у Данте, когда Стаций произносит следующие строки: И все, чем дух взволнован и смущен, Сквозит в обличье тени; оттого-то И был ты нашим видом удивлен. Интересная подробность, рискуя истолковать которую превратно, можно придти к выводу, будто души проходящие по чистилищу похожи на хамелеонов. Но не в дурном понимании названия безгрешного животного, как великого притворщика и подхалима, а в понимании хамелеона, как природного феномена, чье внутреннее состояние чудесным образом отражается на его внешности. В иносказательном понимании этого отрывка можно различить некоторую нравственную обнаженность душ, обитающих в чистилище. Они не могут таить никаких мыслей от других, своеобразный повод не иметь никаких дурных мыслей. Дальше эта тема найдет развитие у райских душ, которые уже утратят человеческий облик и будут огнями, что пылают любовью ко всему сущему, их внешний вид явится элементарным индикатором их мыслей и побуждений. Но проследуем же далее вслед за неудержимой фантазией гения средневековья, который сочетал трезвый ум ученого и поразительную способность к сочинительству. В принципе мирно уживающиеся в нем, они осознавали свою различную природу, вступали друг с другом в союз, контролировали друг друга. И если его сочинительская черта указывала ему на некую ограниченность наблюдаемых в реальном мире явлений, то его трезвый ум схоласта помогал находить ловкие парадоксы и неочевидные отличия выдуманного мира от существующего. В подтверждение сказанным словам следующие строки: Казалось мне - нас облаком накрыло, Прозрачным, гладким, крепким и густым, Как адамант, что солнце поразило. И этот жемчуг вечно нерушим, Нас внутрь принял, как вода – луч света, Не поступаясь веществом своим. Коль я был телом, и тогда, - хоть это Постичь нельзя, - объем вошел в объем, Что быть должно, раз тело в тело вдето, Сколь много здесь всего сплелось. Ситуация проста: Данте, ведомый Беатриче, оказывается на некой звезде, о проникновении куда и идет речь. Здесь есть подозрение об иной природе бренного тела по сравнению с естеством горних высот Рая, уподобление чрезвычайно глубокое, если учесть, что именно земную оболочку сравнивают с бесплотным лучом света в реальном осязаемом пространстве заоблачных высей. Тем самым как бы опровергается идея о воздушности, недостижимости, вымышленности Рая. Здесь применяется прием первоначальности, главенства факта (пускай и выдуманного) над представлениями об истинности окружающего, который своим бытием постулирует свою действительность, существование новых, невиданных законов. Кстати, отсюда наверняка идут корни "Изобретения Мореля", по крайней мере, что-то из чего-то следует, или просто аргентинский и итальянский мастера сходны внутренним пониманием истинно фантастического. Главный герой божественной комедии – обладатель взыскующий разума, тип человека-открывателя, проявляет свою любознательность в гораздо более экзотической обстановке, чем приходилось большинству людей до и после него. Даже в трех царствах загробного мира он не прекращает своих расспросов, подобно современным журналистам, но с, конечно, более достойными целями. Его и вправду волнуют не вопросы, обещающие сенсацию или скандал, а основополагающие вопросы, таящие в себе ответ на замыслы творца. Зададимся и мы подобным вопросом: если рай по версии Данте также разделен на круги и также является при этом конечной точкой путешествия любой души, разрешены ли переходы душ с круг на круг внутри светозарных просторов Рая? Одновременно с этим возникают и другие вопросы, а правомерно ли разделение душ не по проступкам, как в аду, а по заслугам, не все ли будут равны в своей благости, близости к любящему Отцу? Когда в аду номинально положено страдать, то в райской обители следует наслаждаться, что, в таком случае, служит критерием величины наслаждения, кем создана иерархия типов наслаждения? Это и волнует Данте: Но расскажи: вы все, кто счастлив тут, Взыскуете ли высшего предела, Где больший кругозор и дружба ждут? Несчастная Пиккарда, утешенная ангелами, просияв, незамедлительно отвечает: Брат, нашу волю утолил во всем Закон любви лишь то желать велящий, Что есть у нас, не мысля об ином. Когда б мы славы восхотели вящей, Пришлось бы нашу волю разлучить С верховной волей, нас внизу держащей, ………………………………………………. Ведь тем-то и блаженно наше esse, Что Божья воля руководит им И становится понятен основной принцип воздаяния по заслугам, то есть большая или меньшая близость к Господу, который сам по себе является неиссякающим источником блаженства. Опять же по Данте: основная стихия Рая - это любовь, как награда и закон. Кроме того в Раю нам встречается новый способ организации жизни "людей", при котором они руководствуются не собственными желаниями и помыслами, а целиком полагаются на волю Господа; она, стоит полагать, приходит к ним непосредственно от Бога и в отличии от обычной жизни в явном виде. Данте почти не переступает границ корректности по отношению к церкви и ее догматике. Но его трактовки отличаются многозначностью и за обычным художественным приемом можно разглядеть новую философскую концепцию, граничащую с ересью. Проблема в том, что трудно различить, какие из его оборотов созданы исключительно для красоты, на каких из них легло бремя тайного шифра. Как, например, трактовать подобный отрывок: Все, что умрет, и все, что не умрет, Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий Своей любовью бытие дает; Фактически, это означает, что мы, другие живые твари и окружающие нас земли лишь мыслимы Господом, он только мечтает о нас, а, может, мы и вовсе только снимся ему. И как только закончится сон, бесследно исчезнет наш мир, и ничто не будет напоминать о его существовании. Не лишено вероятия, Данте специально так принижает нас и мнимое нами незыблемым, чтобы воочию явить нам величие Творца или очередной раз противопоставить нашей шаткой действительности монументальное величие райских просторов. Все сущее – даже ни сама мысль; все, что умрет, и все, что не умрет, один из бесчисленных отблесков второстепенной мысли Господа. И если аналогичных отблесков множество, то миров, похожих на наш или абсолютно неотличимых от него – бесконечное число. В каждом таком одиноком мире все люди те же, словно под копирку. Где-то там, в мире, двойнике нашего, сидит и твой двойник; а за блокнотом выдавливая пасту из высохших стержней, завернувшись в одеяло, и мой двойник. И имя его составлено из тех же букв, что и мое, не отличить отраженное имя от моего и на слух: Вадим Тараканов, и здесь и там. В случае, если люди и события, переставляющие людей, словно шахматные фигуры, сновидение господа, то все наши поступки неподвластны ему. Даже Бог, намекает нам Данте, не в состоянии расхаживать по снящимся ему аллеям. Бога с нами нет, мы лишены его. Коли даже он присутствовал среди нас, сил у него было бы не больше, чем у обычного мальчишки. Ведь даже Творец в своих снах – обычный человек. Оригинальных версий придерживается Данте и в отношении иных деталей загробного мира. Оказывается Всесильный Повелитель, простирая свою власть на Рай, Ад и Чистилище, не совсем забывает нижние области, как это почему-то принято считать. То есть, чем круг ниже, тем там неохотнее появляется Господь; не желая расточать пламенного чувства на грешников. Данте верно подмечает с современной интонацией ученого: эти появления и благие поступки носят вероятностный процесс: Оттуда сходит в низшие начала, Из круга в круг, и под конец творит Случайное и длящееся мало; Изящный софизм добавляет неотразимости бессмертной комедии. Я на крошечном островке посреди безбрежного моря отчаяния и умопомрачения и не пытаюсь строить из себя философа или богослова. Впрочем, не предваряя появление дешевого трюка долгой барабанной дробью, приведу строку из тринадцатой песни: " Струит лучи волением своим", - говорит Беатриче о Господе. Из слов приближенной к трону Владыки выплывают отрывки теорий близко- и дальнодействия электрических зарядов. Или же сие генерация переменного магнитного поля. Отойдем от сугубо научных терминов и зададимся таким вопросом: а законно ли говорить, будто Творец сделал то-то и то-то, находясь на расстоянии от данного места, ведь сообщение о необходимой перемене должно было прийти к этой точке через пространство, что ныне принято проделывать цепочкой неразрывных контактов до непосредственного объекта действия. Поэтому, считая причастное Богу самим богом, ощутим теплое прикосновение лучей мысли о повсеместности Господа, рассредоточенной творящей силы, отсутствия его в каждом конкретном месте и о его всеобъемлющем проникновении. Данте имеет возможность видеть духов из прошлого перед собою, он в состоянии разговаривать с ними и выведывать у них тайны прошлого, из их уст доступным ему становится и будущее поднебесного мира. Он обманул время, обманул жизнь, обвел вокруг пальца законы природы, которые прежде казались непреодолимыми. И все-таки итальянец сомневается. Он никак не хочет до конца смириться с величием горних просторов, хотя, безусловно, благоговеет перед их архитектором. В раю больше, чем где бы то ни было, он сомневается и вопрошает, выспрашивает все подробности быта теней, принявших облик языков пламени, знаменуя этим свою близость к Вседержителю. Все потому что их жизнь наиболее отлична от повседневного человеческого времяпрепровождения. И вот следующий его вопрос касается лучезарных свойств душ, населяющих рай: Скажите: свет, который стал цветеньем Природы вашей, будет ли всегда Вас окружать таким же излученьем? Далее Данте интересуется как же, если такое свечение будет вечно пребывать с блаженными душами, они будут зримы обычным людям, еще не умершим, или душам из чистилища. Вопрос можно истолковывать, как буквально, так и пытаться находить в словах автора потайной, подводный, символический смысл. Оба метода одинаково хороши, но читатели предпочитают находить во всем аллегорический смысл, его преимущество - показная сложность, возможность воспользоваться им базируется на массиве новых сведений, необходимое свойство натуры не душевная тонкость и наблюдательность, способность примечать детали, а софистический склад ума и наличие авторитетного первоисточника; данный метод гораздо менее интуитивен. В большинстве изданий Божественной комедии меня угнетает пристрастие к классическим толкованиям персонажей, но ведь рысь в начале произведения имеет право не только олицетворять собой сладострастие, ее образ имеет право значить самого себя, а не что-нибудь совсем другое, мы можем сознательно обеднять комедию излишними и ложными объяснениями. Так и в конкретном случае вопрос можно понимать по-разному. Станет ли сам Данте Алигьери и все остальные люди Земли равным им, чтобы их сияние не застило зрение превосходством над не удостоившимися славной доли? Или: всегда ли души будут пребывать в блаженной обители, символом чего и является их невыносимый свет. Интересуясь эволюцией их облика, путник вопрошает об их судьбе. Вскоре одна из душ откликается на вопрос важного гостя: « Доколе рай небесный // Длит праздник свой, любовь, что в нас живет,// Лучится этой ризою чудесной." Из ответа мы узнаем сразу несколько подробностей: во-первых, сияние представляет собой производное чувства, которое наполняет, облагодетельствованные души, во-вторых, любовь, лучащаяся чудесной ризой действенна лишь во время этого вселенского праздника, воплощенного в виде Рая, как совокупности Творца, его свиты и влюбленных душ, в-третьих, мы чувствуем подвох, этот ответ не отвечает нашим чаяниям, когда же все-таки окончится сей праздник, и окончится ли вовсе? Разговорившаяся тень продолжает расхваливать замечательный план Господа: и приводит в сравнение уголь, который, несмотря на пламя, окружающее его, различим сквозь него собственным накалом: Так пламень нас обвивший покрывалом, Слабее будет в зримости, чем плоть, Укрытая сейчас могильным валом. Далее следует трогательный момент, описывающий парадоксальную привязанность душ к своим земным телам: " Казались оба хора так умильны,// Стремясь "Аминь!" проговорить скорей// Что явно дорог им был прах могильный, -“ Тут я не могу разобраться, разве это не противоречие: с одной стороны им люба их небесная жизнь, а с другой их тянет к земному праху, который еще не лишился надежды обрести прежнюю форму. На сходные мысли наводит и предыдущая цитата. Отчего-таки земная плоть, бренное тело будут более зримы небесных одежд? Не говорит ли это опять же о временном назначении Рая и о том, что после пребывании в нем души вернутся на землю. Потом Данте исправляется, пытается замять резкость этих строк, пробует сместить акцент на родственность этого праха самим душам. То есть речь идет о родственниках, попавших или не попавших в Рай, но так или иначе разлученных с ними, ведь в царстве теней по многим мифам тени лишаются памяти, которая, впрочем, к ним скоро возвращается, чуть появись меж них живой собрат. Поистине шедевром является беседа Данте и одного из апостолов с участием Беатриче. Та попросила проэкзаменовать пылкого влюбленного по вопросам веры. Апостол, которому Господь вручил ключи от своего Чертога, милостиво внимает просьбам Беатриче и служит некое время репетитором. Первый вопрос апостола самый, что ни на есть фундаментальный, однако слегка неуместный в Раю: " В чем сущность веры?" Данте легко справляется с этим заданием, вот его ответ: Она – основа чаемых вещей И довод для того, что нам незримо; Такую сущность полагаю в ней. Ответ вызвал горячее одобрение со стороны апостола. И вправду реплика Данте лаконична и очень метка. Даже по современным меркам она может выглядеть оригинальной, если изменить угол обзора. Скажем так: вера – основа чаемых вещей. Таким образом, корень всего обычного, ожидаемого, сущего в нашей вере. Ответ философский, ибо переводит веру в ранг веры в повседневные явления, как в веру в Бога. Следует разуметь, под этим, что бог в мелочах, бог повсюду и во всем, в любом даже самом малом деле. Это не возвеличивает Господа, отнюдь, это только придает смысл любому нашему поступку, освещает его светом вечности, и лишний раз являет нам время, бегущее помимо нас, но могущее уйти безвозвратно. Обратим внимание на строки: " и довод для того, что нам незримо". Фраза произносится в Раю в тот момент, когда Данте вполне убежден в справедливости мифов о загробной жизни. Опираясь на веру, апеллируя к своей вере в описанные в Евангелии события, мы получаем лишний шанс увидеть все это воочию, как Данте. То есть опять же вера делает небесный чертог реальный, он внутри нас и в нашей воле сделать его реальным, доступным. Более того, продолжая мысль Данте, можно придти к выводу о существовании Рая только в воображении каждого человека. Воображение же в свою очередь и черпает свой порыв, свое вдохновение в вере. И по тому, насколько человек трудился над созданием личного райского сада, бог поймет, насколько сильна вера того человека и то, насколько душа заслуживает небесного новоселья. Следующий момент, поразивший меня в сцене проверки веры – фраза Беатриче: " Неуличим в изъяне// Испытанной монеты вес и сплав;// Но есть ли тебя она в кармане?" Короткая, загадочная реплика появилась вслед за обстоятельными размышлениями Данте и апостола, и я не сумел столь же быстро перейти на иносказательный язык прекрасной повелительницы автора. Некоторое время не мог сообразить, при чем здесь монета, но потом обратил взгляд на уже прочитанное и смекнул: речь идет о вере. Данный эпизод явился наглядным примером мобильности, прихотливости авторской речи. Он обнажает нам текучую структуру письменного языка автора, который столь быстро меняет темп, ритм, интонацию, окрас, что нерадивый, торопливый читатель по небрежности проскочит, пропустит настоящий клад, зарытый прямо возле его ног. В двадцать девятой песне мы знакомимся с одним из источников, в которых, вероятно, черпал вдохновение Стефан Гейм, работая над одним из своих самых талантливых романов. В этой песне один из жителей небесной обители знакомит пытливого итальянца с особенностями ангельской природы. Я еще не означил самого отрывка, но и без того такая тема разговора для комедии автора, жившего в четырнадцатом веке достаточно оригинальна и интересна и в наше искушенное время своей бескомпромиссной уверенностью, отсутствием тематических запретов и бушующей фантазией, не покидающей автора и в наиболее сложные моменты. Обратимся к первоисточнику: Бесплотные, возрадовавшись раз Лику творца, пред кем без утаенья Раскрыто все, с него не сводят глаз И так как им не пресекает зренья Ничто извне они и не должны Припоминать отъятые виденья. Картина поразительной гармонии и вселенского согласия. Покой и торжество блаженных вкупе с творцом. Одновременно за подобной информацией стоит и сведения и об относительной простоте ангельской психики. Выше собеседник Данте, блуждающего в Раю, упрекает земных ученых и богословов, приписывающих ангелам мысли, память и желания. Поразительная завершенность и стройность теории; все мысли ангелов заключены в творце и совпадают с его помыслами, ежели о существовании оных вообще целесообразно говорить: им нечего вспоминать, ибо все и так находится перед ними в лице их Отца, все в облагороженном или в полном виде содержится в Господе, а кроме него ничто не заслуживает их внимания, естественно, им не остается ничего желать, ибо предел всех мечтаний рядом с ними и согревает их своею близостью, доступностью, так сказать, величием и простотой, само собой разумеющимся извечным бытием. Подробности организации памяти и мыслительных способностей ангелов сообщаются нам, дабы мы узрели убожество людского существования, коему свойственны сны, недостойные мысли, сомнения: "Там, на земле, не направляют разум// Одной тропой настолько вас влекут// Страсть к внешности и жажда жить показом." Безмятежное пребывание ангелов около вселенского престола напоминает сон, забытье, обман, которым их потчуют, охраняя от скверны, поглотившей людей. Их счастье, их горе, их судьба – жить в неведении, намекает нам итальянский автор. Но, скорее всего, обретенный отдых, медоточивое плавание по волнам божьей любви стоят того. В тридцать второй песне "Рая" святой Бернард произносит одну из ключевых фраз произведения, определяющую также отношение самого автора к системе мира земного и Данте-героя к представленным ему отделам загробного мира. В ней секрет монументального величия и спокойствия, коей полна Комедия, в ней секрет и того, как автору удается не сбиваться на описание охватывающих его чувств, а целеустремленно следовать за сюжетной линией. Этими строками Данте дает понять, насколько глупы все роптания на господа, попытки обратить на себя его внимание. Люди всего лишь герои его бесконечной книги, и каждая наша реплика и любой наш поступок заранее известен господу, как известны и причины, толкнувшие нас на определенный шаг. Мы даже не игрушки или куклы в руках Господа, мы не существуем вопреки божественному соизволению, нет ни одного человека вовне божественной воли. Забудь Творец о нас, и наша судьба – пропасть бесследно. Это и многое другое обозначает Данте: Творя сознанья, радостен и благ, Распределяет милость самовластно; Мы можем только знать, что это так. Очень верно Данте обозначает еще одну привилегию Вседержителя: творить сознанья. Человек, возможно, научится создавать все, чего ни пожелает. Однако работать с живой материей, как с глиной, ваяя рассудок с требуемыми свойствами – неподвластно человеку, ибо он не носитель животворящего света и божественной воли. Пожалуй, я сказал все, что хотел, что показалось мне знаменательным. Но еще больше осталось незамеченного. И объем невысказанных предположений с каждой попыткой будет только расти; всего мне не выразить никогда, поэтому я остановлюсь в начале пути, развернусь и последую домой. Кроме того, мои силы на исходе и меня снова клонит в сон. Пока то, что я написал, пугает меня своим корявым уродством. Даже младенцы в утробе матери умеют строить предложения более складно, чем я. Иногда, мне даже приходит в голову страшная мысль, будто злосчастный бес обвел меня вокруг пальца, пообещав наградить меня талантом писателя, забрав взамен то, чего у меня и так никогда не бывало, и чем я пожертвовал без малейшего сожаления. Возможно, не стоило торопиться и подписывать листок кровью. Впрочем, договор был составлен весьма просто и немногословно, запутаться в нем было бы замечательным анекдотом. В заключение добавлю стенограмму одного разговора, содержание которого поставило в тупик большинство исследователей, имевших к нему доступ, лица же, участвующие в нем в представлении не нуждаются: светозарная возлюбленная и высокопоставленный святой-функционер: Бенедикт. Мы с тобой слишком умны, чтобы любезничать мирно. Беатриче. Судя по этому признанию, вряд ли: ни один умный человек умом хвалиться не станет Бенедикт. Старо, старо, Беатриче: это было верно во времена наших прабабушек. А в наши дни, если человек при жизни не соорудит себе мавзолея, так о нем будут помнить, только пока колокола звонят да вдова плачет. Беатриче. В таком случае, мы уже опоздали. Никто не споет нам хвалебной песни, и наши имена не прозвучат в ученом разговоре. Бенедикт. Увы, жизнь коротка, но вечной памятью одарит нас искусство. Я уже придумал кое-что: на землю мы пошлем гонца, до этого призвав его оттуда на подвиг якобы достойный и благой. Беатриче: Я знаю человека одного, ради меня пойдет на многое сей муж. И даром слова он не обделен, но кто ж возьмется сопровождать его по нижним землям, где грешники осуждены страдать? Бенедикт. Предложим роль проводника тому мы, кто выслужиться хочет с древних дней. Джозеф вышел из вагона и проследовал в середину станции с тем, чтобы оглянуться, собраться с мыслями и понять, что к чему. Мальчик старался ступать тихо, аргументируя это вымышленным желанием остаться незамеченным. Словно тень за спиной проскочил электропоезд. На рельсах загорелись блики света, как лунный свет скользит по лезвию из-за малейшего поворота последнего. Джозеф повернулся: справа и слева теснились арки, по кошачьи выгибая дугой спины. Под ногами переливалась искусная мозаика византийского происхождения, чудища которой грозно щерились героям, изображенным на фреске сверху. Джозефа охватило беспокойство. Не замечая того, он принялся шагать взад и вперед. Мысли роились в голове облаком рассерженных пчел, кипели лавой адского котла. "Ведь я теперь один-одинешенек, думалось ему. Поблизости нет никого, кто бы поддержать и утешить меня, никому не нужен я. Всем на меня наплевать, пропади я совсем, и никто бы не сдвинулся с места, дабы укрыть мой прах. С другой стороны не найдется среди них и людей, которые бы стали меня допекать, грозиться мне, принуждать меня к чему-либо. Наконец-то я один! Я себе хозяин, себе и слуга. Я пленник собственной свободы, раб мечты, коей тешил я себя в течение многих лет в жажде покоя. Мне нужна была размеренность, молчание, уединение. Столько времени меня упорно лишали все этого. Столько лет махали рукой на меня, на мои желания. Отчего так? Почему я не заслужил ничьего внимания? Я не прошу любви: чувства слишком большого для меня. Излишне; сейчас вы видите я не питаю иллюзий на свой счет. Хотя бы сострадания и понимания. Я существую в отдельном времени, оно, словно кисель обволакивает меня целиком, я нетороплив и движусь замедленно, будто медуза, парящая под водой. Все подгоняли меня, каждый со своей стороны. Надзиратели трепали меня со всех сторон, они не гнушались и бича. Я потерял веру в людей. Что ж, пришел час: плачьте без меры, торжествуйте, удивляйтесь. Отныне мне нет дела до ваших чувств и мнений, как нет вас рядом со мной. Быть может, это и к лучшему. Я пробуждаюсь ото сна, шевелится внутри некий дух, он опора мне и соратник. Просыпается вкус к жизни, руки мои дрожат в предвкушении тяжелой работы. И хватит об этом, мне пришло в голову кое-что курьезное. Похоже, моя точка зрения стремится к тому, чтобы стать полностью объективной, ибо вокруг меня не осталось людей, и мнение мое вскоре превратится в единственное существующее. Одновременно никто не будет возражать ему, что не столь отлично от ситуации, когда бы все согласились с ним полностью. Я буду, как Бог, чего ни захотел – все свершится, так как видимое мне зримо всем. А действительность как раз и есть средний взгляд всех существ на происходящее вокруг них. Как вам такой расклад? Ах, все сладкие речи, этот обман не способен исправить, закрасить, замалевать моего куцего, оборванного, заиндевевшего, сиротливого отрочества. Как мал был я и как ничтожен сам себе и прочим я казался. Кому понадобилось подвергать меня ужасным испытаниям, утратам, горестям и лишениям. Стоило бы поискать человека более разуверившегося в себе, чем я. Словно пористая губка, я был пропитан позором. Несмываемой краской ложилось на меня всеобщее осуждение, кем был я в глазах общества, каково им было наблюдать мое падение, сознавать мою низость, видеть эту мелкую, подлую душонку и на словах преувеличивать все постыдные качества? Я ходил отверженным среди тех, кого не считал себе ровней. Наверное, наше величество, относили к касте неприкасаемых. Общее мнение горько уязвляло меня. Я клялся отомстить и раболепствовал, и лебезил при малейшем знаке дружелюбия. Вы видите меня целиком, вы видите меня таким, каким я был, и я не стыжусь ни одного из своих пороков и заблуждений. Я горько смеюсь над собою прежним, ибо того Джозефа Сэммлера уже нет. Он мертв, он забыт, он предан земле. Могила – холм безымянный, дабы в омерзении земля не отвергла покойника. Переменился я всецело, от прошлого осталась только память. И сегодня не подам я руки тому, кто раньше не подал бы мне. И, мнится, равным мне быть может только отражение мое. Равновесие восстанавливается, вечное вращение зовет меня в путь. Но и терзает память нежной грустью расставанья. Осень вечернего Подмосковья не забыть мне никак. И курится синяя мгла сумерек за окнами освещенных вагонов. Одна моя отрада вечный вечер во время возвращения домой. Я не сторонник волевого передела памяти. Но прочие зарисовки не нужны, с радостью, без сожаления расстался б с ними. Встречи с ними сулят горе и воскрешение призраков, против коих лучшее оружие – забвение. Люди не властны над памятью, и память созидает человека, но стая хищных гостей из прошлого способна нагнать страха на кого угодно. И если украдкой взглянуть в омут памяти, что увижу я в мутной воде? Чьи призраки еще держатся в глубине и волнуют по-прежнему воду? Среди них потешный демон "со сверкающим ястребиным взором и печатью робкого смирения на лице", его непримиримый враг, а после вроде друг, надменно восхваляющий его заслуги, баловень женщин и до сих пор дитя, играющее в игры, одновременно собрание противоречий и нелепая мягкотелость, что украдкой язвили мою гордость; человек, которого я боготворил, соединился с " бесстыжей сводней скверной". Были и нарцисс на сцене, и скверный заговор, оплетавший сетью интриг меня со всех сторон. Участники того собрания однажды (согласно гипотезе Дона Исидора) напоили меня коварным зельем. Эффект напитка состоял в добровольной выдаче собственных мыслей устным или иным путем, помнится, я шел, как в трансе, а мои порочные мысли просачивались из моей головы и становились доступны окружающим. В начале девятого класса дружен со мною был один русский Баттербин. Сначала с моего покорного согласия он оклеветал моих истинных друзей, а затем бросил легковерного Джозефа. Моя судьба – судьба незначительного, второразрядного предателя, но наделенного чересчур чутким сердцем для такого неблагодарного ремесла. Я недавно приметил: слово судьба происходит от слова судить. Таким образом, изначально за ним крылось понятие высшего, небесного суда, божественного суда, посредством которого нам воздается по заслугам. Судьба являет собой процесс перманентного, непрестанного суда. Но поразмыслим: иногда на перипетиях жизненного пути нас постигают совершенно незаслуженные наказания. Неверно истолковывать их существованием соответствующих грехов, они наказания за последующие прегрешения, ибо за судьбой стоит время, они действуют согласно, заодно. Среди глумившихся надо мной в то время была и девочка с еще незрелыми формами, но вследствие продолжительного опыта уже искушенная в гнусном жеманстве своего ремесла и снедаемая жаждой сравняться в пороке со старшими". Гулкое эхо шагов плавает в просторных объемах зала. Сэммлер стоял в одиночестве, под землей, освещенный заревом множества ламп. Его тяготили тяжелые думы, отражавшиеся смятением на его челе. Он сделал шаг вперед, другой, еще один, словно первый астронавт, оказавшийся на луне. Лестница повела его вверх, на коротком переходе его поджидал неприятный сюрприз. Компанию ему решил составить отряд инквизиторов, изрядно изголодавшийся по пыткам во время безлюдья последних времен. Пять-шесть человек с резиновыми фасциями, перекидываются в безделье шутками; как хомяки грызут семечки и скучают. С левой стороны к ним приближается Джозеф, пока его не видно: он поднимается по лестнице. Они стоят в широком коридоре, облицованном красным мрамором, пыльный пол истерт, его гранитная природа не прослеживается. Входит Джозеф, он погружен в размышления. Инквизиторы его замечают, они удивлены, так как люди здесь появляются крайне редко, тем более не в форме. - Постойте, гражданин, постойте! Отряд обеспечения правопорядка. Нам поручено охранять метрополитен и сопредельные территории. Ваше имя, фамилия, чин, должность. Вопрос довольно мелочной В устах того, кто слово презирает И чуждый внешности пустой, Лишь в суть вещей глубокий взор вперяет. – Не поднимая взор, отвечает странник цитатой. - Однако вам раскрыть себя придется. И если Вы – заморский принц, вас ждет почет, инкогнито утратите свое. Иль, если вы правитель наш всевластный, устроим пир горой. Но берегись шпион и дезертир! - Я просто странник обнищавший, хожу по миру с сотворенья мира. Кров делю с бродягами, питаюсь объедками в харчевнях, терплю холод и сплю на сырой земле. - Да он бредит, - твое нам интересно имя! - Имен мне множество было подарено светом за мою долгую и бесславную жизнь: Иосиф, Иоанн Бутадеус, Эспера Диос. Называйте любым, на любое имя я с удовольствием откликнусь. – Джозеф нес черт те что. Он сам не понимал, с чего это его так разобрало. Но внутри все так и кипело, восставало против наглого самодовольства вояк, их ограниченной самоуверенности. Он обратился в древнегреческого оратора, с легкостью парировавшего все заготовленные доводы оппонента. - Да ты не русский, что ль? - Язык ваш мне знаком, как видите, вполне. И жил в Городе я лет с десяток, точно, - Всесильный Демон Первого Впечатления открывал и закрывал рот Джозефа по своей воле. Джозеф, будто обратился в тряпичную куклу, и незримые руки заставляли мальчика вытворять всякие чудачества на потеху высшим силам. Но одновременно нельзя было сказать, что эти силы имеют сугубо внешнее происхождение, часть из них таилось долгое время в глубинах сознания. И их воскрешение доставляло Джозефу огромное удовольствие, и тепло разливалось по всему телу, и все казалось невсамделишным, а каким-то шуточным, комедийным фарсом. "Уж вам-то меня точно не запугать, - лениво соображал Джозеф,- пустословы и хвастуны, вас наделили незаслуженной властью, и вы совместно порочите ее честь". - Предъявите, сударь, документ, который подтвердил бы вашу личность. - Всегда запросто. К вашим услугам господа, нет ничего приятнее вопроса, на который давно готов ответ. И документов у меня предостаточно. Всех сортов и типов, я гражданин всех государств, имен моих не счесть, дат рождения и того более. Ученые до сих пор не могут прийти к единому на этот счет мнению. Итак, выбирайте, желающим оставлю на память, автограф прилагается. Ведомый незримой рукой, уверенно Джозеф вынимает из кармана пачку документов в добротных кожаных обложках с изображениями государственных гербов в виде тиснений. Ловко же он обманывал зарубежных чиновников, - подумалось, вероятно, дружинникам. Согласно представленным документам юноша, известный нам под именем Джозефа Сэммлера одновременно являлся следующими господами: Фрэнком Абигнейлом младшим, Артуром Рэдли, сорокалетним процветающим американцем Юджином Порху, студентом из Франции Жеаном Фролло, подданным Ее величества Эдвардом Феррарсом, неудачником Сэмуэлем Маунтджоем, несчастным страдальцем Кристофером Хэдли Мартином, бравым аргентинским гаучо Мартином Фьерро. Доблестные охранники погрузились в изучение документов, проверку их подлинности, сличением печатей с образцами, стали проверять разрешения на проживание. Вся эта необходимая, но от того не более труднодоступная ерунда гордо несла знамя добропорядочного гражданина, охраняло его драгоценную репутацию от неуместных посягательств. В эти самые волнующие минуты Джозеф наскоро перечитывал гностическое евангелие от Филиппа. В момент стражники прекратили чтение. Самый представительный из них, кажется, его звали Олег, и он был в очках и с гусарскими усами, собрал документы, чтобы с почтительным видом возвратить их обладателю. Остальные, затаив дыхание, наблюдали за операцией. Джозеф, не глядя, протянул руку за документами. Олег также протянул руку, не желая подавать их Джозефу и тем самым унижаться. Так они простояли друг перед другом несколько секунд. - Не стоит боле продолжать, закончи то, что начал, - сказал Джозеф, забрав паспорта. И в ту же секунду тело его прорезала страшная боль". Шпионы проследили за мной и донесли инквизиторам ", - подумалось Джозефу. Он опустился на колени, ибо слабость проникла в члены. Но не стал мученик, как прежде, задавать вопрос "за что?". Сжав побледневшие губы, он, молча созерцал соседнюю стену. Охранники, не найдя формального повода для ареста, все равно страстно желали реализовать свою природную склонность к насилию. Коллективная направленность их группы только способствовала скорейшему снятию напряжения, кроме того они не чувствовали тогда никакой вины. По уговоренному сценарию, сам здоровый из них с, как водится, бритой головой и испитым угловатым лицом, сразу же после передачи документов бил жертву снизу кулаком в челюсть или нос, чтобы приговоренный ничего не успел предпринять. Тот падал, потом подключались остальные и, если поверженная жертва не подымалась, довершали начатое ногами, если порывалась встать и сопротивляться или бежать, ловили и снова бросали на землю. У Джозефа не было шансов ни устоять, не убежать, будто с покорного согласия мнимого преступника, его успели окружить со всех сторон. Не падая, он стоял на коленях. Жесткие костяшки кулаков очень скоро настигли его нос, и водопад крови обрушился на одежду Джозефа и плиты перехода метро. Недолго Сэммлер младший пытался кровотечение, нелепая попытка остаться сухим под тропическим ливнем! Кровь все не останавливалась и медленно текла из обеих ноздрей, подобно лаве из вулканического жерла. Алеющая кровь пылала жаром, от нее поднимался пар, она стекала по обе стороны от отверстия рта, застывая, она образовывала нечто вроде гротескного подобия усов. Правда, на этот раз было не до смеха, зритель и артисты были при делах. Кровь продолжала свой путь, обагряя просторы щек. По крыльям носа кровь медленно струилась к глазам и, не дотекая до них, трековыми дорожками слез по пыльному лицу опускалась к щекам. Огненные протуберанцы спускались вдоль щек Джозефа Сэммлера, витиеватые спикулы украшали его лицо: ни дать, ни взять – сеньор Помидор, актер на детском спектакле. На высоком лбу Джозефа, прежде обличавшем его проницательный ум, вскоре появился здоровенный синяк, затем он посекся, кровь заливала правую часть лица. Джозеф пока стоически переносил совершаемые над ним злодейства, более того возникало ощущение, будто экзекуция происходит с обоюдного согласия жертвы и палачей. - Что же никак не упадет этот хромой ублюдок? - в порыве служебного рвения заинтересовался один из истязателей. - Меня принято три раза просить, - попробовал пошутить Джозеф. Но попытка получилась неудачной, учитывая траурное настроение всех собравшихся. В ответ младший из них, еще подросток и, скорее всего, доброволец ударил с силой агнца безвинного мыском сапога под солнечное сплетение. Сознание Джозефа медленно, словно корабль при первом заходе в воду с уготовленной пристани по валкам, погрузилось мягкую глухую тьму. - Не даром казенный хлеб едите. Вы, видно, сдельно работаете? – не унимался Джозеф. Бес противоречия устроился суфлером на сцене. Черная кожа служебных сапог стала бордово-глянцевой от начавшей застывать крови. Руками Джозеф упирался в пол, чтобы не упасть. Инквизиторы стали топтать его пальцы, с силой; Джозеф отдернул руки. Доблестные слуги народа успели раздавить один палец и из него выпал треснувший ноготь. Замешкавшись, Джозеф получил кулаком в ухо. На секунду он потерял равновесие. Затем вновь инстинктивно собрался, он дотронулся до уха. Ухо треснуло от удара, так как оказалось между кулаком истязателя и черепной костью, как между молотом и наковальней. Когда Джозеф коснулся разошедшихся краев, рана приятно защипала, мальчик немного пришел в себя. Кровь, сочащаяся из разорванной вены, заливала глаза, жертва часто заморгала, как будто в глаза попал шампунь. Вскоре охранники достали тяжелые резиновые дубинки, от нескольких ударов по голове, изображение в глазах у Джозефа стало рябить. "Ах, черт их дери, досадно как," - попробовал проговорить Джозеф. Но белобрысый наемник, с красными, слезливыми глазками альбиноса, нанес нашему герою удар по челюсти снизу, которая уже и без того распухла. Джозеф чуть не откусил кончик языка. Он сплюнул кровью: "Мать твою, отмороженный придурок!" Во многих местах на голове у мальчика разорвалась от ударов кожа. Раны были достаточно длинные, с сочными, глубокими, расползающимися краями. Если бы ему наложили после побоища швы, он бы стал похож на Франкенштейна. У него были темно-русые волосы, удивительно, в последнее время старушки у метро постоянно вручали ему листочки с рекламой парикмахерский; пунктом назначения листочков все время становилась урна около болтающихся в лихорадке дверей. Мальчик так и не постригся. Волосы отлично впитывали кровь и застывали блестящими, монолитными черными прядями, лентами-змеями. Застыв, новая прическа стала напоминать терновый венец, язвивший чело Христа. Но, уверяю вас, муки Христа были пустяком по сравнению с тем, что предстояло испытать Джозефу. Как бы это сказать? – Иисус стал символом искупления человеческих грехов и в связи с этим его случай получил широкую огласку. Его страдания рекламировали двадцать веков, мучения Спасителя стали бессовестно преувеличивать, чтобы чем-то оправдать такую раскрутку. Возможно, за всем стоят муки нравственные как человека, то есть боль неоправданных надежд, возложенных на доброту судей земных, может, как один из ликов Творца он знал, что его жертва напрасна и ничем не улучшит мир. Но нравственные муки Иуды, не канонического корыстолюбца, а человека покончившего с собой в порыве отчаяния и горя от содеянного значительно более велики. Всем была предназначена своя роль и самая тяжкая была возложена на Иуду – земного прообраза Христа, пожертвовавшего даже своей душой. В любом случае, Джозеф с удовольствием променял бы свои теперешние страдания на гвозди, по одному в каждом запястье. Нос его стал походить на румяный пятачок, ибо кость переносицы стала отходить вверх. Лицо мальчика стало походить на грязевую маску от крови, волос, лимфы и клочков кожи. Поистине, возможности человеку по перенесению страданий безграничны, особенно, если мучения правильно дозировать или если человек к ним хорошо подготовлен. Ведь боль – это не что иное, как слишком большая доза обыкновенных ощущений, когда становится не важна сама природа этих ощущений, будь то осязание, зрение, или слух. И если чувства человека притуплены, если он слегка отрешен от реальной жизни, хорошая встряска ему не помешает. Ее он поглотит с благодарностью. Левая рука повредилась в плечевом суставе, правая, возможно, была сломана недоброжелателями и часто дрожала. Джозеф стал засыпать. Он терял силы, а ничего нового в отношении боли его мучители придумать не смогли. Он еле держался. - Поразительная стойкость, - выразил общее мнение Олег. И легонько толкнул Джозефа. Тот ничком рухнул на пол. Эта дикая картина все равно не затронула чувств головорезов, люди без воображения не способны к обобщениям в обыденной жизни и оттого не в состоянии увидеть прекрасное или наоборот: отвергнуть отвратительное; одни на всю Москву, пять или шесть человек, в метро лупят изо всех сил уже полчаса хилого недотепу. Означенные люди в форме попытались поднять избитого странника, но он вскользнул у них из рук: одежда вся была в крови и какой-то слизи. Как тухлая рыба, он опять очутился на полу; на его куртке пузырилась кровавая пена. В пункте милиции Джозефа выронили, и он ударился головой о зеленую табуретку, дыхание прервалось и запрыгало в груди, Джозеф представил себя балансирующим на берегу пропасти. Кое-как головорезы пронесли пленника в камеру, куда в мирное время сажали преступников. Его положили на лавку, а дверь захлопнули, осталось лишь маленькое зарешеченное окошко. Называвший себя в порыве гордости Иоанном Бутадеусом, находился в ужасающем состоянии: пальцы походили на толстые обрубки или шоколадные батончики с вечерней синевой на фалангах, бока все почернели от крови, излившейся в результате перелома ребер. Черные бока, это напоминало распродажу помятых баклажанов, а никак не молодого естествоиспытателя! При дыхании от его уст летели брызги крови, но он не плавал сейчас брассом: губы оказались истрепаны в бахрому и кровоточили. В беспамятстве ему приснился такой сюжет, он поражен кем-то пулею в грудь. В сердце или куда-нибудь еще, не важно. Но Джозеф умудряется выжить. На грани жизни и смерти он поднимается на ноги и медленно идет. Он боится разбередить снова свою рану, а пока боль немного затихла. Он идет тихо, не спеша, вымеряет каждый шаг, ибо знает, что может не дойти. Он бережет свою рану и гордится ею, словно заслуженным орденом. Мальчику не больно, но внутри будто застряло что-то жесткое, угловатое, ужасно неудобное. Джозеф Сэммлер шествует по своему прежнему району, он жил раньше на Сходненской. Дорога от дома на улице Аэродромная до метро совершенно безлюдна, очевидно, это субботнее утро. Надо обязательно суметь добраться до мамы, и рассказать ей, что произошло. Но почему же Джозеф еще может идти? Мальчик видит кубообразное здание местной школы со стенами белыми, как медицинские халаты. Низенький заборчик, через который может перешагнуть даже школьник. Неожиданно он видит университетского преподавателя по истории, с бородой и в очках, тот неистово орет на присмиревший класс грузинских учеников. Здравствуйте, уже родные стены тюремной камеры. Бесполезная попытка поднять голову. Тело потеряло свои очертания и возможность ощущать окружающие предметы. Джозеф и раньше сознавал свою необычную способность быстро восстанавливаться после пустяковых травм: растяжений вывихов. Иной раз после субботних матчей в родной школе он оставался с выбитым пальцем, проходил час и повреждение, как рукой снимало, боль пропадала на глазах, утекала как песок сквозь пальцы. В теперешней ситуации немыслимо было ожидать подобных сроков, но уже через несколько часов, прошедших после помещения мнимого преступника в камеру он мог свободно двигаться. Однако тело казалось чужим, слегка неудобным, как неразношенная одежда. Частично пропала координация и способность оценивать расстояния. Мальчик кружился по темнице сомнамбулой, Homo novus занял место старого. Постепенно возвращалась память о произошедшем. Джозеф принялся кружить не столь быстро, он не понимал, куда пропала пьяная брань разбушевавшейся братии охраны порядка. Он постучал в железную дверь, единственную дверь в камере. Никто не откликнулся и гневные просьбы нашего героя. Вокруг царила мертвая тишина. Тишина безмолвия, пустоты, пораженной толпы, дочь мрака, струящаяся с небес, отголосок вечности, речь богов, голос земли, гонец одиночества, спутник мыслей, предвестник бурь, песнь звездного неба – отдохновение души, гость кладбищ, сосед забвения, враг политиков и умалишенных. Тишина, заставляющая озираться и искать подвоха, тишина в паузах между щелчками секундной стрелки. Тишина, в которой вопросов таится больше, чем ответов. Прощальная тишина в подвенечном платье смерти. Что за тишина была сейчас? Никто не знает, тишина всегда одинакова, лишь таит за собой всегда новое. Джозеф перестал барабанить в железную дверь: она была глуха к его побоям. Мальчик взглянул на зарешеченное окошко, мольба и страх смерти отражались в его взоре. Почему они не откликаются? Может, все до одного мертвецки пьяны. В окошко не взглянуть, оно слишком высоко, в него получилось бы вылезть наружу. Нелепость погибнуть от голода после того, как уцелел во время памятной взбучки. Удивительно, но Джозеф не держал зла на представителей правопорядка. Мальчик подумал: « Все не случайно, то, что я практически не пострадал, то, что пропали охранники. Выход лежит на поверхности, надо только пошевелить мозгами". Он поднес к прутьям решетки руки. Вцепился в них. Конвульсия прошла по кускам металла, они дрогнули, и медленно, будто гнилые зубы, освободили лаз наружу. Джозеф, окрыленный победой, ринулся туда вперед головой. Но, свалившись, русский Фабрицио очутился в луже крови. " В чем дело, неужели меня так развезло?" Он поднял взгляд. И, о ужас, вокруг были разбросаны фрагменты человечески тел, куски одежды, сваленные в кучу потроха, ошметки лиц искаженных ужасом, волосы разных оттенков, плавающие в крови, кисти рук и ступни восковых оттенков, выжатые и сморщенные, als губки для мытья посуды, гильзы от пуль и оголенные кости, небогатая мебель была изрублена в щепки, а стены были в следах от брызг. Нельзя было ступить шагу, не испачкавшись. " Недобрый день! Одно убийство это – грядущего недобрая примета". Джозеф признал в этом людском материале своих недавних мучителей. В подавленном настроении он вышел из участка в переход, где подвергался избиениям, там, стоит отметить, было уже чисто. Что же здесь могло произойти? – недоумевал Джозеф. Конечно, они могли напиться, захмелеть и в дурмане порешить друг друга, но должен же был остаться хоть один целый среди них. Я не говорю живой, обоюдные удары могли убить сразу двоих. Но не мог же оставшийся после убийства или самоубийства себя еще и расчленить! Но, однако, затруднительно с уверенностью утверждать, что в комнате все пятеро, в таком состоянии их непросто считать да и заходить туда не очень хочется. Может, один уцелевший в страхе убежал, но как же он тогда успел разрезать на куски всех остальных? В панике он бы не стал бы даже удостоверяться, все ли мертвы. Двое могли бы сообразить, что бояться в пустынном метро некого, но останков там больше, чем на троих. К тому же едва ли бы они после таких предосторожностей (тоже, кстати, с не вполне ясными целями) забыли бы про меня. Это могли бы быть и повстанцы, партизаны или дезертиры. Зарубежных войск ждать еще рано. Но их должна была быть целая армия, почему же произошедшая битва не разбудил меня, да и что за мотив у подземных анархистов устраивать жуткую резню. Группа человек не могла пойти на это. В общем, серьезная загадка, на которую мне непросто будет найти ответ. Джозеф сбросил свою грязную одежду и пошел так, как если бы ничего с ним не происходило в полицейском участке охраны метро. Вадим Тараканов спал на мягких спортивных матах в маленькой комнатушке рядом со спортивным залом. Это была школа на Юго-востоке мегаполиса, на отшибе района новостроек около Кожуховской. Промышленный район, речные порты, грузовые краны, дикая, нездоровая местность полна мрачных апокалиптических картин и укромных уголков, где найдется место всякому сброду, сомнительным людям с бледными лицами, искаженными страстью, злонамеренным собраниям, шайкам попрошаек и воров и тому подобной нечисти. Но сейчас здесь было безлюдно; паразиты общества пропали с войной. Рядом со школой находился заросший травой пустырь, по пустырю шла узкая тропинка до проспекта, обставленному с обеих сторон домами. Вокруг школы вился забор, сооруженный из проволоки, зеленая краска давно слезла. На пришкольном участке стояли двухместные качели. Разбитый фонарь должен был освещать крыльцо. Ветер гулял в просторных классах и хлопал дверьми, из-за чего вскоре осыпалась краска со стен. Вадим спал, накрывшись спортивной сеткой и тяжелым зеленым ковром. Называть Тараканова Вадимом я больше не стану, отныне я буду величать его на западный манер Генрихом. Сам не знаю почему, но это можно оправдать моей безликостью. Ведь означенного "я" в данный момент никто не представляет, и в данный момент за местоимением первого лица единственного числа никого не стоит. Бросим смутную риторику повествования и повернем назад в русло сюжета. Через 5 минут Генрих проснется и начнет статью об избранных моментах в "Божественной Комедии". Перед этим он уже несколько просыпался, но, проснувшись, оказывался в новом сне, что в итоге и привело к созданию статьи, которая была приведена выше. Вызвано данное обморочное состояние было фантастически распущенным образом жизни Генриха. Под вечер он растворил в чае немного фенамина и принялся дожидаться счастливых грез, необычайного прилива сил, когда " во всем обретается целая вселенная намеков, все дает пищу для веселого и пестрого хоровода прихотливых и бессистемных мыслей". Тараканов дождался прихода новой зари и стал подыскивать себе соответствующее занятие. Недавно он стал поигрывать в пляжный волейбол, рядом рекой, ползущей через весь город, закованной в центре в гранитную броню, а на окраинах города, раскинувшейся по берегам пляжами, и поэтому оное решение было продиктовано соображениями улучшения технических навыков. Продолжительное время Генрих тренировал силовую подачу в прыжке, один в запущенном физкультурном зале. Но вскоре нагрянула усталость. Всякий опытный в этих делах человек вам скажет, что подача в прыжке отнимает достаточно много сил. И семь подряд подач в игре могут измотать даже бывалого игрока, если он небольшого роста. Генрих чувствовал себя превосходно, однако стало сводить икроножную мышцу. Следовало бы ложиться спать, так как время было уже позднее, но действие даже малого количества обычных амфетаминов прекращается лишь через шесть-восемь часов. Предстояла бессонная ночь. Чтобы выспаться отшельник пошел на рискованный шаг: принял внушительное количество барбитуратов, эффект которых заключается в обратном, подавлять умственную активность, в больших дозах они действием напоминают снотворные. Результат совместной работы амфетамина и барбитуратов обычно непредсказуемый. В этот раз не произошло ничего серьезного, просто целый каскад сновидений обрушился на голову Генриху. Вначале ему грезилось, будто он спит в большой комнате. Она не освещена, в ней много кроватей. На кроватях спят люди. Где-то рядом дверь. В комнату заходит человек в черной одежде, но все спят и не замечают его. Вскоре отдыхающие просыпаются и обнаруживают распотрошенный труп девушки на одной из кроватей. Потом населяющие огромную спальню забывают о случившейся трагедии и снова погружаются в сон. Описанное повторяется, пустеет еще одна кровать. Жители сонного царства не желают предпринимать никаких мер предосторожности, их не пугает и близость смерти, они вновь погружаются в ласковый сумрак, их, однако, остается все меньше и меньше. Действие следующего сна происходит на Воробьевых горах, на скверах перед смотровой площадкой. Причем, знаете, как бы вам поточнее описать место происходящих событий: весь массив дорожек и зеленых площадок напротив Главного здания МГУ разделен поперек надвое проходящим через него каким-то шоссе. Ближняя к Университету часть с фонтанами, на другой их нет. События разворачивались на скверах без знаменитых фонтанов. Эти замечательные дорожки окаймлены небольшими автомобильными трассами с боков. На противоположной стороне левого шоссе (если смотреть в сторону смотровой площадки) расположена симпатичная кленовая аллея. Очень темная, по ней приятно прогуливаться в одиночестве осенью. Но герой сна не желал остаться в одиночестве, хотя бежал по ней он в конце лета, солнечным вечером. Справа устроили народные гуляния с ярмаркой и балаганами. Только секунду назад он еще видел эти глаза, словно вспышку метеора в ночи, взор, молящий и зимний, als снежинка в свете оранжевых фонарей. Но она снова пропала среди людей, снующих без дела туда-сюда. В отчаянии он рванулся вперед, дабы настигнуть беглянку. Но ее и след простыл. Быть может, она перебежала через дорогу в сторону празднества, куда угодно только прочь от меня. Как худо она поступила со мной! Мимо шатров и гримасничающих клоунов, кланяющихся медведей и пудельков с ленточками, мимо виртуозов на одноколесных велосипедах и зевающих, лежа на пожухшей траве, крокодилов. Герой сна останавливается посреди скопления людей и суеты; вид сверху: он вздымает руки и глядит в небо, то есть в камеру. Камера точно над ним, вращается, все быстрее и быстрее. Где ее трогательное лицо, выполненное из пурпура и злата. Ее мнимая причастность к нашей жизни, могущая обмануть кого угодно. Все конец: она потеряна. Но нет, не могу слышать этих слов, произнесенных даже мысленно! Ах, залейте мне уши воском, киньте меня на съедение диким тварям, я не могу сдаться просто так! Заключите меня в темницу и мучьте непрестанно, вытесните новыми страданиями старую боль, as волны прибоя уступают друг другу место под напором ветра. Куда мне деться, куда бежать, кому молиться и жаловаться? Лишите памяти – вот это выход, высвободите из оков прошлого, знать не желаю о своей истории, полной горя и разлук. Еще момент и мы переносимся на территорию спортивного городка МГУ, ближе к трехзальному дворцу. Вокруг ни души, персонаж первого лица представленного отрывка выходит из полумрака длинного белого лимузина с четырьмя парами колес, с щелчком закрывается массивная дверь. Пропадают невозмутимые лица водителя и помощников. В руках у него цветы, - предстоит важная встреча. Ковровая дорожка, дворецкий в поклоне отворяет дверь с позолоченной ручкой. Приглушенная вначале мелодия набирает силу, похоже, это " Enough is enough" с альбома Rage "Trapped!". Это добавляет нам уверенности. Нам направо. Неожиданное препятствие в лице субъекта сомнительной, потертой внешности, слабого сложения и с язвительным, крокодильим лицом. Нам заранее известно: у него громкий, резкий и довольно неприятный голос. Он охотно смеется над шутками сильных мира сего, но мы его знаем не с лучшей стороны, а сейчас наше время, долой с наших глаз проходимец, вон отсюда! С краткой мольбой сгинувшей тени он пропадает. Покой восстановлен. Перед нами двери парадной залы, они отворяются. Выходят две девушки: одна из них чуть ниже с живым, подвижным овальным лицом, черным глазами, волосы собраны сзади в хвост. Она чуть насмешливо улыбается нам, кивает, будто узнает в нас знакомого. Что ж это не так плохо! При виде второй захватывает дух, никакие слова не в силах передать ее очарование божества. Какое утонченное наслаждение доставляет одна возможность созерцать ее. Это редчайший вид цветка, нам не дано им обладать, чтобы мы не измяли нежнейших лепестков. Эта пряное чувство сводит нас с ума, топит нас в божественном сне неги и наслаждения. Как радостно видеть ее в отсутствии назойливого окружения. Любое проявление ее божественной натуры любезно нашей душе: злись, негодуй, радуйся, улыбайся, удивляйся, будь смущена, гордись собой, стань заносчивой и прогони меня со своих глаз, все я сделаю с превеликим удовольствием, только разреши не спускать с тебя глаз, мой добрый гений, муза моей души. Я вежливо кланяюсь им, целую им руки, указываю на вторую комнату справа. Мы входим; они поражены, наверное, ожидали встретить нечто совсем другое. Нашему же взору предстали великолепные покои, царственно роскошные чертоги. Богатые драпировки колыхались от легких дуновений теплых потоков воздуха, шедшего от курильниц с благовониями. Многочисленные ниши наполовину закрыты дорогими гобеленами ручной работы, парят легкие занавеси из прозрачного шелка. Пол устелен персидскими коврами, который ласкает ноги и не позволяет наступить на себя в обуви. На постаментах статуи греческих скульпторов, неизвестные творения великих мастеров Античности и Возрождения. Благородство холстов, потемневших от времени; фантастическое великолепие изделий Карла Фаберже (ювелирных яиц с сувенирами, брошей в виде жуков и стрекоз, яблоневых ветвей и полевых цветов, безделушки в виде портсигаров и шутливые макеты известных архитектурных творений). Мягкие диваны и кресла, наряду с низкими пуфами в римских традициях выставлены в виде буквы "П" вокруг длинного стола из благородных сортов дерева со сложными переплетениями узоров по краям. Тяжелые скатерти с длинными кистями были заставлены блюдами из тонкого английского фарфора и глиняными чашами в красно-черном варианте гончарных изысканий эллинов. Редчайшие плоды были собраны здесь со всего мира: зловонные дурианы с нежнейшей массой дольками внутри, напоминающей по вкусу орехи с кремом; разделанный индийским поваром плод гигантского джекфрута: сладкая ореховая мякоть с изысканным грибным ароматом; мангостин – гость из Малайзии, в котором под хрупкой скорлупой спрятана белая мякоть между глянцевых косточек; яркокрасные плоды рамбутана с жесткими зелеными волосками сверху; медовые личи под красной пупырчатой кожурой; по вкусу похожие на личи желтые грозди лонгана – "лунный" или пустынный виноград; кислосладкие тропические карамболы желтого или зеленого цвета, в сечении по форме близкие к звезде; любимое лакомство восточных шейхов – ныне распространенная чика или Sappotta, или сладкая картошка – ароматные доли мякоти грушевого вкуса; индийский custard apple – сладчайший фрукт из доступных смертным, невзрачный на вид, зеленого цвета величиной с кулак; плодоносящий кактус питайя – сочный, редкий вид багрового свекольного окраса из Америки; орешки Макадамии цельнолистной из Австралии со сладкой, мучнистой мякотью, блаженство от вкушения которой заставляет воспарять дух в какие-то неземные высоты, когда мутнеет человеческий взор. Излишне упоминать и о таких частых гостях севера как гуава, авокадо, папайя. Соответствующее изобилие царило и на столе напитков: сбитень, квас, крюшоны, зеленый, красный, желтый чай, легкие фруктовые вина, латур, маркбруннен, муссо, шамбертен, рошбур и сен-жорж, обрион, леонвиль и медок; барак и преньяк; грав и сен-пере; клодвужо, херес, амонтильядо и гранатовый сок лились рекой. " Как это могло получиться?", - первая их фраза за сегодняшний вечер. Просто мне очень захотелось вас увидеть, вы мне очень нужны, я вам многим обязан. Недолговечные превращения на одну ночь тому подмога. Вы гости в моем сне. Я пригласил вас сюда, и на приглашение явились одни из ваших бесчисленных проекций на людские сознания. А комната, музыка, обстановка ведь очень правдоподобно! Так, знаете, мимолетный образ: представьте себе, вы на прогулке, на природе, на ветру, чтобы раскраснелись ваши бледные щечки, бесценные сокровища цвета слоновой кости. Вдруг навстречу бежит растрепанный, испуганный человек. "Помогите, спасите", - кричит он. "В чем дело, что случилось?" спрашиваете вы его или просто ждете дальнейших объяснений. " Я персонаж рассказа и автор, во что бы то ни стало, решил убить меня в конце, мне неизвестен этот непреклонный человек вследствие моего подчиненного положения, и я полагаю, от него невозможно скрыться!" - выпалил он и продолжил свой бессмысленный бег. Так и мы все, но мы в отличие от того несчастного не знаем из какого мы рассказа, а потому живем не беспокоясь. Мои красавицы, быть с вами чересчур приятно и необычно и мне скоро придется вас покинуть. Но эти моменты я буду вспоминать вечно, не приукрашенными ложью вымысла. Дрожащий блеск свечей в ветвистых подсвечниках и ласкающе-нежный звук электрооргана одинаковой густоты с клубами ароматного дыма благовоний. Мы пируем здесь, притаившись, als ob полагаем себя провинившимися. Нет нужды беспокоиться. Мы одни, наш соглядатай – звездное небо, даже луна скрылась за облаком. Ах, (имя пропущено, остается неизвестным и по сей день), я могу смотреть в твое лицо бесконечно, упиваться твоим милым обликом, тешить себя мыслями о счастье, ты как свежий ветерок жарким летним днем посреди пустынного поля, как лазоревая гладь небес, влекущая взор и дающая ему отраду, словно далекий запах железной дороги, бодрящий, сулящий счастье. Но нет, ты не обещаешь мне счастье, ты молчишь, ты непреклонна. Но безмолвствует, пышно чиста, Молодая владычица сада: Только песне нужна красота, Красоте же и песен не надо. Замечает про себя Генрих, цитируя строки одного из лучших русских поэтов. На мне лежит печать небес, что я мог сделать постыдного, чем прогневил господа, чем обратил на себя внимание змея-искусителя. Я отвержен, все при виде меня замолкают, лишь бросают на виновника неловкости красноречивые взгляды, я отвержен, я изгой и ничтожество, которого не желают и попирать ногами. Увы: пристыженные, они выходят вместе солнечным шумным утром из помещения, бывшего раньше женской раздевалкой, окруженные людьми, побледневшие, сосредоточенные, осужденные. Удручающе яркое и беспринципное утро врывается в пыльный спортивный зал. Тараканов ворочается, жует губами и недовольно говорит слова, которые не разобрать. Проснувшийся, он натыкается взглядом на кружку с невымытой вчерашней заваркой. Огорченный он отводит глаза. Смотрит в окно на дома неподалеку. Уродливые многоэтажные мутанты: корзинки для сбора денег, всех бы вас снести к чертовой матери. Невзирая на холод, Генрих отважно идет босиком в раздевалку перед физкультурным залом, там есть раковина и туалет. Он возвращается в свою комнатушку, вытирает руки о старый халат. Вытаскивает из шкафчика очередной батон и разрывает упаковку; это его завтрак, но он не сетует на отсутствие разнообразия блюд. Он давно привык довольствоваться всем тем, что попадается на пути и не требует хрустящих бумажек за использование. Из уездного города, название которого давно скрылось в глубинах его памяти, Генрих переехал учиться в Москву и жил, как полагается в общежитии. Спартанский быт тогдашней жизни помог развить Тараканову философскую систему рукотворного социализма. Согласно ей представители беднейших слоев населения имеют право по собственной воле нарушать часть из существующих законов, дабы не совсем прозябать в нищете. Поэтому некоторые его приятели, работавшие в крупных супермаркетах продавцами или грузчиками, уносили дешевые продукты из складов и с прилавков или с рекламных акций; фильмы и музыку они бесплатно качали из локальной сети, когда скорость была максимальной. За пользование общественным транспортом он также решительно не желал платить. Он говорил: " Ежели бывают господа, которых возят личные водители и у которых несколько машин, то почему бы не разрешить хотя бы мне стоять в переполненном автобусе два раза в день бесплатно, мне кажется, от этого не будет существенного убытка государственной казне." В автобусы, снаряженные турникетами, он ловко проникал через двери, открываемы на выход пассажиров. Не очень назойливым контролерам он сознавал в собственном банкротстве. По просьбам кондукторов смиренно выходил и заходил в следующий автобус. В метро он также попадал без особых проблем, проходя за добропорядочными гражданами с проездными. Постепенно жар наслаждения ото лжи и обмана спадал, правда, денег от этого больше не становилось. Единственную трудность продолжали представлять поезда дальнего следования, необходимо было доставать откуда-то билеты. Проблема была решена с помощью перечисленного везде, где только можно, списка льготных категорий граждан. Из нескольких номинаций наиболее достойной была выбрана должность конституционного судьи; через большое число рук соответствующее удостоверение было найдено и начало свою полезную работу. Между прочим, именно творческие люди часто являются самыми беспринципными из-за своей способности выдумывать множество обходных путей имеющимся запретам; однако они же редко становятся хладнокровными убийцами, так как возникающие в их воображении картины крови и внутренностей отбивают всяческую охоту к злодеянию. Их преступления носят характер безобидный и изощренный одновременно. Тараканова не покидала мысль о виденном им во сне убийце. Даже не виденном, а замеченном по результатам его ужасной работы. Вкупе со следующими двумя отрывками он заставил мысль Генриха лихорадочно носиться и трепетать в поиске выхода. Это отвратительно, непостижимо! Одиночество отбило у Генриха чувство страха, боязни людей. Все происшествия подобного рода он воспринимал чисто умозрительно, а не как нечто конкретное. Возможно представить себе злобу, ненависть, ревность, сжигающую страсть плотских наслаждений, но здесь речь заходит уже не об этом, а о диком, безумном стремлении к разрушению, расчленении людей. Генрих плюнул и выругался, перестал жевать. Как это омерзительно и гадко! Чьими руками подобное должно содеяно быть? Человекоподобных выродков, гомункулусов-инопланетян с овальными, выпуклыми глазами, созданий с увечным рассудком и ложным подобием человеку. Видно во времена Данте аналогичных случаев еще не происходило, поэтому-то его Ад кажется каким-то старомодным, слегка невинным, забавным. Сейчас уже наблюдается нехватка десятого круга. Там вмерзшими в лед будут вечно утопать кровавые убийцы, терзаемые острыми лапами Дьявола и травимые ядовитыми насекомыми. Вам воздастся за все, за ваше намеренное, показное, нечеловеческое бездушие. Пустое! – вам, верно, и смысл слов непонятен. Генрих встал с гимнастических матов и сел на них снова, почесал голову. Достал с полки "Божественную комедию", из нее выпал, лежащий там вместо закладки, диск ZZ Top. И начал записывать в блокнот то, что мы уже имели возможность прочитать выше. Тараканов находился в полной уверенности относительно одного странного события. Он полагал, будто около года назад: Его, взалкавшего, на темя серых скал Князь мира вынес величавый. Сделано это было не случайно и не просто так. Сей господин пришел к нему с одним предложением. Правда, не заложить ему душу, как это водилось ранее, а с предложением обмена: Признай лишь явное, пади к моим ногам, Сдержи на миг порыв духовный И эту всю красу, всю власть Тебе отдам И покорюсь в борьбе неровной. Тебя наследником я сделаю своим, Умение писать я передам тебе охотно, Ограбив одного из тех, кто у меня мучим, Взяв у тебя отсутствующее точно. О чем же столь непонятно толковал Князь мира? Ну, уж кто-кто, а Генрих понимал его очень хорошо. Господин обещал ему талант писательства, а взамен желал приобрести нечто эфемерное, как он сам верно выразился. Это была приязнь к Генриху женской половины человечества. Ну что ж, - решил Тараканов, может, так оно и лучше. Лучше уж что-то одно полноценное, чем множество всякой ерунды. Генрих свое обязательство точно соблюдал, а вот Князь, вероятно, смухлевал и обвел Генриха вокруг пальца, правда, и сам ничего при этом не получив. Такие исследователи-психологи, как Матвей Парижский, Томас Браун, Бубер с Эженом Сю во главе, полагали, что никакого господина вовсе и не существовало, а означенную сделку Тараканов совершил сам с собой, насколько это возможно по кодексу римского права. Наплевательское отношение Генриха к предмету столь деликатному объяснялось его недавними разочарованиями. 5 дней подряд ему снилось, что предмет его обожаний складывал зверя с двумя спинами (как однажды выразился У. Шекспир словами Яго в первой сцене первого же акта) с человеком без лица. С первой надеждой пришлось распрощаться еще в школьные годы, in memoriam о второй грустил Генрих после событий двадцать девятого сентября. Менее чем через неделю, 4-ого октября он подписал соглашение о капитуляции, став свидетелем измены третьей надежды. Но горечь после утраты второй была несравнима ни с чем. Он тогда спускался по лестнице, безгрешный ангел в оранжевом свитере покинул его. Слившись в поцелуе с демоном, личность которого не представляла большого интереса. Он видел ее спокойные глаза, медленно поникающий взор. Дальше он шел по лестнице, не разбирая ступеней. Самые тяжелые трагедии заставляют нас молчать и ожидать опровержения поступившим сведениям. Кое-как Тараканов добрался до своей комнаты, сел на кровать и долго смотрел в стену. Ничего собственно не делая, он очень скоро лишился совсем сил. Он сгорбился, а руки положил на кровать. Сам того не заметив, он лег на кровать и уткнулся лицом подушку. Проснулся уже в середине ночи, с трудом открыл глаза и направился в ванную умыться. Включил свет, холодная вода, пузырясь и сетуя на столь ранний подъем, потекла из крана. Едва касаясь пальцами лица, он вымылся. Бесцельно скользя взглядом по стене, увидел окошко в стене, которого раньше не замечал, на этом месте раньше было что-то другое. Оттуда на Тараканова смотрел пьяный, заплывший китаец. "Кого это еще подселили ко мне, убогие администраторы?" – разозлился юный страдалец. Потом уставился на китайца, тот явно следил за Генрихом и был не таким пьяным, каким явно хотел казаться. " Проваливай, полуночник, и без тебя тошно", - попросил Тараканов. Тот стал бормотать что-то несуразное одновременно с Генрихом и совершенно беззвучно. После продолжительного сеанса пантомим в исполнении азиата, на Генриха снизошло озарение: он убедился в таинственной связи телодвижений ночного гостя со своими собственными. Назойливый монголоид оказался честным подарком зеркала Генриху. Но он не сумел различить в чертах себя, в точности воспроизведенного зеркалом, прежнего Вадима Тараканова. Его губы вспухли, как у негра, и покрылись от напряжения кожи кровоточащими трещинами, нос разросся до свиного пятачка и стал широким и плоским, мешки под глазами налились и закрыли большую часть глаз, превратив его в узкоглазого властителя Великих Степей. Рот практически не отворялся для произнесения слов, язык кололо, и он неповоротливой тушей свернулся во рту, неспособный ни на что дельное. Генрих дотронулся до своего лица, оно было упругим, будто свежий арбуз; он засмеялся, совсем неслышно, потому что это доставляло ему большие мучения. Генрих владел тем, что тогда потерял, исключительно мысленно. Мысленно же он принялся ее тогда горько упрекать, бранить, просить сказать ему, что все увиденное им только ложь и иллюзия. Он жестоко порицал ее и называл ужасными словами, лишь затем, чтобы потом ощутить угрызения совести и прийти к выводу о немыслимости подобного поведения. Но настоящих ответов ему не являлось, а равнодушная пустота навевала ему мысли о возможности обмана, подмены, досадной ошибки зрения. В воображении Тараканов ее представлял задающей кощунственные вопросы невинным тоном, а потом передразнивал ее: Владычица дум: И голой с другом полежать в постели В границах добродетели нельзя? Генрих: В границах добродетели – раздевшись! Зачем так сложно и так тяжело Хитрить пред чертом и морочить небо! Генрих порадовался каламбуру, изъятому из известной трагедии, посвященной ревности и любви. А сейчас в физкультурном зале он подумал: хорошо, что все закончилось тогда и тревожило меня потом. Хотя, быть может, сейчас я был бы счастлив или хранил память о кратком моменте счастья и не пристрастился к этой гадости. Но такой мне путь начертан на небесах или, проще говоря, во мне проявились черты характера, заложенные во мне с рождения, благодаря которым я пришел к несколько, как бы это помягче означить, скотскому образу жизни. Пребывая в состоянии которого, я совершал комические по своей несуразности поступки. Попадал в немыслимые, нелепейшие ситуации; я был позором студенчества, я был апогеем беспечности и королем распущенности. Помнится, еще до войны, я очнулся на одном из бульваров ранней зимой и без пальто. Негодуя на судьбу, порыскал по карманам и нашел номерок, кои, несомненно, находят применение в общественных гардеробах. Но, вот незадача, герой передряги не в состоянии припомнить, в каком именно гардеробе он повесил свое родимое пальто: то ли в институтском (тогда в каком корпусе?), то ли забыл забрать после обязательного посещения врача или же расстался с милыми одеждами в одном из многочисленных музыкальных клубов, куда проник по поддельной аккредитации. После пришлось выпрашивать поношенную ничейную куртку у институтских гардеробщиц. Другой случай произошел непосредственно в институте на лекции, когда монотонные тирады лектора навеяли заслуженный сон труженика. Однако проснулся Генрих с легким недомоганием уже среди незнакомых людей, на неизвестном ему курсе. От нечего делать он снова погрузился в блаженный сон. Следующее пробуждение также оказалось омрачено неприятным обстоятельством: от продолжительного сна в неудобном положении предметы приобрели размытые очертания, и изображение лишилось всяческой ясности. Генрих не смог разглядеть лица своих соседей. Отчаявшись достигнуть просветления на этом поприще, он бесславно сдался на милость дремотному успокоению. Как оказалось, такое решение имело смысл, ибо следующая попытка была успешной, припадки мракобесия прошли, и все стало на свои места: лектор к доске, а студенты за столы. Генрих решил высказать мысль, впившуюся в его душу занозой стихотворной форме. Закончить строку помог случай: зазвенел будильник, зовущий к полднику; с некоторых пор Тараканов стал заводить будильник на определенное время, чтобы не находиться в безделье чересчур долго, потому что от продолжительного приема препаратов он становился чересчур пассивным, мог сидеть часами, уставившись в одну точку. Генрих достал мескалина и заварил в кружке, накрыв крышку блюдцем. В предвкушении увеселения он стал расхаживать возбужденно по своей комнатушке и теребить руками. Он сглотнул слюну. Вдруг ему почудилось, что он давно перешагнул известную границу и смотрит на все уже одурманенным, плененным взором, потеряв над собой контроль, на который очень рассчитывал. Употребляющие сильные стимуляторы и иные средства легко поддаются накатывающей лени и начинают тучнеть, если вовсе не теряют аппетит. "Я давно не выходил на пляж поиграть, это нужно, чтобы подключить обратно меня к настоящей жизни", - убеждал себя Генрих. Ладно, сегодня последний раз, что я не разумный человек, что ли? Я прекрасно понимаю: это не очень полезно для здоровья, но, право слово, эти средства отлично разгоняют скуку в наше безобразное время, когда все куда-то пропали и дают столько тем, стимулов к сочинительству, райские напитки божественно снимают оковы с моей письменной речи, я лечу, парю, словно птица, мои мысли покорны мне и запросто ложатся в канву сюжета, пропадает неровность, угловатость, обыденное убожество и скверные свидетельства авторской неполноценности. Генрих спохватился и побежал за блокнотом, чтобы не упустить драгоценную рифму. Выбрал карандаш соответствующего цвета и начертал: Увижу ль вновь теперь ее, Звенит будильник: "Nevermore!" Генрих отметил, что данное распределение ролей все-таки слишком компрометирует его как автора, здесь он изрядно преувеличил феномены своего сознания. Ведь даже у него часы еще не начинали разговаривать. Торопливо, рывками он перескакивал с одних воспоминаний на другие, он вспоминал свои обиды, недоразумения. Некий фрагмент зашевелился у него на дне памяти. Эта сцена его страшно возмутила, чего, в общем, было довольно странно было ожидать. Несколько лет бок о бок с безмолвными расширителями сознаниями сделали Генриха очень спокойным и сдержанным. Дело обстояло так, - силился завершить картину Тараканов. Разговор двух одноклассников, подслушанный им, вернее, они его и не пытались скрывать, шел об одной прелестнице, которую Генрих неоднократно включал в свои произведения, но для скрытности под мужским именем – производным от ее имени. Один с оттенком пренебрежения замечал, что она не очень-то умна и тем самым для него не подходит, такой-де он разборчивый. Волна чувств бурлила в душе у Генриха, и он пробовал напевать партию из "Panic attack" Dream Theater, начиная с 4:22. Немыслимо, - он повел головой в сторону, какое кощунство, какая манерность, какое лживое стремление красоваться подробностями личных пристрастий. Немыслимо, положительно непонятно, с чего мне вздумалось запомнить сию глупость. Вообще, не терплю такого открытия внутреннего мира перед другими, а здесь порок подкрепляется желанием покрасоваться. Доверительный тон, дружеская пошлость, ожидаемая усмешка, если это - человек, то пусть я им не буду, обращусь я в ветер, в птицу, в морскую волну, чтобы не знать никакого противоестественного, согласного попрания истинной красоты. Другой же из товарищей не намного превзошел собрата в умении нарочито очернить светлый образ, напротив он ответил к случаю выбранной цитатой: Таких красавиц глупых в мире нет, Чтоб не уметь детей рожать на свет. Генрих содрогнулся, ut от гадкого напитка. Он сморщился, стараясь подавить раздражение. Потом нахлынула усталость, пустяк, подумаешь, я и имен их не помню-то. Генрих взял в руки кружку и долго глядел на дно сквозь мутный отвар. Потом выпил все до капли, тщательно проталкивая жидкость между языком и небом. Чтобы расслабиться, он сел в ложе и матрасов и переключил проигрыватель на Octavarium. Наконец-то, я ждал этого весь день, впрочем, сегодня не было днем, какой-то огрызок от дня, время проходит мимо меня, не заворачивая ко мне вовсе, только заглядывает под вечер, как будто я второсортный клиент, не помню, heute ничего не произошло, я никуда не выходил из этого зала, однако так уже не первый день. Но все страдания сполна мне возместит мой мескалиновый полдник, моя отрада, мой праздник, мое искушение, мечта измученных адом целого дня отсутствия, герой всех снов, порошок, оживляющий фантазию, катализатор мыслей, источник сладких грез, верни мне счастье. Не потерял ли ты своей силы, моя прелесть, ну-ка повесели меня, голубушка, я устал от этих стен, от постоянного одиночества, этого мира закономерных повторений, где не хватает хорошего режиссера и ловкого сценариста. Не видел я человеческих лиц давно, разрушается порядок слов в моих неверных устах. Вихрь удовольствий вернет мне силы, не беда, что я снова возвращусь в разрушенный хлев, это будет нескоро, а пока, заостряй внимание на деталях, скоро они поплывут или начнут слегка дрожать. Это первый признак, приходящих друзей. В этот момент над головой Генриха пронеслась птица, пролетела и быстро скрылась от него. Выпорхнула из комнаты тенью, призраком, бесшумно, словно бумажный самолетик. Он вскочил, намереваясь, поймать ее, но вдруг услышал звук льющейся воды. Он доносился из спортивного зала. Генриху подумалось, что прорвало водопроводную трубу. Меня может затопить, караул, я утону, захлебнусь в лабиринте комнат! Но он хочет взглянуть на источник шума. Водопад несет свои струи из баскетбольного щита. Он переливается всеми цветами радуги. Запах свежести и влаги царит в зале, под ногами разворачивается ковер тропических растений. На глазах распускаются бархатистые бутоны, венчики изменяют окраску, словно иллюминация в музыкальном клубе, лепестки вращаются по часовой стрелке, будто лопасти вентилятора, легкие порывы морского бриза. Но куда уходят воды могучего потока, отчего они не разлиты под ногами и не булькают под ногами? Все ясно: вода уходит в прорубь, прорубленную прямо под водопадом. Следовало ожидать, как замечательно все устроено. Но вокруг холодно и лежат сугробы из ослепительного снега, который имеет обыкновение хрустеть под ногами и блестеть на солнце. В сугроб воткнута лыжная палка, Тараканов снял варежки, чтобы завязать лыжные ботинки новым бантиком. И затем скользит дальше, вперед по лыжне, а затем просто по дороге – коньковым, он нагибается, впереди безлистые ветви корявого дерева. Поднимая голову, видит улыбающихся девушек, едущих в противоположную сторону, он улыбается им в ответ и машет рукой. Разумеется, это услужливые официантки в обтягивающих майках без рукавов. В клубе потушен свет и идет концерт. Ули Куш бросает ему из-за установки барабанную палочку: "Моему другу из России!" Генрих складно лопочет на немецком, но сам толком не может сказать, значит ли это что-нибудь конкретное. Но я свободен ото всяческих обязательств, которые считают нас своими подчиненными. Делай все, приходящее в голову до тех пор, пока не наскучит и это. Изнывай от иссушающей страсти мой друг, тем более: ты на знаменательных для тебя лекциях, а они всегда являлись лишь поводом для удовлетворения похотливого любопытства. Гнусный извращенец, жалкий соглядатай, ты обречен прожить жизнь зрителя! Вторая надежда расхаживает в самом низу, а ты делаешь вид, будто не можешь оторваться от занимательной статьи в "Петербургском вестнике". Будь проклята навеки моя незавидная судьба, Генриху не дозволено и насмотреться всласть на нее под чарующие мелодии "Ra" Джордана Рудесса. Возле нее опять околачивается мелкоразмерный блондин сомнительного происхождения. Откуда ты взялся? Ты мне даром не нужен, катись отсюда поскорее или ты бесплатное приложение к моей мечте? Тогда сядь и не заслоняй обзор. Но нет, ты, оказывается, адепт иной географии и принимаешь всерьез задачу о злосчастном треугольнике. Генрих принимает облик бородатого психоаналитика, склонившегося над листком полуистлевшего фолианта. Размышляет вслух: в самом деле, интересно, в чем же причина такой природной избирательности, отчего мужских особей чаще всего тянет к женским крупнее их? Должно быть, причина кроется в подсознательном стремлении к ситуации, в которой они находились на этапе полового созревания, то есть девочки крупнее мальчиков. Ха-ха-ха, (кашлеобразный смех старого педанта напоминает воронье карканье) имеет место некая экстраполяция себя сегодняшнего, возможно, вполне успешного самца в эпоху неуверенности, страхов и становления полноценной личности. Нами руководит желание реабилитироваться, взять реванш в такой приятной обстановке воспоминаний. Начинает сыпать терминами, махать руками, полемизировать и нервно перебивать воображенных в клубах табачного дыма оппонентов. Или все идет по иному сценарию? Как я мог обознаться, меня подвело чутье, выработанное годами неудач и разочарований. Как говаривал приближенный к персидскому шаху поэт Ивор Занава во времена расцвета арабского халифата: "Судьбоносных истин свет Вскоре верный начертит ответ, Ноябрь первый – обличений день, На посрамленную подругу бросит тень. Сообщника ее я перепутал…". Она вполне могла очень долго водить меня за нос. И менять любовников одного за другим. Во мне нет гнева, да и с чего бы? Мне просто очень жаль тебя. Ты, кажется, просто не знаешь, чего тебе хочется, ты мечешься от одного к другому, упуская из вида жизнь и меня. Про тебя все же, зашифровав это, написал мой друг Илья Копьеносцев: " Когда б твоим желаньям по утробе, то ты б имела миллион детей." Но прости меня, каждую секунду я готов раскаяться в сказанном, яд обиды застилает мне разум. Или вовсе пропасть тебе из моей жизни, будто не встречал я тебя совсем. Наша красавица вне досягаемости, ее Генриху не достать, под охраной в мрачном тереме с видом на кремлевскую стену сидит она и горюет, льет неутешно слезы. У колонн маршируют два солдата, попробуй мимо них прошмыгнуть, чтоб они тебя не поддели на штык. Для пущей надежности курсируют вдоль огромных ворот дворца ее величества они в противофазе. Когда в середине пути они встречаются лицом к лицу, мгновение они медлят, затем сливаются, like двум каплям жидкости пребывают в слитом состоянии. Невозмутимым безликим Янусом с парой затылков. Вскоре начинают свой бег вновь. А что если губки помадой покрасить, прикинуться доверчивой дурочкой и пройти ко всем в доверие, в том число и к ней. Думаю, этот фокус прошел бы! Сейчас прогрессивным назовут того, кто с той или с другой стороны приближается к границе различий между полами, боюсь, правда, не хватит мне жеманности и голоса. Придется упрашивать роботов, говорить о чувствах с машинами. Позвольте мне подняться наверх, к моей голубушке, моей мечте, моей богине, владычице, всепокоряющей безумному чувству дозвольте предаться, прикоснуться желаю к этому образу, моя икона в этом дворце, вся моя вера обращена на нее, моя судьба в ее руках, моя жизнь зависит от возможности созерцать античную нежность ее черт, ласковую серьезность, невозмутимое обаяние милых глаз, не останавливающих свой бег на мне. Не постесняйтесь расступиться, я никому не скажу, что бывал наверху, ей богу, клянусь чем угодно, клянусь последним мира днем, клянусь я днем его творенья, я буду тих, словно падающий лист, я буду ступать по ковру, подобно призракам, навещающим места телесного пребывания. Вы, что меня не слышите, откликнитесь хоть как-нибудь! Прогоните меня взашей, избейте меня, побирушку, до полусмерти, дайте мне знак. Вас набирали от рождения глухими в отряд охраны моей мечты от меня. Бездушные черти, место вам в аду, если я уже не там, едва ли мне придется там хуже, чем сейчас здесь с невыносимым грузом неутолимой тоски. Вы избрали самое верное оружие: вы молчите, несмотря на все мои просьбы. Хорошо же запомните сей час! Отныне я также глух ко всем вашим просьбам. Вы сотворили сами себе врага, который уж перед вами, бойтесь его, ибо он не будет знать пощады, и не утешит вас ни единым словом. Перед Генрихом появляется калека в рваной одежде, он приплясывает и гримасничает, высовывает язык, а затем надувает щеки. Бьет себя в лоб и трепет за уши. Старик: Я вижу, счастлив ты, красавец, и день твой удался, Мечтаешь ты о большем счастье и нескольких за раз Прелестниц хочешь обнимать. Собак нанимаешь в слуги И историю семьи пишешь с конца, собираешь осенние листья, Запасая на год вперед. Потомственный садовод разбогател и сажает цветы вверх ногами. Генрих: Раз ты берешь на себя роль умалишенного, мне можно отдохнуть. Правда, не возьму в толк, откуда взялся ты, сначала был здесь я один? Старик: Призван одеть мысли в словесную форму, посланником являюсь я. Генрих: И верно: чувствую, внутри вскипает боль и речь моя готова, Почерпнутая из глубины веков: Вот дама. Взглянешь – добродетель, лед, Сказать двусмысленности не позволит. И так все женщины наперечет: Наполовину – как бы божьи твари: Наполовину же – потемки, ад, Кентавры, серный пламень преисподней, Ожоги, немощь, пагуба, конец! Стремглав летим мы на другой конец Города, дабы проведать давнишнего гостя наших сердец, страдальца Джозефа. В оранжевой робе солдата ремонтных бригад путешествует он подземными галереями. Отмеряет шаги вдоль темных ниш и стен, на которых танцуют отблески горящих факелов. Сперва Сэммлер шел спокойно, как и должен вести себя человек, переживший незадолго до описываемых событий столь дикое приключение. Мальчик ступал не спеша, потому что побаливала ушибленная нога. Через пару минут стало намечаться легкое движение на периферии видимого, активность, подмеченная неразборчивым боковым зрением. Джозеф забеспокоился и обернулся. Никаких поводов для подозрений. Голые стены, длинные коридоры, пустота, воцарившаяся на века. Сердце забилось чаще, исключено, кто бы мог здесь прятаться? Джозеф старался забыть о досадном движении, но оно принимало все более угрожающие размеры и приближалось к нему медленно, вкрадчиво, но с непоколебимой уверенностью в том, что всегда сможет продолжить свой бег. Будто загадочные частицы плясали за спиной путника, гнусная мошкара, мелкое зверье. "Бог мой, - крепился Джозеф, - я не сломаюсь, не сдамся на милость врагу, вот подожду, когда сие адское коловращение вплотную ко мне подойдет, и повернусь к нему лицом, я хочу знать кто мой враг!" Непонятное мельтешение, наполнявшее душу страхом, перерастало в немыслимый маскарад, и он грозился поглотить Джозефа. Невероятно, да что же это! Откуда взялись призраки, морочащие мне голову. Лучше не молчать, на фоне тишины и дробная поступь мыши будет казаться шагами человека. Сгинь, сгинь, пропади, прочь с моих глаз, изыди наваждение: мне не за что нести такое наказание! – закричал Джозеф во все горло. Эхо разнесло его крик на многие километры вокруг. С удовлетворением он прислушался: беготня унялась, никто не готовил козней и не пережидал в засаде беспокойный момент. "Боюсь, я чересчур взволнован и мне чудится много лишнего, но подтвердить данное соображение не удастся в одиночестве. Одиночество пугает, все кругом настораживает, везде мнится подвох, чудится ловушка, недобрый умысел. Но с другой стороны страшнее остального враг, долгое время остававшийся вне подозрений, враг, которого мы принимали за нашего сообщника. И от таких избавлен я все-таки. Длинная галерея обрывалась остроступенчатой лестницей, закончившийся переход открывал вид на станцию, отделанную розовым мрамором. Ужасающий беспорядок царил вокруг. Вся платформа была завалена мусором, расколотыми бутылками, очистками от овощей. Трудно было и вообразить размах вандальских пиршеств. Отвратительный запах заставлял дышать с помощью рта: у каждой колонны было наблевано, высохшие лужи крови крепко присохли к полу. Клочья человеческих волос, раскиданных здесь и там, позволяли строить предположения о том, что происходило в метро неделю или месяц назад. На Джозефа удрученно взирали со стен фрески и мозаики, их удивление не знало предела. Это скорбное зрелище заставляло Джозефа сравнивать пребывание здесь с посещением развалин Помпей или прогулкой по Содому и Гоморре, наказанным за свои прегрешения. Так и моя Родина наказана руками своих граждан. Жив проклятый Город отныне будет только в памяти потомков, да и они, пожалуй, будут теряться в догадках, относительно того, кем мы являлись: просвещенной нацией ученых и поэтов или страной господства самодуров и излишеств. Но излишне повторять, что страх оздоравливает нацию, ибо нашу не могло испортить уже ничто. Страну срама и неизбывного позора, где любое благое начинание или явление немедленно сводилось к выгоде власть предержащих и к горю подчиненного люда. Страну бесконечного раболепства и непрестанного кипения людских масс в желании истребить все и сотворить все заново. Государство, в котором наиболее верным толкованием сокращения СМИ представлялась фраза: " Сознанием манипулируют интерпретации". То было время, когда дети помыкали родителями, когда гении гнули спины за гроши и кляли судьбу за то, что не родились домашними животными. Время, по сравнению с которым собственное царствование показалось бы Лиру раем. Его можно было обозначить, как засилье бездарностей, торжество примитивных воззрений, эпоха дешевых лозунгов и поразительной доверчивости, поголовной наивности людей. Джозефу казалось, чем глупее трюк циркача, тем охотнее на него все велись. Время, когда все кичились своей безграмотностью. Это было государство, перевернутых ценностей, государство, в котором преобладание недостатков над положительными сторонами было столь велико, что казалось намеренным, казалось шуткой, неумелой комедией. Для Джозефа это было временем плавающих ориентиров, временем, когда доселе прозрачный кристалл жизни начал мутнеть, когда пропала былая простота и ясность. Момент жизни, овеянный смертной скукой и боязнью зыблемых ценностей, мгновения, просиживаемые на берегу Реки. Тогда в осенних туманах Джозеф разваливался на корпускулы и нити, растворялся в упрямом потоке людской суеты, тянущей свою лямку, словно осел, не обращающий внимание ни на что остальное до тех пор, пока его, как следует, не огреют по голове: "Остановись, прислушайся, что-то не так, мы катимся под откос!" Страна замерла в ожидании, что-то будет сейчас! И было поздно искать выхода, просить прощения или советов, доверия или времени, наступил конец, и это также очевидно, как и то, что былого не воротить, что прольется много крови, что жертвы будут со всех сторон. Народ стоял на пороге катастрофы, и даже ярые фанатики содрогались при мысли о том, что придется им совершить. Но это было неизбежно. Преданными зрителями сидели на ветвях жирные вороны. С женских губ была стерта помада, тяжесть войны опять падала на их плечи, они поголовно рядились в медсестер, поварих и чернорабочих на заводах. Дух войны поселился здесь надолго. Он нарисовал жизнь горожан заново, с чистого листа, руководствуясь нормами многолетней давности. Война повернула время вспять. Люди осунулись и ходили с перепуганными лицами, и только самые стойкие, храбрые или безмозглые не теряли присутствия духа. Джозеф прохаживался туда и обратно, дожидаясь поезда. Но тот все не казал носа из своей темной норы. Сэммлеру кажется, будто за ним следит пара внимательных глаз. Будто с него не сводит взора вставший за колонной шпион. Кто-то дышит в спину, кто-то сдерживает стук возбужденного сердца. На платформе станции два ряда колонн. Джозеф выбежал на середину, чтобы проглядывать одновременно оба ряда. Он быстро промчался вдоль всей платформы. Но преследователь опять умудрился скрыться. Где же он, за какой колонной таит свой замысел? Джозеф решил брать тем же. И сам прислонился к колонне с лицевой стороны, то есть пойди он вперед, он уперся бы в следующую колонну этого ряда. Холодный, гладкий мрамор, слегка поблескивают в нем отражения ламп, которые елочными игрушками развешаны по потолку. Он губами прикоснулся к немому камню и принялся вслушиваться, на этот раз мелкий топот не останавливался. Дальний ход отдавался еле слышным эхом в просторах зала. Принять решение: выглянуть вправо или влево из-за колонны. При этом по правую руку окажутся основные площади, впрочем, они под контролем и с легкостью просматриваются. Другое дело: шпион способен прятаться точно по диагонали в соседнем ряду за дорическим ордером. Дожидаться своего часа. Ладно, - Сэммлер огибает колонну слева, и проворно льнет к следующей. При этом под наблюдением находилась правая половина пролета. Таким образом, враг не проскочил навстречу ему в противоположную сторону. Из того факта, что юный контрразведчик двигался с края станции к ее центру, со всей очевидностью следует ограничение пространства перемещений его тактического противника. Вместе с этим теоретиком стратегии сухопутного боя и разведки мы попытаемся запереть зверя в его собственном логове. Джозеф движется тихо, ступая на мысках. Ни единого движения не было замечено за это время. Как перед бурей замолкает океан. Но вот и закончилась станция, впереди стена. На дверях неповрежденные печати, а сигануть в тоннель шпион не мог: давно известно, что для борьбы с хулиганами и вредителями в тоннели закачан ядовитый газ, который под действием вентиляторов и из-за выгнутого вниз профиля подземных коммуникаций, не выходит на платформы. Куда он мог спрятаться? Осмотрен каждый уголок, наверное, на станции никого и не было; почудилось движение впотьмах, шорохи в нишах, вздохи там, где нас нет. Скорый ход подозрительных теней. Не стоит огорчаться, с кем не бывает. Для порядка Сэммлер следует на середину каменной гробницы городских подземелий и дожидается поезда там, но мания преследования не дает ему покоя, боязливо он отступает от края платформы. Как бы кто нечаянно не подтолкнул украдкой, и как бы не очутится на рельсах растерзанной грудой мяса. Локомотив не появлялся, что послужило причиной его задержки? Джозеф нервно мял шнурок от куртки и прохаживался пять квадратов мозаики туда, пять обратно. Но дикий визг, донесшийся из самых глубин ада, возвестил ему о конце света, самые страшные опасения нашего героя оказались воплощены в жизнь. Он слетел на пути и пребольно расшиб коленку о каменные шпалы. В порыве страха он, ничего не соображая, попытался тут же взобраться обратно, но худющий человек в потрепанном замшевом пальто лихо смазал ему тростью по голове и заставил вновь подниматься на ноги. "Пусти меня, что ты делаешь сумасшедший, сейчас покажется поезд и мне тогда несдобровать!" Но тот только визжал от радости, что поймал Джозефа в ловушку, и стучал тростью по краю платформы, чтобы отпугнуть мальчика. Он бесновался и брызгал слюной. "Опомнись, к чему тебе моя смерть, отпусти меня наверх, ты, верно, меня с кем-то спутал!" – тщетно пытался образумить маньяка мальчик. - Я слеп и мир обращен ко мне темной стороной, он взрастил во мне темные стороны моей души; считай, я отвечаю ему той же монетой, - неожиданно зашепелявил сумасшедший. Я вижу только тьму, но я чую, как ужас смердит у тебя подмышками, и в уши ко мне просится тяжелый присвист твоего дыхания и глухой стук запертого сердца. Тебе отсюда не выбраться, ты обречен на смерть так же, как обречен стать мне пищей, после того, как по тебе пройдется поезд. - Псих, что ты мелешь… - Молчать, я сейчас главный, на меня уже достаточно кричали в прошлом, теперь вы будете меня умолять о пощаде, и ты будешь первым! - Еды полно в магазинах и они не охраняются, наешься досыта, зачем я тебе сдался, пусти меня. - Я шага не ступлю из метро, мне есть, кого опасаться, там бродят духи, которых мне не одолеть, которые движутся тише, чем я, чья рука тверже стали, а мысль разит на расстоянии! Ангельских войск легион сторожит все выходы из метро, но и сами они опасаются заходить в мои владения. А здесь я полноправный хозяин. Но вот, движется твоя смерть, прими ее, как подобает мужчине: повернись ей навстречу, слышишь, вот, вот она, приготовься, скоро произойдет главное событие в твоей жизни. - Может, и главное, но надеюсь не последнее, - Джозеф пытается отбежать и забраться на платформу в стороне от умалишенного. - Ха-ха-ха, нет, не выйдет, умри, умри, пришел твой час, я тебя не выпущу отсюда! Грохочет, сыпет искрами и сверкает прожекторами подземное чудовище, неспешно оно обращает на меня свой взор, и ускоряет ход. Оно, подобно времени, сокращает расстояние между моим любимым героем и его кончиной. Неумолимо и хищно. Что сделает наш Джозеф? Все пришел конец, беги, не беги – нет разницы, тебя расшибет в лепешку, поздно вспоминать былые дни, не осталось ничего, он вновь новорожденный. Словно вняв словам помешанного, Джозеф оборачивается навстречу составу и его глупо ухмыляющемуся свиному рылу. Прислоняется к стене и глядит вдаль, затем с вызовом смотрит на старика. Тот настораживается и пытается уловить причину стихших просьб пленника. Тот устремляется навстречу локомотиву и бежит, не страшась столкновения лицом к лицу. Когда шансов выжить почти не осталось, наше поведение становится таким, каким бы оно было в ситуации гипотетической игры, принципиально лишенной летальных исходов. Мы идем на сумасшедший риск и на диковинные трюки. По мере приближения к головному вагону составу Сэммлер начал смещаться влево, ближе к стене. Затем он с разбегу ступил одной ногой на стену и успел коснуться другой, сильно выпрыгнув вверх. В этот момент цепь грохочущих вагонов закрыла бы его от наших глаз, находись мы на платформе. Сделал он это неслучайно, дело в том, что, прижавшись к стене на некоторое время, он уцелел. Далее Джозеф вцепился руками в раму, заранее выбранного окна. Состав, двигавшийся в противоположную сторону, перекрутил в воздухе тело мальчика и с размаху захлестнул его на крышу вагона. Не приходя в себя, Джозеф соскальзывает на платформу и бежит к слепому. Тот поражен: « Как он сумел уцелеть, это невозможно! Он бессмертен. Пришел мой час, но и я не сдамся. Сперва побегай за мной, моя смерть. Я тебя не боюсь, ибо мне не видно твоего звериного оскала". Джозеф движим жаждой мести. Только бы ухватить сухопарого старичка, монстра в человеческом обличии. "Я хорошенько его проучу, так, чтобы его собственное учение выбьется из головы!" Помешанный с нечеловеческой прытью огибает одну колонну за другой, при этом он умудряется помогать себе тростью, которая снабжена крючьями, он перепархивает от колонны к колонне и почти не касается ногами земли. Вскоре он скроется из виду и все преимущество Джозефа сойдет на нет. В последнем броске юный натуралист падает на платформу, скользит по ней и хватает за штанину прыгучего демона. Тот спотыкается и случайно выпускает трость из рук. Падает и бьется о платформу, замирает. Его лицо разбито, он дышит, словно загнанный заяц. Теперь ему не вырваться: слишком он хрупкого сложения. Да и возраст уже не тот. - Ты попался, - замечает Сэммлер. - Знаю, - отвечает старик, - но пойми: это был не я. Одиночество, унижение, желание мести творит с нами что-то невообразимое. Я превратился в чудовище, в монстра. Я больше не внушаю жалости, я могу вызвать только страх. Я животное, я инвалид, я мерзок, и гнусными деяниями я пытался расквитаться с миром за свою неудачную жизнь. Ведь именно люди воспитали во мне демона. Мне нет оправдания, сейчас, когда ко мне возвращается разум, я и сам не в состоянии узнать себя. Как я низко пал! Отчего мне выпала столь ужасная судьба, что люди перестали меня считать себе подобным? Конечно, легко меня осуждать, когда вам все время улыбалась удача, когда жизнь не толкала вас на преступление, когда вы купались в роскоши, а зло творили чужими руками, но попади вы на мое место, еще неизвестно, кем бы стал каждый из вас. Не тяни времени, убей меня сразу: моя рука бы не дрогнула, пусть твоя будет столь же твердой. - Нет. Нет, я не стану этого делать, - Джозеф молчит, коленями придавливая старика к земле. - Значит, ты собиратель душ, и моя тебе ни к чему? - Опять не то. - Привяжешь меня к рельсам, подлец, хочешь видеть мои страдания, цедить по каплям мою боль? - Ты свободен, иди на все четыре стороны, побежденные вызывают лишь жалость. Ты не посмеешь больше напасть на человека, обезоруженный людским пониманием. Не знаю, для чего я так поступаю. Но убийство – попытка перекроить мир, а я не сторонник перемен. Я их боюсь, я страшусь времени; будь это в моей воле, я остался бы навсегда в уединенном королевстве, где нет смерти и новых лиц. Замена старого новым терзает меня невыносимо. - Ты святой! - О нет. Я грешник и грешники любимы мне (рыдает). Я пришел в мир не творить расправу, а проповедовать добро и терпимость. Я тебя понимаю, а потому могу простить, ступай, мой друг, мир больше, чем тебе кажется. Старик подымается, он дрожит, он растроган, текут слезы из незрячих глаз: "Прости меня!" Джозеф поворачивается и собирается садиться в поезд. Старик молитвенно протягивает к нему руки. "Скажи, как мне присоединиться к тебе, чтобы следовать за тобой повсюду?" Сэммлер медленно поворачивается: " Трижды поклянись мне в верности, а при первом удобном случае предай меня врагам". Старик смотрит вслед Джозефу продолжительное время. А затем падает; из щелей между зубами струится кровь, красная, как восток утром. Волной кровь закрывает подбородок. Молчание наполняет зал. Джозеф уходит, старик умирает и падает лицом вперед. Укачивает в вагоне мерный ход и стук о рельсы. За окном мелькают полосатые таблички и надписи с цифрами. Пучки проводов лозами вьются вдоль серых стен. Но напротив сидит странный субъект, его пытливый взгляд нервирует натерпевшегося за сегодня Джозефа. Одет он на редкость прилично: в костюмчик с брюками, ботиночки блестят, словно зеркало. Тем более, что кроме них двоих в вагоне больше никого, и они незнакомы. - Не позволите полюбопытствовать, с какой целью Вы в столь неподходящий час едете на метро по опустевшей столице? - начинает разговор человек в костюме. - Так катаюсь, гуляю, - с неохотой отвечает ему Джозеф. - То есть как, – поражен Костюм, - Вы что ж, не на службе? - Я не слуга, - замечает Сэммлер. - Все мы слуги своего Отечества, - с пафосом возражает Костюм. - Мне всегда казалось, что отечество должно служить своим гражданам. А потом, Вы, что тоже на службе? - Разумеется! - Стало быть, Вы не отечество, а отечество – те, кто рангом повыше Вас? - Глупости, по какому праву вы отлыниваете от своих прямых обязанностей? - Прямых, косвенных, выражайтесь поконкретнее: во мне не найдете своего собрата-политика, демагога, болтуна, позера и пустомелю. - Не пытайтесь меня раззадорить, я не поддамся на ваши провокации. Разумеется, речь идет о воинской повинности. - Из повинностей мне известны барщина, оброк, но я был рожден не крепостными и не холопами, чтобы их отбывать. - Ваше поведение слишком типично, даже заносчивость не добавляет вам оригинальности. Но все едины перед лицом закона, вы, таким образом, поступаете очень некрасиво. - Чепуха! Добропорядочность не имеет ничего общего с добром и, тем более, с нравственной красотой. А закон – это так. Абстракция, символ, знак, пугало для несовершеннолетних и палач для животных в людском обличии. Закон сделан людьми, отсюда проистекает его обязательное несовершенство. Закон не может быть неизменным, он обязан быть непрерывным процессом. Ежели он прекратил свою эволюцию – все: он принялся вредить людям, ради которых появился на свет. Нынче закон – предмет насмешек и пересудов, к нему утрачено доверие, он ненавистен. Закон не могут блюсти люди, подобные вам: Кому свой меч вручает Бог, Быть должен так же свят, как строг: Собою всем пример являть… Позор злодею, что казнит За грех, что в нем самом сокрыт! Втройне стыдиться должен тот, Кто ближнего пороки рвет, Как сорную траву на поле, А свой порок растит на воле! Законы, в обществе, созданном вами, подобны драгоценностям в руках нищих или дикарей, они столь же неуместны и бесполезны. Ваши издохшие заповеди походили на садовника, что состригает молодые побеги и не позволяет дереву развиваться. Юриспруденция стала синонимом сутенера или сводни, торгующей нашим временем и судьбами. - Не торопитесь упрекать меня в грязных делишках. За мной ничего не числится, а вот Вы, например, по какому праву прошли в метро, закрытого для посещения в настоящее время в связи с военной обстановкой? - Я уверен: наши предшественники строили эти коммуникации не затем, чтобы их продали в частные руки обманщиков и торгашей, захвативших все, представлявшее ценность. Отчего вы решили, будто вам позволено регламентировать наши радости, доходы, перемещения, все ограничено, кроме ваших аппетитов. Полно, строить из себя ангелочков, выборов ждать еще долго. Пусть даже Вы не такое крупное лицо, но цепь порока начинается и раньше: О, если б все, имеющие власть, Громами управляли, как Юпитер, Сам громовержец был бы оглушен. Ведь каждый жалкий, маленький чиновник Гремел бы в небесах. Его не убедить: мера самозванцу неизвестна, Жажда помыкать затмила взор. Речей разумных смысл ему не ясен, Доводам простым не внемлет он, Как бешенством спаленная собака или Обезьяна, человека младший брат, Что на потеху зрителям упорно рожи продолжает строить. Поступки, в которых людей вашей профессии и образа жизни обычно замечают, были предсказаны много веков назад. Вам даже нет нужды кого-то из себя строить. Обмануть вы можете только непросвещенную чернь, каковых вы и пытаетесь сделать из нашего народа. Чем грязнее и подлее было ваше собственное поведение, тем больше ужесточали вы законы. К счастью, вы были ограждены от его карающей длани, словно он создан не для вас, словно вы люди другой породы и от закона найдется у вас иммунитет. Сила, сосредоточившаяся в ваших руках понуждала вас проверять ее необъятность, безграничность. Любая причуда, пришедшая вам на ум, тут же воплощалась в жизнь. Играйте с судьбой, рискуйте, бейтесь об заклад с фортуной, но знайте: "Легко и просто в преступленье впасть,//Когда ему защитой служит власть." - Знаете, тяжеловато отвечать на все обвинения сразу, тем более, что Вы и пытались хоть как-нибудь структурировать свою обвинительную речь, а кинули в меня целый ворох насмешек, цитат и дичайших сравнений, будто вылили ведро помоев. Я скажу так, и знаю: многие меня поддержат, и большинство со мною согласится: людей, наш народ, всю эту толпу надо усмирять, необходимо каждый вечер загонять их в загон, а каждое утро выводить пастись на луг, иначе, кто знает, что случилось в противном случае: поднялся бы бунт, началось восстание, везде воцарился бы хаос. Все добродетели зеркальным образом заместились бы на соответствующие пороки, вместо школ и детских садов везде бы понастроены бордели оказались. Власть должна держать людей в ежовых рукавицах, власть, как опытный наездник: вовремя пришпоривать обязан и шоры не снимать. Усмиренная лошадь и не подозревает, что спокойно бы скакала без наездника. Вам это чувство превосходства наверняка знакомо, ощущение брезгливости по отношению ко вкусам черни. - И не пытайтесь ко мне подольститься, сейчас дело не в том, к кому я себя отношу и что думаю по поводу массовой культуры. Вы ко всем нам относитесь, как к средству и отчего-то возомнили себя достойнее прочих людей. Очень верно этот момент подметил Шекспир: Ты уличную женщину плетьми Зачем сечешь, подлец, заплечный мастер? Ты б лучше сам хлестал себя кнутом За то, что втайне хочешь согрешить с ней. Вы не боги и не дворяне или аристократы, но отчего-то полагаете, будто от природы ваше положение выше положения других людей. Вы располагаете ими, словно рабами, хотя обязаны им всем, вплоть до своих круглых сытых лиц. Вы не замечали? – все, вращающиеся в ваших кругах, моментально тучнеют и полнеют. Их лица приобретают мерзкий оттенок довольства и брезгливости. Вам никогда не стать знатью в том смысле, в котором этот слово употреблялось до революции. Вас впору называть отбросами общества, забравшимися чересчур высоко. И боюсь, чтобы согнать вас придется приложить немало сил. Ваши дни сочтены, а в вашем сословии историки предпочтут умалчивать, словно и не существовало этого пятна позора на панораме истории нашей страны. Внушительность зрелища вашего свержения с престола, который вы успели обратить в хлев, будет сравнима только с внушительностью бездны ваших прегрешений. Люди будут и радоваться, и содрогаться одновременно, но в ужас мирных граждан приводить будет не зрелище ваших окровавленных тел, а дитя, что они пригрели у своего сердца, и которое так долго сохраняло втайне свой истинный облик вампира и чудовища. - Замолчи, замолчи, немедленно прекрати! Ты подстрекаешь народ к погромам и убийствам. - Нет, вы заблуждаетесь. Я, скорее, дух грядущих кровопролитий, я призван их оправдать своими страданиями, но, полагаю, вам не уловить ни толики юмора в моих апокалиптических речах. Ваш рассудок закоснел в стандартных формулировках каждодневных проявлений ораторского мастерства. Профессия дурить людям голову дала о себе знать: вы и сами поглупели изрядно. А такой аспект вашего мастерства, как умения казаться хорошим человек, субъектом, заслуживающим доверия, тем не менее, не делают из политика хорошего актера. - Вы грозите расправой своей Родине, вы фанатик и будете гореть в аду! - Как бы все места не оказались там заняты, да и хватит сорить громкими словами: политику, дельцу, заимодавцу это не к лицу. - Выметайся из вагона, подлец, ты заслуживаешь немедленной казни, жаль, народа не соберется на отличное зрелище. Прочь, позор своего поколения! Сгинь, ублюдок, при чьем появлении краска не сходит с лица у всех матерей при мысли о том, что и Вы приходитесь кому-то сыном. Что стоишь? Выметайся немедля! Пошевеливайся и не взирай на меня с гордостью и вызовом! - О боже, какая сцена, вы превзошли самого себя. Какой пафос и верность традициям Вы говорили чрезвычайно убедительно, но меня вам убедить не удастся, ибо ваше червивое нутро мне видно насквозь. На ближайшей станции мистер Костюм стремглав выбегает из вагона, на нем и лица, впрочем, нет, а выглядит он действительно жалко и потрепанно, не зря, видно, говорят, что профессия политика более всего напоминает профессию проститутки. Тем временем, Генрих в порыве губительного отчаяния завершал одно из стихотворений, которое с натяжкой получилось бы назвать удачным: Когда последним вздохом мнится осень, Опять мятущийся твой облик зрим, Лепечет листьев умирающих напев. Одной тобой я уж давно томим, Дневную славу я, охотно бы презрев, К тебе летел бы окрыленный, И нынче неземной красой плененный Наверно, вспоминаю о тебе, А, в общем, о неверной нам судьбе. После часа бесплодных мучений Генрих перешел к работе над собственным сценарием фильма, в котором молодой Джонни Депп играл бы, столь рано от нас ушедшего Томми Болина, а Орландо Блуму предназначались роли сразу двух известных спортсменов: Семена Полтавского и Роже Федерера. В тот самый миг Джозеф Сэммлер выходил из метро на станции Перово, где-то неподалеку от Зеленого проспекта. Рядом находилось пересечение двух небольших улиц. Врата ада были окружены близко подступавшими угрюмыми домами кирпичной кладки. Как только голова Джозефа показалась над поверхностью земли, его окликнул голос человека явно невежественного и неприветливого. Он сторожил выход из метро и сидел на стуле, одетый в тренировочные штаны, сапоги и нелепый полушубок. Сторож: Кто тебя пустил в метро, и что ты делал там, ответь? Или придется отвечать за свой поступок по строгости закона всей. Признайся сам: замыслил преступленье, и план свой бережешь, - открыть тогда придется. Выпытаем его мы у тебя. Джозеф: Поверьте мне: ответить со всею откровенностью желаю. Я знать не знал о мерах предосторожности такой. Зовут меня Автолик, и по надобности я ехал подземным поездом. Сторож: Никто про самого себя не скажет: да в праздности шатался я по граду стольному, прости меня усердный сторож. Каждый приберег нужду на черный день. Что с тобой: да отчего ты грязен так, оборван и побит? Джозеф: Повстречался мне бродяга окаянный. Меня он обобрал и поколотил, так, что я чуть с жизнью не простился. Сторож: А имени его ты не припомнишь? Джозеф: Ну, как же! Отлично помню, передо мною он бахвалился своим коварством, назвался он Джозефом в тот раз. Сторож: Отлично, молодец, Автолик! Скоро мы поймаем мучителя, злодея. И воздадим ему за прегрешения его. (Странный человек с широким рюкзаком крадется у Джозефа за спиной, стараясь пройти незамеченным. Сторож обращается к нему.) Постой, куда же ты, не торопись! Вначале я тебя и не заметил. Что за чудеса, как тень бесшумно крался ты. Незнакомец: Все верно, я тень того за кем я крался. Сторож: Как так? Тебя случайно звать не Джозеф. А фамилья как? (Джозефу) Джозеф: По фамильи Сэммлер, припоминаю я. Сторож: Так вот, не ты ли Джозеф Сэммлер? Незнакомец: Если б так, я скорее был бы не тенью вашего собеседника, а его родственником! Сторож: Что за смысл ты от меня таишь? Вы вдвоем дурите меня, но, клянусь, меня вам не провести! Джозеф: Посудите сами, ведь тень и вправду родственником далеким мне придется. А общие корни у нас - солнце, что меня освещает и земля, по которой силуэтом бродит тень. Сторож: Ты мне по душе, ты ловкий малый, за словом ты в карман не лезешь, ответом я твоим удовлетворен. Незнакомец: Который час? - не откажите в любезности мне сообщить. Сторож: Сейчас взгляну; скоро пять пробьет. Ах, хитрец! Джозеф: Что произошло, бесстрашный привратник? Чем Вы так удивлены? Сторож: Не сбивай меня! Пусть пять пробьет, но секунды не прошло, как он пропал, момент удобный улучив. Вот человек: незаметно появился и также бесшумно пропал. Джозеф: Остались мы вдвоем. Так мы близки, и все же мы враги! Сторож: Скорее, наоборот, мы враги именно потому, что остались в одиночестве и кроме нас здесь никого. Ведь, когда толпою мы окружены, ненависти природной суждено обратиться на множество людей, и так безбурно переходит в безразличие вся злость. Джозеф: Но мы - сторонники различных сил: порядка и свободы. Сторож: И вправду, плохо государство то, что ставит волю человечества превыше закона! Джозеф: Плох закон, стремящийся свободу обуздать. Сторож: Желания иных людей преступны; свободы им давать нельзя. Джозеф: И разгулявшийся закон не менее опасен, чем пес кровавый, сбежавший от хозяина. Сторож: И кто ж его на цепь осмелится обратно посадить? Джозеф: Положим, я. Засим оставить нужно мне тебя. Мне пора, будь на чеку. В отличие от меня, вам есть чего бояться. Старуха с косой неподалеку бродит. Свинцовый сон ослабил свою хватку, и за несколько мгновений до того, как пробило пять, Тараканов очнулся лежащим на полу. Проснувшись неожиданно, он отлично помнил приснившийся ему сон, а потому решил его записать. Oreodytes (краткий рассказ, записанный Генрихом). Солнечная долина, не ведавшая огорчений и утрат до этого дня. Заливные луга, светлые леса хвойных пород. Альпийская местность, девственная чистота нетронутой природы. Опрятное поселение с деревянными домами и булыжными мостовыми. С маленькими продуктовыми магазинами и продавцами, которых всех знаешь с детства. Безвыездно гостит здесь тишина, на первый взгляд здесь никого не живет, лишь доносится откуда-то сверху детский смех. Мы замечаем компанию детей. Их трое, им около 13 лет. Смуглые, загоревшие под жаркими лучами горного солнца. Торопливое щебетание, веселое беспокойство, маленькие секреты благословенного возраста! Он замечает, что некто третий крутится около нее слишком долго. От этого ноет сердце, ком отчаяния моментально подкатывает к горлу. Взгляд задерживается на белых кружевных рукавах короткого летнего платья. Они колышутся, будто на ветру. Он взглядом умоляет ее прекратить, но она делает вид, что не понимает его и продолжает беззаботный разговор. "Может быть, сходим в сад?" – только бы не оставаться на одном месте. Робость не оставляет места ясности и правде, дым тайны застит глаза детям. Она прелестно хмурится в ответ на его недовольное молчание. Наконец, она отходит и раздраженно говорит, что заведет интрижку с другим. Он обижен, удивлен, оскорблен. Как же было прекрасно, когда они еще не осмеливались называть все своими словами! Первозданного порядка больше нет. Они разрушают его своими руками, будет что угодно, но прежней чистоты не вернуть. Как жаль, они не осознают еще своего счастья, потом они будут страдать и плакать, а теперь ни за что не уступят друг другу. В ответ, он хочет побольнее уколоть ее, тоже удивить, отомстить за то, что она первая совершила опасный шаг. В этом возрасте дети еще не умеют просить прощения, зато с легкостью ранят друг друга, даже не замечая того. " Мне то что, я уже давно "дружу" с Алленом", - отвечает он и уходит, покидая их изумленных. Дети директора местной школы вместе играют на пляже, но грозный убийца в железном панцире, спрятавшийся в кустах на другом берегу озера сверкает глазами и гипнотизирует их. Они бросают свои занятия и босиком идут туда, где их сожрет человек в железных доспехах. Скорее всего, они не последние. Директор школы организует какой-то праздник. Длинноволосый Аллен говорит ему на ухо, директор благодарит за совет, а Аллен замечает, что будет довольна и жена директора. Вместе они выходят из кабинета директора, о чем-то оживленно разговаривая, но перед этим директор поворачивает фотографию в рамке изображением вниз. На фотографии изображена она улыбающейся. А Джозеф выходит из подземного перехода и держится правой стороны улицы и идет вдоль пятиэтажного дома, крашенного в желтый цвет. Встречает ресторан с заколоченными дверьми и завядшими растениями в кадках. Эта улица пересекается очень на нее похожей и идущей относительно нее под прямым углом. Разбитая табличка из пластмассы любезно сообщает Джозефу о том, что ранее эта улица называлась 2-ой Владимирской. Реклама ковров соблазняет покупателей оголенным телом модели с подведенными глазами. Джозеф смотрит себе под ноги и поднимает мягкий белый ластик, специально для художников который. В недоумении он кладет его себе в карман. Придется принять чужие правила игры. Но перед принятием этого решения он был пронзен острейшим воспоминанием. Шестой и седьмой классы, его школы, где заставляли заучивать огромные латинские тексты. Злобный и надоедливый карлик Можжевелов домогается высокой, обаятельной Оли. Сам Джозеф был здесь как бы не при чем, он не умел глупо улыбаться и говорить другим из желания подольститься. Он был чересчур стеснителен и скован. Он боялся объяснений и опасался играть в открытую. Можжевелов с глупой улыбкой на перемене между подряд идущими уроками латинского таскал у Оли вещи: пенал или ручку. Джозефа это всегда бесило, и он сначала догонял Можжевелова, затем хорошенько его встряхивал и отбирал стащенную вещь. Тот особенно и не сопротивлялся, только смеялся, закатывал глаза и молил о пощаде дурным голосом. Сэммлер понимал: по дурацки, скорее всего, выглядит он. И именно он постепенно становился лишним в их междоусобных играх. У Ольги были прямые, светлорусые волосы и короткая прическа, в виде собранных сзади в пучок волос. Даже, когда она старалась выглядеть серьезной, вечная улыбка царила у нее на устах. Солнечное существо. Подробнее об этом вспомнить трудно, кто-то из предков у нее был нерусским. От них она унаследовала суженный разрез глаз и лучащуюся теплым южным солнцем кожу. Она иногда прищуривалась и часто шушукалась с подружками или смеялась. В школе она появлялась в джинсовой юбке цвета морской волны. Но развития этой пьесы он так и не дождался, а перешел в другую школу, где и был положен конец всем его сладким мечтаниям. В восьмом классе он уже учил, чем ферменты отличаются от обычных катализаторов, и рассматривал в бинокуляр огромных стрекоз из рода Кордулегастер. Только в одиннадцатом классе он осмелился позвонить своей бывшей однокласснице. Непостижимо, как он решился на этот поступок. Джозеф избегал встреч с прошлым, которое, как ему казалось, всегда глядит на него с укором. Одноклассницу звали Аня. Она пришла во второй класс латинской школы одновременно с ним. Это как-то их связывало на протяжении всех пяти лет. Он даже считал, что в некотором роде должен оказывать ей покровительство, оберегать ее. Она конечно была не столь броской, как ее подруга Ольга. Она заплетала волосы в длинную косу, носила очки и ходила в одежде неярких тонов. Но изредка он подмечал в ее походке необъяснимое изящество, величественность, царственную медлительность. Чудную черту, что засверкает, будто бриллиант, если осветить ее под нужным углом. Она могла так улыбнуться, что замирало сердце, что слова оставались в груди невысказанными, так, что ее просьбе уступил бы любой. Но она не оказала заметного влияния на его жизнь. Прошла рядом, но они разминулись. Но тогда Джозеф зачем-то ей позвонил и волновался при этом до дрожи в руках. В том разговоре он узнал: все в порядке, все, как всегда, и отчего он не пришел на последний звонок в их старую школу? Еще она сказала непонятную фразу, реплику, вырванную из контекста. Ей не нравилось, как себя ведет Можжевелов. Он стал какой-то не такой, неприятный. Не ясно, какой смысл таился за таинственными словами, а предполагать Джозеф не смел. Когда придут времена, и истина откроется. Только после окончания войны, да с нами в качестве живых. Думы, обращенные в прошлое, волнуют нам сердце неизъяснимым страданием. Они живительны неосязаемостью, события, которых уж нет, не отягчают душу, как прежде. Ветер прошлого не колышет волосы ныне. Вечерних сумерек неясный свет. Небо еще светло. Сэммлер заворачивает вправо, он выбирает путь, будто повинуясь внутреннему голосу, хотя нога его ступает здесь в первый раз. Прошлая жизнь или жизнь второго Джозефа, его прототипа, оригинала. Не хочется верить во вторичность себя. И почувствовать самому природу подобной многоликости, вероятно, непросто. Каждое окно закрыто изнутри плотным покровом штор, запылившихся со времен начала войны. Скорбные отражения черных ветвей деревьев и молоко жидкого неба между ними. Белые перекладины, составляющие рамы окон напоминают кресты, несущие тяжелый взгляд Джозефа. Конец улицы отсюда невиден, перспектива с той стороны вечно гложет бесконечность. Серые кирпичи, узенькие балконы, заботливо собранные в единую вязанку лыжи. Расколотые козырьки крыш. Понуро висят провода троллейбусной линии над асфальтовой, двусторонней начинкой районной артерии. Как бы хотелось затеряться в этих дворах, заблудиться в переулках, сгинуть навсегда, пропасть, раствориться, быть поглощенным родным городом, разделить свое сердце между всеми людьми, когда нас не будут пугать сны, в которых люди с наслаждением пьют нашу кровь, бьющую фонтаном из тысячи ран в нашем теле. Мученик не должен плакаться о своей судьбе, его доля мучаться за чужие проступки, его решение – подвиг, его судьба – слава. Вдоль автомобильной дороги посреди означенной улицы, с обеих сторон посажены деревья. Убийственная симметрия, зеркальность мира, застилающая взор своей неправдоподобностью. Но в чем цель его паломничества? – не ведает он и сам. Тысячи запертых квартир в пустующих домах, комнаты полные изолированного воздуха, стонущие привидения, пожираемые временем. Подоконники с засохшими цветами и скоморохами-пауками, раскачивающими свои батуты. "Это надо, надо думать, совершенно одинаковые, однообразные ряды окон, повторяющиеся на каждом этаже – с одного и до другого конца абсолютно прямой улицы. У перекрестка справа открывается точно такая же улица: та же пустынная мостовая, те же высокие серые фасады, те же запертые окна, те же безлюдные тротуары". И хотя еще достаточно светло, на углу уже зажжен уличный фонарь. Окружающие здания кажутся плоскими и бесцветными. Выцветшими от скуки, усталости и безразличия. Тусклый день жизни, состоящей из превратностей и подвохов. Единственный способ всего избежать – пасть, как можно ниже. Подровненный кустарник еще бодро топорщит остриженные ветви. Вздыхают подворотни и темные углы старых домов, если бы они могли рассказать нам, что творилось подле их мрачных стен! Уверенно Сэммлер переходит на противоположную сторону улицы. Через мостовую на стертый тротуар. Вывеска "Зоомагазин" заставляет Джозефа про себя усмехнуться. Он сворачивает в переулок. Там уже темнее, скудное освещение уличных фонарей не достает укромных глубин Города. Под вечер начинало холодать. Гаражи, разрушенные повстанцами, сожженные машины пока не убраны и служат мрачным укором былому безрассудству и удали. Джозеф меняет курс вправо. Прямо перед ним таинственное здание с разбитыми окнами и прозрачными занавесками, плещущими от ветра в рамах, оставшихся бес стекол. Ресторан с потушенным светом и громадный зал в глубине корпуса, с блестящим и ровным полом. Пугающий шелест полутьмы и предательский скрип дверей. Опустошение коснулось всего. Прекрасное погибает прежде всего остального, ибо оно хрупкое от природы и не создано для борьбы и выживания. Не нуждаетесь вы в красоте, так расстаньтесь с ним навсегда. Сэммлер сидит полчаса, не шевелясь, будто слился с этим местом, обратился в камень или покинул свою телесную оболочку. Неясные мысли тревожат его, но их нечеткое оформление оставляет планы по расшифровке на потом. Не оборачиваясь, он выходит из здания. Пока он предавался раздумьям в стенах странного дворца пошел снег. Осень надела подвенечное платье. "Однообразные хлопья, постоянной величины, равно удаленные друг от друга, сыплются с одинаковой скоростью, сохраняя меж собой тот же промежуток, то же расположение частиц, словно они составляют единую неподвижную систему, непрестанно, вертикально, медленно и мерно перемещающуюся сверху вниз". Добро пожаловать в лабиринт. Следы унылого скитальца медленно выстраиваются в одну цепочку. Толщина снежного покрова еще не столь велика, чтобы отпечатки подошв ботинок были также белого цвета. Ночь вступила в свои законные владения, день отдал ей ключи от города. Подул пронизывающий ветер, засвистел высоко в крышах, грохоча железными листами, раскачивая вывески рекламных щитов. Судорожно замигали фонари, источающие тусклый горячечный свет. Клубы снега, несшиеся по улице, с размаху шлепались Джозефу в лицо. Метель кружила хороводы с чертями. Не все тут было чисто, как пить дать. Заунывная песнь севера укрепит души страдальцев. Джозеф перебрался на другую сторону улицы и свернул в первый попавшийся переулок, чтобы спрятаться там от ветра. Он поднимает воротник повыше и затягивает ворот веревочками. Он пошел, не разбирая дороги, просто вперед, не интересуясь тем, что было вокруг. А там все стояли дома, ничем не отличающиеся от прежних. Своего собственного, непонятного цвета, со следами убежавших хозяев. Надо же, как зябко! Джозеф, поднеся руки ко рту, чтобы дыханием их отогреть, стал в дверной проем подъезда, неглубокую нишу, в которой можно было сохраниться от ветра. Глаза ощупывают пространство темноты, знакомятся с ночной наледью. В конце улицы затарахтел простуженный мотоцикл. Джозеф, запахнувши пальто, в ожесточении стал читать строки Шекспира, как заклинание или молитву: "Пусть небеса разверзнут хляби вод. Пусть хлынут волны нового потопа. Пускай умрет порядок. Пусть во всех Проснется Каин, и в потоках крови Окончится существованья фарс, И сумрак ночи похоронит мертвых." Мотоцикл ночным хищником подъезжал все ближе, облизывая конусом света фар продрогшие стены и ослепшие окна. Джозеф испугался, все это неспроста. Мотоцикл был с коляской, и в нем сидели люди, держащие в руках автоматы. Хмурые и недружелюбные лица, как бы хотелось отучить вас от вашего высокомерия! "Что я здесь делаю? Кажется, пытаюсь укрыться от ветра, ничего иного у меня и в мыслях не было. Не верите мне, отчего? Ваши лица заслуживают не большего доверия, чем мое. Начался комендантский час, нет, о таком слышу в первый раз. Били часы? Часы вроде бы били утром, что же комендантский час начался с самого утра? Какой, к чертовой матери, шут, на себя посмотри, гнусная челядь!" Джозеф моментально рванулся к двери, перепрыгивая через три ступеньки, помчался по темной лестнице вверх. Снизу доносились звуки выстрелов, мелькали ищущие крови лучи карманных фонариков. Шум нескольких пар ног все нарастал. На одной из лестничных площадок Джозеф ударил ногой по хлипкой оконной раме. Ночь ворвалась в затхлую атмосферу нежилого дома с ветром, наполненным блестящими снежинками, словно осколками стекла, рассекающими кожу лица. Он прыгнул в окно и приземлился на крышу то ли гаража, то ли старого сарая. Сила небесной скорости согнала его с крыши и швырнула в глубокий сугроб. Сэммлер выскочил оттуда, как ошпаренный и побежал в сторону других домов. Но напоследок ему все-таки досталось. Из окна последовал хлопок и вспышка света. Джозефу обожгло плечо, но он уже был далеко. Стало неожиданно тепло. Хотелось петь от радости, ловко он обманул этих бандитов! Провел их, будто первоклассников! Но только началом явится злосчастная встреча целой череды кровопролитных битв, и наш Джозеф, как многострадальный Иов, пройдет через все страдания до самого конца. Джозеф подходил к метро. Чувство эйфории постепенно сменялось надломленностью, пустотой, неуверенностью. Красная буква "М" плавала в глазах, как ей заблагорассудится. С той стороны, откуда он пришел, сновали щупальца прожекторов. Сейчас Сэммлер впервые заметил, что большинство уличных фонарей не горит. Только торопливо снуют щупальца прожекторов с угловых опорных пунктов на перекрестках, обложенных мешками с песком. Джозеф взял снега из огромного сугроба с человеческий рост и утер раскрасневшееся лицо. Сплюнул, его качало, будто он на море в ветреный день. "Пропусти меня, приятель, я спешу", - крикнул еще издалека Джозеф своему старому знакомому - сторожу. Но тот, видимо, превратно истолковал поведение Сэммлера и заслонил ему дорогу. Джозеф отбросил его в сторону. Начинающий нарушитель волочил за собой ногу, которую вывихнул или сломал во время приземления на крышу сарая. Скорее домой. Джозефу становилось все хуже, он слабел с каждой секундой: пуля, попавшая ему в плечо, разорвала мышцы и содрала кожу. Кровь текла медленным, но уверенным потоком, по консистенции она походила на сгущенное молоко. Рука уже не поднималась. Свитер, одетый под курткой весь почернел в области груди. Внизу рука была белой, как лист бумаги; выдавались вены синие, as провода с плесневелой обмоткой. Одежда прилипла к кровавой ране, которая будто всасывала одежду внутрь. Джозеф, раздвинув турникеты, упал в вестибюле метро, боль в ноге выжигала все чувства и соображения. Он полз вниз по лестнице и бранился про себя: " Встань же и продолжай идти, негодная тварь, порождение скотного двора, перемещайся на двух ногах сучий потрох, помои, грязь, позор, ничто. Не могу, боль подступает волнами и валит меня с ног. Ты достоин сожаления, человек-пустышка, ты уже возомнил о себе невесть что. Подымись и сядь в поезд, доберись до дома, не подыхай посреди улицы, как собака, побитая каменьями. Прояви волю, мешок пороков, незаконнорожденный ублюдок, которому поспешили дать имя человека. Мерзостная тварь, скопище отвратительных черт, совокупность всех мыслимых недостатков, существо промежуточного пола. Немощный старик, слюнтяй, зарвавшийся интриган, щенок, скандалист и плакса, первооткрыватель мысленных прегрешений, географический справочник всех отвратительнейших черт, из тех, что уже известны людям, паскудное чучело, насмешка над человечеством, шут гороховый, обжора, позер и негодяй, где твое чувство достоинства!" За Джозефом протягивался кровавый след на всем протяжении его пути. Кое-как он забрался в поезд и лег на коричневую кожаную лавку. Стук колес рождал ряд утомительно похожих мыслей, конец которого пропадал где-то в бесконечности. Шахтерские лампочки на угольных стенах тоннеля наспех рождали просвечивающих двойников и с ужасным воем пропадали. В преображеньях времени часы порой тянутся к мигу, а минуты стремятся к дням. Джозеф пробудился в широкой постели, закутанным в ворох простынь и белоснежных покрывал, перепачканных кровью. Рука перестала досаждать, теперь Джозеф стал похож на манекена-инвалида, с руками, накрепко приваренными к телу. На секунду ему привиделась женская фигура, сидящая к нему спиной. Девушка была одета в свободный свитер с высоким воротом. Широкие полосы серого цвета перемежались на нем с красными; волосы ее были перехвачены сзади заколкой в виде белого цветка. Юбка была синего цвета с нарочито выбеленными полосами, в тех местах, где ее ноги соприкасались с благословенными участками ткани. От неожиданности Сэммлер вздрогнул и с треском ударился головой в высокую деревянную спинку кровати. Липкий капюшон крови стал медленно расползаться по голове. Но видение оказалось всего лишь удачно расположившейся фотографией. Квартира, незнакомая Джозефу, была богато уставлена разнообразными украшениями старины, деревянной мебелью, картинами. Календарь, призванный упорядочить ход времени, наоборот, вносил сумятицу и упрямо твердил, что сегодня десятое декабря. Квартира, впрочем, еще недавно была обитаема. На столе непринужденно разлеглись крошки еды, и лужицы пролитого кофе пытались замаскироваться под торфяные болота. Как полицейские, так и повстанцы или дезертиры, бомжи или интервенты вполне могли избрать это место своей конспиративной квартирой. Здесь храниться оружие должно, волшебные артефакты, призванные наделять нас необычайной смелостью и самоуверенностью. В момент поиска и предположений зазвонил дверной звонок. Напевая "Too young to fall in love" Motley Crue, Джозеф Сэммлер подошел к двери и задал традиционный вопрос гостеприимных хозяев, да-да, вот так: "Кто там?" В ответ пуля чуть не лишила девственности его грудную клетку. Отскочив, Джозеф лишний раз удостоверился в собственной сохранности. В панике он побежал в комнату, которую еще не осматривал. Выстрелы продолжали решетить несчастную дверь, а сплющенные пульки весело звенели, отскакивая на пол от бетонной стены. Спешно Джозеф опрокинул шкаф, за ним обнаружилось неряшливое отверстие, пробитое в соседнюю квартиру. Быстро, как только позволяло ему его теперешнее состояние, он юркнул туда. Там было темно. Что же предпринять? Джозеф побежал налево, но по нарастающему шуму выстрелов он понял: перед ним дверь, ведущая в коридор между квартирами. Пятясь назад, он споткнулся и чуть не расшибся о некую массивную железную конструкцию. Ощупью Джозеф распознал в нем тяжелое огнестрельное оружие, испачканное в черном масле. Страшная мысль осенила его. Если попытаться освободить себя от ненавистных преследователей, это не будет расценено, как преступление. Однако такой подход устарел. Здесь царит иная правда, иные порядки, нормы и законы. Он попал в страну новых ценностей: страну насилия и самосуда. Тогда тем более, ничто не удерживает его от этого поступка. Это позволит сохранить самому себе жизнь, которая незачем не нужна тем снаружи. Пришло время сделать выбор между собственной жизнью и незапятнанной совестью, спокойным сном. Но, так или иначе, к выбору нас подталкивают силой. Либо они прикончат Джозефа, либо Джозеф сделает из них мясную похлебку. Угловая дверь в соседнюю квартиру угрожающе затрещала. За Джозефа приняла решение его судьба. Он стал искать рычажки или кнопочки на железном звере, изрыгающем огонь. Тот вдруг резко встал на дыбы, отбросил Джозефа в сторону. И словно адский гром сошел с небес на землю. Джозефу заложило уши. Он закрыл глаза и заткнул уши в ужасе от происходящего. В доме будто начался ураган. В воздухе стоял запах гари и крови. Громыхание прекратилось и сменилось мертвенной тишиной. На заплетающихся ногах Джозеф Сэммлер подошел к двери. Мягкой рукой он толкнул на еле висящую дверь. Со скрипом она упала на пол. Увиденное заставило Джозефа содрогнуться. Излишне описывать, что может сделать станковый пулемет с толпой в ограниченном пространстве. Безумие овладело Джозефом, он выбежал из дома. Свет снежного утра ослепил его. В белой порванной рубашке он упал на землю застывших слез. В глазах стояла светло-зеленая стена коридора вся в грязных брызгах. К рукам мальчика пристало машинное масло, которым был смазан пулемет. Джозеф судорожно вздохнул, от пережитого он не ощущал холода. Он встал и пошел к себе домой, как будто происшедшего и не было в реальности. "Стоп, а почему я не выпрыгнул в окно?" – спохватился Джозеф. "Ах да, квартира была чересчур высоко, чтобы оттуда можно было без последствий выпрыгивать", - ответил сам себе новоявленный убийца. Он подходил к знакомому подъезду, поднялся по лестнице, вломился в квартиру. Выглянул в окно полюбоваться белоснежным пейзажем, посаженным в плен ровным строем многоэтажных домов. Блеск слева привлек его внимание. Кто-то сидел с винтовкой на соседнем балконе и выдал себя стеклянным прицелом. Моментально Сэммлер стряхнул с себя оцепенение. По-звериному нагнулся и побежал на выход. "Это соседний подъезд, на три этажа выше. Взять нож", - машинально пронеслось в голове Мартина Фьерро. Он бегом преодолел расстояние, разделявшее его и снайпера наверху. Зашел в коридор второго этажа. Открыл шкафчик с проводами и резким ударом разорвал их всех. Темнота застилает нам взор и толкает нас на безумства. Ногой Мартин вышибает дверь и уверенным шагом заходит внутрь. В комнатах светлее, но видно все равно не очень отчетливо. Снайпер располагался на балконе. Мартин ринулся в комнату справа. Там нет никого движения, в чем дело, чрезмерная пустота, аж холодком веет внутри? Мартина ударили прикладом винтовки в лицо! Он как бы с удивлением втягивает воздух и падает спиной вниз. Дуло винтовки жгучим колечком приложено к его лбу. Убийца ждет, когда Мартин придет в себя и откроет глаза. Но тот все знает и еще крепче сжимает в руке нож. Рукой сбив со лба дуло, Мартин полоснул ножом того по ноге и вскочил на ноги. Изголодавшийся нож с охоткой вошел в теплое тело упавшего снайпера. "Однако, одним выстрелом мы убьем двух зайцев ", подумал Мартин, ставший вновь Джозефом Сэммлером, взял винтовку и трубку радиотелефона. "Здравствуйте, это милиция? Немедленно приезжайте в квартиру номер 154, в 35-ом доме на Пятницком шоссе. Поторопитесь, в драке серьезно пострадал мой друг, Джозеф Сэммлер". Джозеф запоминает номер телефонного аппарата и кладет трубку на подоконник. С винтовкой наперевес Сэммлер помчался в детский сад напротив. Там, на третьем этаже он устроился возле окна, уперевшись ногой в ребристую батарею центрального отопления. Открыл окно и через прицел отыскал окно квартиры, откуда вызывал милицию. Джозеф затаился и стал ждать. Минут через десять в окнах загорелся свет. Хитроумный Джозеф за провод подтаскивает телефонный аппарат, стоящий неподалеку и набирает номер самой квартиры-ловушки. Все происходит без звукового сопровождения, но у окна тут же появляется человек. - Милиция, мы Вас слушаем. Але, кто это? - Тот, кто вас позвал сюда. - Зачем звонить нам понапрасну, и так немного времени. - Почему понапрасну? – смутился Джозеф. - Никакого тела нет! - Нет? Но как же… - Постойте, а где Вы сами сейчас? Джозеф приходит в себя, вспоминая о цели своего визита в детский сад. - Посмотрите в окно повнимательнее. – Ну и чудак, он не только не отбежал от окна, но и позвал своих коллег вдобавок! Джозеф смотрит на общество глупых сатиров в прицел винтовки. На ком из них остановить пересечение зазубренных прямых, пересекающихся под прямым углом. Сэммлер крутит фокусировку, разгоняя набегающий туман. Кровь стучит в ушах, будто играя на тамтамах. Люди, захваченные прицелом, отчаянно дрожат. Джозеф метит самому толстому из них в плечо, но боясь промаха берет немножечко глубже. Мало ли, двухслойные окна могут все исказить, и рыба сорвется с крючка. Решено, вот моя месть. Пространновластным, тучелюбивым громовержцем поражает Джозеф немощных солдат врага. Раскаленный свинец выпрыгивает драконом из душного сопла на морозный воздух и летит над игрушечным домиком-беседкой на территории детского сада, над колоннодержавнымм навесом от дождя, над проволочным забором, ограждающем детей от злонесущих посягательств порченных внутри людей. Близ веток сторукого древа, спящего в забытьи. Над горками на детской площадке, с мостиками, килепротяжными крышами, галереями и верандами. Над лавкой, что варварами превращена в груду хлама. А рядом страдает от неизъяснимой тоски мусорное ведро. Но смертоносный снаряд продолжает свой путь и глядит в глаза своей жертве, уже мысленно выпивая из нее все соки. Не успеет человек и моргнуть, а несущий боль, грызущий плоть, дарящий вдовство и сиротство, вызывающий поток слез и крови, решающий большинство проблем слиток, призванный служить людской вражде, уже у окна квартирыловушки. Висит, ожидая приказаний, в нетерпении гложет кончиком жала гладь прозрачного камня. Он упирается сильнее. Трещины разбегаются по стеклу, как по треснувшему льду, как сеть молний, вспарывающих сытое брюхо дождевых туч. Статуя злой воли скульптора проскальзывает дальше и срывает одежду, кожу, подкожный слой жира, сухожилия и связки, лопает сосуды, разбрызгивая кровь, с искрами чиркает о кость и утомленная утыкается рылом в деревянный шкаф. Полисмен с криком валится на ковер. Это засада, похоже, до них начинает доходить, но поздно, никакие меры не спасут вашего здоровья и надолго введут вас из строя. Потому что Джозеф наготове и разит без промаха его винтовка. Один, другой третий, подходите, кто следующий. Пули летят, обгоняя друг друга, отвешивают на лету друг другу поклоны и справляются о здоровье близких. Еще щелчок, но выстрела не раздается, жаль, патроны закончились, а эта красавица питается особенными. Как ее только назвать: Джен Эйр или Джин-Луиза Финч? Очередной повержен. Сперва не понимая в чем дело, Джозеф ищет подтверждения в прицеле и вправду: лежащих прибавилось. Но как это могло получиться? Выстрел же был холостой, глушителя здесь, по идее, нет. Значит, одна из пуль заплутала и пришла с опозданием либо долго рикошетила, прежде чем отыскала хозяина. Пора уходить. Винтовку в руки, и быстроногого людоборца Джозефа и след простыл. В последующие дни развернулось активное противостояние между набиравшим силу Джозефом и гильдией поработителей-палачей. Власть безграничную они приобрели, обязуясь поддерживать порядок, охранять покинутое в спешке горожанами имущество. Вопреки своим обещаниям и долгу службы, их сословие начало промышлять грабежом, торговлей, воровством. Они не знали удержу в бесстыдстве и с охотой чинили неправедный суд. Столь бедственное положение дел, а также вздорный, непримиримый, свободолюбивый характер Джозефа толкали его на противоборство внутренним захватчикам. Отсутствие усердия со стороны блюстителей закона и породило неэффективную систему поддержки порядка. Они заклеивали пустующие квартиры полосатыми желто-черными ленточками, чья целостность и должна была гарантировать сохранность чужого имущества. Имелось множество обходных путей: можно было пролезать под ленточкой, в окно, через балкон, взламывая тонкие межквартирные перегородки в труднодоступных областях прохождения водопроводных труб; никаких следов проникновения также не оставалось, если вначале отклеивать ленточку, а после ухода возвращать ее с помощью клея в прежнее состояние. Имело место принятие контрмер, когда сила врага превращалась в его слабость и уязвимые места. Логичным было бы предположение, что полисмены, патрулировали предназначенные им районы. Особенно заостряя внимание на квартирах, которые были обворованы. Но, не имея другого признака, кроме поврежденных лент, они пользовались исключительно им. Поэтому Джозефу большое удовольствие доставляло вызывать в их стане ложную тревогу разрезанием ленточек сохранности, эффект наблюдался, подобный соринке, брошенной в муравейник. Несомненно, аналогичные действия пугали их, заставляли настораживаться. Одним словом, он подрядился им всячески вредить и досаждать, отвлекая их на посторонние дела. Дабы путать их, направлять их в ложном направлении, богоподобный Сэммлерид ближе к вечеру зажигал свет в разных квартирах, и никогда в той, где ночевал. Их, как суетных ночных насекомых, страшно возбуждало наличие света, и они все стекались к этим местам и пытались организовывать засады. От горьких уроков они постепенно теряли интерес к преследованиям и убеждались в том, что никого на самом деле и не существует, а действует здесь нечто вроде локального полтергейста, злых духов. Неустрашимый Сэммлер приготавливал им и иные сюрпризы, уже более ощутимого толка: прозрачная леска, протянутая поперек лестниц в наименее освещенных участках, ступени, до блеска смазанные машинным маслом, срывающиеся маятники кирпичи, начинающий свой разбег после открытия дверей. Были и самопальные установки, устройство которых проще обозначить, как пистолеты, подобранные в тюках Джозефом, стреляющие в первого, входящего в квартиру, с перерезанной ленточкой либо включенным светом, после того, как он наступит на одну из ключевых половиц. Этические вопросы в этих ситуациях и идентичных им не очень волновали хитрейшего из смертных, главным для комбинатора было то, что не он являлся непосредственным исполнителем казней, созерцание которых видеть ему не очень хотелось, из-за их эмоциональной перегруженности. Джозеф Сэммлер играл с презренными доспехоносцами, как кошка с мышкой, водил их за нос, насмехался над ними и оставлял их в дураках. Повседневная жизнь Джозефа, одновременно с его набирающей обороты подпольной деятельностью стала тоже более разнообразной и насыщенной. Он смирился с наступающей действительностью, нашел в ней свою нишу, сумел подстроиться и не утратить оригинальности поведения и образа жизни (уж с этим-то трудно не согласиться). Он осмелел и почувствовал себя королем жизни, стал творить, что вздумается. Некоторые неудобства все же доставляли необходимость носить перчатки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, и прикрывать лицо от бдительного ока шпионов-телекамер. Оружие в глазах Джозефа уже давно стало инструментов повседневных нужд. С помощью огнеблещущих револьверов Сэммлер вскрывал любые замки и крепчайшие запоры магазинов. Он делал проходы для отступления в стенах из одной квартиры в другую. Тяжело ему жилось без шампуня и крема для рук. Кожа на руках трескалась и иссушалась от ветра и холода, а потом лопалась. Волосы лезли в глаза, чесались, мешали думать. Самое удивительное: этих роковых товаров не было не в одном из покинутых магазинов. Предусмотрительные беженцы, покидавшие город, брали с собой именно шампунь и крем для рук. Чувствовали неладное, видно! Проблемы вооруженного противостояния между богоравным Ахавом и трусливыми палачами и мстителями, не мало однако не отвлекали его от забот о собственном теле. Он обильно питался, щеголял разнообразием угощений, пестрота обеденного стола, полного яств, могла поразить человека самого опытного и прожившего немало лет вдали от милой Родины. Лучшие сорта вин и нежнейшие части разнообразных животных с гордостью водружались на мощный дубовый стол. Подобные наклонности и особенности поведения показались бы странными человеку, далекому от дела битв и сеющих горе сражений. Сходное с позицией Джозефа замечание сведущий муж нашел бы на страницах бессмертного труда греческого поэта: " Кто бы смог из мужей, не поевши, сражаться с врагами Целый день напролет, пока не закатится солнце? Если бы даже он духом упорно стремился сражаться, Все ж незаметно все члены его тягчит и захватит Жажда и голод, и станут, лишь двинется, слабы колени. Те же, кто силы свои укрепил вином, и едою, День со врагами сражаться готов непрерывно." Консервных банок ровный строй теснился грудой и взор смущаться заставлял. Терпели убытки гастрономы, прежде высокочтимые, а ныне ветры гуляли в пределах их. Полноправным хозяином стал себя мнить Джозеф пространнодержавный. В открытую он насмехался над силами врага, во много раз превосходившими его по мощи своей. Наслаждениям иного рода предавался узурпатор охотно. Пользовался он отлучкой хозяев державных GYM-центра, что гордо стоял района посреди. Сверкая окон широких радостным светом. В будке привратника, поднимавшего шлагбаум полосатый, никто не сидел, морозом устрашенный, ушел он домой или вовсе покинул престольный град, в руки врага отдав богатства свои. Не встретив на пути препятствий, доблестный воин следовал дальше. Не ведал он, чего встретить придется ему в достославных пределах дворца. Двери, прежде не пожелавшие отвориться перед гостем незваным, после сами за ним затворились, ведомые мощной пружиной. Пол чистотой блестел. Тело теплом согревалось приятно, дух возрадовался видениям славным изрядно. Никто не приветствовал знатного гостя внутри. Вешал одежды свои, богатством отличные, на вешалки с удобством для целей сих приспособленные. По мере продвиженья вглубь дворца оранжевый свет преобладать начинал над освещеньем обычным. Воздух жарок и влажен был. Шум воды доносился издали, фонтаны пеной клубились из пастей сказочных чудовищ и рыб, невиданных доселе. Вокруг зимний сад зеленью густой осенял просторы дворца. В кадках пальмы цвели, и гигантских хвощей да лапчатых папоротников вид заставлял содрогаться, воображая тварей дичайших в глубине листвы непролазной. Шествовал славный муж, не привыкший к южным красотам, далее. Жемчужное сияние бассейнов широких манило его плеском неспешным своим и сулимой прохладой. Белоснежный хитон не замедлил с плеч его плавно к ногам пасть, дабы телу свободу дать. Водная стихия приветливо объяла тело властителя земного, обещав дум сумрачных строй развеять вскоре. Плескался он ободренный, как дитя, в воду с головой окунаясь и проплывая так от берега одного до другого. Белый цвет кафельных плиток с зеленым оттенком и прочность сияющих лестниц вселяли благодушие довольства и расслабляли члены посредством текучей стихии. Утомившись, на берег он выходил, найдя готовой к прибытию его раскладную кровать и столик с напитками в бокалах хрустальных, иных угощений прелесть успел он познать. В холодильных шкафах, холод хранивших успешно, дожидались фрукты из-за дальних морей. Старательно заготовлено все это было, но кинуто в спешке ужасной. И думал Джозеф, сладостной негой объятый, раньше не знал я таких наслаждений, мне недоступны были они, другие вкушали пленительный богатства нектар. Но спрошу я себя: " Не досталось ли мне удовольствие это по случайности, не предназначалось ли оно другим? Согласился бы я расстаться со всем этим тотчас? А после и не бороться за эти блага, доставшиеся мне по случайности, улыбчивой фортуны?" Пустота открытого финала сквозила в мыслях богоравного Джозефа: каково ему будет расстаться со всей своей властью, и привилегиями, даруемыми ей, после возвращения людей? Лучше было бы вовсе не знать волнующий привкус богатства и власти, чем расставаться с ним однажды и предвкушать расставание неизбежное постоянно, негодовать и пугаться, не желая крушения мечты прекрасной. Произошло в один из долгих и наскучивших дней на первый взгляд безобидное происшествие, имевшее серьезные последствия. Одежда Джозефа, оставленная на широких вешалках, соскользнула на пол и полностью промокла в воде, которая выплескивалась из бассейна и натекала вдоль плитчатого ската из душевых. С огорчением воспринял он досадное известье, ибо дни стояли ужасающе холодные, вопреки бесплодно яркому солнцу, застывшему в небе. Немало помещений исходил Джозеф Сэммлер прежде, чем отыскал и подобие одежды. В дикарском наряде он отправился домой и с тех пор расхаживал в нем повсюду. От дома до спортивного центра минут семь быстрого шага. Зимние дни гораздо светлее осенних, благодаря отражающему свет снежному покрову. Стыдясь показать кому-нибудь из нечаянно явившихся людей на глаза, отправился Джозеф домой достаточно поздно. Вышел из черного хода, оставив желтое здание районной школы по левую руку, шествовал вблизи овала школьного стадиона. Далее путь его лежал между двух домов шоколадного цвета, около детской площадки. Огибая свой дом, дабы подойти к нему со стороны подъездов, обращенной на шоссе. Скандальная внешность молодого повесы не могла бы не вызвать изумления у почтенных граждан, если бы они находились в данное время в престольном граде. А так: беспокоиться ему было не о чем, ведь толстый купальный халат, легкие шортики леопардовой расцветки, шлепанцы, подобные римским калигам, с шерстяными носками и, в довершение картины, женская шубка, как у сутенера, отлично на нем сидели и отгоняли проголодавшихся демонов льда, уже было разинувших свои прозрачные пасти, предвкушавшие богатое блюдо из дымящегося свежего мясца, недавно еще бывшего живым. За время длительного отсутствия людей Джозеф перестал стесняться своего поведения, своего облика и шокирующего наряда, так как ничто так не отрезвляет людей, как звук человеческого голоса. В злополучный день Джозеф Сэммлер беспечный, словно дитя, катил впереди себя тележку, позаимствованную в одном из универсамов, доверху нагруженную продуктами. С целью пополнения запасов продовольствия он покинул пределы третьего микрорайона и перешел Митинскую улицу, тогда же возвращался в родные пенаты. И толкал тележку впереди себя. Представитель закона, юноша горячий, поджидал его возле одного из домов, намереваясь в плен взять многомощного Мартина Фьерро. Встреча сия ничего доброго для чрезмерно уверенного в силах своих солдата не обещала. Но в дерзости равных себе он не знал. Потрясая оружием грозным, появился он вдруг перед Джозефом, начав свою речь с таких слов: " Кого я вижу пред собою? Кто выглядит шутом, нарядившись женой, нарушив тем самым законы природы и естества?" С трудом гнев усмиряя, Мартин грозный мужеубийца так отвечал: - Тому сойдет любой костюм, кто боле всех невыразителен фигурою. Я мимо ушей такое оскорбленье пропустить могу, поступок мерзкий последствий иметь для вас не будет. Сейчас же я расстаться предлагаю. Серопогонный гаер униматься ж не желал и продолжал: - Руки вверх, и медленно выбрасывай содержимое тележки на землю. - Одновременно сочетать два названых процесса мудрено. И выберу я третий. – Мартин выхватывает из-за продуктов огнедышащего убийцу, не глядя, наугад палит в солдата. Смертоносные керы довольствуются лишь тем, что отрывают мальчишке кисть руки, державшей пистолет. На разделительную полосу дороги льется багряная кровь. Опустевшие кварталы оглашает дикий неуемный крик боли и страха. Выдержки пример явить не желал милиционер и дал стрекача. Спотыкаясь, самоуверенный охранник пропадает между домами. С тяжелой думой облокотился Джозеф на ручки доверху наполненной тележки. "И сейчас, как видно, не свободен я. И всяческий пленить меня желает. Никому не нужен вольный человек, пусть даже верхом порядочности бы он являлся. Долгожданная свобода, ты сон, приснившийся когда-то каждому из нас! Иначе, как тебя представить? В виде статуй, символизирующих власть или богатство, да есть ли разница, отличающая грехи между собою. Могу себе представить свободу одиночеством без ограничений пространства, но всем я теперь обладаю, а воли не чувствую сердцем, что-то по-прежнему гнетет! Покой ли это, понимание людей, борьба до конца без посторонних мыслей о жизни иной вне сражений и битвы? Проще сказать по-другому: неволя человеку не сродни, смерть милее и то. Не мыслю сдавшимся себя, как не привык я до сих пор к убийствам гнусным. Убийства – также несвобода для меня. Стать бы невидимкой и незримым бродить меж людей, подобно бессмертным богам и аргоубийце Гермесу. Не терплю я чужих указаний, что выдержаны в тоне надменном. Нет никого, кто бы выше счел бы себя, чем я, и в открытую стал бы об этом повествовать. С одной стороны мы, конечно, пленены обстоятельствами нашей жизни; метафорическими узниками являемся мы, когда творящиеся события, происходят вопреки нашим желаниям. Иной раз и по воле людей происходить это может, например, когда любимый нами человек, от нас взор отворачивает. И силою здесь поступать не годится. Законы общества стоят на страже, мы и сами убеждены в их правоте, что корнями имеет культуру, вскормившую нас. И остается нам в горе милое сердце баюкать, слезами упиваться и страдать, печалясь, о судьбе, прошедшей мимо нас, шагнувшей вбок". Джозеф пошел в сторону дома. Остановившись, отыскал среди прочих продуктов, пакетик с соком, пробил отверстие в стенке заостренным концом трубочки и с шумом втянул в себя божественный нектар, с медом по вкусу схожий. Развеивались тяжелые думы, как проясняется небо, расчищаемое резким ветром. Темнеть начинало, амвросийная ночь возвещала тем самым о близящемся приходе. Отчетливо прорисовывались сугробы снега, мягкой подушкой закрывшие пейзаж, чтобы меньше насильственных смертей происходило, убийствам ограничить счет. Джозеф заученным движением набирает номер квартиры, значок ключа и четырехзначный код. Дома он достал просроченный творожок с привкусом вишни, оторвал закрывавшую пластмассовую коробочку крышку из разрисованной фольги и упорно стал поглощать ароматную смесь. Со дна изредка поднимались пузырьки, Джозеф отвел глаза. Когда доел, бросил коробочку в мусорное ведро, а грязную ложку в раковину. Чайная ложка гулко запрыгала по синей сетке для раковины. Резкая боль почувствовалась в районе правой лопатки. "Очень надо было связываться с этим дурачком-полицейским!" – сморщился Джозеф. Боль представлялась ему отростком, острым шипом, выросшим на лопатке и ожесточенно скребущим ребра. Помочь мог меновазин – испытанное лекарство при мышечных воспалениях. Холодильник был пуст, последний пузырек стоял опорожненными. Придется идти в аптеку. Обреченно он стал натягивать ботинки. Опять на мороз! Было около четырех. Небеса мягко струили красный свет завершающегося дня. Неподвижной громадой возвышался дом. Джозеф обогнул его и пошел через район в сторону аптеки. Аптека была в углублении промеж домов, подобном тому, в котором располагался магазин детских вещей. Там, где он отстрелил кисть зазнавшемуся щенку. Но аптека располагалась дальше от пересечения Митинской улицы с Пятницким шоссе. К упомянутой улице, не спеша, подходил многохитрый Ахав. Не намеревался встречать сопротивленья он сейчас, второй раз на дню, получилось бы, он атакован был. Справа он подошел к палатам, там надлежало целебное зелье найти и излечиться им. Но напрасно он планы строил задолго, прежде чем аптеку увидел. Злодеи, власть свою насадить повсюду желавшие, заградили ее, и доблестных воинов на страже оставили. Те подпустить богоравного Джозефа никак не хотели, но и смущены были изрядно, что препятствуют благому и безобидному делу. Занятие Асклепия всем важно и полезно, помощи достоин страдающий каждый, подобен гостю он молящему о крове. Пошли против чести солдаты, против заветов бессмертных богов дерзнули мысли свои направить. На просьбы не скупившемуся Джозефу они ничего не отвечали, а упрямо говорили нет. Совесть в себе заговорить пытались следующими лживыми словами: "Служить приказу мы обязаны, святой то долг наш. Достоинства расчет идет нам по-иному, словам многомудрого начальства мы следуем во всем". Сокрушенно в ответ на такие слова Джозеф качал головой. "Очевидный изъян в ваших речах есть. Но вы правды понять не желаете. Упорствуете, страхом ведомы, трусость прикрываете верностью стране. Но полно, я не поэт, чтобы в словах наслаждение черпать, я воин ныне, и предваряю ими поступков неизбежный ход. Терпите за гордые слова расплату!" Чрез многих лет слой неподъемный Великого Фьерро призрак воскрешен на поле боя. Крылатые слова Эгидодержавной Афины его ото сна пробудили:" Ребячьими жить пустяками//Время прошло для тебя, не таков уже ныне твой возраст". Неравный бой предстоял преобразившемуся Джозефу, но не впервой для Мартина то было. Творить расправу он привык. Младых, с не пробившимися усами, воинов стояло трое. Богиня-воительница осенила Мартина чудодейственным мановеньем, увеличив рост его мощь, придав ему царственный облик. От страха готовы были самострельное оружье побросать защитники аптеки, но оставались. Мартин тогда ударом тяжелой руки на землю поверг одного, схватив за ружье, чрез плечо перекинул второго, третьего печальней участь ожидала: в прекрасное лицо ударил Мартин рукоятью оружия. От боли дикой воин обезумел, как зверь живой наполовину, а оттого храбрей еще и бросился на обидчика. Сбил Мартина Фьерро с ног он и ножичек вынул, что на ножнах возле меча держал. Жилы и вены он ему кромсать собирался. В печень по рукоять он намерен был вонзить кровожадного друга, но Афина судьбы веленье исполнить желала, да и мил был ей герой ненаглядный. Руку в сторону она отвела. Мартин невредимым на ноги вскочил. В мягкие кудри противника он крепкую хваткой вцепился. С размаху стража челом он ударил о землю, ярость клокотала в сердце Мартина, что не погиб он чуть, напрасно: судьба иная написана была ему. Сильными ногами топтал он стража, позабыв о цели своего прихода. Тогда скоро с небес Аргоубийца могучий, особо Джозефом чтимый, и явился перед героем в том облике, который только на Олимпе пред бессмертными являет. Поражен был, смелостью от смертных всех отличный, Мартин, и избиенье прекратил он, могучею волей бога смиренный. "Лаэртид, не трать понапрасну ценного времени, важнее занятия тебя ожидают, чем поверженному в гневе новые страдания готовить. Торопись!" – молвил бог окрыленный и исчез, волшебною скрытый силою. Отшатнулся Джозеф от своих ужасных деяний и выбежал прочь из дома Асклепия. Джозеф неспешно шел по заснеженному гравию площадки около аптеки. Нечетко он алел сквозь снежную препону, почти совсем скрытый от глаз. Джозеф сел на лавку, в кармане он держал стеклянный пузырек с лекарством. Неведомая сила заставила встать его, Джозеф Сэммлер подчинился и пошел по Митинской улице. Если смотреть сверху на третий микрорайон, то против часовой стрелки. К площади, которая раньше вмещала рынок, затем вымещенный "Макдональдсом" и многоэтажным торговым центром из пластика и зеркальных стекол. На противоположной стороне улицы, подходя непосредственно к проезжей части, стоял забор из отвратительных бетонных плит. За ним когда-то безуспешно продвигалась вперед стройка метро или засекреченных бункеров для правительства с подземным лазом для отступления. Потом территория сдавалась внаем автостоянкам, палаточному хороводу рынков. Грязные дела творились у нас под носом, но сейчас ничейная земля пустовала, давала свободу для творчества. Конец трудного дня. Устало прищурилось небо, наблюдая за поступками неуживчивых людей. Клубы снежного мусора крутились в воздухе, изредка изъявляя желание все-таки достигнуть долгожданного приюта на земной тверди. Вдали показались две фигурки. "Ну, не дай бог, это опять по мою душу!" – озлобленно взглянул на приближающихся близнецов Джозеф. "Доколе мы терпеть притеснения на родных просторах еще будем. Как хочется молча прогуляться, не боясь опасности, которая нагрянуть может из-за угла. Утомляет непрестанная суета борьбы и столкновений". - Известны мне ваши стремления, мыслей ваших очевиден мне ход, стойте здесь и не идите ближе, иначе в обитель Аида сойдете немедленно вы, подобно множеству прочих, уже усмиренных мною! – останавливает Мартин воинов противника, предостерегающе подняв руку. - Кто ты, о, дерзкий, что смеешь нам грозить? Немедля, прекрати сопротивленье и сдайся нам, повинуйся посланникам власти мощной, данной от бога. Закон на нашей стороне, смирись и не ропщи. - Речам убогим не давайте ход, позор вы, а не представители закона. Не смутить меня обильем властных слов. Играйте так с детьми, рожденными вашими женами и с малыми братьями, но не со мной, многосильным людоборцем Мартином Фьерро! Вы – чуждые нашему краю и вы – захватчики; неизбывная вина запихнет вашу сволочь обратно в смрадные норы, полные нечистот, что предназначены для пребыванья вам. - Как понимать прикажете Вас, Мартин Фьерро, бой мы завяжем с Вами кровавый! – надменно возгласили противника воины. - Избиенье кровавое будет, а не бой, я в прах вас обращу, как сраженье начнется. Готовьтесь, ждать я не хочу, придут следующие за вами патрули, но ко времени тому хочу я быть уверен, что драться буду лишь с ними, но не с вами уже. Начнем без лишних слов! - Да будет так. Пули первому воротник отрывают за менторский тон и желание поучать, за друга сломанным по ошибке носом, вездесущее довлеющее в их рядах безделье, полнейшее отсутствие человечности. Его двойник уж был поблизости, вокруг него обежал богоравный Мартин и несильно в грудь толкнул его. Подломились ноги в коленях, уперевшись в ограду, что газон стерегла. В глубокий сугроб рухнул воин, в снегу стал топить его Мартин, мощными держа руками. Минуты не прошло, как ослабли биения теплого тела в руках грозного мужеубийцы Мартина Фьерро. Но не окончились испытания для хитрейшего из мужей. Танец Ареса обещал ему множество страданий и сомнений, пляски Кер способны измотать любого из смертных. Шел к благородному Мартину громадный воин, ростом отличный. Был он могуч, словно бурый медведь, неимоверная сила заключалась в его руках необоримых. Казалось то не человек, а дух или один из древних сторуких великанов или гигант, покинувший мрачные глубины Тартара. Устрашать он Джозефа стал. Множество черных слов произнес он. - Ты и представить не можешь, во что ввязался невольно. В пределах наших владений не показывайся отныне. Рискуешь распроститься с жизнью, а если не устрашит тебя и это, сообщу: мы знаем о тебе едва ли не больше тебя самого. Смирись, оставь оружие и сдайся в плен! Семья твоя не так храбра, как ты, а мы жалеть ни дев, ни жен, ни братьев младших не станем. Тебе по всякому мы будем мстить. Мы знаем дев волооких, черноволосых, полногрудых с медвяносладкими устами, что в сердце твоем обитают и давно приглянулись тебе. Пострадают и они за строптивость твою! Возмутился глубоко в сердце своем достойный из достойнейших Мартин Фьерро, боли он не боялся, но последние слова возбудили недремлющий страх. Так ответил он, гневаясь очень: - Что за слова у тебя за ограду зубов излетели? Вино ли тебе помутило рассудок? Всегда ли ум такой у тебя, что на ветер слова ты бросаешь? Гордишься победами никчемными над узниками слабыми, над старцами почтенными, над женами белолокотными, над сословием мудрецов, великих духом? Как бы сюда, кто другой, посильнее, чем ты, не явился! Он бы могучей рукою, избив тебя справа и слева, швырнул бы на землю всего обагренного кровью! Окрыленным словам моим внемли: припомнишь вскоре момент сей злосчастный и проклянешь себя за строптивость и самохвальство безумное. Как сейчас, невредимым стоять я останусь, ты же поверженным будешь, умолять о пощаде примешься, сандалий подошвы лизать, и тщетно: уши и нос я тебе беспощадною медью обрежу, вырву срам и сырым отдам на съеденье собакам! Тотчас схлестнулись в битве они. Сносил безропотно все Ира удары многостойкий Фьерро. Иром гиганта звали. Три раза пропустил Мартин Фьерро удары. Плечи его горели огнем, ребра колола страшная боль. Но выждал он. Мартин по шее ударил под ухом и кости все внутри раздробил. Багровая кровь полилась изо рта. Пенилась кровь ужасно и крошевом костей обильно сдобрена была. Рухнул в снег ужасный гигант и звука не издал. Джозеф стоял над бездыханным телом, вспоминая недавно виденные боксерские поединки: в первом гордость Пуэрто-Рико Мигель Котто после серии нокдаунов в тяжелейший нокаут отправлял английского забияку Рикки Хаттона, в следующем Феликс Тринидад демонстрировал всему миру неоспоримое преимущество над самозванцем Джерменом Тейлором, в последнем справедливость на ринге восстанавливал тяжеловес Джеймс Тони, беспощадно избивая, роняя на пол, выбивая капу изо рта, опережая во всех компонентах боя высокорослого дурня Антонио Тарвера. Опомнившись, Джозеф скорбел над изуродованным телом Ира. "Во мне все переменяется. Я обретаю все большую силу, растет и число испытаний, искушений ее применить. Выбора не остается, приходится отвечать, не стану я бегать ни от кого, и не буду закабален. С продвижением моим по этому пути, все больше проблем требуют решений убийством. Меня буквально затягивает в эту воронку. Но пока я справляюсь, а конец не скоро". И во время полезных размышлений Лаэртида священная сила столкнулась с целым отрядом противника рослых воинов. Во главе их парламентер с флагом стоял. Крикнул он издалека: "Стойте там, не подходите ближе. Нам надлежит предупрежденье изустно передать вам, хотим мы, чтоб Вы опомнились, чтобы осознали результат неподчиненья, остановитесь, сдайтесь нам, сложите оружие мирно". - Поздно что-либо менять, я зашел уже слишком далеко. Если я был не прав, то после примирения ждет меня добровольная смерть, а, если я прав, то останавливаться не должен я, ведь не из прихоти я так поступал. - Посмотрите на себя со стороны, ваши поступки чудовищны. Вы сумасшедший фанатик, с проблесками здравого смысла, ваши поступки никому не нужны. Позвольте нам спасти Вас и общество. Мы не причиним Вам вреда. Покоритесь. - Cum tacent, clamant. Я не верю тому, что было сказано. Что за смысл без конца толковать об одном и том же? Сумасшедший здесь не я. И не приплетайте к своим интересам общество, посторонних людей. Здесь только я напротив вас, и это еще вопрос, чьи деяния люди воспримут с большим энтузиазмом. Вам не переубедить меня: я несгибаем, бросьте искушать меня без пользы. Не понравились гордые слова парламентерам, и огонь они тут же открыли из самострельных орудий. Насмерть желая убить многостойкого Мартина Фьерро. Пули летели, как град ненастной погодой. Предчувствуя близкий конец, Мартин Фьерро поднял с земли канализационного люка крышку, зело большого размера. Обороняться он ею начал, важные органы от пуль охраняя смертельных. В его руках стал этот люк щитом Теламонида, опоры ахейцев могучей. Не раз он вовремя щитом ворочал, и отлетала в сторону посланница Аида, при этом поражая из противников кого. Недостаток воинов заметен стал в рядах врага, многие страдали на земле, в агонии милый свет покидая. Но напор врага возрастал, отчаялся Мартин хоть однажды закончить бой этот победой, при этом живым совершенно. Он думал про себя: всю жизнь стрелять людей я буду и души изымать из бренных тел. Судьба моя уж мне ясна. Опасность ближе подходила, а снарядов запасы истекали, и, наконец, ни с чем остался милый нам герой. Беззащитным стоял он на ледяной тропе, называемой жизнь. Принял решение мудрое он после того, как не раз кровожадные твари расцарапали милые руки и крепкие плечи. И клюквенным вареньем будто, измазано тело было его. Чрез ограду он прыгнул в глубокий сугроб с головой, полностью скрывшись в нем. Поспешно руками перебирал он в снегу, будто медленно плыл. Наемники, искавшие его, бесцельно в снег палили и тратили запасы. От снега пар шел: уж много очень свинца в себя он принял. Снежные навалы глубиной, наверно, метр превышали. Внутри прозрачны не были они, а темной, глубинной отливали краснотой, gleichsam путешествуем мы по организму человека. Многострадальный Мартин руками шарил по дну и продвигался вперед снежной массой несомый. Холод пробирался во все уголки ослабшего тела, но ощущение нестерпимого хлада вскоре пропало. Мельчайшие пузырьки воздуха просеивались Мартином сквозь плотно сжатые губы. Он мог дышать, и показываться над поверхностью не было нужды. Широкоохватную руку зимнего пловца кольнул гладкого стекла кусок. Медленно он охватил его и задумал черную смерть для воинов врага, искавших повсюду его. Средь мутных силуэтов, по берегу ходивших отметил одного он. Прицелясь, пустил он осколком в "троянца". Со свистом осколок летел в зимнем солнце, сверкая и лучами играя. "Юноши нежную шею насквозь острие пронизало.// В сторону он наклонился сраженный…// Мгновенно из носа густою струею хлынула кровь человечья". Из носа притупленной стороны осколка, пронизавшего хрящами объятое горло. Упал тот медленно на землю, хрипя и закатив глаза, держась за пробитое горло, изливающее кровь по рукам и храброй груди. Не один троянец погиб от разящей Мартина Фьерро руки. И напрасно пытались их друзья изловить проворного данайца в снегу шнырявшего. Как крот в земле хозяин, так и неборожденный Ахав в снегу неуловим был. Руки его к гребле снега горстями приспособлены были, как конечности насекомого медведки служат земли рытью. Уж много полегло захватчиков подлым поведением известных, и утомленный Джозеф на землю вылезает, с радостью ногами касаясь прочной земли. От прикосновений снега лицо его румяно было, словно лик индийского бога смерти. Горело оно мщенья огнем. Близ носа, испускавшего воздух дыханья горячий, в инее белом было лицо. Пряди волос приняли форму коротких сталактитов вверх растущих. И волосы заиндевевши были все, жуткое различие седым своим оттенком являя с цветом щек. Увидел Джозеф побоище, им учиненное, и не поразился: все ли здесь рук его дело? Горы кровоточащих тел валялось повсюду. Стоны и крики, мольба и ругань разносились окрест. Совесть замучила богорожденного героя, затерзали сомнения, и состраданье в душе пробудилось его. В оправдание слова окрыленные молвил: " Божья судьба и дурные дела осудили их на смерть. Не почитали они никого из людей земнородных – Ни благородных, ни низких, какой бы не встретился с ними. Из-за нечестия их им жребий позорный и выпал." Джозеф полагал, что теперь-то он свободен от посягательств на жизнь и свободу, но, как оказалось, чересчур рано он приготовился праздновать победу над великим войском. Из-за длительного пребывания в холоде сильно пострадали его реакция и чувство времени, сзади незаметно подошел к Сэммлеру уцелевший полисмен и заломил ему руки. Джозеф, в общем-то, и не сопротивлялся: его утомили бесконечные битвы и водопады крови, в глазах рябило от пестрых ландшафтов и быстро движущихся солдат-поработителей. Приблизившись устами к ушам Джозефа, полицай невнятно, но усердно нашептывал неразборчивый монолог. "Он вжился в роль священника, и читает мне в назидание проповедь собственного сочинения", – сквозь смертный сон пронеслось в голове у Джозефа. Боров, заломивший руки Джозефа за спину был чуть крупнее нашего героя. С полными руками и крупом. Губастое лицо не предвещало особой смышлености и пластичного ума. "Слабому и проиграть не так обидно", - задумался Джозеф, ведь ты как бы уступишь не в борьбе, а по случайности, данное наблюдение успокоило Джозефа. Смеясь про себя, напыщенно он начал причитать, подводя своеобразный итог личной деятельности подрывника: "Горе! Как видно, всегда я останусь негодным и слабым Или же молод еще, не могу положиться на руки, Чтобы суметь отразить человека, напавшего первым! Пафосные слова не произвели никакого впечатления на бестолкового слугу власти. Он продолжал куда-то медленно тащить Джозефа. "Ахтунг! Что за честь мне выпала. Я не желаю пасть жертвой маньяка или урода с отклонениями!" Наконец слова полицая стали более разборчивыми: - Каково же пасть в расцвете жизни, молодости, сил. Покинуть мир земной, навечно обратившись в тень, и на асфодельном лугу пастись. Гермес килленийский Вам спутником будет, за кадуцеем его неситесь времени вослед. И много испробовать Вы в жизни не успели, зачем на путь негодный вздумали ступить? - Пользуясь изобретенной Вами системой ценностей опять же для того, чтобы расширить мысленный горизонт охваченных рассудком событий. – Но полисмен, кажется, не слушал. - И жен цветущих Вам вкуса не испробовать теперь, упустили Вы сие богатство в погоне за необъяснимой прелестью мужебойства. Юных прелестей аромата не вдохнуть, взора не усладит вам сладких форм очертание. Не манит ли Вас сейчас соблазном описанный мной образ? - " В наше время такой не имеет жены ни ахейский // Край, ни Микены, ни Аргос, ни Пилос священный, ни черный // Весь материк, ни сама каменистая наша Итака." Одна лишь утрата по-прежнему гложет мне душу, // Та, о которой узнал я в прошлом году несчастливом.// Двадцать седьмого числа декабря одну я машину приметил, // Пленительной пленницей богатства последняя мечта моя была.// С тех пор погиб для чувств сердечных я, // Запечатлев навеки причины моего несчастья, // И если с девами бессилен был я что-то изменить, // То месть жестокая моя избранников настигнет их. - Звать-то тебя как, бедолага? – снисходительно вопрошает надменный тевкр. Джозеф молчит, пытаясь сосредоточиться, и вспоминает: где-то он уже слышал этот голос, эту манеру держаться встречал. Лаэртида милое раня лицо, неистовый дарданец бьет без устали его. Но Джозефа удары эти не достигают будто. Только переваливается из стороны в сторону, еле держится на ногах. Но на конец его осенило: Ведь очень похожий субъект гостил на дне рожденья его дорогого друга, светлого проводника в мире нелегкой современности. С самого начала комедийный персонаж был не очень трезв, развязность и вульгарность бросались в глаза. Напившись, он начал буянить и дебоширить, забирался на стол с ногами, кидался посудой, наполненной яствами, бил стекла. С непрестанным упорством горланил гость русские песни под дребезжащую гитару. Красные полные губы лоснились, а глазки заплыли и сощурились. Все его отвратительные поступки, тем не менее, совершались с видом потешной важности, с видом капризного балованного ребенка, которому все позволено. В разговоре он себя очень вальяжно, будто знал тебя целую вечность: клал руку на плечо, шептал неразборчиво на ухо. Причем, стыдясь его поведения, все говорили с ним извиняющимся тоном, словно дети, отвечающие строгому учителю. Шумная компания это даже поощряла, желая посмотреть насколько далеко он зайдет в своем бесстыдстве, а также подсознательно уважая его за открытое пренебрежение моральными устоями. Напившись, он прямо и без обиняков начинал приставать к находившимся на празднике девицам. Те, также навеселе, охотно принимали его ухаживания. В пьяном полусне лизались с ним, полулежа на диване, застеленном махровыми покрывалами. В напряженной темноте второго часа ночи и непривычной жажды от обилия съеденных ананасов, нарушаемой робким светом микроскопических свечек. Джозеф вспомнил и ему стало до ужаса обидно погибать от рук подобного негодяя, от кого угодно, но только не от него! Месть зажгла в нем желание жизни. Кое-как он скинул с себя тяжелые, липкие руки жителя Пергама. Тот никак не прореагировал, но как зомби стал вновь приближаться к Джозефу шагом. С легкостью проворнейший Мартин проскочил под руками, что сулили ему столь надоевшие объятия полисмена. И оказался сбоку от него и чуть-чуть позади, после чего всем телом вложился в далекий удар, наметившись в висок. Не услышал Мартин предсмертного вопля, просто медленно подкосились колени троянца. Глаз белки помутнели его, наполнились кровью ужасно. Красный выпал дрожащий язык за зубную преграду, хлынула черная кровь из отверстых уст. Еще ударял ногой тело убитого воина хитрейший из смертных ахеец, терзаемый страшною злобою. Но от греховного дела был отвлечен Мартин Фьерро новым противником мерзким. И был пергамский воин не похож на своего убитого собрата. При виде его странная мысль посещала сознанье: не один создатель людей на свете был, ибо тот, что создал ублюдка сего, не ровня был создателю людей обычных. Он подмастерьем, не мастером и не художником был: сей полицай из камня был высечен будто грубой рукой, неумелой. Не старался никто, работая над ним. Но и при появлении следующего персонажа выставки уродов, Мартин Джозефу на время место уступил. Кто-то, очень напоминающий бывшего ученика из параллельного класса, стоял в этот момент перед ним. Звали его Валерий, ничем он особенно не выделялся. В целом Валера создавал о себе очень положительное мнение. Он был трудолюбив, но глуповат, он был упорен, картавил и заикался. Даже на фоне всех прочих гимназистов он был на редкость серой и не выделяющейся личностью. Но после более пристального ознакомления с Валерой большинство людей начинало испытывать некоторое омерзение по отношению к нему. Нисколько не смущаясь своей неприглядности, он, тем не менее, иной раз осмеливался настаивать на своих решениях. При чем делал это в грубых, батрацких выражениях. Не обделен он был и физической силой. По совокупности факторов создавшееся опасение не давало чувствовать себя в безопасности, если рядом находился этот гомункулус. Будто бешеная цепная собака, заснувшая у тебя под боком. Все от того, что этот хренов выблядок наделял себя аксиоматическом правом распоряжаться чужими судьбами, но изначальное небогатое воспитание все-таки не позволяло распространиться этой мании в прежней жизни, но сейчас он подался в жандармы, что определенно расширяло круг его полномочий. Тогда, давно дети обожали его почему-то, не исключено, что виной всему был уровень его развития. И иногда в здоровом на вид яблоке бывает червивое нутро, кажется, так было и в его случае. Никто не решится утверждать, будто он был скрытым адептом однополой любви, но что же он тогда шептал на ухо своим маленьким любимцам? Мартин, которого инстинктивно воротило от всяческого рода отклонений, моментально занял место мягкодушного Джозефа. Моментально они сцепились с Валерием. Не ведал богам непокорный Валерий, что с духом могучим сцепился он. Руками корявыми в грудь Мартина толкать он стал, и схватив за халат, который Джозеф во Дворце позаимствовал, пытался на землю опрокинуть героя. Но брови свои и волосы он опалил, близко к Мартину подойдя. Тот же от ограды оторвал кусок металла крючковатый и, вдохновившись веленьем богов, пошел на троянца. Метким ударом пробил он руку в районе локтя насквозь, так что далеко с другой стороны медный показался прут. Метко меж двух костей прошло острие, неимоверное вызвав страданье. Танатоса близость почуял троянец и вырываться стал. "Что ж, - подумал Мартин, - ступай!" И дернул медное орудье на себя. Выдрал мякиш он руки, что меж двух костей лежал. Вниз прошло орудие вплоть до запястья. Длинный плоти шматок выпал на снег, истекая кровью. Как серпом взмахнул Мартин забора куском. Под затылком шею сзади пробив, под челюстью он показался вновь. Сражен противник был и этот. "Одного за другим я жизни лишаю недругов своих, расквитаться мне судьба дала возможность за пораженья прежних лет. Ссылаю ненавистных мне людей за три девять земель я прочь со своих глаз. Есть во мне ужасная черта дикости, несдержанности, чистого отрицания слабой людской сущности. Я пример нетерпимости, недружественности, пример максимально асоциального типа человека. И похож на ежа иль дикобраза, к которому не подобраться ни с одной из сторон." Новые полчища врагов тесным строем приближались к Мартину. И уставший он стал искать иных путей в битве за жизнь и победу. Одно лишь сомнение снедало его душу: "Как они так быстро меня отыскали, столь оперативно сориентировавшись? Собственно началось-то все с нападения на меня безусого юнца, когда я набрал продуктов и шел домой, продолжилось все походом в аптеку, и именно тогда тевкры посыпались на меня, как из ведра. Будто все это было заранее спланировано ими, и войска врага подстерегали меня в засаде!" Машинально Джозеф, натерпевшийся немало, подобрал с земли легенькое ружье, осмотрелся и пальнул в бак машины, рядом с которой пробегали медношлемные троянцы. Подобно тому, как земля застилается пламенем при старте космической ракеты, так и огонь объял земли окрест грузовика при взрыве горючего топлива. Черного дыма клубы возносились по воздуху ввысь, богатую гекатомбу принося богу войны могучему Аресу. Одиноко над пламенем летящую фуражку с блесткой над козырьком различить успел Джозеф. Не выдержав мощного напора взрывной волны, в сторону заваливаться стал фонарный столб. И Джозеф воспользовался этим, невероятный трюк представив миру. Прежде надобно упомянуть о двух проводах, что тянулись от столба к столбу. Высокие столбы стояли вдоль дороги, шедшей вниз. Джозеф прицелился и отстрелил верхний провод от падающего столба, нижний провод разбил он прямо над собой. Один конец, что прикреплен был к падавшему столбу, взял в руку, другой завязал одной стороной на угловатом куске забора и закинул на верхний провод, а другую сторону взял в руку. На этом проводе повис он. Импульс падавшего столба через кусок нижнего провода был передан парящему над землей Джозефу, и богоравный Лаэртид заскользил по верхнему проводу, который остался нетронутым. В нужный момент он отпустил трос, закрепленный на упавшем столбе, который оказался позади. Вихрем пролетел хитроумный Джозеф до автобусной остановки "Дубравная улица", там же его крепление к верхнему проводу дало сбой: он с увеличивающейся угловой скоростью стал крутиться вокруг застопорившего ход столба. Затем оставил он провод, а сам отлетел в сторону разрушенного торгового центра и пункта гражданской обороны – источника всех бед и огорчений. Слабо искрила малеванная вывеска "Макдональдса", желтая краска пластами ссыпалась вниз. Брошенные стулья валялись вокруг здания и на дороге. От многоэтажного торгового комплекса сохранились только руины из пластика и разноцветных стекол. Поле перед многоэтажными домами было перекопано рвами и окопами. Магазин канцелярии, окна которого смотрели на второй микрорайон, был смят посередине, парочка оторванных балконов с нелепым видом громоздилось на его крыше. Джозеф смотрел на оплот врага, который располагался на первом этаже высоченного гиганта. Над городом собирались черные тучи, но верхушка дома все равно пылала ярким белым светом. Венчающие дом веточки антенн источали роковою черноту и безумие. Джозеф взбежал на возвышающийся вал из мусора и выжженного грунта. Молчание разлилось по округе. Мальчик прислушался, опустил глаза и пнул какой-то камешек. С вершины вала он отлично видел второй микрорайон, там до сих пор стояла школа, в которой он учился первоклассником. Большинство старых домов давно снесли, ни следа от прошлого Джозефа. Щемящее чувство одиночества и просеивающегося сквозь сито нашей личности времени; только хаос и огонь разрушения могут дать утешение нашей боли. Сэммлер сделал несколько шагов вперед, в ответ застрочили пулеметы, вдалеке послышались хлопки одиночных выстрелов. Пули пролетали совсем близко, и Джозеф улыбался им, как близким знакомым. Расслабленно и хладнокровно он с легкостью ускользал от цепких лап повсюду снующей смерти. Джозеф кувыркался, танцевал, пробегал в опасной близости от участка, он строил рожи, дабы разозлить полисменов. Показывал: "Вот я, стреляйте в меня, я неуязвим, свалите меня, кишка тонка, ничего не выйдет, убогие коротышки!" Джозеф делал разножку и посланцы Кер только пыльный след оставляли от соприкосновения с валом. Под конец он раззадорился и неистово пнул кусок спекшейся от взрыва глины, снаряд, рассыпаясь на лету, полетел в сторону участка, там просадил окно, погнул дверь, пять людей в форме отлетели далеко в стороны, стонали и не намеревались продолжать борьбу. Джозеф захохотал при виде новообретенной силы и воздел руки к небу. Несколько слуг Ареса вонзилось ему в руки и грудь, но они не оказали ровным счетом никакого действия на его самочувствие. Пули, словно сдирали приставшую к коже одежду, не затрагивая костей, остававшихся неповрежденными. Вокруг стало совсем темно, чернота набежавших туч затмила тусклый свет зимнего солнца. Роль центра композиции взял на себя сокрушительный росчерк белой молнии, опустивший змеиное жало на средоточие сил врага. Мир замер в удивлении. Все разрешилось при помощи deus ex machina. Начинается пожар, он охватывает вражеские укрепления и высоты прилегающих этажей. Население в панике покидает пылающее здание. Чудесным образом Джозеф оказался среди трусливой братии палачей в подобающей для этого положения форме. Он смешался с толпой, картинно машет руками, и, с трудом сдерживая улыбку, что-то громко кричит, наводя панику и нагнетая ужас. Город пустеет. В течение получаса Генрих сидел на кровати, не подавая признаков жизни. Кровать была неубрана, а он свесил босые ноги к полу. Ужасающая картина нищеты, безволия, моральной дезориентации. Как труп, покоился несчастный поэт на изодранном диванчике. Не то чтобы Тараканова особенно удивила окружающая его обстановка: в последнее время он, вообще, не подавал признаков эмоциональной активности, но сегодня ему особенно отчетливо бросилось в глаза убожество интерьеров и хроническое неудобство, сопряженное с обращением в представшем перед ним мире. "В принципе, я к тому же очень одинок, - задумался Генрих, - вся моя жизнь предстает пасмурным утром после шумного праздника с дурными собеседниками. Я никого не помню, от того ли, что никто из моих друзей этого не заслужил? Да я и не был ни с кем особенно близок, чтобы доверить другу сокровенные тайны сердца, чтобы обсуждать с кем-нибудь посещающие меня мысли всерьез. Хотя не стоит особенно огорчаться, меня это и не трогает, до меня доносятся лишь отголоски несчастья. Будто я не один, и моя часть, общающаяся с миром людей, отгорожена от меня стеной тумана, непреодолимой завесой. Мне определена судьба всякого писателя: жить в одиночестве и говорить с будущим поколениям, слушая наставления предшественников, не имея возможности выразить им своего почтения. Только при счастливом стечении обстоятельств я буду общаться со своими сверстниками и то через посредников. Парки, прядущие нить моей жизни, приучат поэта к неустанному труду и гордому и тем не менее вынужденному одиночеству. Во многом это происходит из-за того, что никакими усилиями теперь не соединить два разошедшихся пласта речи устной и письменной, понимая под последней объект творческого созидания." Напротив Вадима сидел худой старик с лицом, изборожденным глубокими морщинами. - Дай поесть чего-нибудь, - попросил старец. - Странно, Вас вроде не было здесь в последний раз, как я припоминаю, что это Вы тут делаете? – спросил Генрих бесстрастно и протянул старцу хлеб. - Я в адской безде пятьдесят лет сижу безвыездно, меня отсюда не выкурит и атомный взрыв! – промычал тот, жуя. "Художники в молодости нахальны и беспринципны, художники в старости ведут себя до неприличия просто и невозмутимо", - закончил Генрих мысль, мучившую его уже очень давно. Но инвалиду не довелось выслушать замечательной сентенции. Взамен нее Джозеф предложил другую: "А знаете, любезный дедушка, кто-то пустил слух, будто первым упоминанием в художественной литературе о кулачном поединке, была сцена в "Песне о купце Калашникове" Лермонтова. Однако, несомненно и другое: Вергилий написал "Энеиду" задолго до рождения Михаила Юрьевича. В ней же присутствует сцена боя престарелого Энтелла и молодого богатыря Дарета, в честь памяти отца Энея Анхиза и по случаю счастливого бегства из Карфагена в родственные земли Акеста. При этом в качестве спортивного комментатора Вергилий смотрится гораздо более убедительно, чем наш славный соотечественник". Генрих замолчал и посмотрел в окно, за окном опять темнело, и шел медленный снег. А теперь пришло время рассказать о последнем из трех героев, чьи похождения будут еще долго тревожить нам души и заставлять нас возвращаться к своему прошлому. Илья Соболевский был одного возраста с Джозефом, и до восьмого класса они учились вместе. Теперь же они могли при встрече и не узнать друг друга. Он был несколько ниже Джозефа и гораздо ниже Генриха. В школе он всегда держался особняком, даже по сравнению Джозефом он казался нелюдимым и замкнутым. Я бы не сказал, что он был чересчур мрачным, нет, скорее, он был рассеянным, меланхоличным. Уже к четырнадцати годам ему ужасно надоела жизнь школьника. Его не интересовал ни один из предметов. И если Джозеф был отличником, то Илья перекатывался с двойки на тройку, но оставался в школе. Определенную роль, наверняка, сыграла второстепенная роль его матушки в огромном штате прислуги школьного хозяйства. Скукой можно определить наиболее верно состояние, владевшее им на протяжении всего учебного дня. Во время ужасно, удручающе коротких контрольных по математике, выполняя которые, нужно было мчаться стремглав, как на стометровке, он зевал, смотрел в окно на храм Христа-Спасителя, а учителю без тени стыда сдавал пустой листок. Никто не ощущал своего превосходства над ним, он был словно из другой когорты, человек другого сорта. Ему было на все наплевать, и он осмеливался говорить об этом вслух уже тогда. Он был худ, бледное лицо печально несло отрешенные черные глаза. Но нет, я опять говорю не то. Он не был совсемтаки сомнамбулой и готической мечтой целомудренных педерастов. Нельзя было назвать качество его характера отрешенностью. Илья был очень вялым, пассивным, ко всему (и, прежде всего, к своему положению в классе) относился с долей юмора, скорбной улыбки. Кто-то из учителей в шутку назвал его однажды мистером Бином. Что ж, пожалуй, это было лучшее из сказанного о нем учителями, и присутствовало достаточно верно подмеченное сходство между Соболевским и киношным персонажем комедийных историй. Обычно учителя его порочили, ругали хором. Обязательные пять минут в начале или ближе к концу урока посвящены разбору личности Ильи Соболевского. Лишь уроки истории возбуждали в нем интерес. И к ним он относился с должным почтением. В нем всегда жило и укреплялось обостренное чувство справедливости. Он не мог смолчать, несмотря на то, что был гораздо слабее прочих одноклассников (прошло время уверенных в себе, не в меру улыбчивых качков из порнофильмов, я возведу на трон иного героя с новой судьбой, терпение, читатель и ты полюбишь его), если видел притеснение, грубость, торжество силы над правдой. Пытался как-то раз он оказать помощь и Джозефу в глупой ситуации, в которую тот влип сам, нечаянно причинив боль местному гостю-иностранцу, школьнику по обмену. Дружной гурьбой мальчишки бросились на Джозефа, в шутку стараясь его замять в толпе. Увидев неравенство сил и такой поворот событий, к ним подскочил Илья и высоким, надтреснутым голосом закричал им: « Отпустите его, немедленно отпустите!" И пытался разжать сплетение рук. Илья часто болел и, вообще, был слабого здоровья, часто пропускал уроки физкультуры в школе. Его нередко можно было встретить в школе, уныло бредущего с этажа на этаж с зеленоватой бледностью в лице. Не стоит представлять его особенно честным, порядочным человеком, хотя многое простительно, если принять во внимание возраст тех школьников, какими они тогда были, но он вполне мог ударить одноклассницу. Правда, не со зла, не оттого, что ему очень хотелось причинить ей боль и огорчение. Не припомню, что было в тот раз на уроке физики. Но знаете, некоторые девочки, видимо, уже примеряя на себя роль будущих хозяек, отчего-то решают, что им позволительно обращаться к почти незнакомым людям в пренебрежительном тоне, указывать им, почти толкать собеседника. Не стоит удивляться, может, он сдуру и ответил. Сейчас перевелись святые – это точно, потому что разговорам верить не стоит, а всякие манеры, вежливое обращение, светский блеск – не более, чем ханжество, показуха. Дворянства больше нет, знать вымерла, значит, пускайтесь во все тяжкие и нечего бояться: вокруг люди собрались не лучше нас. Вскоре Джозефу довелось ответить услугой на услугу. У большинства из людей есть такие вещи, которые представляют большую ценность для них, по совершенно непостижимым для других причинам. При этом с виду вещи могут быть не очень ценными с точки зрения денег, они даже не будут похожи на сувенир. Просто с ними связана некая история, памятное событие, призрак близкого человека осеняет их своими нетленными покровами. Так вот Илья почему-то носил меховую шапку с собой в класс, а не оставлял в гардеробе. В принципе, шапку такой формы трудно было бы сложить и поместить в рукав пальто или в карман, а сам он говорил, чтобы не украли ее. В итоге он носил шапку с урока на урок в руках, а на переменах в шутку надевал на голову. Его не единожды за это укоряли учителя, которые упрямо считали, будто должны давать наставления не только в учебное время и не только по преподаваемому материалу. К делу борьбы за нравственную чистоту решила подключиться и одна из сестер, учащихся с ними в одном классе, с дивной, но легко влетающей из головы фамилией. Юля (зато осталось имя!) сдернула с головы Ильи высокую шапку и принялась дразнить его, не возвращая шапку. Юле помогал ее рост: она была выше, кажется, всех одноклассников, поэтому просто могла поднять шапку на вытянутую руку вверх. Джозефу очень не понравились коллективные издевательства над Ильей, он быстро схватил легкомысленную девушку за талию, а другой рукой выхватил шапку. Да, замечательный эпизод отроческих воспоминаний! Илья спрятал шапку, а Юля, некоторое время спустя, подошла к Джозефу и, горячо дыша ему в лицо, гневно сказала: "Еще один раз до меня дотронешься так… ". Она так и не договорила. Илье был очень памятен другой момент из школьной жизни. Незадолго до нового года проходили традиционные театральные постановки. Он уже было лениво развалился на кресле, закинув ногу на ногу, и бесцельно уставился на сцену. Интонация гневной реплики героини заставила пробудиться его. Девушка указывала дрожащей рукой со сцены прямо на него. И надрывно произносила: "В его глазах таится что-то злое, Как будто в мире все ему чужое, Лежит печаль на злом его челе, Что никого-то он не любит на земле." Илья был поражен, он и сам нередко также думал о себе, а тут его опасения подтвердились знамением свыше. Чудовищным совпадением. А, что, если все сказанное – правда, неужели я, действительно, настолько плох? И все люди вокруг видят эту самую печаль, нет, так не пойдет! Надо стать более скрытным и незаметным. Но всей его жизни подтекстом служило романтический образ. Борьбы, одиночества, избранничества. Ему нравилась детская книга, написанная Астрид Линдгрен "Братья львиное сердце", нравилось изложенной теорией героизма, духом жертвенности. Идущим дорогой славы нет дела до мелочных сор и обид. Илья часто выкидывал разные шутки, наверное, от безделья, со скуки. Ведомый жаждой обозначить себя, проявить себя среди одноклассников он подписал контрольную работу не своей фамилией и именем, а именем повелителя джинов Иблиса. Интуитивный поступок пробудил в нем фантазию и изобретательность зла, скрытность и злонамеренность хищника, чудовищную изворотливость, мстительность того, кому не дано второго шанса. Появление подобных качеств нельзя посчитать случайностью, если принять во внимание, в какой школе учился наш герой. Помимо обычных среднестатистических классов были и классы, доверху забитые беспризорниками и охламонами. Идентифицировать по-иному их обитателей не представлялось возможным. Все они, кроме девушек, были на одно лицо: крепко сбитые, выглядящие года на два старше заявленного возраста, скуластые и с прическами, стремящимися к их полному отсутствию. Лица же их были явственным примером воздействия алкоголя на красоту черт лица, все ходили с опухшими, затекшими вблизи глаз физиономиями. От большинства за километр разило куревом. С ними было опасно иметь дела, не стесняясь, они пускали в ход кулаки. Памятный читателям одноклассник Соболевского и Джозефа Можжевелов был промежуточным звеном между нормальными школьниками и описываемыми представителями рода человеческого. От Ильи Можжевелов узнал секцию борьбы, на которую Илью записала мама, и сам принялся активно там совершенствоваться. И примерно через месяц он уже вовсю бросал Илью на пол и выкручивал тому руки. Легко поэтому представить, чем оборачивались встречи с обитателями особых классов. Илья был одинок, и он сам обрек себя на горестное одиночество, потому что мир, которым жили окружающие его ребята, не мог удовлетворить высоким требованиям морали, красоты, чести, выдвигаемым Ильей. Соболевского расстраивало удручающее положение вещей, одновременно с этим он испытывал мрачное удовлетворение, когда все предавались радостям и веселью вдали от него. Впоследствии, упиваясь текучей материей шекспировского слова, он отыскивал там поразительно верные описания настроений, посещавших его душу. В исступлении он раз за разом повторял следующие строки: "Но я не создан для забав любовных, Для нежного гляденья в зеркала; Я груб; величья не хватает мне, Чтоб важничать пред нимфою распутной." Так он пытался оправдывать себя; аргументы, приводимые им в свою защиту едва ли можно счесть заслуживающими внимания. Другое дело: а стоит ли тратить на бессмысленное занятие свое время? Он не должен ни перед кем оправдываться в своем отличии от прочих. Он потакал свои слабостям, что ж, большинство тратит на компромиссы с совестью всю жизнь. Илья боялся мира, сложных переплетений, неудобных ситуаций, урагана событий. Случайно нам в руки попал любопытнейший документ: род психологического теста или анкеты. В ней Джозеф ответил на вопросы, касающиеся его отношений с людьми, его характера. Итак, внутренний мир Ильи Соболевского откроется вполне нам. 1) Самое страшное на свете: тайные закоулки человеческих историй и взаимоотношений. Сеть подземных коммуникаций неразвившихся чувств. Рой мечтаний, не воплотившихся в жизнь, коим позволено не было детей – поступков явить на белый свет. 2) Самое мерзкое на земле: опошление красоты формализмом порнографических историй, сведение всего к шаблонным сюжетам. Гадкая безысходность, производящая на свет пресыщение. ( Читая упомянутый отрывок, Генрих вспомнил события, относящиеся к двенадцатому декабря 2005 года: тогда лектор по одному из предметов объявлял, кому достанется экзамен в облегченном варианте досрочной сдачи. Его обступили алчные студенты. Некоторые старались заглянуть в его записи, в которых отражалась посещаемость лекций. Особенно близко к нему очутилась одна девица с фантастической прической переливающихся светло-серых волос. И, может быть, непроизвольно, случайно, она изредка касалась полной грудью его рук, которыми он опирался о кафедру. И ничто не сможет остановить лавины губительных образов женской порочности. И в каждом создании ты начинаешь подозревать сластолюбивую шлюшку.) 3) Самое приятное на земле: чувство братской приязни к преданным тебе друзьям. Быть соучастником дружбы, которая переживет своих хозяев, как дружба между Патроклом и Ахиллесом. 4) Мне льстит: внимание людей, заинтересовавшихся во мне, но увидевших меня в первый раз. Значит, мы нашли друг друга, обрели недостающую часть. И я кому-то нужен, тем, кто узрел во мне черты, отсутствующие у других людей и интересные им, индивидуальность. На этом по непонятным причинам записи обрываются. Крайне невысокого мнения был Илья, относительно своих "внешних данных" и о своей способности приглянуться людям: "Уродлив, исковеркан и до срока Я послан в мир живой; я недоделан – Такой убогий и хромой…" Да, Илья, действительно хромал на одну ногу, что впоследствии сослужило ему недобрую службу. "Решился стать я подлецом и проклял Ленивые забавы мирных дней." Решение о принятии экстренных мер было принято не спонтанно, под влиянием накопившихся обид. Каждое буднее утро ездил по одному и тому же маршруту, пролегающему через станцию метро Краснопресненская. И садился на поезд в сторону Киевской. В тот день, о котором пойдет сейчас речь, Илья был одет в коричневое пальто с завязками, чтобы затягивать ворот потуже. Он заворачивал, чтобы пройти между двумя колоннами к подошедшему поезду. Но на его пути стали здоровенные неряшливые ребята, с диковатыми, разгульными рожами. Однако их скотская сущность не ограничилась чудодейственной порчей внешности. Они ловко оттеснили Илью к стене. Самый здоровый среди них, брызгая слюной, принялся задавать посторонние вопросы Илье, пересмеиваясь, а то и угрожая своим сообщникам. Они полагали, будто их театральная постановка является верхом оригинальности и изобретательности. "Словно дети", подумал Илья. Его спросили, где ближайший "Макдональдс". - Наверное, на Улице 1905 года, подумав, ответил Илья. - Знаешь, - здоровенный кабан схватил за шнурки пальто и стал их затягивать до удушья и темноты в глазах у Ильи, - какие-то вы, школьники, чудные. - Отпусти меня, - сказал Илья, и попытался выбраться самостоятельно. Но тот задержал его. - Погоди, видишь ли, какая тут проблема: у нас нету денег, чтобы перекусить. – Его товарищи хором засмеялись. – Может, ты одолжишь нам немного. - У меня у самого немного, - как всегда ответил Илья. - Не беда. – Главарь ударил Илью под дых и прошелся немного ногами. Их группа уволенных пациентов дурдома заслоняла происходящее своими широкими телами. Они сорвали рюкзак и обыскали его. Кошелек взяли себе, а остальное бросили рядом. Илья поднялся с грязного пола и сел. Мимо проходили люди и никто не замечал его бедственного положения. Школьник смотрел на проходящих людей одним глазом и пытался остановить кровь, идущую из обеих ноздрей. Болели плечи и грудь, испытанная на прочность кожаными ботинками добровольцев народного фронта. Невысокий, франтоватый, изящный молодой человек с лицом южного типа проходил совсем рядом с Ильей и даже остановился напротив него. - Что смотришь, сучий выблядок, ты что – в музее думаешь? Помоги лучше подняться на ноги! – не сдержался мальчик. Так его поразило непристойное любопытство к его беде одних и полное безразличие других людей. Но любознательный иностранец уже отскочил от излучавшего недоброжелательность русского. Илья силился встать, но у него будто онемела и отнялась нога. Мальчик держался за стену, словно потерявший над собой контроль пьяница. Это было жалкое зрелище борьбы человека против людей и их природного страха перед неудачниками. Тут бы самое время включить пронзительную "Lost In The Future", созданную гениальным немецким коллективом Gamma Ray. Какая-то женщина, из жалости закричала: "Вызовите милицию, скорее!" - Ты какого черта горланишь, паскудная баба, адская шельма? Я разве похож на преступника, гнидская тварь, безмозглая курва? Ментов, мне здесь еще не хватало! – возмутился пострадавший и заковылял по направлению к вагону. С тех самых пор Илья серьезно задумался о своей судьбе, о том, сколько можно терпеть унижения со стороны более сильных собратьев по происхождению. Ведь это несправедливо, нельзя тиранить слабых, это подлость подчинять слабых силой, измываться над ними и мучить их, но никому нет до этого дела, всем дороже собственная шкура, у них, видите ли, здоровый эгоизм, теперь это называться так, трепать их задницу! Люди молчат, пусть всем занимается милиция-полиция, а они будут заниматься легкой атлетикой, до тех пор, пока небесные силы им самим не устроят порку, а тогда они станут плакаться, жаловаться, стонать и причитать. Раньше надо было думать. Происходит восстановление высшей справедливости: никогда не помогал людям в беде, так получи же сам сполна. "Но я слаб – сокрушался Илья: постоянно болею, я невысокого роста, хрупкого сложения. Восточные единоборства или боевые искусства (второе более красиво звучит, но почему-то никому не приходит в голову называть бокс или греко-римскую борьбу искусством) не по мне. Меня там быстро сломают, подомнут жлобы, здоровые от природы. Да и к тому же мне даже вспомнить стыдно, чем занимаются эти придурки на полигонах: крушат бутылки о свои обездоленные головы, тошно смотреть на этот спектакль. Надо было заняться чем-то таким, что резко бы повысило мои шансы на успех, на победу". Проще говоря, Илья Соболевский не на шутку разозлился и решил возвратить долг обидчикам, говоря словами Шекспира, ситуацию обрисовать получится следующим образом: "Я кроток был и слишком терпелив И мог вам нерешительным казаться. Вы бросили стесняться и теперь Мое терпенье топчете ногами. Но берегитесь, я переменюсь. Я мягок был, как пух, как масло, гладок, И все спускал. Вот я и потерял Свои права на ваше уваженье, Которое привыкли воздавать Лишь грубой силе люди грубой силы. Сил немного мне собрать осталось, Чтобы войной пойти на мир, что заговорами полнится, Что приютил обманщиков и подлецов…" Илья Соболевский принял бесповоротное решение заниматься спортивным фехтованием. Это всецело духу его потребностей, сущности его противоречивой натуры. Его душа жаждала занятия мужественного и не смехотворно бесполезного. Научиться отлично драться шпагой было его детской мечтой, но тогда давно он понимал, что когда они начинают драться обычными палками, - это определенно не то, о чем он читал книги. Их детские забавы не имели ничего общего с очаровательным сериалом про защитника справедливости, благородного Зорро. Он выбрал подходящий клуб, наверное, один из лучших в Городе. И стал ходить на занятия в понедельник, среду и пятницу. Потом, посчитав, что трех дней недостаточно, стал ходить каждый день, а по выходным дням по два раза в день. Вскоре он понял, что спортивное фехтование не имеет ничего общего с теми отрывками, которые он видел по телевизору в фильмах. Вначале он почувствовал разочарование: как же так не будет красивых поз, эффектных стоек и разворотов вокруг собственной оси. Незачем, оказывается, выбрасывать, ловко подцепив, шпагу из рук противника, лезвием остужать оголенную шею противника. Вместо благородного мушкетерства и кровавых драм и он столкнулся со скупыми, рациональными движениями, звериным стилем ведения боя и умопомрачительной реакцией. Его постепенно начала завораживать колдовская стихия дорожки, на которой шло сражение. Это был настоящий спорт, а стало быть, конкуренция: никаких поблажек, никаких игр. Начав с рапиры, он перешел на шпагу. Потом он услышал от многих ребят, оказывается, они прежде занимались "японским фехтованием" на палках, но то было не спортом, а традицией, показухой, совершенно не проработанной дисциплиной, яростью, не знавшей правил. На первом месте в фехтовании европейском была отличная работа ног, именно она позволяла убежать от врага или же, наоборот, донести твой собственный удар до противника. Без устали Илья совершенствовал технику выпадов и молниеносных отражений атак. Фехтование не являлось грубым видом спорта, мужицкой дракой, спортсмены чрезвычайно редко получали повреждения, травмы были связаны, в основном, с растяжениями, вывихами ног, повреждениями спины. Один лишь раз Илье оцарапали руку через костюм обломившимся концом оружия. На полусогнутых ногах, с угрожающе покачивающимися в воздухе руками и наклоненными шпагами они напоминали механических пауков или чудовищных насекомых, роботов, чьи конечности собраны из отдельных частей. Поочередно загорались лампочки, возвещавшие об успешно нанесенном ударе. Звон шпаг разносился окрест, а сердце глухо накатывало градом ударов. Следуя указаниям тренеров, которые и не ожидали, что к именно этим указаниям кто-нибудь отнесется всерьез, он стал ложиться спать ежедневно в десять часов, перестал смотреть телевизор, чтобы не терять концентрацию и наряду с собранностью не терять хорошей реакции. Каждый день он делал упражнения на гибкость, для подвижности суставов. Необходимой также была тренировка твердости активной руки. Из-за того, что Илья был достаточно маленьким, он отлично оборонялся, удары, слегка парированные шпагой, проходили мимо него. Мальчику с легкостью удавалось в нужный момент разорвать дистанцию, а чувство ритма подсказывало ему, когда резкая остановка станет неожиданностью и принесет успех. Несгибаемая твердость духа и упрямство честолюбия гнали его вперед, не давая времени на отдых. Скоро последовавшие успехи были наградой ему за проявленное усердие. Но в планах у него не значилось совершенствования владения рапирой или шпагой. Илья принял решение перейти к занятиям сабельным фехтованием. В этом было гораздо больше жизненной правды, сабля могла быть использована сегодня, она еще не утратила своей эффективности. В этой разновидности фехтования роль имела сила рубящего взмаха, однако и колющие удары играли большую роль. Даже во снах Илья продолжал сражения, начатые на земле, наяву. Только все сны были одинаковыми: люди, одетые в белые костюмы, покачивающиеся на согнутых ногах, с блестящим ураганом в руках, с вихрем смертоносных шквальных атак. И сабля, напоминающая змею, вытягивающую в струнку в броске за жизнью дрожащего грызуна. Но вместе с тем фехтование не стало смыслом жизни для Ильи Соболевского, униженного побоями недоразвитых пролетариев, польстившихся на мнимые богатства его кошелька. Все время он рисовал у себя в воображении картины страшной мести. Немалых усилий стоило ему заглушить голос разума, советовавший ему забыть давнее происшествие, как дурной сон. Нет, – говорил Илья сам себе, - в основании моей истории, моей блистательной судьбы не может лежать ни одного гнилого бревна, ни одного порочащего меня факта. Я не дам слабины, я возьму реванш за то поражение, и однажды они пожалеют о содеянном, но я отыщу их раньше, чем раскаяние посетит их. Тайно от родителей, он съездил в одну подмосковную деревню, где ему наточили обычную, тренировочную саблю, похищенную со склада. Казалось бы, не было никакой возможности снова встретиться с разбойниками снова. Но Илья выследил их и обнаружил периодичность в их встречах друг с другом на станции Краснопресненская. Развязка наступила очень скоро. Но прежде он договорился с уборщицей, дежурившей на станции, в нужный момент саблю оставить у нее, а позаимствовать оставленную им куртку, которую он оденет поверх свитера. Саблю Илья сумел поместить в футляр из-под бадминтонной ракетки с ним он уверенно подошел к группе, знакомых ему разбойников. Те оживленно что-то обсуждали и не заметили его. Лучше бы они пренебрегли его персоной во время их прошлой встречи. Хладнокровно девятиклассник достал саблю из футляра. Футляр свернул и заткнул за пояс. Этот момент запомнился Илье на всю жизнь. Тогда человек в нем умер, остался лишь разум, ведомый единственной целью – отомстить. Его мысленный взор уменьшился до размеров группы людей, стоящих перед ним. Илья сознательно старался не разбрасываться на чувства, мысли, оценку своих поступков, иначе он никогда не выполнит начатое. Кроссовки мягко ступали по гранитным плитам платформы, звуки лениво таяли во влажном воздухе метрополитена. Вдали, нервно задрожав, красная цифра хронометрического табло сменилась следующей. Наконец Илья подошел слишком близко, чтобы оставаться незаметным. Человека три обернулись, почувствовав приближение незнакомца, на их лице не было написано тревоги, торжество блаженной безмятежности. "Я думаю, следующая наша встреча произойдет только в пределах мрачного царства Аида". Заманчиво бледнела тучная шея безмозглого лоботряса. Ничуть не сомневаясь, не колеблясь, Илья опустил лезвие клинка. Голова безвольно съехала на бок. Эти бестолочи не успели даже шума поднять. Илья быстро скрылся в подсобном помещении для машинистов и работников станции. Вышел он уже на другую сторону платформы, очень обрадованный тем, что не поднялось никакого шума. Расследование зверской расправы в метро зашло тогда в тупик и было остановлено за недостатком улик. Как обычно, в газетах понаписали кучу всякой ерунды: о маньяках, заговорах, сектах, шпионах, инопланетянах. В общем, наш герой остался безнаказанным и спокойно участвовал в спортивных соревнованиях, и ничто не выдавало в нем хладнокровного убийцу. Обучение в школе к старшим классам становилось все более эфемерным и особых проблем ему не доставляло. Оставалось много времени на посторонние занятия, он много читал. Он никогда не задумывался, почему выбирает не одну книгу, а другую, просто начинал читать и все. Авторами почти всех произведений значились мужчины, да, пожалуй, и в целом в мире ситуация именно такая. Достойных авторов женщин очень немного. Конечно, все зависит от того, каким критерием пользоваться. И если бы неутомимая работница детективного жанра из Англии заняла бы по нашей иерархии должность цехового мастера, ибо на большее ей стыдно претендовать, то женщин-мастеров не осталось бы вовсе. Но сам себя желая разубедить в порочной точке зрения изначального неравенства, он сосредоточил свои мысленные ресурсы на творчестве Джейн Остен, Франсуазы Саган, Шарлотты Бронте. Читая самый известный роман последней из перечисленных, он обратил внимание не на самого главного из героев произведения. Его поведение идеально описывало поведение Ильи. Фанатика звали Сент-Джон Риверс. Девизом Ильи с некоторых пор стало также: "Сомневающимся нет места на небесах". Новоявленный Сент-Джон Риверс показывал отличные результаты уже на уровне страны, несмотря на это он чувствовал, что его медленно оттесняют от возможности участвовать в крупных соревнованиях и от участия в сборной России, руководство не принимало никаких заявок от него и советовало взять на время перерыв. На отборочных соревнованиях к юношескому чемпионату Европы судьи явно были небеспристрастны и несколько раз отключали сигнальную лампочку. В самом конце Сент-Джон вышел из себя и после успешно проведенной атаки, увидев, что сигнала опять нет, просто сшиб ударами сабли противника на дорожку и ушел в раздевалку. Так закончилась карьера Ильи – мастера фехтования. Но не в его правилах было сдаваться, и вскоре новое увлечение нашло в нем себе покровителя: Илья занялся стрельбой по подвижным мишеням. В этот раз им не владело радостное чувство постижения нового, он не старался показать высоких результатов, но хорошая реакция, твердая рука и неиспорченное зрение приносили и здесь свои результаты. Спокойно, с затаенной злобой он прижимался щекой к стволу винтовки и разбивал одну тарелочку за другой, быстрее и быстрее. Уже в институте Сент-Джону пришлось съездить во Францию на не очень важные соревнования. На зрительских трибунах он заметил рассеянно смотрящего по сторонам известного писателя, сторонника радикальных взглядов. Сент-Джон, удивившись этой встрече, сказал французу несколько лестных слов. Тот, словно о чем-то только что вспомнив, пригласил спортсмена на чашку кофе. Писатель жил в одном из богатых пригородов Парижа. Его дом был окружен высокой каменной стеной. "Настоящая крепость!" – удивился Илья. "Приходится принимать меры", - улыбка хозяина из язвительной превратилась в печальную. Он провел Сент-Джона по своему особняку. От гаража с тремя блестящими машинами до чердака с зашторенными непроницаемыми занавесями окнами и с системой домашнего кинотеатра. На каждом подоконнике лежал пульт управления. Сент-Джон поинтересовался их ролью. Хозяин подошел и нажал кнопку на пульте управления, заработал скрытый в глубинах дома механизм, и напротив просвета окна оказалась решетка из проволоки. Другие устройства расстилали поверх стекольной глади стальную скатерть прочных ставен. "Мы живем в неспокойное время, - заметил писатель, и в то время, как одни люди борются за свободу, другие – прикрываясь нашей же терминологией, и говоря об уважении чужого достоинства и обычаев, чинят нам препятствия. Заметьте – мы похожи на радушных хозяев, которые вынуждены мириться со скотским поведением гостей в собственном же доме. Но гостей смышленых, апеллирующих к законам гостеприимства, по которым невежливо отказывать несчастным путникам, потерявшимся в пути. Мне стыдно терпеть унижения со стороны чужих цивилизаций, достижения коих ничтожны по сравнению с бессмертными творениями Бальзака, Флобера, Пруста – ты и без меня сумеешь продолжить этот список. Мы стали мягкотелы, нам осточертела борьба, нам, как не парадоксально звучит, стыдно за колониальную политику наших соотечественников, живших век или два назад". В глубине мрачных покоев писателя запищал таинственный прибор, хозяин удалился, чтобы утихомирить его. Истошные вопли звонка прекратились. Источником непонятных звуков, видимо, являлся телефон. Писатель говорил громко, раздраженно, и явно не стеснялся своего гостя: "Я так и знал, что об этом зайдет речь. Нет, нет, даже не пытайся меня уговорить. И им, конечно, будет этот ее знакомый с подозрительным именем! Конечно мы родственники, но даже ради тебя я не собираюсь идти на такие жертвы! Раз в жизни – что-то я сомневаюсь, при ее-то воспитании! Угу, только не ее, а тебя и твою терпимость. Нет, так нет: справляйте в харчевне у своего турка, или кого там? Боже мой, дожили – голос писателя стал почти визгливым: "Значит, вам хочется, чтобы у вашей дочери был роман с арабским жеребцом, чтобы ваши внуки ржали и у вас были рысаки в роду и связи с иноходцами?" Благодарю покорно, можешь отныне не звонить сюда!" Писатель в сердцах кинул трубку на аппарат. - Мне очень жаль, что я стал свидетелем неприятной сцены, которая вывела вас из себя, - признался СентДжон. - Да не беда, сидите, сидите, не вставайте, - писатель заправил прядь волос за ухо, - ты посмотри, каков подлец! Я о своем брате все толкую, - пояснил он. Я и так ему во всем помогал, он принимал мою помощь, как должное. Все зашло еще дальше: не спросив моего мнения, они решили провести свадьбу у меня в доме, потому что квартирка у них, видите ли, недостаточно для этого большая. Я и вправду заботился о его дочери, будто о своей собственной, у самого меня детей нет, моя жена погибла, давно уже. Так вот, несмотря на мое живое участие в ее судьбе, они не желали принимать никаких советов от меня, говорили, не мое это дело, в конце концов, его семья зашла слишком далеко. Я мог бы помогать им деньгами, и то, знаете ли, это будет выглядеть, как будто я вымаливаю у них прощение, но не надо вмешивать меня в эту склоку, не смейте покушаться на мою жизнь, на мой мир! Так, они дойдут до того, что поселятся со своим арапом в одной из моих комнат, а там арапчата пойдут. И меня отсюда выселят со всем моим скарбом! Я не очень Вам надоел, любезный Сент-Джон, вспомнил вдруг о госте писатель? - Нет, все в порядке, - заверил хозяина Илья Соболевский. - Знаете, я сделаю такое Вам предложение: не согласится ли меткий стрелок погостить меткий стрелок у меня парочку дней, мне может понадобиться его помощь. - Конечно, с большой охотой! – согласился Сент-Джон, дивящийся порывам случайных решений хозяина. Чудесным образом, по непонятному стечению обстоятельств, описанные выше события, совпали с началом парижских беспорядков, за которыми в страхе наблюдал весь мир. Для хозяина укрепленного особняка наступили тяжелые дни, вокруг его дома расхаживали малоприятные личности смешанных кровей. Чего-то высматривая, разнюхивая, подглядывая. Неспроста были все приготовления. Даже в богатом районе, какието идиоты решили перевернуть тачки из тех, что были меньше остальных потрачены временем. Номинально был введен патруль, который только и делал, что где-то пил или спал, или с кем-то братался. Никого не было невозможно заставить работать, но все хотели жить припеваючи. Каждый оболтус считал себя королем мира с рождения, считал, что все кругом обязаны ему чем-то. Бедные слои населения точно выпили горячительных напитков и их понесло без разбора. Никому нельзя было сказать и слова. Полиция, скорее, предостерегала разумных людей от решительных поступков, чем торопилась принять решительные меры в отношении людей неразумных. Они ждали указаний сверху и проедали солидные зарплаты. Чернь воплощала сумасбродные идеи революционного погрома в жизнь. Низы общества уже примеривались камнями и бутылками к окнам почтенного писателя, но решетки из проволоки успешно отражали все атаки хулиганов. Имущество французского писателя находилось под охраной прочных стен его дома-крепости, но запасы продовольствия подходили к концу, а вокруг дома постоянно околачивалась подозрительного вида молодежь. Здесь-то и пригодились навыки Сент-Джона. Бесстрашно он покинул пределы дома с объемной хозяйственной сумкой, в которую кинул саблю и спортивное ружье. Первый раз, толпа проводила его изумленными взглядами, ничего не предприняв. Возвращаясь, он разогнал всех демонстрацией сабли. Ночью они, как пещерные люди осаждали дом с факелами. Сент-Джон, крадучись, подошел к окну и просунул ствол ружья между витками проволоки, оберегающей окна. По улице расхаживали парни в широких белых майках и бросались бутылками в окружающие дома. Речь их была неразборчивой, напоминало улюлюканье, звероподобные крики. Сент-Джон с горечью подумал: " Но отчего нельзя без скотства, без наглости, без угроз, отчего они никак не уймутся и перестанут терзать мирных жителей, почему решили, что они вправе устанавливать здесь свои пещерные законы порядки, основанные на насилии? А вот откажи я им сейчас в таком праве, поступи с ними согласно их заповедям, их представят несчастными жертвами цивилизации, невинными детьми природы, пострадавшими от рук варваров и тиранов. Малолетние герои, забравшиеся на баррикады? В тринадцать лет они выглядят здоровее, чем я в девятнадцать. Рано взрослеете? - Что ж расплачивайтесь за свою несознательность кровью!" Бесшумно винтовка выплюнула посланцев с того света, но у Сент-Джона и в мыслях не было убивать великовозрастных приматов. Выстрелы слегка оцарапали им плечи, бородатому коротышке Илья целился в колено. И тот картинно опрокинулся на мостовую, уже залитую кровью повстанцев. Туземцы городских джунглей бежали из просторов элитных пригородов Парижа. "Теперь придется на время покинуть ваш дом", - объяснил Сент-Джон невезучему хозяину. В таких случаях, как наш, милиция приезжает особенно быстро, главное, цело окно, ружье я уношу с собою. И еще: нет ли у Вас шерстяных носков?" - Найдутся, но позвольте полюбопытствовать, для каких целей? - Надену из поверх башмаков, чтобы тише ступать, ткань будет заглушать звук шагов. - Понял, ну до скорого, удачи! Сент-Джон скрылся в ближайшем переулке, проглоченный ночным мраком. Бесшумно он бегал от звуков полицейских сирен, прятался в подвалах, сторонился крупных улиц. Утром, Илья Соболевский, опять наведался к писателю, взять причитающиеся ему деньги. После он посетил институт зоологических исследований, адрес которого они нашли по справочнику, и узнал, где продаются пули с залитым внутрь снотворным. Обновив арсенал наемного убийцы, Сент-Джон принялся искать подходящую одежду. По возможности черную или темных оттенков: черный плащ, черные ботинки, черную маску для лица, чтобы никого не привлекала ночная бледность лика убийцы. Кроме того, Сент-Джон купил моток веревки, бутыль медицинского спирта и катушку широкого пластыря. Илья ощущал себя упырем, оборотнем, Джекомпотрошителем, Фредди Крюгером, помешанным кретином, злобным маниаком, стерегущем своих жертв в засаде и набрасывающемся на них в самый неожиданный момент. Но, увы, миссия русского гостя была не столь ужасной, но более глубокомысленной, по-Кафкиански абсурдной. С наступлением ночи Илья покинул ресторанчик, в котором он обосновался в дневное время суток. Сент-Джон держался стен, лестниц выступающих в сторону улиц, прятался в углубления окон подвальных этажей. Развернулась настоящая война! Охота за повстанцами. Наконец Илья отыскал группу невменяемых негроидов, громивших одинокую тачку, вероятно, безобидного пенсионера, а то и ветерана войны. В общем-то, в тот момент едва ли СентДжон думал об убеленном сединами старике, за которым числилась несчастная единица техники. Но его всегда возмущала, бесила неуправляемая энергия самовозбуждающейся толпы недоумков, которая может быть направлена на самые постыдные цели. Вшивый миротворец стал бы их уговаривать, описывать вокруг них круги с рупором, обещал бы устроить на высокооплачиваемую работу в офис с шикарными белыми телками, поддакивал бы малолетним щенкам и унижался перед ними. Но миссия нашего героя состоит немного в другом, на сцене пьеса "Страхи ночного Парижа!" Сент-Джон проверил винтовку, пора! Перебегая наискосок улицу в направлении толпы, Сент-Джон по порядку укладывает всех на землю. Плечо, плечо, грудь, бедро – не очень метко, но, если учесть, что Илья впервые стрелял на бегу, то вполне себе ничего. Они не истекают кровью, но дозы снотворного рассчитаны на африканских буйволов, носорогов, а здесь всего лишь люди. Из дома писателя Соболевский выехал на небольшом грузовике, предназначенном для прогулок за городом. В кузов покидал тела, магнитиками приклеиваются подставные номера поверх правильных. В путь, странно: главная площадь пролетарских кварталов французской столицы ныне пуста. Колоритные зарисовки трущоб от Гюго или Джека Лондона сегодня не пригодятся. Сложившаяся ситуация даже к лучшему, никто не помешает противоестественным занятиям русского спортсмена. Юноша закинул несколько веревок на кирпичные трубы здания, чья стена выходила в сторону площади. Подтащил лавки, расставленные на площади и уже обгаженные благодарными жителями. Илья, внутренне содрогаясь, плескал спиртом на спины французских хулиганов и легко чиркал саблей поверх смуглых спин, выводя буквы, что образуют послание. Сухая кожа с охотой расползалась в стороны, раны наполнялись кровью, пленники все равно не просыпались, их тела были скованы сном, действие наркоза было поразительным. Одних Илья подвешивал на веревке, затянув петлю под руками, других клал на лавки спиной вверх. Наконец ужасное послание было готово: по букве на человека, пришлось сделать несколько заездов за материалом. Один здоровяк успел даже метнуть камнем из пращи в грузовик писателя, видать, не давно приехал из саванн. Все расположились в различных позах, кто-то даже сполз на бок, но в целом, инсталляция, что надо, впечатлит кого угодно, правда, многие почувствую разочарование, узнав, максимум, что грозит несчастным жертвам после пробуждения – это пластическая операция. Собственно в послании нельзя было найти ничего сенсационного, буквы, вырезанные на спинах бунтарей, складывались в угрозу: "В назидание прочим!". Примерно через день после охоты за бунтовщиками почувствовал мягкий, но пристальный взгляд следивших за ним глаз. Непонятно кто, из окружавших Сент-Джона в каждый из моментов его пребывания в Париже людей, находился около него не случайно. Не исключено, что они менялись ролями, передавая друг другу своеобразную эстафетную палочку. Скрыться от них не представлялось возможным: как можно скрыться от того, кто не существует или кого ты не знаешь, им способен оказаться любой. Ильей овладела паника, и он решил оторваться от преследователей. Он находился в отличной форме: быстро бегал, мог спокойно перемахнуть через высокий забор. Иные бы потратили на это не одну минуту. Единственное, что мешало Сент-Джону избавиться от преследователей: он не знал их в лицо. В отличие от Джозефа Сэммлера ему надо было знать наверняка, какой из горожан угрожает его жизни. Илья не мог просто так учинить побоище и скрыться затем с поля боя. В его действиях не было стихийности, порыва, страсти. Он всегда действовал по плану и никогда не перегибал палку. Илья пробовал заходить в людные места, дабы запутать там следы и выбраться, скажем, через черный ход. Но ничего не помогало. Скрытый соглядатай неотступно следовал за Сент-Джоном. Лишь изредка безликий шпион позволял угадать свое местоположение, внешность, детали одежды, но тут же ускользал, растворяясь в витринах магазинов, соскальзывая с полированной черноты автомобильных бортов. Неутомимый преследователь надменно раздваивался в невинных парижан, уносящих в разные стороны характерные черты преследователя. Стоило мистеру Риверсу на долю секунду изменить поворот головы, тотчас полицейская ищейка присаживалась на бульварную лавку, полностью занятую такими же невзрачными людьми, как и он. Уделом призрака-шпиона было вечно маячить на периферии зрения, моментально преображаясь при попытке более детального рассмотрения. Он незамедлительно таял в толпе, рассеивался, как дым, как утренний туман. Поняв, что ему не суждено как следует насладиться красотами парижской архитектуры, Сент-Джон быстро купил билеты на поезд до Петербурга, а сам, рискованно перепрыгнув на соседнюю платформу, заскочил в электричку до аэропорта. Первым же рейсом до дома. В самолете ужасное ощущение пропало. Пассажиры мирно храпели, неотрывно смотрели в окна или нервно переминались с ноги на ногу, ожидая своей очереди в туалет. Город неожиданно приветливо встретил спортсмена, газеты пестрели шокирующими заголовками, касающимися событий, виной которых был Сент-Джон. Наиболее инертные издания, претендующие на статус аналитических, не желали пускать непроверенную информацию, правда, затем отыгрывались на названиях статей: "Ответный удар французских спецслужб", "Европейские страны всерьез рассматривают вопрос об исключении Франции из евросоюза". Шумиха была страшная. Но Сент-Джона Риверса заботил уже иной вопрос. Во всех странах не соблюдалось разумного соотношения между силой государства и положением граждан. Франция поразила его беспринципным нахальством черни, подобной переростку-птенцу, попрежнему раскрывающему рот в надежде поживиться даровым кормом, который ему будут носить угнетенные родители. В России и намека не было на подобного рода проблемы. Здесь на его родине, на которую он взглянул новыми глазами, всю власть, всю свободу прибрали к рукам властные структуры и богатые компании, пользующиеся безгласностью толпы, приученной работать, трудиться просто так. Фундаментом сооружения, именуемого Россией, был страх, угрозы, обычай немо сносить побои. Люди терпели нужду не от случайного недосмотра властей, а из-за планомерной политики, все знали о проблемах царящих в стране, но никто не торопился их исправлять, что-либо предпринимать. Люди возмущались, не когда им плохо жилось, а, когда были отрезаны пути к отступлению. Но до поры до времени и сам СентДжон не торопился работать над оформлением этих идей в стройный свод предлагаемых реформ, скорбные представление о российской действительности безмолвно пережидали в его душе период оформления, становления, когда бы наш сумрачный герой мог сформулировать их сам и что-нибудь предпринять. От природы он был молчаливым, человеком действия, идеальным исполнителем срочных поручений, но он не мог взяться сам за превращение в жизнь собственных глубинных представлений о правде. Ему нужна была помощь людей творческих, идейных вдохновителей, чьи бы точки зрения хотя бы приблизительно совпадали с его позицией относительно положения дел в стране. А пока наш сумрачный демон систематизировал собственные знания относительно того, как можно победить человека саблей или выстрелом из ружья. Сент-Джон совершенствовал навыки стрельбы по подвижным мишеням в засаде и на бегу. Ведь вначале случались всякие курьезы: он сбивался с бокового шага с пересечением ног на фронтальный, что было не всегда удобно, когда требовалось не бежать на противника, а по окончании стрельбы скрыться за стеной. Приставной шаг он отмел сразу: прыжки очень сильно уменьшали точность попадания по цели. У друзей тренера по спортивной стрельбе он купил на призовые деньги оптическую винтовку. И по вечерам тренировался, паля по крышкам от бутылок в рядок, прилепленных скотчем к забору. Все чаще и чаще Илья отдавал предпочтение ночным тренировкам. Днем он начал носить темные очки, чтобы не уменьшать чувствительность глаз. Перед вечерними походами он ел сладкое и пять минут освещал глаза красным светом: подобные операции увеличивали способность различать предметы в темноте. Кроме того, Илья Соболевский тренировал технику бесшумного шага, тихого дыхания. Нельзя не признать: медленно Сент-Джон Риверс превращался в совершенного ночного убийцу, который был бы способен, подкрасться к жертве вплотную так, что даже волосок бы не шелохнулся на ее голове. Было важно не дать распознать себя и четвероногим друзьям человека, для этого по рецепту старинных книжек Сент-Джон посыпал свои следы одним редким сортом табака, забивавшем все остальные запахи и лишавшим обонятельной чувствительности большинство собак. Чтобы случайно не стать жертвой дактилоскопической проницательности, Сент-Джон надевал на руки длинные, до локтей, перчатки из синтетической ткани, кроме того, в салоне татуировок, пирсинга и других противоестественных ухищрений Илья выжег отпечатки пальцев. С началом зимы он записался на курсы в цирковом училище, где его учили быстро забираться по вертикальным предметам или в экстренных случаях без повреждений достигать земли, падая с приличной высоты вниз. Сент-Джон бесшумно вылезал по ночам, продолжая дело, начатое в неспокойном Париже, шнырял по самым диким и опасным местам, где было больше всего шансов столкнуться с неприятностями. Илья учился перемещаться незаметно, он пригибался, долго ходил на четвереньках, гусиным шагом, ползал по-пластунски. Держался стен, наименее освещенных участков, подвалов, подворотен. Илья в определенном смысле лишился человеческого облика. Лишь один факт свидетельствовал в его пользу, то, чем он занимался во время ночных путешествий. Говоря языком стороннего наблюдателя с атрофированным, притупленным чувством справедливости, а заодно юмора, бывший спортсмен специализировался на нейтрализации незаконных вооруженных бандформирований. Сент-Джона не останавливала даже мысль о гипотетической справедливости их деяний. Странное соединение нескольких противоположных качеств: эмоциональной заинтересованности и сухого, рационального, выверенного до мелочей исполнения: приносила свои плоды. Не раз приходилось ему останавливать сборище полоумных разбойников, избивающих своего собрата за внутренние провинности. Используя альпинистское снаряжение, народный мститель планировал с крыши ближайшего дома к месту преступления попутно калеча виновников. Когда воздушным путем Илья достигал требуемой точки, он отстегивал карабин от каната и продолжал прицельную стрельбу на земле. Бывало так, что бандиты начинали отстреливаться, только в последний момент они понимали: состязаться с незнакомцем в меткости было непростительной ошибкой, ибо он без конца вытанцовывал, перебегал с места на место, наклонялся и приседал, и попасть в него было невозможно. Иные принимали решение ввязаться в ближний бой, ответ любезного поборника справедливости следовал незамедлительно. Едва противники достигали расстояния в три метра, он выпускал из рук винтовку, и она на резинках уносилась к его спине, а с левого бока выхватывал саблю. И уже первое действие было для одного из бандитов роковым, потому что сабля вынималось лезвием вперед. Илья инстинктивно никогда не собирался лишать злодеев жизни, но всегда считал, скольких ему удалось вывести из строя. Постепенно радетель за чистоту нравов пришел к выводу, что на этом можно было бы неплохо зарабатывать: опорожняя полные кошельки бандитов заместо случайных бродяг. Кошельки он быстро кидал в сумку и покидал бандитов. Деньги брал себе, кошельки, документы сжигал. Он видел множество ночных побоищ, в которых не было ни правых, ни виноватых, но после которых оставались десятки безжизненных тел. И почему-то об этом не писали в газетах и не рассказывали в новостях, и утром безлюдные пустыри были чисты, как стеклышко, и заново покрыты белым снегом. В таких случаях Сент-Джон обходил места сражений стороной. Когда солнце поило теплом противоположную сторону Земли, пристально с крыш домов Сент-Джон наблюдал за беззвучными действиями сомнительного облика молодежи под руководством людей в форме. Они проходили один и тот же маршрут по десятку раз, а командиры им что-то говорили и показывали. Когда подъезжало пятно милицейской машины, в ответ раздавалось: "Следственный эксперимент…" Но на следующий день группа вчерашних лоботрясов избивала толпу веселых беззаботных граждан, находившихся в легком подпитии. И нападение совершалось уже по заученному маршруту. Но разве мог следственный эксперимент проходить до совершения преступления? К тому времени Сент-Джон уже вовсю летал на своем маленьком безмоторном планере. С детства мальчик боялся высоты, испытывал страх перед панорамным изображением окрестностей вживую. Подобно титану из античных мифов он боялся оторваться от земли, которая питала его силы. Его не столько ужасал видоизмененный облик земной поверхности, сколько знакомые люди и, вообще, люди на фоне расстилающейся неподалеку бездны. Пустота, воздушное пространство без преград под ногами являлись для него чем-то вроде тошнотворной инъекции неуверенности. На отметке нулевой высоты страх мгновенно улетучивался. И вместе с тем он всегда мечтал научиться летать. Однажды ему представилась такая возможность. Когда он приобрел на вырученные тайным ремеслом деньги свой планер. Не было никакого страха, будто принципиально разными были вид местности из окна и ее облик чрез пустоту самостоятельно покоренной стихии. Или действительным следует признать краткое объяснение, приведенное некогда Вергилием: "То боги ли жар нам в душу вливают,//Или влеченье свое представляется каждому богом?" В случае экспериментов Сент-Джона полеты очень верно закрепляли за собой понятие воздухоплавания. Снизу вид его планера напоминал очертания живущих в воде личинок веснянок либо стрекоз, только крылья, оттопыренные в направлении перпендикулярном телу, портили идеальное сходство. Чтобы перемещаться не только под действием воздушных потоков, Сент-Джон хитроумно прикрепил к обеим ногам приспособления, являющиеся гибридом ласт и вееров, опахал. Ноги прикреплялись к невесомому остову планера посредством коротких упругих бинтов, поэтому поддерживать их в вытянутом состоянии не составляло никакого труда. Подобно глубоководным пловцам, лениво пускающим пузырьки в зеленоватых глубинах южных морей, Сент-Джон работал ластами, а когда надо недвижно парил в толще изменчивой стихии. Но отважный пионер надземных пространств опасался летать по ночам (в иное время суток он представлял собой заурядного студента) над рекой. Теплый поток воздуха подхватывал юношу и уносил вверх. Сент-Джон боялся бездонных глубин неба, боялся раствориться в бездушных просторах звездного неба. Пролетая гигантским насекомым над коварными злоумышленниками, науськанными поддельными милиционерами, что избивали беззащитных пешеходов, возвращавшихся из кинотеатра или клуба, закончившего на сегодня работу, Сент-Джон загорелся желанием восстановить справедливость. Но чересчур неравны были силы. В сомнении кружил ночной спаситель над переулком бесправия и возмутительных заговоров. Пришли на память юноше строки великого римского поэта: "Каждому свой положен предел. Безвозвратно и кратко// Время жизни людской. Но умножить деяньями славу -// В этом доблести долг." Утихли споры в суровой душе заступника угнетенных. Решение достойное принял он: спуститься вниз и трепку бандитам задать. Крылья и несущая поверхность планера прозрачными были, а костюм Ильи целиком черным. Описанное обстоятельство вкупе с тем, что уличное освещение не позволяло разглядеть ночное небо в деталях, делало нашего героя абсолютно неприметным. Сент-Джон, кипящий благородной яростью резко спикировал вниз и отсек до плеча руку хамоватого жлоба. Пенистая кровь оросила безмятежную гладь мостовой. Увечное тело постояло некоторое время, стуча ногами, затем рухнуло в грязь. 154-ую жертву записал на свой счет небесный мститель. "Такой трюк я бы назвал Dirty Joker, - улыбнулся под маской Сент-Джон, вспоминая об известной песне Slade. А вдруг виновниками в моих поступках назовут этих безобидных горожан? Надо провернуть что-нибудь, что выглядело бы сверхъестественным!" Сент-Джон мчался на крыльях, почти касаясь брюхом серого асфальта. Перед ним вырос разгоряченный придурок в дерюжной шапке, еле держащейся на кончике головы; меткий выстрел в бедро и подлетающий боком демон подхватывает подстреленного хулигана и уносит вверх. Захваченный охламон был тяжелее Ильи килограмм на двадцать, но он безвольно поник в стальной хватке небесного мстителя, словно барашек в когтистых лапах орла, спутника Отца всех богов. Небрежно Сент-Джон Риверс бросил пленника на крышу подсобного помещения, склада или районного трансформатора. В панике хулиганье разбегалось, кто куда. Для пущего эффекта требовался еще один: долговязый, бритый недоумок бежал на расстоянии пяти метров под Ильей. Его ущербная, обездоленная физиономия даже не обещала никаких интеллектуальных богатств. Работая энергично ластами, юноша, наконец, настиг беглеца. Мелькают фонари один за другим, гараж за гаражом, еще немного. Сент-Джон вцепился в капюшон. Но жертва оказало неожиданно упорное сопротивление, оттолкнув небесного мстителя. Воздушный поток чуть не перевернул Сент-Джона, но он сохранил равновесие. Инстинктивно Юноша вцепился в кисть хулигана. Тот на бегу пробовал высвободить руку. Вотще, ничто так не развивает человеческую кисть как занятия сабельным фехтованием! Хрустнули пальцы хулигана, вырываемые из суставов: молодой мистер Риверс летел вверх. Остановился он у верхушки уличного фонаря. Левую ногу под горизонтальной частью фонарной дуги, а другую поверх. Так он стоял на фонаре и подвешивал к нему пленника, после завершения операции, Сент-Джон резко обернулся: свидетель женского пола внимательно наблюдал с изумленным видом за манипуляциями небесного мстителя. Сент-Джон покачал головой и поднес палец к губам. Но девушка не отошла от окна. Тогда он спланировал к окну, припугнув нежданную гостью. Та испуганно зашторила занавески и юркнула вглубь комнаты. Удовлетворенно Илья изменил наклон крыльев, устремившись вверх. Окна напротив, одно за другим падали вниз. Юноша ощущал лицом тепло, струящееся от стен дома. По мере своих скромных сил наш герой пытался исправить мир, превращая его в место, более пригодное для обитания. В своей деятельности он искренне следовал внутренним представлениям о справедливости, добре и зле. Он надеялся быть милосердным, хотя редко испытывал сострадание к чужому горю. Но он педантично следовал избранным установкам. Он путешествовал по вечернему метро, когда в районе одиннадцати часов переходы между станциями получали возможность свободно вздохнуть, выпроводив всех пассажиров. По опустелым коридорам стояло еще много старушек, еще не потерявших надежду немного поправить свое материальное положение. Не все просили милостыню, одни торговали газетами, другие предлагали игрушки или никому ненужные мотки шерсти. У мирно царящих в сытых квартирах домохозяек сердце бы разрывалось при виде скорбного зрелища. Но они предпочитали закрывать глаза. Сент-Джон никогда не страдал. Он проходил и каждой старушке давал по тысяче рублей, вырученных в результате его ночных подвигов. Он никогда не питал иллюзий насчет сути своих деяний, добродетельные поступки он совершал не под действием сострадания, не из внутренних потребностей быть человечным и помогать ближнему. Но при расставании с очередной синей бумажкой Сент-Джон ощущал невероятную легкость, воздушность. Он знал, что поступает правильно, благостное удовлетворение пронизывало все его существо. Денег требовалось все больше, но возможности Ильи были небезграничны, к тому же на обычный грабеж был наложен запрет. Илья раз и навсегда решил, что обычный человек для него неприкосновенен. Нужен был принципиально иной выход из ситуации дефицита средств. Помимо всего прочего, время, которое могло пойти на охоту за хулиганами, было ограничено соображениями конспиративности. СентДжон свято их чтил. Он даже думать боялся о том, что произойдет после его разоблачения. Все знают, как поступать с угрозами, предназначенными им самим, но никто не возложит на себя заботы о безопасности членов своей семьи. Это ахиллесова пята всех супергероев. Илья Соболевский отлично помнил времена парижских слежек и ему не раз приходилось просыпаться в страхе, оглядываясь по сторонам в ожидании встречи с тайными агентами. Но глупо было бы полагать, что полиция и иные властные структуры не заинтересуются им или одним из проявлений его многоликой деятельности. Камеры слежения не раз передавали загадочные кадры раздачи денежных средств населению на территории метрополитена. С этим трудно было что-либо поделать, но Сент-Джон закупил в магазинах подержанной одежды кучи тряпья и все время появлялся в разной одежде и никогда не показывал камерам лицо. Более того, однажды за приличные деньги группу ребят своего роста уговорить помелькать перед камерами во всех этих нарядах одновременно, дабы окончательно сбить с толку добросовестных следователей. Положение дел осложнялось и проблемой иного рода. Морозным декабрьским вечером он стал свидетелем избиения какойто старухи, торговавшей на ступенях выхода из метро, здоровенным служителем порядка. Никаких иллюзий насчет избранности женского пола в отношении изящества, утонченности, природной нежности он не питал, просто он хотел разнять дерущихся. Сабли он с собой не взял, а без стальной подруги справиться с дурачиной оказалось невозможным. Тот уже забыл о старухе и крепко вцепился в воротник пальто Ильи. Посидеть денек в заточении у ментов никак не входило в планы Сент-Джона, моментально он вырвал пистолет из кобуры у скотоподобного жлоба и выстрелил в толстую, по-свиному жирую шею со свисающей, дряблой кожей. Насмерть! Как рыба, толстяк хватал ртом воздух и картинно размахивал руками, очевидно, надеясь привлечь к себе внимание людей. Но из уст его, на которых смерть уже запечатлела роковой поцелуй, не вырывалось ни слова. Раздавался лишь ужасный клекот и нечеловеческие хрипы. Парень еще не понял, что с ним произошло, хотя серая куртка вся почернела от крови, а воротник, устеленный овечьим мехом, прилип к спине. Кровь лилась струями отовсюду: из дырке в шее, изо рта, из носа, но здоровяк еще стоял, надеясь на спасение. Внутри него словно бы прорвало плотину, и кровь покидала казненного, подобно реке, пробившей стену водохранилища. Раненный блюститель порядка раскинул руки по грязной лестнице и ревел медведем. Ошарашенный Сент-Джон смотрел некоторое время на громадное тело милиционера. Звук выстрела заставил людей остановиться и пасть на ступени. Безнаказанным бежал Илья с места преступления, пистолет захватив с собой. За произошедшим событием последовал один самых сложных отрезков жизни Ильи Соболевского. Но он чувствовал, выдержи он напор судьбы в данном случае, потом он справится со всем. Он понимал: государство ни о ком не будет заботиться так, как об исполнителях своих приказов, своих руках. "Проблемы для меня начнутся о-го-го какие!" – говорил после убийства сам себе Сент-Джон. Вероятно, он преувеличивал. Потому что в итоге ничего не произошло. Он не принимал во внимание свою изворотливость, сверхъестественную находчивость. Под угрозой находилась не его жизнь и даже не его свобода, а, скорее, его репутация абсолютно безопасного, беззубого гражданина. Страшно было не обвинение, а подозрение, внимание к нему, как к человеку не вполне обычному, опасному, пусть бы это даже не было никому известно наверняка. Чтобы получить алиби, Сент-Джон немного отбежал от метро и наняв машину через пять минут был дома. Оттуда он позвонил маме на работу и сонным голосом спросил, чем ему можно отобедать. Затем он начал соображать, как поступить с орудием убийства. Ведь в принципе нет ничего трудного так спрятать в Городе пистолет, что бы его не нашли ни милиция, ни все службы вместе взятые. Обычно людей подводят страх перед разоблачением, паника, а от того предсказуемость их действий. Ясно, нельзя оставлять оружие дома, нельзя подкидывать соседям по дому, и другим людям. Те, скорее всего, сразу сами подадут голос, обратившись в милиции. Тогда пиши пропало! Пойдут расспросы, а кого вы тут видели незнакомого? Не показалось ли вам в нем что-нибудь необычным? Всегда найдется свидетель, взявшийся черт знает, откуда, вставший с инвалидного кресла в этот день первый раз за десять лет! Надо, чтобы пистолет пропал бесследно. И смотрите же, какая загвоздка получается! Положишь улику в обычное для тебя место, найдут улику, а затем отлавливать и тебя будут, мол, ты там часто ходишь, чегото выискиваешь, вынюхиваешь. А решишь запрятать в неизвестное для себя место, куда зайдешь в первый раз, так припомнят тебя местные жители, если место безлюдное тем более, а в людном месте пистолет отыщут скоро. Что же делать-то? Выхода, как будто и нет. Куда же выкинуть злосчастную железку, прилипшую к рукам навечно? Мир стремительно сужался до размеров комнаты следователя, в которой он, как нечего делать, отыщет мерзкий пистолет. И некуда бежать, мы уже под прицелом, муха, накрытая стеклянной банкой и бьющаяся о стенки, приходит на ум в поиске сравнений. Итак, по любому, как ни крути, у нас преимущество во времени, за нами привилегия сделать первый шаг. Поэтому правильнее будет не горевать, сложа руки, а спешно принимать меры, кроме того, ничего особенного не произошло: Рубикон перейден уже лет пять назад. Важно было смыть все следы рук Ильи на этом пистолете. Юноша взял пистолет резиновыми перчатками и пошел драить его в стиральном порошке. С этим покончено. Теперь выдумаем место, которое скроет оружие на века, проглотит его, превратит в небытие, испепелит. Универсальный аннигилятор, что-нибудь нестандартное. Нужен свежий взгляд на проблему игры в прятки. Поступило первое предложение, звонок от телезрителей, але, мы Вас слушаем, Вы в прямом эфире. Говорите! Положить пистолет туда, где его пребывание не будет выглядеть странным. Поясните, что вы имеете в виду? Например, в ментовское хранилище или к стрельбищу подкинуть? Хорошо, действительно, неожиданно, подкинуть в стан врагу, каково! Глухой, беззвездной ночью, Сент-Джон, пугаясь теней, бежит проулками к милицейскому участку. Садится перед слепым окном, прислушивается. Вспарывает гнилую дверь. На мысочках ступает по скользкому полу, ища оружейный склад. Но все полки пронумерованы, везде по одному истекающему маслом чернокожему убийце. Положим в стол нерадивому сотруднику, авось, переворачивая залежавшиеся папки, найдет его через год. А вдруг он только с виду такой неаккуратный и уже через неделю заявит о подложенном пистолете в органы. Все пистолеты пронумерованы и проницательные аналитики в очках с зубами, изъеденными кофе и сигаретным дымом, мигом поймут, кто наведался к ним в участок. А вдруг получиться стереть номер? Он выгравирован. Запаять? При использовании современных методов, подлог будет очень быстро выявлен. Что ж спасибо позвонившему нам телезрителю! А на очереди уже несколько участников нашей телеигры: помоги заныкать пушку дурачку из Готтем-сити. Предложение № 2: мы все обратились в слух. Пожалуйста! Необязательно фиксировать оружие на одном и том же месте. Но разве постоянные рейды с пистолетом в поиске новых тайников, не делают шансы полиции перехватить убийцу более высокими? – опять встревает неугомонный ведущий. - Вы немного неверно истолковали мое предложение. Наш револьвер будет находиться на одном месте, перемещаться будет само место. - Да, - ведущий явно не понимает о чем идет речь. - Например, прикрепим пистолет, предварительно замаскировав его, к общественному автобусу. По возможности новому, чтобы ближайший ремонт нескоро бы раскрыл наш секрет. Кому, извините, придет в голову осматривать общественный автобус. Все дело в том, что мы вышли за грань стереотипического мышления, так не поступают, привычка и убийц, и полицейских, здравый смысл говорит им, что такого быть попросту не может. Попробуем представить себе сцену вторжения Сент-Джона на территорию автобусного парка, а как бесшумно забраться в автобус? Ладно, как-нибудь раздвинет дверцы автобуса, сидя на корточках, распарывает сиденье, вынимает поролон, кладет внутрь источник бед, а сверху снова закладывает набивкой и зашивает. Но в темноте трудно шить, да он и не умеет, лампочка на лбу выдаст его врагам. Тяжело! Может, скотчем к днищу автобуса. Так лучше, но не будет ли это мешать исправной езде здорового автобуса? Трудно сказать. - А сторожа и прожекторы на тюремный манер для Сент-Джона не помеха? - Он сумеет ускользнуть от них, как туманная дымка, словно видение, вторгшееся во владения наших дней по ошибке, мимолетный призрак сомнения, немой посланник Елисейских полей. - Действительно, оригинальный способ избавиться от надоевшей штуковины, липнущей к рукам, избавляться от которой опаснее, чем хранить поблизости от себя. Но не будем останавливаться на достигнутом, сохраним порыв творческого рвения, жизнь – процесс поиска вариантов и оценки их применимости. Вообразим непригодность последнего метода, изыщем новых способов рой бесконечный. Соблазнительно попытаться закинуть орудие убийства подальше от города, в котором оно, к несчастию было совершено. Самому ехать опасно, сорваться с места, если ты под наблюдением, - неверный, раскрывающий шаг, он снимет, сдернет с тебя покров неуязвимости. Ждать до последнего, делать вид, будто тебя это касается в последнюю очередь. С вопрос доставки все понятно. Но кто согласится перевезти пистолет и избавиться от него в другом городе? Предложим проводнику поезда перевезти револьвер в своем купе. С одной стороны, в поезде места гораздо больше, чем в самолете, с другой, стюардесс проверяют серьезнее проводников, если, вообще, проверяют. Но неразумно выбрасывать в другом городе – оружие будет найдено очень скоро. В принципе, проводники хорошо знают маршрут поездок, в какое время, какой объект. Думается, проводник не откажется выкинуть смертоносную железку в глубокую реку, во время переезда по мосту, за солидную плату. Мост следует выбирать аккуратно, обычно с обоих концов мост сторожат зоркие охранники, желая обезопасить сооружение стратегической важности от подрыва и всяческих повреждений. Итак, решено, выбираем молодого проводника без комплексов, объясняем ему суть задачи, называем приблизительную сумму. Обещаем заплатить столько же по возвращению при наличии названия реки и времени сбрасывания. Внушим ему существование не только отправителя, но и получателя, так надежнее, появится дополнительный стимул: ожидать подтверждения с той стороны и обещанной суммы. Сент-Джон появится в гриме, парике, с накладными усами, пистолет отдаст в глухо запечатанной коробке, набитой смесью песка и пенопласта, дабы коробка опускалась в воду медленно, насколько это возможно. В этом случае течение снесет предмет достаточно далеко, и никто не обнаружит его связи с мостом и поездом, по нему когда-то проезжавшим. Такой исход милее прочих нам, нескоро будет найдено оружие, а там и забвение нахлынет глубокой волной и поглотит суеты минувших дней, разочарований смолкнет ярость и скрежет зубовный поверженных жертв, взывающих к нам из могил. Решений одной проблемы, если на итоговый результат не накладывают дополнительных условий, сводящихся к намекам на уже кому-то известное решение, существует много. И никому неизвестно точное количество этих самых решений, ибо в любой момент ищущему решения может придти в голову новый ответ, новый способ, иная версия, и на одно решение станет больше. При изобретении новых способов запрятать пистолет, следует учитывать индивидуальные особенности исполнителя. Так вот Сент-Джон со свойственной ему скрытностью любил путешествовать по подземным лазам, коридорам искусственного происхождения. Назначение у подобных лазов было совершенно разное: канализационные ходы, вентиляционные, вспомогательные коридоры метрополитена, для прокладки проводов электроснабжения и каналов связи. Чаще всего внутри было тесно, темно, тепло и влажно. В местах другого рода сверху лилась дождевая вода, затекающая по мостовой в зияющие отверстия, частично загороженные тяжелыми решетками. Отчего-то очень многие путали излюбленные им лазы, подобные катакомбам южных городов, горным пещерам или извилистым штольням промышленных городов Хибин, с устаревшим вариантом канализационных труб, проводящих отработанную воду и продукты туалетного промысла. Концом сабли Илья цеплял круглый, граненый люк, откладывал гремящую громадину в сторону и заползал внутрь, надвигая крышку на стремительно сужающийся небосвод. К подземному роду своей деятельности Илья Соболевский готовился совершенно по-иному, нежели воздушному: надевал резиновые сапоги с тонкой рифленой подошвой, непромокаемые синтетические штаны, перчатки, фонарик на голову, каску и значок, изображающий трех псов. Иногда приходилось пользоваться кошками, веревками, системой спутниковой навигации. В последнее время Сент-Джон начал прибегать к маркерам, различимым в ультрафиолетовом свете, так немного легче было ориентироваться в лабиринте переходов, стыков галерей и непонятно откуда возникающих разветвлений. С теоретической точки зрения, система подземных коммуникаций соединяла все участки Города и подмосковных городов в единую, хотя и фрагментарную сеть, в смысле крайней ее неоднородности. И порой очень трудно было отыскать то самое ответвление, ведущее в новый район вроде Митино или Строгино. Вспомним хотя бы, какие проблемы подстерегали главного героя романа Кальвино «Барон на дереве» в начале его странствий! Подземелье казалось изнутри царством хаоса, впечатление это усугублялось небрежным вмешательством человека, наспех бросающего в ненавистном ему царстве орудия труда, строительные материалы, иногда своих собратьев. Вглядываясь в темноту, настороженно держась руками за стену, Сент-Джон медленно двигался вперед. Громкие звуки неясного происхождения часто отвлекали путника от намеченных целей. Как-то Сент-Джон решил свернуть с основного направления разведки и пошел в сторону неясно гудевшего шума. После прогулки по отвратительному бездорожью царства вечной тьмы он оказался перед наглухо запертой железной дверью, за которой жужжали таинственные механизмы, а дверь тряслась от их судорог. Пользуясь нехитрым набором подручных инструментов, Сент-Джон все-таки взломал дрожащую дверь. Изнурительная прогулка в выходные увенчалась открытием сомнительной ценности: часть подземных лазов выходила в широкие тоннели третьего автомобильного кольца. От них веяло ночью и скукой вечеров, проводимых в богатом довольстве, веяло пресыщением и усталостью. Назад в мой грот! – Воскликнул Сент-Джон, отшатнувшись. Подвалы большинства старых домов контактировали с городской сетью коммуникаций. Внутри сумеречных коммуникаций обитали мыши, крысы, комары. Под потолками ночевали грозди летучих мышей. Собаки и дети кошачьего племени забегали сюда от холодов и, заметив разницу, предпочитали пережидать зиму во владениях Плутона. Кошки лакомились серенькими грызунами, собаки бегали до ближайших свалок или рынков. Кров вместе с ними делили редкие гости из мира людей, те его представители, которые утратили свой человеческий облик и были потеряны для общества жестокого ко всем проигравшим и неудачникам. Но обретенный дом оказывался ловушкой для большинства клошаров, которые, запутавшись в катакомбах, мерли с голода, погибали из-за обваривания в кипятке из прорываемых труб или, ослабев, служили предметом пищи громадных крыс. Внутри катакомб было тепло и в самые лютые морозы, вообще они представлялись Илье отдельным миром, почти бесконечным и совершенно безопасным. Исключение представляли частые в иных кварталах водопроводные люки, ведущие на поверхность улиц или районных дворов. Планомерно и упорно велось освоение подземной составляющей Города Сент-Джоном Риверсом. Пройденные магистрали он отмечал на картах и пользуясь компасом пробовал исследовать еще неразведанные участки, вернее, пытался найти к ним доступ, отыскать небольшую, но очень важную лазейку, позволившую бы объединить основную систему с, скажем, лабиринтом, находящимся территориально под одним из районов. Стены источали гнилую сырость и удушающее спокойствие погребенных заживо. В других местах наружу проступала сырая земля, иногда сыпучая, иногда черная, вязкая, материал селевых потоков, впавший в анабиоз. Плесень также облюбовала эти края, но наиболее теплые и влажные из них. Существование подобного увлечения в жизни Ильи Соболевского чудесным образом совпало с его потребностью в надежном хранилище, которое очень долго бы оставалось недоступным. Запоздавшее озарение заставило исследователя земных недр приободриться и собраться в серьезных поход по местам изведанным и не очень. В праздничные дни Сент-Джон ловко улизнул от торжественных церемоний и, подобно смертельно напуганному зверьку, заползающему в родную нору, погрузился во мрак вечной ночи. Не один день продолжался поход Сент-Джона, он двигался вглубь, все дальше и дальше. Давно закончились территории, помеченные ультрафиолетовым маркером, пошли абсолютно неизвестные коридоры, чуть ли не доверху заваленные всяким хламом. Пробираться приходилось ползком. Царство Аида и Персефоны предъявляло серьезные требования к физической форме дерзкий гостей, посмевших нарушить вековой покой. Своды галерей то тут, то там были разрушены. Обходные пути утомляли своей несговорчивостью, постоянными поворотами в ненужном направлении. Сент-Джону начинала мниться их кольцевая структура, возвращающая его в начальную точку. Но природный инстинкт норного животного давал о себе знать: Илья использовал малейшую щель для продолжения маршрута, увеличивая ее сверлами, кирками, молотками. Атмосфера явно накалялась, интерьеры становились все более причудливым, фантасмагоричными, плодами воображения заболевшего, отвергнутого коллегами архитектора. Сквозь щели в низких сводах катакомб, иногда проступали далекие пространства высоких залов, покинутых людьми и непонятно кем сооруженных. Позже во внутреннем котловане Сент-Джон обнаружил старинный вагон метрополитена, без стекол с покоробившейся фанерой на стенах, с кожей на сиденьях, изъеденной мышами. Весь помятый, забытый, заброшенной сюда неизвестной силой. Или когда-то здесь проходила подземная железная дорога? Но куда и где она брала свое начало, для каких целей предназначалась, кто пользовался сим путем украдкой для тайных нужд? Длинный реестр вопросов, и меланхолично внимающая восторженному юноше пустота. Подчеркнуто строгая на фоне вполне сохранившихся стен прорисовывающегося вдали тоннеля. Через силу бредет утомленный путник к тоннелю, ибо других путей не дали ему могущественные мойры. Стал садиться фонарик, не смыкавший давно уже глаз. Долгожданный тупик предоставила Сент-Джону Фортуна. Совсем уж из сил выбился путешественник, нелегкую стезю избравший. Обильем фильмов приученный к заумным трюкам Сент-Джон воспользовался вентиляцией. Как назло была она забита нечистотами, пылью, липкой тухлятины смрадом. Наконец пошли знакомые ландшафты: водопроводных связка труб, проржавевших вконец, нелогичные тупики, ответвления. Один из завалов показался герою особенно впечатляющим, верхушка его под потолок уходила надменно. Тут пожелал похоронить ненавистное бремя Сент-Джон. И кучи песка разгребать лопатой принялся с удвоенной силой. Он отшвыривал в стороны валуны, булыжники, обломки стен и арматуру, гнилые доски. Устав так, что не было сил поднять руки, Сент-Джон похоронил браунинг в пыли разрушенных стен и стал заваливать его всякими отбросами. Через час упорной работы Юноше казалось, будто он вылеплен из снега, а сейчас жарится на центральной площади прокуренного, пропитанного жарой мегаполиса. Руки обмякли и при соприкосновении с любым тяжелым предметом инстинктивно разжимались, словно прибор, отключаемый от источника питания. Руки сводило, и они моментально разжимались без сил. "Знак свыше", - не без радости заключил Илья и начал подумывать, об обратном пути. Он потерял счет дням. Время растягивалось в его сознании нелепой спиралью, незакрепленной пружиной, колеблющейся туда-обратно. Тело в изнеможении дрожало, а ноги в суставах легко подгибались, и СентДжон в изумлении обнаруживал себя валяющимся на земле. Но он постарался забыть об усталости, об опасностях, грозивших ему со всех сторон, и медленное восхождение принялось ход набирать. Да, СентДжон решил подниматься именно здесь, так как по земной поверхности, освещенной небесными светочами, добираться было гораздо быстрее и надежнее. Сквозь трещины, ужасно разевающие беззубые рты, вверх с надеждой на спасение. Слои камня и бетонных плит сменились гнилыми досками. Как крот, широкими лапами роющий землю, хватался мистер Риверс мозолистыми, истертыми руками за края карнизов, железных балок, торчащих из стен, за обломанные уступы и наугад двигался к небу из-под толщ земных пород. Продвигаться становилось все сложнее, непредвиденные обозначились препятствия: кучи трухлявого мусора, строительных отбросов, он проламывался под руками, рассыпался, но постоянно мешал, нависая над головой и грозя лавиной накрыть Сент-Джона, подобно обрушившейся скале, чьи обломки погребли под собой прикованного Прометея из трагедии Эсхила. Ну вот, пошли глухие подвалы, горячие трубы, обернутые драной фольгой. Не человеческий ли голос доносится издалека, звонким ручейком журчит музыка разговора? Какая радость, вздох облегчения заставляет содрогнуться грудь могучего героя. По наклонной поверхности, покрытой гладким кафелем, Сент-Джон с надеждой крепнущей ползет. Но скажем мы ему словами Тиресия из "Эдипа-царя": "Сегодня ты родишься и умрешь", ибо после того, как обессилевший путник окончил длительный подъем и вышиб деревянную дверь, то в ответ на вопрос о местоположении этого дома, малолетние дурачки ответили ему: "Вы находитесь недалеко от Тулы". Огорошенный чудовищным ответом, Илья поскользнулся, попытался пробиться через дверь, но она, несмотря на то, что была уже сломлена, вдруг не пожелала поддаваться, и юноша покатился вниз, чтобы проделать путь обратный подъему. Сизифовым трудом назвать бы можно было его старания, которых результат сейчас был обращен во прах. Напрасна сил разорительная трата! Воздуха в груди не стало, тенета наброшены сверху и лицо закрывают специально, чтобы наполнить легкие целебным эфиром не было сил. Хриплым голосом Сент-Джон кричал слова, никак не согласующиеся друг с другом, непонятен их смысл был никому. Лишь потом он обнаружил: никуда он не падает, а лежит в своей кровати, накрытый двумя одеялами. Рядом на столе располагалась кружка с жирно блестящей каемкой воды. С силой Сент-Джон втянул ноздрями воздух, из груди доносились посвистывающие звуки бронхита или воспаления легких. "Крепко я влип!" – пронеслось в голове у Ильи. Он опробовал встать из саркофага кровати, но означенный процесс оказался для него неожиданно трудоемким, и Сент-Джон остался в прежнем положении. Дома никого не было. Илья Соболевский безуспешно пытался вспомнить, как он все-таки поступил с кольтом, надменной уликой, свидетелем убийства. Вернувшись домой из школы, мама рассказала ему, что он заболел где-то полтора дня назад, когда завалился спать с болью в голове после длительной прогулки. "Странно, я был уверен, что прошла целая вечность, ну и дела!" Наш герой медленно выздоравливал, воскрешаясь от весомого удара судьбы. Застывая во время каждого шага, он старался припомнить: если он не запрятал оружие и никому не поручил этого сделать, то куда же оно пропало? В его памяти был зафиксирован процесс обдумывания места захоронения, но не осталось ни конкретных мест, ни лиц, ни сопутствующих всему происшествий. Достаточно длительный промежуток времени оказался вырезанным из хронологии недавних событий. Сент-Джон перерыл ящики стола, посмотрел во всех шкафах, на балконе. Прогулялся до опустевшей фабрики, у крыши которой он оставлял свой планер. Тщетно, пистолет словно растворился, растаял, провалился сквозь землю. Неодушевленный предмет обрел разум, надел маску и скрылся, не оставив следов. Потрясающе! Нет, надо вспомнить, воскресить событие одно за другим, по цепочке причинно-следственных связей добраться до ключевых эпизодов. Но когда реальность заменился сном, когда фантастические видения заменили вымышленным правдоподобием правду болезни врасплох захватившей Сент-Джона? Не раз нашего героя посещали такие грустные мысли: "Пускай, мне отыскать злосчастную улику мнится невозможным, но, вот, наконец, напавшие на след полицейские ищейки заявятся ко мне домой, в мою комнату, в мой уголок, разворочают здесь все кругом, перелопатят все мои вещи и, как назло, без проблем найдут неопровержимое доказательство моей вины!" Илья сидел как на иголках, в любую минуту ожидая звонка, рокового стука в дверь. Тихой, но уверенной рукой следователь постучится в дверь. Сводящее с ума ожидание приглашения на конфиденциальный разговор в кулуары следственных органов. Каждый день, как крупная победа над судьбой, как несказанное счастье свободы. Вспотевшие ладони мелко дрожат, судорожно сведенные лежат на коленях. Глаза невидяще уставились в одну точку. Время, воплотившееся в виде бесконечной клепсидры, не торопящейся отсчитывать жизненно важные секунды. Каждое мгновение - нестерпимой боли пытка, человека слышащего звук часиков Николая Аполлоновича. Но проходили дни, а никто его и не собирался разоблачать, может, ничего и не было? Никакого убийства, никакого пистолета. Сент-Джон и сам пытался стереть в своей памяти следы происшедших событий, пытался оттеснить их на периферию сознания, где бы они благополучно доживали своей век, никому неизвестные. Исчезали памятные ему подробности убийства, пропадали одно за другим, рассыпались неверным доказательством, хрупкими видениями сна. Кто знает, не исключено, все только снилось ему, вплоть до самого убийства, не говоря уже об истории с прятками. Все обошлось удачно. Но впредь надо быть бдительнее и не допускать подобных промахов. Будто бы случайно он поинтересовался у папы: "А стало что-нибудь об убийстве у нас около метро?" Папа удивился и спросил о том, когда оно произошло. Никто ничего не слышал. "Плод моего воображения обошел нас на сей раз стороной. Соприкосновение двух миров оказалось не столь катастрофичным, как могло бы, зайди бы опасные игры в аналогии подальше". Пережив кошмары, поднесенные ему сознанием заболевшего человека, Сент-Джон стал избегать рискованных операций, далеких походов. Все больше времени он проводил в размышлениях над тем, как бы ему сделать свое положение не таким зыбким, более надежным. В уме он держал картину твердой, но чересчур тонкой иглы, которая сломается от малейшего смещения усилия в сторону от оси. Постепенно мысли его сместились в сторону других событий. Все большую силу набирали слухи о грозящей в ближайшем будущем войне. От данного мероприятия было глупо ожидать чего-нибудь хорошего, ведь на ранних этапах подготовки оно напоминает тотальную ревизию общества и его резервов. В знак солидарности светская жизнь приглушает краски, уходит в тень, больше замыкается на себе. Также следовало бы поступить и Илье. На некоторое время придется меньше появляться на улице, не расхаживать в своем истинном обличье в дневное время суток. Если и бродить среди людей, то инкогнито. Хорошо бы к тому же стереть следы своего пребывания среди людей, заняться бы ретушированием истории следовало немедленно. Прежде всего "ночной гость" дал о себе знать в тошнотворных палатах районного военкомата, выкрав оттуда свое личное дело. Изыманием основного документа дело не окончилось, в шкафах, картотеках, кабинетах лежало множество разного рода справок, медицинских карт, журналов с упоминанием его персоны. Все документы, подтверждающие его существование на этом свете, были изъяты, аккуратно вырезаны и вынесены из злосчастного здания. Причем только опытный глаз сыщика позапрошлого века мог заподозрить появление в злосчастных стенах незваного посетителя. Наведывался Сент-Джон в районные архивы с тем, чтобы изъять из списка жильцов собственную личность. Подчищать следы его появления на земле следовало очень тактично. В одну из ночных вылазок мистера Риверса чуть не сцапали в паспортном столе, тот мирно расположился в отделении милиции. Пришлось сломя голову бежать через пустыри и переулки, пробуждая жителей столицы от сладкого сна и заслуженного отдыха, палить в пустоты, отстреливаясь от неизвестных доброхотов, увязавшихся за ним в порыве служебного рвения. По окончанию месяца упорной работы, с определенной долей уверенности Вы могли произнести на первый взгляд бессмысленную фразу, будто бы Илья Соболевский никогда не появлялся в России, с полным правом на этот безумный поступок. И вздумай кто-нибудь заинтересоваться, а кем был человек со скромной фамилией Соболевский, официальные источники бы только развели руками. Восстановление утерянной информации займет достаточно много времени и отберет кучу сил, в условиях спешной мобилизации никому не будет до этого дела. Сент-Джон заглядывал даже в свою старую школу с тем, чтобы осложнить работу хитроумным следователям и на фронте школьного образования. Особых угрызений совести СентДжон не испытывал: на месте старого чинного здания потрескавшихся кирпичей и широкого утоптанного двора, разлеглась бетонная громада в лучших традициях частных английских гимназий для детей промышленников и всякого рода толстосумов. Зайти пришлось даже в роддом, прикинувшись прослезившимся от счастья родственником. Теперь все, сейчас я никто, меня не было, обо мне будут ходить только слухи. Приятная пустота внутри, кристальная чистота рассудка. Можно придти в себя и успокоиться, ничего не может угрожать нам отныне. С чувством выполненного долга и легким сожалением от окончания полюбившейся работы Сент-Джон стал раздумывать над способами расширения своих возможностей. Длительные раздумья не приносили плодов: по сути, он достиг предела возможностей, совершенства и требовалось нечто совершенно иное. Не желая признаваться в этом, он чувствовал, что без помощи со стороны не обойтись. Такому решению противилась вся его натура. По характеру Сент-Джон был одиночкой, индивидуалистом. Он не умел руководить другими, но и не собирался подчиняться кому-нибудь другому. Опасное сочетание идеального исполнителя и нежелания подчиняться было его природой. Но и сам Илья понимал: жизнь его приняла столь причудливые формы не из-за желания поражать воображение других людей или чувствовать над ними власть, а из неудовлетворения существующим положением вещей, когда роскошь соседствовала с нищетой, а порой и делила с ней кров. Стало быть, главным была цель, а в ее достижении могли помочь умелые союзники. "Мы составим многорукого монстра с человеколюбивой душой и двумя лицами, одних он будет пугать и грозиться им, а других будет любезно привечать и сулить им счастливую жизнь!" – мечтал иногда Сент-Джон. Но он никогда не предполагал, что его мечты обретут реальные очертания нерушимого братства. Он никогда бы не решился сделать первый шаг навстречу другому, тем более, дело, по которому он собирался беседовать с будущими сообщниками, было, мягко говоря, нетрадиционным. Но Илья продолжал согревать в своей душе надежду на воссоединение с человеком, понимающим его с полуслова, который бы разделял все его взгляды и всей душой бы ратовал за их осуществление. Но происшествия, ход которых был предопределен изначально, предали делу новый импульс к развитию. Глядя с позиции будущего на давно минувшие события, невозможно освободиться от мысли, будто все происходящее было заранее спланировано. Перемены в жизни горожан во многом были связаны с массовым бегством из столицы. Людские толпы штурмовали вокзалы. Железные дороги подавали один состав за другим. Когда закончились электровозы в дело пошли дымящие тепловозы, работающие на мазуте и угле. На вокзальных площадях добровольцы разбили целый палаточный город, который круглосуточно освещался. Немолчный гомон заставлял содрогаться стены близлежащих домов. Нередки стали драки за места в вагонах отъезжающих поездов и за сами билеты, среди коих было немало поддельных. Кругом люди торопились и опаздывали, спешили и не поспевали к сроку. Столица кипела жизнью, как развороченный муравейник. И его обитатели, не проявлявшие доселе никакой активности, вдруг очнулись, засуетились, стремясь влиться в общий поток кипучей радости и наслаждения единством со всем светом. На окраинах города и в его кварталах, что поплоше туда-сюда сновали подозрительные люди и таскали коробки, погружали их в фургоны, те, посигналив, спешно уезжали. Ежели кто из людей попадался им на пути, то промышляющие нечестным делом моментально откладывали все свои дела и делали вид, будто они элементарно отдыхают, прогуливаются, ведут оживленный разговор с компанией собутыльников. Иные подмигивали и непонятными скороговорками, озираясь по сторонам, обещали достать любой товар и по дешевке. Но потом одумывались и грозились тебе, обещая расправу, гнали прочь. Ночи стали короче, а сны прерывистее. Кровавая заря нередко начинала подтачивать небосвод посреди ночи. "Тоска разлияся по Руской земли; Печаль жирна тече средь земли Рускыи." Сент-Джон бродил по опустевшим проспектам и умиротворенно оглядывал просторы родного города. С одной стороны это добавит ему свободы, но, с другой, недоброжелателям будет гораздо проще его выследить. Ну да черт с ним, не за чем самого себя заранее расстраивать, когда еще насладишься видом русских Помпей, очищенных от пепла! Торжествовать и радоваться надо, обретенной свободе. До небес возноситься духом и слезы умиленья лить. Родителям Илья соврал, будто собирается куда-то с друзьями. Какими друзьями, куда ехать посреди войны? На любой заставе, на любом распутье остановят, проверят документы и запрягут батрачить, орошать вражескую землю кровью горячей. Возвращаясь с ночного полета над пригородами мегаполиса, с целью фотографии вида дорог, запруженных легковыми машинами отступающих, бегущих из стольного града богачей Сент-Джон заметил сверху одинокую фигурку человека, гуляющего между уступов многоэтажных панельных домов. Илья хотел уже спланировать вниз к безмятежному философу, забывшему о происходящих вокруг событиях, но тот, не заметив планера, расчеркивающего небо скользящим полетом прозрачных крыльев гигантского насекомого, скрылся в подъезде. Сент-Джон не стал преследовать его и полетел по своим делам. Но случайное ли совпадение в том, что где-то в этих местах жил его одноклассник? Как же его звали? Надеюсь, предположения читателя подтвердятся, если мной будет названо имя Джозефа Сэммлера. Как уже было сказано, раньше он учился в Сент-Джоном в одном классе. Но после судьба их разлучила, они пошли по разным дорогам: будущего ученого и авантюриста-бездельника или спортсмена. Сент-Джон постоянно выслеживал Джозефа, подглядывал с ним. Но начинали возникать определенные сложности, Джозеф слишком быстро догадался об идущей за ним слежке и начал усложнять работу Илье, перебегая с квартиры на квартиру, плотно зашторивая окна занавесками и не включая в ночное время свет. Илья был поражен тому, как быстро учился этот книжный червь. Сент-Джон на короткий период времени ощутил даже легкую неуверенность, порожденную воспоминаниями о школьных годах. Джозеф был практически отличником, гораздо выше его и сильнее. От него исходила аура невозмутимости, самостоятельности, уверенности в собственной правоте. По прошествии многих лет в памяти Сент-Джона вставал образ мальчика очень нелюдимого, замкнутого, хотя невспыльчивого, но неуступчивого. Подавляющего одноклассников интеллектуально. Слишком Джозеф быстро воспринимал все новое, брался за все чрезвычайно обстоятельно. Бросались в глаза трудолюбие Джозефа, вне зависимости от того, чем он занимался, и нравился ли ему предмет его занятий. Семмлер казался Илье очень честолюбивым, целеустремленным. Человеком злой воли, как говаривал он самому себе не раз. Если бы Джозеф вздумал отомстить обидчику, нанесшему тому смертельное оскорбление, то он бы выполнил задуманное, находись сам при смерти, на последнем издыхании. Титаном духа, носителем темного духа, представлялся он Сент-Джону. Джозеф был, вообще, единственным, кого он уважал из своего класса. Прочие же были слишком обыденны, слишком ординарны, клоны архетипов, загримированные под индивидуальностей. Но нельзя говорить, будто бы все это чрезвычайно занимало Сент-Джона, он осознавал это на интуитивном уровне. Илья Соболевский был человеком действия, суховатым и расчетливым, не обладавшим гипертрофированной фантазией. Но в Джозефе ему мерещилось нечто, не подчиняющимся рациональным законам функционирования реальности, что-то сверхъестественное, перспектива иных измерений. И от того он слегка робел и не решался предложить тому свое союзничество в течение полугода. Парил в поднебесье, набирал круги вокруг дома Семмлера, рассчитывая застать того в дороге, дабы инсценировать случайность встречи. Как бы столкнемся невзначай, о, друг детства, какая встреча, ты ли это, ну и совпадения, как жизнь, как дела и т.д. Набор стандартных фраз бывших друзей, у которых не осталось общих интересов. Секунды таяли, подобно снежинкам на теплой ладони, часы утекали сосульками на жарком весеннем солнце. Джозеф торопливо вышел из подъезда и направился к белым корпусам по другую сторону шоссе. Интересно, с какой целью? Этого узнать Сент-Джону не удалось, поток воздуха, который поддерживал его, унес планер за дом. А когда по окружности пролетевшему небесному мстителю вновь стали видны очертания Джозефа, тот уже перебегал дорогу и стал крутиться вокруг автобусной остановки. Затем порыв сухого ветра снес СентДжона вниз по шоссе ко второму микрорайону. Издали он различил лишь Сэммлера, заносящего черные пакеты в дом. Но все равно было большим успехом заметить его, в последнее время у Ильи не получалось вообще определить местоположение буй тура Сэммлера. В недрах столицы зрел заговор, которому было суждено перевернуть с ног на голову жизнь людей. Мы обречены, наша миссия ясна и имеет иных толкований. Под впечатлением от собственной значимости Илья сделал в воздухе мертвую петлю. Но нет, читатель не бойся, не страшись, на оставшихся страницах я не собираюсь описывать тебе, как продолжал совершенствоваться в летном мастерстве наш беспокойный духом друг! Он продолжал выслеживать Джозефа, потому что ему верилось: удача улыбнется сегодня ему еще один раз. В нетерпении он скакал по крыше дома и дрожал он пробиравшего до костей ветра. Медленно отворилась черная железная дверь, в синей куртке с черными полосами, одной рукой придерживая плотной ткани полу одежды, а другой застегивая молнию, с журналом под мышкой, в свете клонящегося к закату солнца Джозеф Сэммлер переходил через узенькую дорогу около дома и устремил ход своих ног в сторону автобусной остановки. Возрадовался духом терпеливый и награжденный за свое упорство Сент-Джон. А Илья Соболевич поскочи Горностаемъ по трубам крыши, Въвръжеся на злату антенну И скочи съ нее бусымъ вълъкомъ и полете соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди. В конце части шоссе, находящейся еще в пределах мегаполиса, таинственным образом материализовался бордовый трамвай дореволюционных лет. Слишком проворно для своих лет он катил в сторону остановки. Там поджидал его Джозеф. От удивления у Сент-Джона глаза полезли на лоб: рельсы, используемые музейного типа транспортом, появлялись прямо на глазах, всплывая из-под земли. После того, как трамвай благополучно использовал их, они вновь пропадали в парадоксальное небытие. Такое красочное и масштабное зрелище не могло быть подделкой, как и помпезные звуки оркестра, сопровождающего одинокий трамвай. «Мое почтение бригадиру маршрута. Я поражаюсь вашей стойкости сэр», – снизу доносится взволнованный голос Джозефа. Трамвай отправляется в путь. Бесшумно, словно кошка, вышагивающая по паркету, будто тень, скользящая по освещенной дневным светилом дороге. Лесной массив по левую руку от летучего юноши сменяется стоянкой трейлеров, пустующей во времена Великой Эвакуации. Сент-Джон немного снизился, чтобы не запутаться в рекламном стяге, плещущем на ветру. И практически улегся на крышу трамвая, у которого не было никаких рогов, цепляющихся к проводам. Приспособившегося при плавании в воде найди для себя посторонний источник движения, за который можно бы было уцепиться, ждет приятный сюрприз: он не будет тонуть. Водная стихия начнет гостя слегка покачивать на подушке резвых струй. Сент-Джон, счастливый обладатель крыльев, испытывал то же самое, но только в воздухе, и руками он вцепился в крышу. Рассеянно выскочил Джозеф из трамвая около станции метро и побежал к дальнему выходу. «Опять почуял слежку, опытен и очень прозорлив, мой будущий союзник». Сент-Джон едва не потерял Джозефа, когда очутился на пустой платформе с отъезжающим поездом. Сэммлер уже уезжает! Илья вскочил в пространство между последним и предпоследним вагоном. И встал в распорку на качающемся стыке вагонов. Потом нога сорвалась, и он пребольно ударился щекой о стекло, заостренные колеса чуть не пережевали юного шпиона. Руководствуясь внутренним чутьем, он умудрился устоять на черном гладком проводе. Спасен; стоящая сцена для фильма ужасов: пассажиры метро замечают человека с лицом белым от ужаса, держащегося вспотевшими руками за ручки внешних дверей, но вдруг он резко пропадает, будто затягиваемый вниз неизвестным чудовищем, через малый интервал времени струя крови попадает на стекло бежевой двери, и впечатлительные гости андерграунда разом оглашают криком ужаса текстуры низкобюджетного хоррора. В соседнем вагоне на диванах развалился Джозеф со страданием, написанном на лице, с неизъяснимой тоской и почти материализовавшейся болью, струящейся из глаз. Ему явно было не по себе: он вытаращил глаза и с ужасом смотрел на что-то перед собой. Джозеф казался измотанным до крайности. «Но отчего он так может страдать», - задумался Илья. «Верно, у него червоточина в душе, которая разъедает его изнутри. Печаль овладела его сердцем. «Киприда – ты не бог,// Ты больше бога», - заключил скупо Сент-Джон. Мучительно тянулись минуты напряженного безумия. Сент-Джон пытался придумать хотя бы один правдоподобный вариант того, что происходило в душе у Джозефа. «Возможно, судьба вначале сделала ему подарок в виде привязанности сердца. Чистое и невинное существо, полное божественной прелести и райского обаяния внезапно оказалось близ него. Он был растроган и смущен и не верил своему счастью. Каждая возможность свидеться с предметом своих мечтаний уносила его на вершины блаженства. Джозеф волновался и робел и не знал, как подступиться к своему счастию. Но на этот раз он поспешил, никто не собирался вручать ему эту девушку в дар. Идеальные конструкции мысленных миров на поверку оказались неправдоподобными и дарующими лишь разочарование. Известная фраза Тургенева о русском мужчине на рандеву очень подходила к описываемому случаю. Он разуверился в себе и проклинал свою нерешительность, не находил себе места, ожесточенно метался от одного занятия к другому, не находя избавления от страданий. Напрасно он рисовал прекрасные картины безмятежного будущего, проще было бы вырвать сердце насовсем, чтоб не проклинать ту, что можешь лишь любить и боготворить. Но, вероятно, все было не так уж просто. Был некто третий, предположим, давний друг. Напарник детских игр и тот, кому поверял свои он тайны все. Между ними все больше возникало непонимания, недомолвок. Цитируя роман великого аргентинца о Гауно и Ларсене: «Они совершенно не могли говорить о девушке (или, по крайней мере, говорить легко и свободно)». И Ольга (не исключено, звалась она именем из русских романов) была в любезного друга давно влюблена. Развитие их чувств шло очень медленно и втайне ото всех, как и должно происходить. Что, в конце концов, не укрылось от взгляда проницательного Сэммлера. Это все усложнило. Джозеф не находил себе места от ярости. Вечно он ходил угрюмый, истосковавшийся душой, обиженный на мир несправедливый. Но появился и четвертый участник молчаливых сцен. Пленившая навек любезного друга, и выхода не представлялось никакого. Гигантским преимуществом обладали те трое, но никак не наш Сэммлер, оставленный в дураках. Более того, по-видимому, он стала понимать намерения самого Джозефа, не выражавшиеся ни в чем, кроме мыслей. Она смотрела на него с большим подозрением и относилась к нему с недоверием. Жесткий взгляд пронзительных глаз и немного острые черты волевого лица. Уверенный в себе человек. Она унижала Джозефа своей надменностью, он всегда боялся таких сильных женщин, привыкших главенствовать в отношениях с противоположным полом. Кроме того, ему стало казаться, что она подозревает в уранических отношениях со своим возлюбленным. Джозеф даже поперхнулся он такой мысли, ему стало мерзко. После таких размышлений он начал избегать встреч с неразлучной парой или даже любовным треугольником. Но его неотвратимо влекла к себе мысль о возможности такого тройственного союза, триумвирата дружественных отношений. Его бывший друг воплощал в себе давние мечты самого Джозефа. Двойственные отношения были символом роскоши, царственных привилегий любимца фортуны. Перманентное наслаивание ощущений от обеих девушек, окружавших его друга, как музейный экспонат, вероятно, рождало у того какое-то особенное сладостное чувство. Джозеф гадал и ничего не предпринимал, безмолвствовал и таился». Еще раз взглянул Сент-Джон в измученное лицо Джозефа. « И чем же закончилась эта история, если ее существование вызвало у нас столь живой интерес? Неизвестно, хотя существует несколько точек зрения на данный вопрос. Первая из них кровавая, как раз в моем вкусе. Несчастливые люди или просто неудачники, словно притягивают к себе неприятности. С самого начала Сэммлер был обречен на провал в этой душещипательной истории. Но ему хотелось завершить печальную повесть платонических отношений с упомянутой Ольгой с размахом, с блеском, с пафосом и помпезностью, так, чтобы запомнилось это надолго, коли он так неубедителен среди событий будничной жизни. Черт, отвратительно звучит имя Ольга, ничего не поделаешь, избежать ассоциаций можно, если только, ты единственный, кто говорит на используемом языке. Наша речь порой напоминает публичный дом иль ресторан с немытою посудой. На сей раз, Фортуна его не подвела. Какое-то мероприятие собрало весь их поток и всю их группу энтомологов в одном месте, положим в библиотеке. Тогда происходило распределение по кафедрам, Джозеф и эта девушка были единственными, кто хорошо из остальных никого не знал. Так, и что же дальше? Преступники врываются в здание и панику оружия видом сеют! Грозятся расправой и крики доносятся горькие. Джозеф от счастия сияет, случай подвернулся с жизнью счеты свести. Ни капли сомнения нет в поступках его. Движения его тверды, финишная прямая, и в победе он уверен. Из зала уверенной он поступью идет, не обращая никакого внимания на злоумышленников. Они навострили уши, свиные рыла обозначили ярость и удивление, у дверей на страже стоят их люди, гавкают при приближении его они угрозы. И стреляют из автомата длинной очередью, с треском доносящимся издалека. На мгновение вспыхнул пламени цветок у черной сопла дыры. Рой смертоносных пчел рвет в клочья Джозефа нутро. Он падает и по полу скользит в крови, что из раны его натекла, а теперь в стороны широкой волной разбегается. Далеко он откатился в сторону, упав. И лицом повернулся он к друзьям. Нет ужаса на нем. Немым величьем наполнены его черты. Или лучше, чтобы он спиной от них откатывался, и от крика ужасного содрогались стены. С охотою приняли боги жертву его. Мучеником жизнь закончит он, оттого что не была мила ему она, и не был мил другим он, от чего день подобен ночи стал. Рой сочувствующих или, скорее, любопытных глаз, букет разноцветных цветов. Сияющая пряность лепестков на фоне окончания дня. Ты ли видишь меня?! Не напрасен ли шаг мой ужасный, не зря ли с жизнью счеты я свел? Все ради тебя. Мой безгласный дух решился на последний шаг и сбросил олицетворенье Джозефом. Ощути хоть каплю сострадания ко мне, я все теряю, я все отдаю. Порыв мятежный, порыв преступный, я безумец, ежели решил проститься с белым светом. Но был ли выбор? Не стоило рождаться мне, или не надо было знакомить меня с грешным миром. Я б счастливо доживал один свои дни. Сорвался я с цепи, будто злонравный пес, - остановил себя Сент-Джон. Едва ли стал бы так он убиваться изза суеты. Устами Ипполита однажды очень верно заметил греческий драматург: «Иль жен// Исправьте нам, иль языку дозвольте// Их укорять, а сердцу проклинать». Но события могли проистекать и по иному сценарию. Положим, очень скоро или за некоторое время до этого Джозеф начал заниматься боксом. Заметим, основной его целью не было овладеть английской дракой. Он желал быть на людях избитым. Понять его желание непросто. Он желал потерпеть поражение при свидетелях. Обмануть чужие надежды. Он с наслаждением воображал, как гром проклятий обрушится на его голову. Презирайте меня, но смотрите на меня, не отрываясь. Ваше внимание или в лучшем случае жалость, смешанная с разочарованием, воскресит меня. Вот так он согласился он на заведомо проигрышный бой против многообещающего проспекта, имея на счету три легких поражения по очкам. Море зрителей собравшихся посмотреть на очередное достижение красавца с налитыми бицепсами. Будущую грозу дивизиона. Главное было выдержать первый напор. Перекрывшись руками от ударов по корпусу, Джозеф отбегал весь раунд. Потом сбилось дыхание, пришлось терпеть бомбежку сыромятных молотков. Руки немели и сами опускались, открывая более уязвимые места. Пару раз Джозеф бросил нелепый, размашистый свинг. Но громкая поддержка трибун, не добавила результативности этим ударам. Наоборот, Джозеф получил слева над рукой по челюсти несильный, но точный, срывающий удар. Вот он, момент торжества. Медленно, грузно, Сэммлер оседает на пол. Падает на спину. Рефери показывает знаки пальцами. Упирается руками в пол и улыбается белой резинкой для защиты зубов. Демонстрируем растерянность: невероятно, как это могло произойти? На счет восемь, Джозеф быстро встает. В твоих действиях не видно не попытки сдаться. Ты можешь подыхать, но не дай знать об этом зрителям. Пусть ты обречен, но в этом вся красота твоего поступка. Делай вид, будто единственный, кто не понимает этого. Прикладывай усилия, чтобы стала видна твоя решимость биться до конца. Вылезай на ринг, выброшенный, как Найджел Бенн, за канаты. Все, кому знаком был Джозеф, замирают, сидя у экранов. Его судьба им отныне не безразлична, но они немного запоздали, теперь найти его они смогут, только забинтованным в пропахшей медикаментами больнице. Однако он выжил и быстро оправился, физические увечья полностью излечили его от недугов душевных. Или нет, по-прежнему он мучится неразделенным чувством, страдает и томится, навеки отвергая возможность счастья. И сам себя он губит, не признает свои права на жизнь, полную любви и гармонии. В печали будничного утра, ничем незанятый, он дежурит бесцельно у окна. Я помню твои, подобные морским раковинам и бледностью античному фарфору, уши, распятые металлическим блеском звездочек-сережек. Я полон тобою и воспоминаниями о тебе. О безмолвных минутах, рядом, но не наедине с тобою. Бессловесное красноречие. Гул монотонных речей семинариста, стихающий под напором прибоя чувств. На фоне окна: абрис вытянутой шеи, руки, змеями свернувшиеся на столе в ожидании жертвы. Не получилось, мы разошлись, но были так близки». В отчаянии Тараканов пробует сочинить еще одно стихотворение. Наматывает ворох бессмысленных словосочетаний друг на друга, в надежде на удачу: Я болен памятью предшествующих столетий, И сна потерян мерный ход. Событий, возникающих сейчас, не тешит душу мне рожденье, Но вспоминать я буду с горечью о них: На то – господнее веленье. Вадим, явно не доволен, в расстроенных чувствах он засыпает. По коридорам красного мрамора держит путь вслед за Джозефом Илья Соболевский. Он его не видит, дабы и тот не заметил его, но отлично слышит сбивающуюся, жалкую поступь его шагов. Странно: мы можем потренироваться и стать неслышными остальным людям, но мы никогда не сможем стать невидимыми. В чем смысл априорной асимметрии ясно не вполне, но факт сей сомнению не подлежит. Погрузившись в себя, Сент-Джон едва не выдает собственное присутствие. Отлично, наш лунатик вздумал с кем-то поговорить. Он перекидывается шутками с кем, от кого добра не жди. Один раз Сент-Джон встречал отряд маньяков, в подземном закоулке они добивали какого-то бродягу. Тогда Мистер Риверс изменил своим принципам и решил не пришивать инквизиторов к их голубым сутанам, закрыв глаза на их злодеяние. Видимо, зря: прощеное зло разгорается еще сильнее. Теперь они стали избивать Джозефа. Неприятный поворот событий, хотя он вполне мог постоять за себя, но предпочел отмолчаться. Его лицо не выражало ни малейшей заинтересованности в происходящем. Джозеф колебался: выбежать, значило бы спасти его, но тогда он лишится его поддержки навсегда. Подозрительным будет выглядеть неожиданное появление спасителя, а потом что? Убивать их на его глазах, значило бы, оттолкнуть его от себя навеки. Тем более при таких пораженческих настроениях. Веселы и дружелюбны будьте с людьми своего круга и уровня развития, к недоразвитым тварям следует относиться со свойственной им самим жестокостью, как к конкурирующему виду. Краткий курс дарвинизма, оправдание самоуправства с помощью эволюционизма со свойственным последователям Макиавелли цинизмом. Джозеф Сэммлер должен сам прийти к выводу о необходимости борьбы и сопротивления. Они затаскивают распухшее тело бывшего одноклассника нашего героя в свой участок. Похоже, он лишился чувств. Сент-Джон ждет еще немного, чтобы точно не попасться на глаза Джозефу. Затем пьяные голоса возвестили о начале всеобщей пьянки. Порубились знатно – теперь погуляем! Коварством отличный от прочих смертных Сент-Джон застигает их в момент беспечного бражничества в кругу друзей. Прощения не было никому. И была страшная сеча. Полегли все до единого. В крови потопил первопрестольный град окаянный Илья Соболевский. Уверенно и бесшумно он вошел в узкую залу. Через минуту все шесть инквизиторов были безнадежно мертвы. Чрезмерной жестокости в его поступках не было, они получили по заслугам. Свершился небесный суд! Он вскоре ушел, но прежде утер следы побоев в подземном переходе, лишних свидетелей знание было ни к чему. Сент-Джон решил не дожидаться выздоровления Джозефа. Пройдет достаточно много времени, прежде чем он сумеет хотя бы встать. Он выходит из метро на площадь и набирает себе еды в магазине с отбитым замком. К нему подходит собака, виляя хвостом. Черная, никудышная псина. - Тебе, наверное, хочется колбасы? – рассеянно спрашивает ее Сент-Джон. Собака в смущении отворачивается, она не верит своим ушам. - Ладно уж, бери. Илья отрывает ей кусок, пряно пахнущий мясом. - Животное берет его зубами и уходит насладиться пищей наедине. Но тревога неслучайно посещает храброе сердце Сент-Джона. Как там поживает Джозеф Сэммлер? Не случилось с ним чего. Торопливо Илья сбегает по лестнице, пропуская по несколько ступенек кряду. Из глубин метро до него доносится страшный крик. «Не опоздал ли я», - сокрушается Сент-Джон. В камере его не было. Успел прийти в себя. Юноша бежит дальше, подземный переход между станциями заканчивается спуском в центре станции. «Да, как же я мог забыть!» - Сент-Джон вспоминает о живущем здесь сумасшедшем старике, которого даже ему было очень нелегко поймать. Илья вздумал проучить его, ибо тот лакомился мясом людей, павших во время перестрелок в метро и не собирался никуда уходить отсюда. Но упырь, не знавший солнечного света уже в течение полугода с необычайной ловкостью уходил от ударов саблей, а вдобавок попытался скинуть мальчика на рельсы. Но небесный мститель одолел умалишенного и, наступив тому на горло ногой, потребовал, чтобы тот немедленно прекратил нападать на людей и приносить им всяческий вред. Старик прослезился, стал вспоминать несчастное прошлое, умолял не гневаться на него, унижался и причитал. Говорил, сам не знает, как превратился в такое чудовище и поправлял связку зазубренных скальпелей за поясом. С верхотуры моста, над углублением, в котором проезжали поезда, небесный мститель различил носящегося туда-сюда Джозефа. «Уж не сошел ли с ума и он?» Затем, будто из воздуха появился старик со своей клюкой. Он вцепился в штукатуреную поверхность колонны руками и ногами и стал медленно карабкаться на нее. Джозеф не заметил его и вскоре старик бесновался на краю платформы и отгонял от платформы Джозефа. Сюжет нам уже знакомый повторять не станет автор, но уточнением он просит не побрезговать. Мы помним, как Джозеф простил умалишенного пенсионера, набравшегося храбрости поживиться человеческой плотью. Джозеф подчинился своим внутренним порывам солидарности со всем миром в его многолюдном одиночестве и отверг ненависть и омерзение позволил адскому исчадию бродить по свету и дальше. Но он отказался от сопровождения в лице старика. Но тому уже было не до этого, дрожа и наливаясь злобой, тянулся он к метательным ножам. На правое колено опустился Илья, с плеча винтовку снял, прильнул к прицелу зорким оком, и под левую лопатку насмерть поразил он старика. Демон в обличье человека рухнул на землю, фонтанируя кровью – раствором злобы и ненависти. Прощай! Однако Джозеф успевает ускользнуть на подъехавшем поезде. Сент-Джон садится в следующий. По наитию он выскакивает из вагона, еле избегая объятий резиновых створок автоматических дверей. Станция – Перово, неужели он упустит своего товарища, так и не поделится с ним своими планами? Выходя из подземелий метрополитена, Сент-Джон натолкнулся на Джозефа и пожилого мужчину в форме. Он обменялся с ними парой фраз, обратил их внимание на что-то постороннее и ловко ускользнул. Но затем Сент-Джон, мастер перемещений по непроторенным путям, сбился с курса и на некоторое время потерял Джозефа из виду. Издалека доносились тарахтенье мотоциклов, звуки выстрелов и треск разбиваемых стекол. На всякий случай Сент-Джон принял решение вернуться к тому дому, с которого началось его путешествие. Джозеф там сладко дремал на чужой постели. Сент-Джон задумался, а ведь с помощью неких манипуляций получится подтолкнуть пока апатичного Джозефа к решительным мерам! Раскрыть его склонности одним хитрым способом. И он пошел в соседнюю квартиру, положил рядом собой телефон с наклеенными адресами основных служб и вышел на балкон. Он носил сейчас с собой не самую лучшую из своих винтовок. Ею можно было пожертвовать. Он специально развернул так прицел и снял с него антибликовую оптику, дабы блеск прицела виден был издали, направил ее на квартиру, где Джозеф отдыхал. Тот прибежал неожиданно быстро и вдобавок настроенный не на шутку. Ножом он полоснул, опрокинувшего его Сент-Джона и попытался разлучить его с этой жизнью. Но привыкший к покушениям на свое тело Сент-Джон умело использовал темноту в квартире и успел подсунуть вместо себя подушку и пока остался лежать на месте. А Джозеф, ровно так, как и предполагал Сент-Джон, решил устроить охоту на доспехоносцев, вызвав их на эту квартиру, сам же Сэммлер, засел в детском саду напротив. Превозмогая боль, Сент-Джон поднялся на ноги. На улице он расправил крылья и взлетел в воздух, пылевые смерчи крутились вослед ему маленькими воронками. Со всей скоростью он летел к себе в тайник, расположенный под крышей старой фабрики, никаким другим способом, кроме как по воздуху, туда добраться было невозможно. Там лежала часть его финансов и запасные винтовки. Прикрутил глушитель к горлышку одной из последних моделей снайперских винтовок, проверил фокусировку прицела, выбрал нужных патронов и летучей мышью, питающейся серостью промозглых небес, сорвался с балки, вылетел в проем стены. Со стороны незаметной для Джозефа он приземлился на крышу детского сада. В окнах дома со стороны шоссе намечалось движение и беспокойство разбуженной толпы. Раздались первые выстрелы Джозефа. Подсчитав временные промежутки между ними, Сент-Джон одновременно со своим одноклассником стал поражать доспехоносцев. Большая часть выстрелов того шла мимо цели, некоторые попадали, и тогда Сент-Джон затаивался наверху. Джозеф вполне мог догадаться, кто-то дублирует его выстрелы своими, более точными. Рваная рана ноги наполняла все тело, досадной слабостью и приливами дрожи. Илья сделал несколько глубоких вздохов, сухость в горле и головокружение не помешали подняться ему вверх и скрыться в направлении центра. Пришло время дать слово постоянному ведущему нашей рубрики «разбитые сердца». Интересно, о чем он поведает нам в этот раз? Вадим, как у вас дела? Опять на личном фронте без перемен, ха-ха! Настроение у Тараканова не из лучших, он мрачнее тучи. Хуже настроение у него могло быть только седьмого марта, в день двух памятных ему катастроф. Он лежа пробует писать на исчерканном листке бумаги, карандаш прорывает провисшую гладь бумажного листа: Смерть нас ждет у порога, Как на бога, на нее молись. Смерть – это, в общем, немного, Со смертью, как с жизнью смирись. Никогда еще Генрих не был так близок к мысли о самоубийстве. Ему вспоминались неудачи, саднящие грудь оттенками постыдного постоянства. Отчего все лучшее, что с нами происходило столь преходяще и лишь неудачи вечны? Красавица, разбившая мне сердце, за каждодневными муками истерзанного сознания я потерял твой лик, но помню мириады скорбей, переданных безобиднейшему из людей на вечное пользование. Всплывают редкие детали: коричневый кожаный ремешок часов на левой руке, циклическое чередование трех видов причесок: распущенных волос, струящегося водопада весеннего солнца и карнавального веселья пущенных в небо фейерверков. На твоей совести мое убийство. Ты подписала мне приговор своим невниманием и ангельской безупречностью. Даже с военнопленными поступали гуманнее, ты же выжгла в моей душе навеки неизгладимый след рабского преклонения. Я предаюсь мукам раскаяния и одиночество – мой строгий судья. За что я не рожден без сердца и вынужден гибнуть о частям? Но если бы душевные муки давали хоть маленькую гарантию того, что небесполезны могут быть они, я бы тут же отдал всего себя без раздумий. Сожжение на костре страстей пленника привязанности сердца. «Ты мне право даешь возлежать на пирах у всевышних», но «Ни бог не удостоил его пиром, ни богиня - ложем». Генрих выходит в спортивный зал, заваленный мусором, старыми журналами, изорванными учебниками. Уныло и тоскливо, но нет сил пытаться изменить неустроенный мир. Мы не демиурги, и все время нам приходится в этом сокрушаться. Занятным образом, в судьбе Генриха символическое противостояние добра и зла играло на удивление второстепенную роль, основные события происходили на полях брани вымысла и удушающего влияния реальности. Сколько сил он тратил на то, чтобы стереть с предметов блеск узнаваемости, чтобы все засияло новым светом величия и красоты. Генрих в отчаянии пытался забыться в угаре немудреных наслаждений суеты, но тем горшее было пробуждение. На сей раз попытка забыться сном не приносит ожидаемого облегчения, Морфей с презрением отворачивается от самого верного адепта. С раздражением, обличенным в форму покорности судьбе, Вадим запивает горсть таблеток водой из-под крана, а затем для пущего эффекта отвинчивает крышечку пузырька и капает на язык несколько капель жгучей коричневой жидкости со вкусом сушеных апельсинов или, скажем, корня солодки. Теперь каждый станет хозяином собственного настроения, желаешь – окунись в атмосферу праздника или рыдай, изливая чистую горечь беспричинных страданий, вечерней меланхолии предайся, любуйся прелестью заката. Нагрянет катастрофа сна, прими же бездны бесконечность. Генрих стоит на краю высокой скалы, рядом березовый лесок. Юноша подвешен к планеру и готов полететь, сейчас он собирается с мыслями. Топчет ногами забытое костровище. Ветер легонько подталкивает его и нетерпеливо подталкивает к началу полета. Склон, опрокинутый вниз вначале под небольшим углом, переходит вскоре в почти вертикальную стену, беспредельные скалы. Первый полет новичка, Генрих начинает разбегаться. Вместо предполагаемого для пешеходов спуска он толкается ногами и взмывает в воздух. Под ногами открывается пропасть, дышащая толщей дрожащего воздуха, редкие деревья умудряются удержаться на ужасной круче. И их существование лишь усугубляет страх перед пустотой под ногами. Все, закончился склон, идущий под меньшим углом, чем описанные скалы. Планер, будто только и ждал этого, переворачивается в воздухе. Генрих оказался спиной вниз, пляшущая линия горизонта заставляет его обезуметь. Небеса развернули его к себе лицом, дабы поразить в грудь. Крылья ломаются одно за другим, камнем Вадим падает к земле. Синий материал крыльев разорван в клочья и, угрожающе зашипев, сгорает в воздухе, растворяясь в потоке пронзающего эфира. Началось, мы погружаемся в сон! На шее затягиваем мягкую удавку, ту самую, что изготовили гномы для волчонка – сына Локи. Как бы мы ни пытались выкрутиться, назад хода нет. Воронка затягивает нас вовнутрь мира диковинных фантазий, остается принять правила игры и стать зрителем, а то и подневольным участником фантасмагорий, приготовленных нам писателем затуманенного сознания. С давних пор время представлялось Генриху чем-то излишним. Категорией, чье появление в обиходе не являлось таким уж естественным и необходимым. Он не говорил открыто о своем неприятии хронологической субстанции, его раздражала та бездумность, с которой все люди подхватили потертую идейку. Природа означенной величины была чересчур далека от природы человека и близка людям ограниченным, примитивным. Едва ли под временем можно было иметь ввиду что-нибудь иное, кроме критерия непрестанной изменчивости вселенной, незримого спутника всевозможных преобразований сущего мира. Но представьте, мир вдруг остается без времени, некая заколдованная комната, обихода иллюзий, с какими переменами столкнемся мы при этом? Может, все потеряет подвижность, осмысленность? С первым согласиться практически невозможно: двигайся, крутись, живи – никакого времени для существования движения не требуется! Осмысленность, целесообразность или причинность, иначе говоря, отчего одно должно следовать за другим, атрибут ли это времени? Вращение стрелок часов способно упорядочивать события в мире? Скорее стоило объяснять возникающую иногда логичность поступков людей и череды событий жизни наличием судьбы или просто самой логичности, естественности реального мира. Человек, впервые употребивший слово, означающее теперь время, был либо неисправимым фантазером и болтуном, либо алчным шарлатаном, искавшим в афере тайной выгоды. Понятие времени слишком научно для того, чтобы стать предметом искусства и абстрактно для использования в общении между людьми. Психологи могли бы задуматься и над следующим вопросом: не останавливается внутреннее время личности, человека иногда абсолютно и не начинает ли оно порой двигаться вспять, когда он предается воспоминаниям? Не разветвляется ли оно на множество личных времен, когда человек засыпает и видит сны? Не пропадает ли время тогда? Неясен также достаточно простой вопрос: движемся ли мы вдоль оси времени или время, окутывая всех нас незримым покрывалом, воздушным поток несется вдаль, оставляя всех на месте? С точки зрения развития личности, люди иногда проваливаются в затоны, омуты времени, купаясь в ее неподвижной субстанции, то есть в своей неизменности. Все размышления Генриха странным образом воплотились в его сне, когда после падения планера на острые углы скал и обветренные верхушки деревьев, он увидел себя, идущим по краю знакомого оврага. Места было ему, несомненно, знакомо. Очень часто проходил он ранним утром по дороге вверх до поворота, когда, кажется, шел в школу. Или ходил в деревне за водой? В его жизни столько всего произошло, что хватило бы на сотню обычных, и он путался в подробностях приключений, путал названия, имена и даты, однако почти всегда мог описать эпизод, который с ним некогда происходил, обстоятельства ему сопутствующие. Ранее утро наполнено солнечным светом, отражающимся от снежных ковров, расстеленных заботливой зимой. Легкий ветер морозит лицо, все замерло. Легкие сумерки томно застилают солнечные дали, снег моментально тает. Затем начинает накрапывать дождик. Генрих уже не в пальто, а в легкой куртке. По дну оврага проходила шоссейная дорога, мерцающие полупрозрачные автомобили бесшумно проезжали по ней, затем останавливались, пропадали или начинали чересчур непосредственное движение вспять с той же скоростью, словно зеркальное отражение предыдущих событий. Вскоре ему на пути повстречались люди, вероятно, мужчины или юноши, стоявшие, идущие в обратную сторону, падающие, закрывающие лицо от ударов, невидимых для Генриха. Идущие в ту же сторону, что и он сам. Вскоре Вадим Тараканов обратил внимание, на то, что они были все без лиц. Вернее все было несколько сложнее, их лица были прозрачны, а оттого незаметны. Вглядеться в них и разобрать их черты было очень сложно и требовало больших усилий, но была определенная надежда научиться распознавать их гораздо проще. Все эти люди были призраками, живыми наполовину, а то и того меньше, незыблемым и прочным был только пейзаж, очертания местности. Погодные условия, формы растительности причудливым образом изменялись на ходу. Генрих остановился и взглянул повнимательнее в лицо одному из мальчиков, коих становилось то больше, то меньше. Краем глаза он заметил: остальных призраков как ветром сдуло, они, будто растворились. Время суток стало вполне определенным, часа 3 дня, поздняя весна, а перед ним сам Генрих, а тогда еще Вадим Тараканов. Еще с короткими волосами, с тогдашними друзьями идет в сторону метро, ах да, там находилось метро, вниз по склону. Со школьным рюкзаком идет и весело разговаривает с приятелями. Но у настоящего Генриха нет сил проследовать за своим давнишним воплощением. По его желанию школьники стоят около него молча, затем весело оживают и продолжают путь. Материя сна вновь наполнила местность мглой раскаяния, вокруг одни призраки. Один из призраков прислонился к металлическому забору, огораживающему двор у элитных домов, возвышающихся неподалеку. Это опять сам Генрих, часов восемь утра, осень, еще не окончательно замученная дождем. Генрих ощущает волнение, дикий трепет сердца своего прообраза в прошлом. В чем дело? Неподалеку проходят юноша с курчавыми волосами и школьница класса девятого, наверное, все дело в этом. И это воспоминание погружается во тьму. Генрих начинает понимать, между ним и летающими поблизости призраки есть связь, вернее, он, совершенно точно, может отождествить себя с этими привидениями, они его отпечатки разных лет, его воспоминания о себе самом! Либо его образы, собранные в здесь, оттого что он сам сейчас здесь находится, и здесь же остались навсегда его отображения, которые стали вдруг доступны его чувствам. После подобного озарения дальнейшие догадки были очень просты. Туман, стелящийся за ним, – те представления его в этом месте, что были зафиксированы на краю оврага совсем недавно, прямо сейчас. Поэтому сознание еще не идентифицировало их, как некое прошлое. «Сейчас» - период времени, определяющий настоящее длится не секунду и не бесконечно малый миг, чуть больше. Следствие неопределенности во времени – размытость очертаний призраков. Причина неопределенной погоды, непонятного времени суток кроется в непосредственном суммировании окружающих условий за множество раз его здесь появлений. А как быть с…? Предположение показалось Генриху наивным, но все же, а что, если можно будет увидеть и образы самого себя, соответствующие будущим событиям? Различить будущее, также вглядываясь в лица призракам? Он глотнул воздуха и зажмурился. В голове заиграла песня «Hocus Pocus», мурашки побежали по телу и он, будто бы окунулся с головой в тазик с ледяной водой. От местности осталось лишь подобие силуэтов, картонные проекции домов, черно-белая вселенная. По дну оврага проехала машина, здоровый, шикарный, дорогой автомобиль и призрак на сей раз сидел на крыше автомобиля, высунувшись из люка на крыше. Образ скрылся за поворотом. Вадим попытался найти очередного призрака, тот медленно опустился на берег оврага сверху, словно принесенный гигантской птицей в клюве. Генрих предпринял попытку заглянуть в лицо призраку из будущего, черты лица того были достаточно хорошо очерчены, но будто обуглены. Генрих внимательно поглядел в глаза своему подобию, время которого еще не пришло. Тот не вытерпел молчаливого допроса и, молча, отвесил Генриху пощечину. Генрих опешил: «Видно, ему еще предстоят бои за мое будущее, так что лучше его не отвлекать!» - Писатель, привыкший находить оправдания поступкам других людей, нашелся и теперь. Пролетает еще один миг, и Генрих уж в кафе, полном тусклого света. Наверное, оно еще не открылось, иль в этот час немного посетителей приходит. Генрих сидит за столом, накрытым тяжелой скатертью. Расторопный официант, не суетясь, заваривает Генриху мате и моментально пропадает. Не успевает наш герой различить лица и следующего официанта, а так как парадная форма у них была одинаковой, не представлялось возможным, с определенностью ответить на вопрос, был ли новый официант тем прежним или всего лишь его коллегой. В парадном зале официанты появлялись по одиночке, что сильно усложняло решение проблемы. Из-за спины Генриха бесшумно выплыл следующий ресторанный слуга с подносом, на котором стояли рюмки. Поднос приземлился прямехонько к Тараканову на стол. Плотно составленные одна к другой рюмки тихонько звякнули при посадке. Рюмки стояли на подносе вверх донышком. Вадим переворачивал их, подносил к губам и выпивал содержимое. Различные напитки плескались в каждой рюмке. Разных цветов и консистенций, всевозможные ароматы выплывали из-под переворачиваемых бокалов ли, рюмок ли, не важно: вместилища напитков не раз меняли форму, вытягивались, вырастали или уменьшались, запасались длинной ножкой и плоским подножием или удобной ручкой. Заслуживала внимания и иная деталь истории в кафе: за каждым напитком стоял новое чувство, коим он, несомненно, мог одарить любого выпившего напиток. Опорожнив бокал с густым пенящимся напитком, с запахом хвои и мяты, Вадим почувствовал, как на него нашла необычайной силы ярость; в исступлении писатель швырнул бокал о стену, бокал разбился вдребезги, а осколки вскоре растаяли ледышками. После рюмки непрозрачного, красного зелья Генриха охватила нежность, только не было вокруг никого, на кого ее можно было излить, кого бы можно было расцеловать или одарить царским подарком. Палитра чувств не знала пределов, затем Вадима одолела нещадная тоска, до сердца пробрала грусть расставания, искренне он расплакался, словно был самым горьким пьяницей, а вокруг расположилась толпа собутыльников. Из полумрака неосвещенных стен отделилась группа музыкантов, они затянули ненавязчивую песню на струнных инструментах. Тараканов поднялся с тем, чтобы заказать какую-нибудь песню. Ему подумалось, что так здесь принято. Но в голову пришла ему оригинальная мысль. Он положил в корпус скрипки пачку банкнот и спросил: «А не сыграете ли мне тишины, только, пожалуйста, с чувством, не очень торопитесь и не заигрывайтесь, мне не нужных всяких импровизаций и размышлений». Музыканты задумались и переглянусь, в их взглядах появилось нечто тревожное. - Нас никогда не просили сыграть тишины. Пожалуй, у нас не получится сыграть ее удачно с первого раза. Тишину играть чересчур сложно. - Да отчего же так? - удивился Тараканов. - Бездействие губительно, да и непросто с уверенным видом ничего не делать, когда, в самом деле, за молчанием инструментов таится очень многое. Импровизация, игра с помощью запомнившихся фраз, объединенных в произвольные группы – действительно просто. Сложнее играть заученный специально материал по намеченному плану. Но гораздо сложнее делать противоположное тому, чему нас так долго обучали, к чему у нас есть природная склонность. Попробуйте заставить палача кого-нибудь вылечить, он начнет упрямиться, выдумывать способы, чтобы избежать подобного задания. Ни за какие деньги он не согласится исполнить вашу просьбу. Молчание и тишина – отнюдь не низшая степень занятости музыканта. Тишину, исполненную мастером, даже невежа отличит от тишины подмастерья. Играя мелодию, наша душа испытывает привычных изменений очередность, чтобы все действия максимально легко поддавались проигрыванию, в принципе, в игре на инструменте нет ничего для нас чрезвычайно тонкого и сложного. Все идет через связь тела и души, у большинства получается все автоматически, у остальных не получается ничего. Поймите же: в перебирании струн – для нас вся жизнь, мы скользим смычком с той же проникновенностью, с которой все люди дышат или поглощают пищу, то есть проще не придумаешь. Теперь вы нас просите молчать с инструментами в руках. Раньше движения нашей души перекрывали все остальные процессы происходящие внутри нас. Но сейчас приходит время для процессов более тонких, более микроскопических. Мы должны держать собственную тишину на фоне причудливых искажений, искривлений, неоднородностей личного времени. И, поверьте, на это способны лишь очень немногие! Перескочи наши мысли на иной материал или пусти мы их с другой скоростью, как тут же тишина испортится: станет грязной, неоднородной. «Пусть так», - Генрих вскоре позабыл о своей несуразной просьбе. Хотелось чем-то развлечься, развеять унылую поступь сна, встряхнуться и прийти в себя. Пожелание, оказалось очень скоро реализовано. Официант, строгой походкой вынес блюдо с устрицами. На красном рукаве рубахи висело белое полотенце, назначение коего было не совсем ясно. Рука его немедля устремилась в сторону неосвещенной части зала. Моментально прожектора осветили ее; как в театре расступился занавес. Перед Таракановым предстал ряд полок с фарфоровыми кошками, сидящих в разных, однако не сильно отличающихся друг от друга позах. Официант возвестил посторонним, предельно нейтральным голосом о том, что можно утешиться наедине забавным аттракционом метания устриц. Генриха тут же увлекло новое занятие. Вначале броски летели даже не в сторону полок, а пачкали занавес. Потом он стал точнее. После каждого успешного броска кошки хором мяукали. Также изменялся цвет их глаз. Устрицы на блюде сменились солеными помидорами. Безудержный поток аппетитной снеди не причинял фарфоровым созданиям особого вреда. Сырые яйца выскакивали из рук и бились о хрустальные люстры со свешивающимися вниз сосульками. На соседних столах, веселя душу, падали графины, из графинов вылетали пробки. Стаканы скатывались на пол и разбивались вдребезги. Скатерти неприличным образом под порывами ветра задирались и поднимались вверх, как юбки дам, что в бурю вышли прогуляться. Лед, положенный в вазочки, дабы вина не нагревались или наоборот охлаждались перед приемом вовнутрь, рассыпался по полу и радостно, с весенним чувством сверкал под светом сотней ламп. С чувством легкого раскаяния Вадим заметил: в зале он уж не один. Представительного вида мужчина помогал ему, впрочем, без особого успеха, метаться всякими угощениями в фарфоровых кошек. Не зная, как начать их знакомство, Тараканов через продолжительный отрезок времени обернулся. Мужчина тут же улыбнулся и, шаловливо улыбаясь, произнес: «Рад представиться! Полковник Деризад». - Граф Отливьев, - не особо задумываясь, брякнул Тараканов и побежал облегчиться, а заодно подумать, как вести себя с непрошеным гостем. Он забежал в первую попавшуюся кабинку и захлопнул дверь. Следы предшествующего посетителя давали о себе знать ядовито желтым цветом на фоне прохладной белизны уборной. «Тьфу, - содрогнулся Генрих от омерзения, совсем китайцы обленились!» И выбежал из кабинки, чтобы долго оттирать руки под струей воды. Пришлось вернуться к гостю без особого плана действий. Тот и не подумал утратить своего благодушного, всепрощающего настроения… - Любезный, простите, пожалуйста, мою некрепкую память, но я позабыл ваше имя? – изрек полковник. - Пустяки, с радостью вам все напомню. Я мистер Рукосуев, по профессии врач генитолог, доктор Членозад, как в шутку прозвали меня мои пациенты. - Великолепно, замечательно, - не унимался полковник. – Я Вам вот, что скажу, любезный доктор, в наше время надо держать язык за зубами, да деньгами не сорить, чуть зевнешь, и все, поминай, как звали! - Справедливо, - согласился Генрих, однако подобные качества, как и ваши замечательные советы, всегда почитались мудрыми. И, тем не менее, я сегодня нарушу одно из озвученных мною правил. Я расскажу Вам занимательную историю, которая произошла со мной не далее года назад. Но до сих пор я храню о пережитых событиях живейшие воспоминания. Дело было под Петербургом, глухие окраины его поражали воображение своей необузданной дикостью, бесчеловечной пустотою. Я прогуливался там в поисках острых ощущений, искал беды на свою голову. День близился к завершению, но нельзя сказать, чтобы вечер вступил во владение северными просторами, ибо лучезарное светило еще не ушло за горизонт. Я немного заплутал и не мог найти выхода из нежилого поселка, состоящего из разобранных домов ли, недолговечных ли бараков. Не знаю, что за местом была та дыра. Издалека доносилось собачье гавканье, шум автомобилей. Но направление толком определить не получалось. Бесконечные холмы, безнадежные в своей плоскости. Ландшафтное выражение скуки. Невысокие ели, повсюду песок. Ощущение курорта было во всем, но ощущение обманчивое. Насаждения высокого кустарника не позволяли взору достигать отдаленных мест, приходилось довольствоваться перспективой ближних мест. Немного беспокоясь, я продолжал идти по песчаной дороге. На секунду я содержался перед плотной стенкой из кустарника, чтобы вытряхнуть камешки и веточки из башмаков. Не успел я после того совершить и шага вперед, как дорогу мне преградил с огромной скоростью несущийся железнодорожный состав. Оглушительным ревом и невероятным появлением он сбил вашего покорного слугу с толку. Буквально, в течение двух секунд промелькнуло не менее двух десятков вагонов. Долго я стоял, как вкопанный, и пытался разобраться в происшедшем. Во-первых, не было не совсем ясно, почему поезд подъехал ко мне совершенно бесшумно. Затем, перейдя намеченный заранее отрезок пути, я поразился ширине колеи таинственной железной дороги, а вернее ее малости. Кто приказал огородить пути плотной стенкой кустарника, за которой не видно было никакого движения? Венцом, краеугольным камнем этой тайны была невероятная скорость поезда. Фантастически стремительный ход поезда, казалось, напрочь отметал реальность его существования. И тем не менее себе, как свидетелю, я мог доверять безо всяческих сомнений. Иначе не имело смысла со всем разбираться. Совершенно точно запомнил я плотный поток воздуха, волной ударивший мне в лицо. Тогда он едва не опрокинул меня, а теперь не единого следа существования злосчастного поезда. Я решительно не собирался мириться со всей этой чертовщиной. Меня привлекала тайна поезда, перевозившего непонятно как, неизвестно кого, по безлюдным местам. От произошедшей истории веяло невыразимым ужасом мистического, изнутри исходил роковой свет, мне непрестанно чудилось, будто я стал свидетелем недозволенного. – Полковник перевел дух и продолжил. Должен признаться, через полчаса блужданий я сменил не одну дорогу и в итоге заблудился. Я бродил по узким тропинкам поблизости от большого города, но таинственная сила не позволяла мне выбраться из плена этой сказки. Я увидел надпись на щите, которая должна была служить для скорейшего узнавания окрестностей, подробностей маршрутов прогулок. Как я впоследствии узнал, надпись была на языке, потерявшем смысл. Вернее, смысла язык лишен был намеренно, чтобы никто не сумел разгадать секрета железных дорог. Вначале его создатели экспериментировали с созданием нового алогичного диалекта. Диковинное произношение демиурги перевели в письменную форму, используя греческий алфавит. Знаки, обозначавшие буквы вскоре были заменены другими, новыми, чем-то напоминающими иероглифы. Затем, чтобы сильнее запутать труд расшифровщикам, они принялись не всюду, а в некоторых местах заменять буквы «о» на «а», «б» на «п» и т.д., дабы исключить метод разгадывания с помощью вероятностей. Создатели письменности группировали слова в единые монолиты или цельные слова разбивали на несколько кусков. Порой в состав плаката включались отрывки заведомо бессмысленного набора знаков. Хотя, кто знает, за время бесконечных преобразований, они, чисто случайно, вполне могли набраться смысла. Буквы кодировались цифрами, цифру уже иным способом с помощью букв. Разгадывание надписи представлялось реальным лишь при использовании алгоритма, обратного тому, что применяли демиурги. Его-то мне и не доставало. Но я не отчаивался, а вместо этого пошел по одной из тропинок на низенький холм, с высоты географического превосходства надеясь отыскать выход из лабиринта. Поверите Вы или нет, уважаемый доктор, но я вышел на платформу, принадлежавшую незаконным железным дорогам. Немедленно я обошел вокруг нее, благо размеры ее не составляли для этого помехи. На ней располагалась билетная касса и телефон. Касса не работала, а телефонная трубка свешивалась на проводе вниз и без толку раскачивалась. С чем связано опустение, - подумалось мне. Я решил покинуть опасное место, как можно скорее, и спустился с платформы по лесенке, держась за перила. Я вновь бежал по пустырям и оврагам. Остановившись, я заметил: я нахожусь на перекрестье дорог. Издалека раздала неотвратимый гудок поезда. Никак не получалось определить направление приближающегося состава. При всей ограниченности пространства я еще не мог определить, по какой тропинке мне следует отбежать в сторону. Сдается мне, я уже слышал топот тысяч маленьких ног в тесных вагонах восточных экспрессов. В последний момент я все же прыгнул в сторону и, невероятная удача, я не погадал. Черной молнией поезд пронесся в направлении, перпендикулярном тому, что избрано было мной в качестве спасительного. Отменная реакция спасла мне жизнь, но не спасла ноги. Не успело пройти секунды, как я сквозь предательский свет сумерек заметил, что мои ботинки слегка расплываются и теряют привычные очертания обуви. Десятки острых колес разрезали мою ноги, не оставив ей ни единой надежды: из соединения ботинка и подошвы медленно сочилась кровь. Впрочем, мне незачем жаловаться, у меня всегда ноги болели и нуждались в протезах! – воскликнул с непонятным восторгом полковник и непроизвольно дернул коленом. Генрих опустил взгляд под стол, дабы удостовериться в неисправности двигательного аппарата полковника самолично, все-таки он избрал для себя роль врача. Вместо толстых подошв или ортопедических ухищрений Генрих отчетливо увидел серый длинный облезлый хвост, обвивающий ножку трона. Медленно Тараканов поднял взгляд на полковника, тот изменился до неузнаваемости, развалился на высоком троне, лениво отхлебывал из кубка вина. На него тяжело смотреть невооруженными глазами, его богатые одежды едва заслоняли ослепительный свет, шедший от него, как от солнца. Одежды чернели, словно горшки с растениями на фоне ослепительного света, врывающегося в комнату. Скипетром с четырьмя заостренными золотыми вершинами он нацелился в грудь Тараканову. Очертания зала стали нечеткими и размытыми, они, словно медленно закружились в водовороте. - Зачем ты пошел против меня, князь? – обратился к нему полковник, - неужели я так неприятен тебе? В блюде, располагавшемся напротив полковника, дымились пельмени. Сквозь тонкий слой теста просвечивала красным начинка из сырого мяса. Тараканов вздохнул и отхлебнул легкой горечи мате. - Что же, в таком случае, нам делать? - А не ты ли в свое время мечтал, подобно аргентинскому фантасту-философу, покинуть мир людей и жить на удаленном острове? – после паузы осведомился полковник. - До сих пор я не могу расстаться с надеждами располагать жизнью по своему усмотрению. Пусть я буду жить впроголодь, пускай моя одежда будет усеяна заплатами или дырами. Но только не плясать под чужую дудку. Я соглашусь покинуть землю в виде бесплотной души, лишь бы не приходилось мне пробавляться скукой. Наверное, пожертвую и радостями общения с людьми в любых формах проявления сего феномена. Меня душит тоска, если бы я проводил две третьих суток во сне, я бы повредил челюсть зевотой. Представьте себе, могущественный покровитель, я потерял надежду на то, что мир услышит меня. Разумеется, не в прямом смысле, в моих мечтах я окружен толпой единомышленников, на самом деле, я одинок и мои труды никому не нужны. Вместо любимого дела я вынужден искать подмены, что приносила б денег, еды, не унизительно ли мое поведение. - Ничуть, я подарю тебе твоего Хорхе Луиса, ты станешь редактором журнала, а пока лети на родину Флобера и заступись за моих друзей, они в осаде. Я сам ведь человек стихии, не могу жить без искусства и противник системы. Сделай мне одолжение. Вопреки неизбежной фрагментарности сюжета и мозаичности повествовательной ткани. Место действия переносится на побережье Италии. Уединенное поместье, громадный сад возле ласкового южного моря. Аллея, усаженная платанами, конца которой не видно. Теплый ветерок, близость задумчивого вечера. «Я подобен чистому листу бумаги. Я готов начать свою жизнь сначала, готов бороться, готов прощать и влюбляться, но здесь признания самовлюбленного поэта не имеют ровным счетом никакого смысла. Потеряны на фоне благодатного пейзажа мечты и стремления. Хорошо бы остаться здесь навечно. Из борцов мы превратимся в домоседов, останемся ожидать, когда рассосется хмурая тревога в предвкушении перемен. Ничего страшного нет в столь прозаическом превращении». Слух Генриха принял странные колебания извне. Он пробудился там же, где и заснул пять часов назад. В зале, такое впечатление, грабители пытались разбить стекло с тем, чтобы ворваться вовнутрь. Тараканов удивился, но встал, обулся и пошел проведать прилегающие к его территории владения физкультурного зала. Маленькая тень соскользнула из проема окна и шмыгнула в зал. Генрих насторожился; затем в плечо ему вонзилась странная игла, не причинившая ему особенных страданий. Генрих выдернул иглу и бросил на пол. Тень попыталась напасть на него, но Генрих с легкостью отбросил ее в сторону. Придется напомнить любезному читателю, что Вадим Тараканов ростом превышал отметку в метр девяносто сантиметров. Еще пара игл вонзилась в грудь поэту. Генрих не на шутку рассердился и попытался поймать вторгшегося в частные владения любителя охоты. Но тень без затруднений уходила от тяжелых объятий. В конце концов, гость пришел к разумному решению начать дипломатические переговоры. Вадим включил в зале свет, перед ним стояло странное существо с саблей на боку и крыльями за спиной. На плече висела винтовка. Несложно догадаться: гостем поэта стал уже знакомый нам Илья Соболевский. Генрих растерянно потирал заспанное лицо. Илья настороженно ожидал дальнейших действий высоченного обитателя спортивного зала. Наконец он расслабился и дружелюбно спросил: - Не понимаю, как ты не свалился от дозы снотворного, которую я в тебя воткнул. - Вообще-то я только и делаю, что глотаю снотворное и сплю, да и веселящие средства, оказывают не лучшее воздействие на эффект от снотворного. Я же пропитан всякой дрянью, - апатично ответил Генрих. - Занятно, никогда не встречал подобного раньше! - Зачем ты явился ко мне, Сент-Джон? – поинтересовался после длительной паузы Генрих. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Я сам тебя так назвал, и ничего нет удивительного в том, что оно совпало с твоим настоящим, твое имя просвечивает сквозь тебя, его не стереть, не изменившись самому. - Так я пришел за тобой, Генрих. Мне нужна помощь, вместе мы сумеем добиться многого, мы изменим мир, заживем лучше прежнего. - Как часто два этих лозунга начинают путь рука об руку и как редко они завершают его вместе. Я не обещаю тебе своей помощи. - Друг мне нужно немногого, однако я далеко не сумасшедший идеалист, просто мы сумели бы воспользоваться моментом, когда вокруг неразбериха и власть захватит тот, кто первый протянет к ней руки. Мы сумели бы направить мир по верному руслу. - Ты преувеличиваешь, особенной суматохи вокруг незаметно, все под контролем, да и зачем тебе я? - Сидя в своей келье, ты станешь для меня генератором новых идей, словно дон Исидро Пароди. - Ну, не знаю, ты сразу начинаешь мне льстить, твои слова хоть и приятны, но настораживают. Ответить согласием тебе сумею я, как только ты объяснишь, чем будем заниматься. - Я вернусь дня через три, когда ты придешь в себя, тогда составим план действий, сейчас же пей одно зелье. – Сент-Джон протянул Генриху пузырек. – Оно приведет тебя в чувство. – Мистер Риверс уже собирался выпрыгнуть в окно, как его окликнул поэт. - Постой, постой. Я расскажу тебя одну вещь. Ты меня крепко испугал, твой приход похож на один из кошмаров, приснившихся мне. Я будто бегу через зимний лес. Вокруг склонились деревья под тяжестью снега на ветвях. Уже вечер и мне страшно. Длинной аллее не видно конца, и сбежать с нее тоже страшно, между стволов деревьев еще гуще тьма, пары мерцающих глаз льнут к стволам деревьев. За мной кто-то гонится, дистанция между нами медленно сокращается и скоро он меня нагонит. Я оглядываюсь или нет, но знаю, за мной гонится лыжник, чьего лица не различить во тьме. С трепетом в сердце я слышу скрип лыжных палок в снегу, слышу щелканье лыж о накатанную трассу. Совокупность всех ощущений, вызывает в памяти образ громадного, подвижного краба, клацающего острыми клешнями. И я думаю, вот нагонит меня ужасный лыжник и изрежет насмерть жесткими ребрами лыж. Он раскачивается из стороны в сторону, летя, будто орел, коньковым ходом без передышки. Однако вскоре ко мне приходит осознание того факта, что, в самом деле, я и этот лыжник – одно и то же, то есть ему незачем за мной гнаться, а мне от него убегать. Мы собираемся воедино и продолжаем путь вместе. Едем по скользкому настоявшемуся снегу, уклоняемся от веток, переступаем лыжами на поворотах. Мы съезжаем с не очень крутых горок, несемся, обгоняя ветер. Веселимся от души, одним словом. Но вот, подъезжаем к горке посложнее, с двумя поворотами, со сложным креном и небольшим трамплином в конце. Я собираюсь съезжать, как вижу сбоку от горки, посередине ее высоты прогуливающуюся семью. Семья беззаботно радуется весеннему дню на природе и лепит забавное изделие из снега. Белоснежная статуя щурит глаза из веточек. Я съезжаю с горки и возвращаюсь назад. Семья гуляет в составе трех человек: мамы, дочки и ее младшего брата. Они тоже катаются с горок и с почтением следят за моим стремительным спуском, сравнимым со сходом лавины в горах. Я пленен очарованием мирного семейного общения. Младший брат, улыбаясь, отвечает на какой-то вопрос, а затем сам съезжает с горки на плоской пластмассовой посудине. Девочка очаровательна и озаряет все вокруг своей неброской красотой. Ее прелесть заставит смириться любую бурю, любое чудовище покорно ляжет у ее ног. Я не в силах покинуть мирное спокойствие ласкового света серых глаз. Безумие, смешанное с вселенской тоской, охватывает меня при виде миловидного лица, легкой улыбки, которой расцветают ее губы. Неодолимо меня влечет к несбыточным картинам счастливой жизни. Я слишком скоро становлюсь жертвой мимолетных страстей, влюбляюсь без памяти. Моментально мое сердце заходиться тревожным боем узнавания будущей судьбы, мне кажется, времена стыкуются между собой, и грядущее перестает быть загадкой. Признак ли это непрочности чувств? Едва ли, но, впрочем, как знать. Единственное, признаком чего является моя подвижность души, так только сердца открытого для многих, искреннего и неподдельного интереса к миру. Ведь поэт должен влюбляться и страдать, иначе, как сможет создать он произведение неповторимое, уникальное. Без помощи внутренних волнений ему не обойтись, хотя иногда получается сместить равновесие в сторону рассудочной, логической части произведения. Но редко из этого выходит что-либо путное. И также быстро я признаю несбыточность моих фантазий, постепенно я смирился с эфемерностью подобных встреч. Я будто начинаю сам за собою наблюдать со стороны и не особенно расстраиваюсь из-за собственной непредприимчивости. - Ладно, мне пора, - Сент-Джон хлопает Тараканова по плечу. - Только возвращайся поскорее, - просит его Вадим. - Обещаю! – Сент-Джон вылетает из окна и пропадает во тьме, подступившей к столице. Джозеф Сэммлер жил один во всем районе и не выказывал по этому поводу особых признаков уныния. Как таракан пытается залезть вверх по гладкому скату ванной, так и Джозеф пытался сперва идти напрямик в разрешении своего жизненного конфликта. Но он нашел способ проще и, поймав момент, соответствующий духу времени, просто расправил крылья и взлетел. В разрешении накопившихся затруднений не нашлось бы чего бы то ни было сверхъестественного, трансцендентного. Просто он превратился в другого человека, - использовал внутренний резерв самопознания. Чтобы стать кем-то иным требуется всегда затратить небольшое усилие, правда, затем ты откроешь источник во много раз более значимых сил. Что-то вроде энергии активации. Джозеф не терял времени, развлекался на полную катушку: смотрел фильмы из частных коллекций. Следил за последними спортивными событиями за рубежом. С недоумением взирал на нового белорусского чемпиона по боксу, ждал новых подвигов от Джеймса Тони. Изредка воскрешал в памяти форму метастернальных крыльев или эпиплевр Agabus’ов. Играл в пинг-понг со стенкой, катался на лыжах по тающему в набиравшемся сил свете солнца снегу. В простых удовольствиях он черпал душевное равновесие, невозмутимость, крепость духа, неисправимую уверенность в будущем. Раз он целый день провозился с прилаживанием упряжки на бродячих собак, настолько увлекло его это дело. Они показывали неплохую скорость и при этом без устали катали его целый день. Замечательные создания заключил он, когда-нибудь сей замечательный союз людей и доместикатов перейдет на новую ступень реализации! Он почти не вспоминал о расправе на улице, проходящей мимо аптеки: жизнь залечит наши раны и покарает виноватых, так что беспокоиться не о чем. В то время, когда Джозеф Сэммлер ничем не тяготился и пребывал на вершинах безмятежности, теорию, созданную Сент-Джоном насчет причин невеселого облика Джозефа начал разрабатывать Вадим Тараканов, начинающий поэт, властитель слова, вассал письменной речи и русского языка. За момент их кратковременной встречи с Сент-Джоном тот ему передал историю о друге и его любовницах на уровне мыслей и настроения, и Генрих принялся ее совершенствовать. По его версии причины холодного отношения белокурой красавицы к стойкому Ахаву были не особенности поведения последнего, не недостатки его внешности или изъяны сознания, а напротив предпочтения самой Ольги. Сюжет меняет направление своего развития, теперь перед подозрением сама Оля. И в чем же ее обвиняют? По мнению Тараканова в ее склонностях была привязанность к отношениям в духе Альбертины – избранницы Марселя, из величайшего романа двадцатого века на французском языке. Ее чистота, ее надменная чинность, приторная естественность, неодушевленная красота пустых мечтаний. Ее недоступность и внутренняя надломленность, греховность. Сознание собственной испорченности, загубленной судьбы, она не могла изменить своим страстям, не могла вернуться на истинный путь, так как слишком глубоко познала прелесть греховной герметичной любви. Избранности однополых пристрастий. Согласно гипотезе Тараканова Джозеф и понятия не имел обо всей подоплеке развивающихся вокруг него событий. Не замечал он и рокового сходства между Ольгой с одним студентом из их группы и своими родителями в молодости. Николай знал себе цену, любил покрасоваться на людях, любил поговорить и голос его был громким. Он не ведал сомнений, был хорошо пострижен. Производил впечатление уравновешенного человека. Безупречная репутация шагала впереди него Множество совпадений не находило себе места из-за своей несуразности, но никого это не смущало, ибо большинство и не подозревало о двойной игре, что ведет судьба, о повторах в историях разных людей, о чреде поколений, чья цепь разматывается глубоко в темные недра веков. Отбившаяся от рук красавица не могла найти себе места и скиталась от одного дома к другому. Между тем все чаще и чаще в характере Джозефа проявлялась одна странная черта: порой некоторые явления очень терзали его, но вместе с тем они как будто происходили немного в стороне от него, не с ним, а лишь с выдуманным персонажем книги. Он мог раздумывать над своими горестями, анализировать свои печали. Одно желание никогда не оставляло его, чтобы никто не тревожил его покой, не взмучивал воду омута, в котором он залег на дно. Он выходи из себя, если только речь заходила о его безопасности, о цельном монолите провинциальной жизни, которой он проникся очень глубоко, будучи, однако, в столице своей страны. Ровно с таким же неспокойным настроением он выходил из дома вечером, разбуженный неясным шумом за окном, который застал его за порцией дневного сна. Он постоял напротив подъезда, решая в какую сторону пойти. В сторону второго микрорайона, вдоль шоссе, мимо тридцать третьего дома. Направо, к телефонному узлу и поликлинике. Уже издалека он заметил изменения в порядке вещей: из-за дома, подожженного небесной волей не столь давно, доносились неразборчивые крики. Отблески пламени вновь бушевали отражением на стенах возвышающихся домов. Дым костров стлался белым ковром по земле. Атмосфера хаоса захватывала власть по мере его приближения к источнику беспокойств. После длительных скитаний по опустевшему Городу путники нашли пристанище в третьем микрорайоне. Смекалистый читатель спросит: где же они были столько времени с описанного момента выхода из станции метро, названной в честь крупнейшего авантюриста смутного времени? Сначала они решили стать в пригороде, но потом их замучили холода и ветры. Во многом их миграции способствовала нехватка продуктов. Они вернулись и осели неподалеку от Джозефа Сэммлера, который до поры до времени просто с ними не сталкивался. Путешественников было существенно больше ста человек. В этот самый день они вздумали отмечать свой варварский праздник, посвященный новоявленному богу. Зарево костров было видно издалека, он густого дыма спирало дыхание. Джозеф остановился неподалеку, как дальновидный полководец, изучающий расстановку сил врага. Над широкими кострами крутились вертела. В разные стороны смотрели ноги, жарящихся на костре дворовых псов. Чернели группы снующих людей. Помимо первоначальной компании сюда понабилось множество беспризорного люда. Иные вылезали погреться из подвалов, другие покидали пустые квартиры и, приседая, на цыпочках, подтягивались к кострам. А там отвыкшие от общения с людьми стояли немного ошарашенные и млели от счастья, пытаясь поддерживать общественные начинания. За компанию смеялись, пили даровое вино, вздрагивали от громких звуков, надеялись на понимание, но они сбились не в ту стаю. И новые люди не очень напоминали прежних, настоящих. Джозеф вздрогнул: как все- таки многие не оценивают такого важного качества, как человечность. Пусть встреченный вами окажется лгуном, прохвостом, последним подлецом, но, коли в нем останется хоть часть человеческого, то вы почувствуете небывалое облегчение, увидев понимание в его глазах. Сходные мысли приходили юноше в голову уже не раз. В довоенные времена ему приходилось возвращаться домой на метро, когда времени было около двенадцати. В вагонах сидело по два три человека. В центральных вагонах набиралось с десяток человек. И в большинстве из них проглядывало что-то неуловимо странное, чудное. Взгляд, отдельные черты, особенности поведения резали глаз неестественностью, полуночной нереальностью. Отстраненные лица мечтателей, пожилое разочарование женщин, безмятежный сон тех, кто не очень торопится домой. Джозеф понимал, что и сам он являет собой не верх благополучной стабильности, а зрелище также не лишенное своеобразия: посреди преисподней, кипящей смолой, в общественном транспорте, погруженный в чтение литературы далеко не развлекательного характера. В этом проступала затаенная ирония игрока с судьбой. Людям чудился в его поведении укор, насмешка, заготовленная инсценировка. Но только в вагон входил кто-нибудь с человеческой осмысленностью глаз, пусть с лицом нежно тронутым тлетворным дыханием порока, тут же Джозеф невольно пытался встретиться с ним взглядом, чтобы дать новому пассажиру понять, что он отнюдь не из когорты сидящих вокруг безумцев. По мере приближения ночи варвары начинали вести себя все более непринужденно. Впрочем, вожди сохраняли относительное спокойствие, сидя на высоких тронах возле отдельного костра. Звуки примитивных инструментов и нутряное, горловое, заунывное пение, пришедшее издалека, из древней глубины веков, словно Нью-Йорк, пропитанный рэгтаймом. Из высоких шатров медленным шагом выходили наложницы, смуглые красавицы, захваченные в южных путешествиях, и шли в сторону костров вождей племени. Джозеф хмуро глядел на торжественное зрелище, опершись на перила лестницы бывшего здания почты. В его груди зарождалась тоска, напоминающая ту, что когда-то терзала несчастного Колена из «Пены дней», которую таинственным образом пережил писатель из «Униженных и оскорбленных». «Вот, подлецы, чего придумали!» - про себя подумал юный Сэммлер. Его не столько волновало зрелище доисторического племени, сколько их присутствие неподалеку от него. С этим Джозеф никак не мог смириться, но одновременно не желал уйти с места, которое приходилось ему домом, под давлением внешних обстоятельств. Тем самым он проявил бы свое малодушие, а такое качество полагается скрывать от посторонних. Он томился в сознании своей слабости, нерешительности. Не хотел, чтобы поступки опережали мысли, но и сомневаться невозможно перед лицом наступающего врага. Рабы подле трона великого владыки взмахивали опахалами, дабы разогнать остатки дневного зноя. Сам владыка прикидывался индейцем и водрузил убор из перьев себе на голову. Его глаза были подведены и казались невероятно выразительными. На щеках играл огнистый румянец лелеемого жизнью баловня судьбы. На каждом колене у него сидело по пленнице, они услаждали его слух нежными речами. Рядом с повелителем стояли его верный карлик с морщинистым лицом, души не чаявший в своем повелителе. Советники правителя оделись под викингов с рогатыми шлемами, другие из себя изображали античных воинов с короткими мечами и шлемами, увенчанными гребнями из конской гривы. Гладиаторы судьбы. Пышная инсценировка заставила возмутиться вкус Джозефа и он, не стерпев, ринулся к толпе варваров, чтобы унять пыл их увлечения исторической бутафорией. Никем не остановленный Джозеф остановился у самого трона. На секунду он смутился собственной нахальности, но затем решил: уж коли начал, то лучше подарить начатому достойное продолжение. И с гневной тирады начал свою речь: « Уж не публичный ли дом «Из рук в руки» начал работу подле окон моего дома, не совершилось ли на днях торжественное открытие самого распутного на всем белом свете борделя «Выбери меня»? Отчего все так затихли, неужели мои предположения верны? О, нет, боже, только не это, какими грехами я прогневил твое благословенное начало?» - Джозеф картинно пал на колени, и пафосно воздел руки к небу, изображая неутолимую скорбь. - Я опозорен и опозорен навеки тем, что дал приют презренному племени на своей земле. Я проклят на все времена и дети мои забудут свои имена, а те, что сохранят мне верность пойдут нищими по свету. Смерть презренному племени сводней и сутенеров, - Джозеф бросил выразительный взгляд на притихшую толпу полунагих людей. – В моей бурной жизни бывало так не раз, люди подобной профессии изрядно подпортили мне крови. Говоря словами потомка скандинавских скальдов: « Она пропускала любовь между пальцев, глядя с неуловимой своей улыбкой, как та утекает. <…> Да и лицо ее было вовсе неинтересно. Сразу было видно, что она шлюха, хоть она и пыталась это скрыть за обманчиво невинной внешностью. Не надо было долго разглядывать, чтобы понять ее сущность». Я поначалу не обратил на ее замашки внимания, пропустил это мимо. Но затем сполна расплатился за свою невнимательность. Поделом мне, с тех пор я нетерпим к разного рода слабостям и червоточинам души. Гоню я прочь ваше презренное племя с моей земли! Вождь улыбается обольстительной улыбкой любимца женщин. Восточная тонкость его черт вскружит голову любому, но только не Джозефу. Он терпеливо пережидает эффект чар последнего. Правитель предпринимает еще одну попытку завоевать расположение несговорчивого Сэммлера. - Любезный воин, ясноокий хозяин здешних мест, я полагаю, мы сможем обо всем договориться полюбовно, не пуская в ход жадное до людской крови оружие и гнусное порождение несдержанных уст – брань не достойную властителей. Я думаю, тебе придется по вкусу наше предложение утешиться с пленной красавицей, разделить с нами счастье праздничного дня, наше довольство жизнью, оценить чудесную красоту жизни и молодости, наше восхищение полноты ощущений! Не пройдет со мной подобный фокус! Договориться я готов, но изложи свои условия подробно. Меня же удовлетворит одно: пропадите навсегда отсюда! – Джозеф несказанно раздражен. В порывистых отблесках огня появляются фрагменты нагих тел. Он озирается и чувствует, что остался не у дел. Внутри у него что-то тяжело ворочается, его гнетет обстановка неудобства, стеснения. – Я не готов терпеть у себя дома гостей, которые подтираются моими обоями и бросают окурки на пол. Разумно ли меня винить за то? Никак нельзя, убирайтесь же немедля надменные пришельцы! Джозеф бросается в сторону я разрывает путы тесных объятий не особенно разборчивой пары, развлекающейся прямо на земле. Те, нехотя, расходятся и смотрят на него озадаченно, но без особого раздражения. - Праздник окончен, – кричит он, - по домам! – Джозеф носится по лагерю и пытается завершить порочную вечеринку на пустыре. Викинг встает ему на пути: «Мне кажется, ты зашел далековато», - глухим голосом спокойно выговаривает ему бородач. - А мне кажется ты, жирный кусок дерьма, оделся не по погоде! - запальчиво кричит в ответ юноша и отпихивает варяга в сторону. Потом он натыкается на небольшой костер и сидящих вокруг него людей с гитарой. Они вполне себе вменяемы, а здесь просто за компанию, поддерживают авторитет небожителя-вождя. « Он необыкновенный человек, он не такой, как мы. В его взгляде есть нечто гипнотическое, завораживающее спокойствие, пустота нирваны, он просветленный». Что еще в таких случаях говорят продавшиеся интеллигенты? Взгляд его направлен в сторону пары засидевшейся допоздна. С одной стороны – лохматый крепыш с апатичным взглядом душевнобольного, которого хорошенько обработали, чтобы тот не буянил. Мягкие курчавые волосы. Но в нем чудится затаенное упорство, душевный кремень, он не тот за кого себя выдает. Несмотря на то, что он явно не старше Джозефа у него отменная борода и пышные бакенбарды. Словно у него есть скрытый возраст про запас, и из чрева матери он вылез уже не малышом. Спокойствие, рассудительность, но одновременно, какая-то животная склонность к порочности. Исконная склонность к разврату. Джозеф бы ни слова не сказал безобидным влюбленным, если бы не вторая половина проницательного сангвиника. Он поражен чистотой ее взора. Первородной открытостью черт. Когда она случайно бросает на него свой взгляд, он видит себя слабым, незащищенным, на вершине огромной горы. Он открыт всем ветрам, стихии пронзают его насквозь. Он беспомощен перед силой ее обаяния. Чистота ее лица подобна самоцвету. Самолюбие Джозефа задето демонстрацией сокровища, принадлежащего врагу. Он припоминает цитату из шведских хроник: « Противно было видеть эту смесь невинности и похоти, особенно пакостную и превращающую любовь между людьми в этом возрасте в нечто совсем уж безобразное». Влюбленные отвернулись и сделали вид, будто им невдомек, о чем говорит Джозеф. Они хладнокровно отвернулись, намекая тем самым на гарантию безопасности, которая им ни с того ни с сего будет дарована, благодаря их обоюдному положению. «Ну, вот еще, - обратился сам к себе Сэммлер, - знать ничего не знаю!» Своим поведением они бесстыдным образом намекали на несостоятельность личности Джозефа, на его несомненную слабость. Они полагали, для них не существует запретов, правил приличия, негласных устоев. Они выше этого и пребывают в отдельном мире, куда остальным заказан вход. «Так я разрушу этот мир, коли он такой занозой вонзился мне в сердце!» - Прошу вас, оставьте пределы ближайших окраин, над здешними местами я полноправный хозяин, а потому не желаю становиться свидетелем разнузданных сцен. Покиньте эти места, и я вас не трону, обещаюсь вам со всей прямотой и искренностью, на которые способно мое исстрадавшееся сердце, - обратился к не замечающим его распутникам Мартин Фьерро. - Напрасно Вы возомнили себя больше, чем обычным человеком, Вы – один из нас. Вы – обычный неудачник, не желающий признавать свои поражения, а от того Вы так и беситесь, начинаете придумывать себе прозвища, считаете себя выше остальных. Не приставайте к нам из зависти и злобы, это наш день, и все тут, учитесь признавать свои ошибки! – сдержанно заметил плюшевый медвежонок. - Вы правы во многом. И знаете: этот талант уметь говорить обычные вещи, так, чтобы выводить людей из равновесия. Подумайте, сейчас вы говорите обо мне с позиции силы, как победитель проигравшему. Свысока глумитесь надо мной. А ежели я начну вести себя с вами, als завоеватель? Как вы прореагируете на мои поступки, когда я примусь разрушать привычный для вас ход вещей. Будете ли вы столь же рассудительны и холодны? Столь же разумны и справедливы? Вся наша правда держится на честном слове, Вы ходите по лезвию бритвы, я не собираюсь вас предостерегать, вас уговаривать. У вас еще есть время уйти. Не в моих интересах заботиться о том, кто мерзок мне. Но заметьте, я не нападаю на вас из-за угла, я честно показался перед вами и рассказал вам о своих требованиях. Но вы и тут находите, в чем бы меня уличить. Напрасно. - Нашему счастью все время кто-то мешает, находятся недовольные нами, своей небогатой жизнью. В каждом углу сидит недовольный и тычет в нас пальцем. Но на сей раз мы под защитой прекрасноликого вождя, и вы сойдете с нашего пути. – Паренек и не думает уступать. И эта ситуация грозит обернуться бедой. - «Гореть тебе в геенне огненной! И пусть пламя вечно лижет твое гнусное лоно, изведавшее мерзкий грех любви!» - неожиданно обращается Джозеф к спутнице строптивого вольнодумца. Затем с переходом, обычно свойственным помешанным, резко меняет интонацию и заговаривает с нежностью, почти мольбою, - обратись время вспять, Мариамна, этот выбор сулит тебе только несчастья. Помнится, в недавно прошумевшей, путаной повести «Безмятежный край», главный герой сетовал на проделки какой-то сводни, кажется, и здесь не обошлось без ее участия! - Замолчи, мерзавец, иначе мне придется злоупотребить силой, - блудодей вступается за честь оскорбленной. Скоро небеса погребут наш ветхий мир под своими обломками! - Постой, но разреши узнать мне, какое имя ты носишь? - Рутобор Сивосский. - Понятно, - по лицу Джозефа видно, что он не очень поверил шутке вольнодумца, - ну так, Рутобор, последний раз ты наслаждался обществом прелестной красавицы, запомни хорошенько ее глаза, полные страха и отчаяния, глаза, полные любви и страстной чистоты ранней весны. И попрощайся с этим сокровищем, тебе без него придется, верно, очень туго на том свете. Тяжелым ударом наотмашь сшибает Джозеф мальчишку на сырую землю со складного стула. «Пришла моя пора, мучить людей, за грехи совершенные ими когда-то», - меланхолично произносит Джозеф. За бакенбарды поднимает он с земли обаятельного пасынка любви, с тем, чтобы вновь могучим ударом обрушить на землю презренного сластолюбца, наводняющего землю пороком. Все, повержен, безвинный агнец, свершилось злодейское убийство. Померкнет свет дня, сочувствуя невосполнимой утрате, подернется ясное небо черными тучами. Завоют, зарычат в лесах дикие звери, застонет земля русская, от тяжелой утраты не зная куда деваться. «Пойми, красавчик, в этом поступке нет ни капли, так называемой, высшей справедливости! Я сделал это просто, чтобы проучить ваше племя самоуверенных лжецов, которым не нужен никто, кроме них самих, которые полнятся от сознания собственной значительности, которые сделают все, чтобы блеснуть в глазах прочих людей, возвыситься посредством этого! Твоя игра окончена». Джозеф обернулся в поисках красавицы, в надежде хоть как-нибудь обелить свой милитаризированный образ. Но она пропала, бесследно исчезла. «Ну, вот, доигрался, обратился сам к себе Сэммлер!» И горюя от очередной понесенной утраты, он пустился крушить ряды противника, подобно Джорджу Форману, от чьих ударов содрогались сильнейшие люди планеты. Смертоносная мельница, косящая смерти косой поражала пирующих одного за другим. Они роняли бокалы, полные вина, разбивая их о землю, падали и сами лицами на пыльную землю. Джозеф пытался настигнуть вождя с невозмутимым лицом и торжественным нахальством всезнайки, он неистовствовал, поскольку вождь провалился, как сквозь землю. И нигде не было видно ни повелителя, ни его слуг: они сбежали. Сэммлер метался, словно разъяренный лев, по лагерю вакханок и фавнов, досадуя на свою собственную поспешность в исполнении дел не самых важных. Быть может, он зря расправился с тем бородачом так скоро, но уж больно он был самоуверен и, казалось, бросал вызов своим поведением. Очередной враг был повержен: откуда же они набрали стольких уродов, столько скотских лиц, каких-то рябых, кривоватых. И не столько уродливых изначально, по своей природе, сколько пропитанных испарениями гнилых душ. Свиные рыла, да и только. Это отребье нашло себе правителя попристойнее и, как можно, более отличного от них самих. Постепенно чернь перестала разбегаться, а, наоборот, понеслась к нему бесконечная в своей безликости. Они напирали со всех сторон, как саранча, набрасывающаяся на урожай. Каждый удар Джозефа настигал предназначенную ему жертву. Не осталось места, свободного от искалеченных телес и истекающих кровью, озверевших пьяниц. Он набивал им морды, их звериные рыла, потерявшие малейшие намеки на бывшее некогда человекоподобие. За ними стояло большее, нежели только их безумная ярость. Вскоре озверевшая чернь повалила самозванного хозяина здешних мест и, топча кровавого безумца, называемого Мартином Фьерро, укутали его крепкой, рыбацкой сетью. Затем его повели в сторону горевших костров, у них сидел неуязвимый царь буйного племени, с играющей на устах невозмутимой улыбкой победителя. С недоумением он взирал на плененного Джозефа. - Это с ним вы не могли вы справиться так долго, он ли терзал наши ряды и отправил в лучший мир сильнейших наших воинов? Я не могу поверить ни вам, ни своим глазам. Кто-то из вышеперечисленных лжет, - заключил повелитель с самодовольной улыбкой. Он не торопился вершить суд. Как всякий мудрый правитель, он желал, чтобы время работало на него, возвеличивая царя в глазах подданных посредством пауз, эффектных пауз, мгновений, кажется, длящихся вечно. – Это же ребенок, пару лет назад, глядевший в рот учителям в родной школе. Это ничтожество, я сломаю его одним взглядом, – заявил он, основательно расхрабрившись и расхаживая по помосту в ниспадающих одеждах. - Далековато, ты спрятался, - пренебрежительно заметил Джозеф. Царь не потрудился ответить. Он вытащил из складок плаща жертвенный кинжал и направился к связанному пленнику. Продолговатое лезвие странной формы блеснуло в отсветах пламени. Джозеф попробовал совершить еще попытку выбраться из связующих пут, охватывавших всего его целиком, сдавливавших его тело, режущих его члены. Внезапно пламя костра задрожало, словно от порыва ветра, спускающегося с гор. Золотистый диск луны зловеще пересекла бесшумная тень. Крики людей раздавались с противоположной стороны лагеря. «Готовьте простыни для тел врагов моих!» - громогласный клик, казалось, взмутил небо вихрем и заставил звезды кружиться на безоблачном небе. Сгусток тьмы несся по направлению к вождю и пленнику с - огромной скоростью. Орлом с гигантскими когтями спускалось чудовище с неба. Те, над кем оно пролетало, оставались без рук, падали рассеченные надвое или бежали в панике прочь. Таинственный спаситель с полупрозрачными черными крыльями отсек вождю руку с занесенным кинжалом и разрезал сеть. Джозеф оказался на свободе, и вместе с крылатым освободителем они погнали ненавистное племя прочь. Те освещали себе дорогу факелами, пытались отбиваться мечами, вилами, деревянными палками, но все было напрасно. Незнакомец атаковал с неба, затем совершал разворот в воздухе и с еще большей скоростью вгрызался в ряды врага. Кровожадность Джозефа куда-то пропала после пленения и нежданного освобождения. Он просто хотел остаться в одиночестве, чтобы никто не тревожил его, не пытался припугивать его или наставлять. И теперь он был рад победе, был рад бегству врага, а потом не испытывал особого желания добивать бегущих с поля брани. Летучий спаситель напротив еще достаточно долго парил над толпой вражеских сил, терзая их разрозненные ряды. Только для натерпевшегося страху Джозефа личность крылатого человека оставалась загадкой. Читатель, до сих пор внимательно следивший за развитием замысловатого сюжета, без сомнения, ответит на сей вопрос. Разумеется, рука прекрасноликого повелителя была отрублена закаленной в боях саблей Сент-Джона Риверса или Ильи Соболевского, как называли его родители и одноклассники. Вскоре вернулся и проучивший варварское племя Сент-Джон. Он сложил черные крылья, снял маску и, устало улыбнувшись, вытер лицо. Сабля в ножнах медленно качалась в такт его шагам. - Здравствуй, - только и сказал он Джозефу. - Да, - протянул тот, - я тебя, наверное, знаю. - Еще бы! - Постой-ка, ты же Илья, мы вместе учились в одном классе! – начал вспоминать Джозеф. - Именно так. - Да, - еще раз поразился Джозеф чудесным переплетам судьбы, - с тех пор многое, что изменилось. - Почти все, нас теперь не узнать, - заверил его Риверс. - Увы, увы, но как же так вышло, думал ли ты, что повстречаемся в столь невероятной обстановке, совершенно непонятными дикими людьми, искаженными собственной неверной судьбой? - Я желал стать тем, кем являюсь сейчас, и именно таким я оказался полезен тебе, не правда ли? - Да прости, я не подумал. Но я все-таки не по своему желанию встал на этот путь, меня толкнуло на него проведение. И хоть это нелепо, но я – игрушка в руках высших сил. Ежели раньше мне приходилось бороться за выживание, то теперь мне предстоит более тяжелое сраженье, за то, чтобы сохранить себя неизменным. Но это встреча поразительна, не правда ли, через столько лет, одни в опустевшем городе среди маньяков и убийц, маргиналов и запущенных проституток, трусливых бюргеров и почувствовавших власть солдафонов! - Это не случайность, - признался Сент-Джон, - я все подстроил, долго тебя выслеживал, пытался дать тебе возможность себя обнаружить и сделать встречу, как можно, более естественной. Но загадочным племенем мой план отчасти был сорван, отчасти все эти события добавили мне решимости, и я сказал сам себе: или сейчас, или никогда. - Тебе требовалась моя помощь? - Мне не хватало уверенности, мне нужен был союзник. Бывшие одноклассники идут по направлению к дому, не важно какому, теперь все здесь – их владения. Они делятся воспоминаниями о прежних днях. Их прогулка сопровождается ритмичным проигрышем «Octopus» Сида Баррета. Сент-Джон разъясняет Джозефу подробности своего плана, оглашает долго лелеемые мысли о ситуации среди людей, разбросанных по миру, как попало, о власти силы и грубости, потом обезоруженно разводит руками: «Все это – мечты, планы, сам я человек действия, оттого эта часть моей деятельности пока хромает. И я надеюсь на твою помощь. Джозеф: Даже не знаю, как мне реагировать на твое предложение. Я привык сомневаться во всем, что мне говорят, но также бы я не поверил и словам о нашей с тобой встрече в ранге уличных разбойников. И, тем не менее, реальность происходящих событий, пожалуй, даже избыточна. Я опасаюсь и того, что могу попасть в сети какой-нибудь банды, которая будет эксплуатировать нас с тобой без нашего на то ведома. С другой стороны, а вдруг серьезность твоего предприятия тобой преувеличивается. И наша операция останется красивой мечтой. Сент-Джон: Куда уж серьезнее, мы уже перешагнули черту дозволенного. В пространстве, где существуем мы с тобой да еще горстка безумцев не действуют никакие законы, хотя сейчас и так, каждый вертит законами по собственному усмотрению. Я особенно не склонен мечтать, ибо мысль мистера Риверса не способна оторваться достаточно далеко от его поступков. Планы мои пока скромны, кто знает, чем явится нам их продолжение? Они идут молча мимо детской площадки. Позади снарядов для подвижных игр на воздухе и детских горок – решетка детского сада. Трехэтажное здание блевотной голубой расцветки. Музыкальный редактор включает гипнотическую «Long Gone». Сент-Джон: Ты здесь жил Джозеф? Джозеф: Как напротив детского сада и чертовой детской площадки. Сент-Джон: Дурные воспоминания? Джозеф: Да, так, ерунда. Только сяду писать статью: мой стол стоял напротив окна, как тут же какая-нибудь парочка вскарабкается с ногами на лавку. Поместятся на спинку той самой лавки и давай лизаться или имитировать долгожданную близость подле окон семнадцатиэтажного дома, на обозрение всему району. И подле них обязательно крутится маленькая шлюшка, очевидно, менее удачливая подружка девушки с кавалером. Иначе давно была уже на ее месте… Сент-Джон: Своеобразные воспоминания (вздыхает под звуки «Opel» с сольного альбома первого гитариста Pink Floyd). То ли начинает светать, то ли наоборот темнеет. Друзья идут бок о бок и молчат. У них впереди еще долгий путь. Им многое суждено еще сделать. Но придет также помощь в лице небезызвестного нам Вадима Тараканова. - Кое-кто еще готов предложить нам помощь, - осторожно добавляет Сент-Джон. - Да, и кто же? – вопреки ожиданиям Сент-Джона это известие не очень напугало Джозефа. - Один безобидный поэт огромного роста, с химической завивкой волос от передозировки всякими галлюциногенными снадобьями. - Занятно, - ухмыляется Сэммлер, - судя по всему, он презабавный товарищ! - Можешь не сомневаться, - у Сент-Джона как камень с души упал. Борцы за справедливость на улицах столицы поднимаются в квартиру Джозефа, там открывают и разогревают консервы, делают бутерброды, заваривают чай. За едой смотрят бокс по записи с участием Эвандер Холифилда и Рэя Мерсера. - Занятно, - удивился Сент-Джон, - чего-то и не слышал никогда об этом бое. А так же ведь одни из самых видных супертяжеловесов девяностых. Не, ничего не скажу, - любопытно было посмотреть! - Да, я вообще испытываю эстетическое удовольствие от боксерских состязаний, особенно, когда без толкотни и клинчей, без всякой грязи. Очень азартное занятие! Что ни говори, а римляне были недалеки от истины, когда наблюдали за боями гладиаторов. – Джозеф налил из заварочного чайника вторую кружку чая. - А можно тебе задать вопрос немного в сторону? – осторожно поинтересовался Сент-Джон. - Это как, вправо или влево? – перевел все в шутку Сэммлер. - Меня посещали достаточно странные, необъяснимые сны, насчет тебя, начавшиеся с подозрений в вагоне поезда, везшего тебя на станцию Перово. - Любопытно, ну, что ж, рассказывай. Сент-Джон рассказал Сэммлеру краткую историю его взаимоотношений с Ольгой, такой, какой эта история представлялась ему в поезде. Затем рассказал часть, придуманную Генрихом, приснившуюся ему на днях. Надобно заметить, Джозеф ничуть не удивился подобной постановке вопроса. Он только задумался, отхлебнул еще чая. - Нет, со мной ничего подобного не происходило совершенно точно. Однако отчего я продолжал следовать за этой прелестницей, несмотря на ее равнодушие ко мне, я настоящий, уже бы сто раз забыл про нее? А в ваших снах я отчего-то проявлял малодушное упорство. Все это мало вяжется с моим настоящим обликом, не правда ли? - Не знаю, скажу откровенно. В описанной истории я выступал зрителем или свидетелем, но никак не автором. Но, знаешь ли, такое странное воспоминание приходит мне на ум: я будто сам стал тобой, и во снах, снившихся мне, играл твою роль. Это поразительно, не знаю, как описать тебе этот феномен поточнее, но тогда, в течение действия меня не смущала противоестественная замена, и я, действительно, стал тобой, хотя, возможно, напоминающего тебя весьма отдаленно. - Парадоксальная формулировка! – заметил Джозеф. - Да, да, я понимаю. И, став тобой, я ходил по пятам за Ольгой, не отрывал от нее глаз. Я заболел ее прелестью, непостижимой привлекательностью, гипнотической притягательностью образа, овеянного колдовским очарованием сна. Черт те, что, разрази меня гром, во сне я стал другим человеком, пойми меня. - Что же было в ней неземного, сведшего тебя с ума? – Джозеф нахмурился, погрузившись в воспоминания. - Ее античная простота, необузданная гармония простоты. В ее внешности и вправду не было ничего выдающегося, но чрезмерное отклонение от среднего чаще всего заставляет нас отвернуться в смущении или страхе за свою судьбу, за собственное спокойное будущее. Она казалось святым духом, принявшим земное обличие. Ольга казалась удивительно простой в общении, с ней можно было заговорить о чем угодно. С ней любой ощущал себя, как со своим старым знакомым. Она была очень приятным человеком. Правда говорила она немного странно, слегка торопливо, короткими фразами, и глаза ее будто искали поддержки во время того, как она говорила. Она не была чересчур худенькой, в ней была естественная полнота. В ее движениях, ее лице не наблюдалось тошнотворной томности, ей подошел бы эпитет сдержанная, деловитая. Хотя нет, в последнем определении присутствует позорный феминистский призыв. Ее постоянная, едва заметная смена нарядов, - Сент-Джон замолчал, слегка устыдившись своей чувствительности. - Как бы я хотел признать: со мной происходили тобой описанные события, но нет, вся жизнь моя на ладони и выдумывать тут нечего. Ни за кем я не следил, никем столь сильно не восторгался. Для меня, вообще, это не свойственно. Стараюсь быть на расстоянии ото всего, что может причинить мне боль, лишь только мне станет ясно, здесь я вряд ли добьюсь чего-нибудь стоящего, я тут же отступаю. Меня смущает и угнетает неопределенность, проволочки. Впрочем, внутренний голос мне подсказывает, подобная история могла иметь место со мной. Как будто трогательный сон был старательно вычеркнут из моей памяти. И ей-богу, словно мы с тобой – разные сны одного человека, связанные незримой нитью ночных похождений. Или мы – две половины одного человека: ночная и дневная неожиданно повстречавшиеся на перепутье яви и сна. И я стану лишь частью чего-то большего, величественного, неземного. Знакомство Джозефа с Генрихом прошло успешно и без особенных осложнений. Вадим Тараканов был осторожно перевезен в квартиры неподалеку от палат Джозефа. Жизнь уверенно шагала семимильными шагами, дела, наконец, завертелись. От начальных проволочек не осталось и следа. Писателя и натуралиста объединяла страсть к волейболу, их союз обещал быть очень крепким. Пользуясь талантом систематика, Джозеф аккуратно зафиксировал все их возможности в плане скрытных перемещений по Городу: такие сведения могли чрезвычайно им пригодиться. Была нарисована подробная карта подземных магистралей столицы, как законных и общедоступных, так и доступных доселе лишь Сент-Джону Риверсу. Будущая их деятельность могла быть сопряжена с необходимостью моментально испариться, исчезнуть с лица земли. Для спасения от преследователей авантюристы подготовили систему укрытий глубоко под землей. Приходилось обустраивать хранилища неясного прежде назначения под комнаты, пригодные для длительного пережидания форсированных поисков. Приятели укладывали пол в подземельях деревянными настилами, помогающими сделать пол в помещении теплее и спасти их на определенное время от возможного затопления. Огромные запасы фуража находили законное место в бункерах молодых заговорщиков. Для организации хранилищ им не приходилось прикладывать сверхъестественных усилий, ибо упаковки сухарей, огромные цилиндры сыра и канистры с питьевой водой лежали в магазинах без присмотра, чем без зазрения совести и пользовались предприимчивые партизаны. Ко входам в подземелья они подвозили продовольствие и предметы быта на потертом грузовичке, который был вероломно похищен со стоянки. Внутри им приходилось труднее, поскольку никакой автомобиль не проезжал по узким коридорам столичных катакомб. Справиться с транспортной проблемой им помогли обычные мопеды. Повсеместно распространенные средства передвижения легко проезжали вдоль самых узких лазов. Для широких магистральных направлений ими применялся мощный снегоход, отлично справлявшийся с неровностями дороги. Снегоход служил отличной рабочей лошадкой, перевозя сразу приличные объемы груза. Иная проблема подстерегала доморощенных спелеологов в лице разного рода отходов, строительного мусора, обломков, которые могли изрядно подпортить им попытку оторваться от преследователей при помощи мопедов. Помимо этого требовалось освободить те из гротов, которые предназначались для жилья. Перевозить землю и камни на мопедах казалось сизифовым трудом и делом относительно медленным. Великодушная муза шепнула Генриху приметить в пещере цепочный транспортер. В условиях строгой конспирации и не без помощи финансовых вливаний со стороны запасливого Ильи они уговорили помочь им бригаду строительных мастеров, управившихся с работой на главном участке в течение одной ночи. Существовала также опасность отравления внутренними газами канализации и намеренно подосланными химикатами врага. Заговорщики наведались в супермаркет электроники, в дни смуты пустовавший, и справились там насчет ситуации с кондиционерами. Отобрали несколько десятков самых мощных агрегатов и оборудовали им комфортабельные подземелья. Всех рабочих: электриков, монтеров, водопроводчиков, они нанимали удивительно легко, те, казалось, были готовы поработать недельку-другую даже и в адском пекле, но за приличные деньги. Наши друзья пользовались этим фактом, благо ресурсы пока им позволяли. Пути к отступлению были готовы, тылы укреплены с должной тщательностью. Заговорщики старательно исследовали систему тайных телекамер по метрополитену и надземной части столицы. И учились оптимально обходить их, не появляясь на экранах служб по присмотру за жизнью бюргеров. Генрих однажды предложил пользоваться маскировкой, все согласились с ним, потому, как приходилось не только шнырять по переулкам и переходам и оставаться незамеченным, но и поддерживать активный контакт с населением. И запоминающаяся внешность могла послужить на руку их врагам по ту сторону закона, которые бы принялись опрашивать свидетелей. Театральные гримеры, постепенно возвращавшиеся в столицу, преподавали им уроки преображений путем наложения бород: густых или редких, седых или рыжих, бакенбард, многочисленных отпрысков семьи морщин. Органическим клеем приклеивались двойные, тройные подбородки. Безопасными валиками под щеками – на десны, они увеличивали размеры щек. Подтягивали липкой лентой кожу сбоку, на висках и изменяли разрез глаз. Парики они меняли каждый день. Залогом успеха было также признано разнообразие гардероба, с целью пополнения списка одежд были опустошены целые отделы магазинов из серии Second hand. Своей гримерной ребята назначили угнанный здоровый фургон, на котором перебили номера и намалевали взамен с десяток фальшивых. От их безобразия разбегались глаза, но пока они не совершили ничего, сколько-нибудь стоящего. Наверное, сам господь бог находился под впечатлением от их приготовлений и одновременно недоумевал, почему же они так ничего до сих пор не предприняли, дабы восстановить долгожданную справедливость на их поизносившейся планете. Загвоздка заключалась еще и в том, что постепенно с возвращением горожан они растеряли большую часть героического запала, демонической самоуверенности. А ведь именно с его помощью неопытные пареньки расшвыривали целые армии супостатов, не задумываясь, жертвовали преступными жизнями маньяков и подлецов. Теперь Джозефу, Вадиму и Илье становилось не по себе при воспоминаниях об их похождениях. Словно происходившее обернулось сном, дурной реальностью шкодливого романа. Деньги начинали подходить к концу, а перспективе так много планов лежало непочатыми. Они оказались загнанными в ловушку реальности и очень возможно вскоре бы расстались со своими благородными планами, пропитанными кровью усопших врагов. Неужели их труды не дадут всходов, не принесут видимой пользы? Необходим был знак свыше, перст расположенной к ним судьбы, импульс, сдвинувший бы всю кампанию с мертвой точки губительного простоя, грозящего потерей навыков, уверенности. И долгожданное знамение явилось само собой, явив новую эру их приключений. После длительного отсутствия горожане опасливо возвращались в покинутые жилища, осматривались, проверяли тайники и раскладывали вещи в привычном порядке. Вернулись не все, многие ожидали, военные действия развернутся с новой силой. Непонятно кого непонятно с кем. Родители Джозефа и его сестры еще не вернулись. Очень, надо заметить, ободряющий факт, ибо родственники и близкие люди, как никто другой, способны сделать жизнь невыносимой. Джозеф, безусловно, оценивал самого себя, как человека несговорчивого, упрямого, нелюдимого. Его общество немногих располагало к общению. Но его паскудные сестрицы, мягко говоря, угнетали его своими бесконечными спорами, склоками, руганью. И сейчас в их отсутствии он блаженствовал. Он порядком был озадачен, когда подумал: и ведь они кому-нибудь могут быть милы, для отдельных людей могут стать смыслом жизни. От такого предположения его чуть не вывернуло, и он предпочел повернуть мысль в иное русло. Через пару дней вернулись его соседи по квартире. О людях подобного рода и говорить-то нечего, наверное, они были хуже сестер Джозефа. Вопервых, они жили в соседней квартире совершенно по-скотски, оттуда воняло, у них не горел свет. С улицы любого ужаснул бы вид их немытых окон. Поначалу в сем вертепе обитала семья, лишенная светского благополучия. Она состояла из отца, который напоминал более бродягу, чем счастливца, наделенного пристойным жильем, полноватой, болезненного вида матери и трех детей: невинных мальчика и девочки и их старшей сестры, о чьем образе жизни можно было только догадываться, учитывая ее дорогие наряды и постоянные отлучки. Затем младшая сестра препоручена заботам детского дома была, мать сгинула, сестра старшая пропала насовсем куда-то. Остались сын с отцом, а вскоре счел своим долгом уступить дорогу молодежи и отец, нашедший свое призвание в скитаниях по улицам. Затем с неимоверной частотой закрутилась круговерть лиц, селившихся там. Они постоянно грызлись между собой. Устраивали пьяные драки; как только в многочисленных дебошах уцелел тот мальчик, остается загадкой. Территории их сражений отнюдь не ограничивались пределами комнат, они выплескивались в общий коридор, продолжались на лестничной клетке. Один раз, после особенно продолжительного обмена мнениями, раздался крик, который сменился причитаниями и более деловитой суетой: кого-то пырнули ножом. Многочисленные гости имели еще и странную особенность устраивать концерты заполночь и сеять первобытный страх в душах обычных граждан. Жить рядом с ними становилось абсолютно невыносимым испытанием, упавшим на голову семьи Джозефа незаслуженно. Казалось небезопасным бок о бок проживать с безумцами, хулиганами, преступниками. В конце концов, что за притон вырос подле них? На стеклах двери, ведущей на лестничную клетку, обнаружены однажды были следы руками размазанной крови. И, вот, один из их шумного клана соизволил вернуться в осажденную еще недавно столицу. Джозеф колдовал над замочной скважиной, пытаясь, применить открыть ее с помощью обычного ключа. В то же время пышнотелый здоровяк и его благоверная зашли в коридор и зашаркали по линолеуму. Джозеф не стал ни оборачиваться, ни здороваться. Молодая семья, видно, недавно начала снимать квартиру, но, как и всякие люди, не обделенные деньгами, почему-то считали возможным навязывать всем свой взгляд на мир с первого дня их появления здесь. Оговоримся, Джозеф не разделял подобной точки зрения. Здоровяк без предисловий что-то буркнул Джозефу в качестве совета или пожелания. Мистер Сэммлер никак не могли принять какую-то малозначащую фразу на свой счет. Он подумал: сосед переговаривается со своей телкой, и всего-то! Сосед не думал униматься и повторил просьбу уже более отчетливо: ему-де хотелось, чтобы Джозеф как-нибудь смазал петли входной двери, слишком они скрипят во время частых переходов Джозефа с одной квартиры в другую. Джозеф умилился способу общения раскрепощенного пролетария, кивнул и собирался ретироваться в родных покоях. Сосед же решил придать значительности своей просьбе и положил пухлую ладонь, испещренную гнусавыми татуировками на плечо Мартину, чуток прихватив шею парнишки: «Смотри, не позабудь о моей просьбе!» Запанибратское обращение совсем уж возмутило свободолюбивого гаучо. Он брезгливо стряхнул с себя руку простолюдина. Соседушка замер в ожидании продолжения. Джозеф, не особенно ограничивая себя в словесных ухищрениях, дал понять пролетарию свое пренебрежение к его просьбе, к его манерам, к положению злосчастной семьи бедного рабочего подле покоев самого Джозефа. Собственно, Джозеф не имел ничего против предложения смазать петли дверей, его не удовлетворяла форма, в коей все это было высказано милорду. Возмущенное воззвание не произвело никакого эффекта на скотоподобного мужлана, тот сам себя принялся распалять и собирался в свою очередь накатить на «строптивого щенка». Но тут Ахав внезапно остановил мужика и мертвенно-спокойным голосом спросил: «Не позволите мне, любезный, произнести небольшой монолог?» Пролетарий ответил молчаливым согласием. «С вашего позволения, я продолжу, видите ли, в мире происходит много случайностей. Ни дня не проходит без происшествий, каждый день чреват опасностями, исходящими отовсюду. Много достойных людей слегло от рук судьбы, заплатив жертву, царящей повсюду неопределенности. Чего уж удивляться тем случаям, когда обычные люди падают, сраженные мечом фортуны. В этом есть высшая справедливость. И то, знаете, иногда у меня возникает стойкое ощущение роковой непропорциональности. Положительных людей уходит от нас куда, как больше. Вспомним, кто из гуру девяностых ушел от нас, кто из двух человек, так похожих друг на друга: Аксель Роуз – сексист, балагур, пьяница, звезда мейнстрима или смотревший в будущее провозвестник эпохи гранжа – мягкотелый Курт Кобейн. Нас покинул, приблизившийся к каноническому образу Джимми Моррисона, Курт; грохнулся с простреленной башкой. Так случается в нашем бурливом мире! Чего уж сетовать на судьбу, тем более, если ты – не основатель нового рода людей. Друг мой, не тебе суждено уцелеть после Великого Потопа, потопа крови. Дверь твоего дома сделана не из дерева гофер, - Сэммлер похлопал по фанерной слойке, - более того и стены у твоего корабля – каменные, стало быть, он потонет! – не обращая внимания на удивленное лицо соседа, оратор гнул свою линию дальше. Люди привыкли думать: так им удобнее, что мир делится на добро и зло. Без применения к конкретному случаю термины не несут никакой смысловой нагрузки. Мы приземленно называем добром удобное, приятное нам, злом, все, так или иначе, чуждое и враждебное нам. Но есть ведь некий общечеловеческий смысл, заложенный в основных категориях? Боюсь, в философском контексте как раз вся определенность пропадает. Нет лагеря темных и светлых, быть может, есть проигравшие и их поработители, и каждый творит собственную историю. Тут я отступаю от принятого мной направления. Дело ведь в том, что ни того, ни другого не существует просто так. И они не борются за наши души, как принято считать. Добро – диктатор, догма, консерватор, стоит на страже порядка, зло – воплощение свободы и равнодушия. Зло – возможность равноправия, оно готово помочь каждому, кто обратится к нему с просьбой от безысходности ли, от безверия, разочарований? Принимая условия игры, вы ступаете на неверную дорожку, если не понимаете совершенно точно, чего сами ждете от представившихся вам возможностей. Большинство не оправдывает ожиданий «зла» и терпит справедливую кару со стороны, преданных «добру». Зло не для всех, зло не для простолюдинов, с ним надо быть осторожным. Кстати, уверен, большинство поступков нашей жизни никогда не выбираются из плоскости обыденности с тем, чтобы отметиться на одной из сторон. Добро сопряжено с благостью, со спокойствием и уверенностью. Совершать добрые поступки чрезвычайно полезно для души, но дело не в том. Зло - символ борьбы, стремлений вопреки обстоятельствам. Вот парадокс, иной раз мы совершаем добрые поступки, находясь на стороне зла. Зло – область неординарности, зло – вызов морали, привычкам, стандартам, закосневшим принципам величия. Ошибка, считать зло – притоном для мелких воришек, для неудачников, кретинов. Зло не терпит механистичного пережевывания мира, не терпит быдла, - срывается Джозеф. Оно гонит со своих полей ничтожеств, возомнивших себя королями! Не беспокойтесь Вы так, не паникуйте, - любезно успокаивает его Сэммлер. Не Вы первый, не Вы – последний погибните прежде, чем желали бы того. Множество людей, превосходивших Вас во всех отношениях, ушли раньше Вас из жизни. О какой справедливости может идти речь?! Но дело не в посредственности и серости человека, стоящего передо мной, не в уродливости его души, как можно было подумать. Нет, все куда как хуже. Вы, в своей паскудной нечистоплотности решили взбунтоваться. Решили, что Вы – ровня хорошим, добрым людям или людям, отмеченным дланью господней. И при этом Вы даже не подумали изменить себя, войти в этот новый для себя мир преобразившимся человеком. В гостиную Вы шагнули, не снимая сапог, облепленных грязью. Браво! Врата ада уж разверзлись в предвкушении встречи с очередным ничтожеством, трепещите. Да не позабудьте захватить с собой двойную плату для перевозчика, иначе он опрокинет челн с Вами на середине реки или просто не возьмет на борт за деньги, которые ему платят души достойных, хотя и согрешивших людей. Я собираю урожай людских душ и ваша – теперь улов мой, торопитесь: час расставанья близок! Знаете, Федя или Толя, Максим или Петр, мне даже наплевать, что за имя служит ширмой исхудалой душе, мне тяжела ноша освобождать мир от подобных вам. Руки мои по локоть в чужой крови. Людей лишаю жизни я как-то исподволь. Я до сих пор не в состоянии осознать, что погубил уж очень многих. Их навстречу бросала мне судьба, а они шли вперед с закрытыми глазами, считали, поезд способен в последний момент свернуть с намеченного пути. Поймите, я, будто не один, представляю самого себя. Словно я многолик, и один – вот здесь с Вами, читает вам напутственные слова, а другой в ином, лучшем мире невозмутимо почитывает книжку, предается усладам, мелким радостям жизни. И вина лежит лишь на Джозефе, стоящем сейчас перед Вашей Неосмотрительностью, но отнюдь не на гостящем в иных мирах, он безвинен, тот Джозеф Сэммлер – ничем не отличается от меня, но на нем тех страшных поступков. Вот и все. Спасибо, что оказали мне честь и выслушали меня, не перебивая. Воздастся Вам за это сторицей, но не здесь. Ступайте!» Джозеф взмахнул рукой, и моментально прежде крепкое и молодое тело обмякло. Грузный neighbor, падая, уперся спиной в стену и сполз вдоль нее на пол. На красный ковер и пакеты с мусором. Он с тяжелым хриплым вздохом закатил глаза, язык пружиной вынырнул из-за зубов. Задрожал: скаредная душонка упорно не желала расставаться с полюбившимся ей мирком. Разметав конечности по сторонам, он испустил дух и замер. Благоверная соседа до сих пор хранила целомудренное молчание и не пыталась воспрепятствовать законной казни последнего, но, столкнувшись с реалиями оной, приняла их слишком близко к сердцу. И не сумела сдержать потока нахлынувших чувств. Краем глаза Мартин увидел оскал разинутой пасти. Вдова была готова оглушительно завизжать, весь дом бы узнал о происшедшем. Джозеф воспрепятствовал огласке опасных фактов. Со скоростью реакции приблизившейся к последним рекордам в области импульсной лазерной технике его рука выбросилась и ядовитой змеей замерла на шее женщины. Его пальцы невероятным образом сдавили ее речевые органы, так, что пленница не могла и вздохнуть. Плотно зажал ладонью он ее предательский рот и от лишних глаз спрятал ее за дверью квартиры, доставлявшей в свое время множество неудобств. Он связал пленницу и, приблизившись к ее лицу, так что от божественного жара тела опалились кончики ее волос, пригрозил: «Не пытайся привлечь к себе внимания, мы здесь одни, я тогда вернусь, и лучше тебе от моего возвращения не станет!» Пленница понятливо закивало головой. Что ж, теперь надо было позвонить друзьям, чтобы понять, как избавиться от свидетельницы. Ибо она представляла большую опасность. Решили запрятать ее в уездную психушку, заблаговременно подкупив врачей. Предупредили, что она будет говорить много лишнего. С помощью мудрого совета Генриха проблема была решена. Однако он не был доволен. Он слонялся сам не свой и повторял, как бы ему хотелось вовсе не сталкиваться с такими проблемами, ведь это не дело так травить обычных людей. Они позвали его бороться хотя бы за видимость справедливости, а все ими творимое прямо противоположное обещанному. Подумав, Сент-Джон ответил: - Наше счастье не за горами, удача еще улыбнется нам. Город, когда русла его рек вновь заполнятся водой, когда все вернется на круги своя, - это просто кладезь богатств, неистощимый источник средств. Найдется каждому по его сокровищу, даже парню с химической завивкой волос от передозировки наркоты. - Да, ладно, шутки шутками, а вопрос серьезный, не терпит отлагательства, - сдерживает смех Генрих. - Начинать заниматься серьезными делами не стоит до возобновления нормального товарооборота и деятельности банков, магазинов, заводов. Пусть все встанет на ноги, тогда уже подключимся мы, добавляет Джозеф. Вадим морщит лоб, соображая, о чем они договариваются, корректно обходя его стороной. - Так, стало быть, мы собираемся грабить? - Грабить, воровать, расхищать денежные суммы в особо крупных размерах, - смеются ребята, - ты думаешь, мы алхимики, или изобрели вечный двигатель? - Тогда давайте договоримся руководствоваться принципом Робин Гуда. И будем живиться за счет средств богачей, торговых компаний, государства, но никогда не поднимем руку на обычного человека среднего достатка, откуда мы сами пришли, - взволнованно настаивает Тараканов. - По-иному поступать не имеет смысла, нападать на обычных людей проще, но у нет тех богатств, что ищем мы на нашем тернистом пути, - Джозеф придерживался более прозаичных взглядов. Столица оживала после продолжительного затишья. Появились даже бездельники на улицах и пьяницы с синяками под глазами. Только три человека без конца расхаживали по улицам мегаполиса с напряженными лицами и ищущим взглядом. Изредка оглядываясь на молодцеватых мажоров, снующих возле блестящих тачек на денежки из папиного кармана. - Слово, мать его, приелось, – высказался однажды Сент-Джон, да кто это, собственно, мажор? Действительно, кто они такие? Генрих немедленно принялся предлагать варианты. - Значит так, давайте по порядку: 1) обожают давать пространные интервью в непринужденной обстановке, 2) регулярно употребляют слово «своеобычный», «своеобычно», считают это признаком хорошего тона, 3) приветствуя знакомых, целуют пальцы собственных рук, легким перебором проходясь по губам, как по клавишам пианино, 4) в ладоши хлопают беззвучно, медленно ударяя одним запястьем о другое, при этом феноменально широко растопыривают пальцы, таким образом, они имитируют безобидную привычку известных волейболистов, 5) мажорные девушки или, более осмысленно, мажорные бабищи при встрече с подружками слегка повизгивают и мельтешат руками, ударяя их о руки девушки напротив них, 6) факультативный признак: мужчины носят в качестве головного убора, платки, 7) дают пять левой рукой, ужас какой, есть, наверное, в этом нечто от привычек нетрадиционных меньшинств, но не беда – в меру все хорошо, 8) яблоки и груши едят вилкой, 9) мужчины мажоры завивают в качестве причесок необычные кренделя и обильно душатся ароматическими средствами. Пока только это, - подвел итог Тараканов. - Немного схематично, но оригинально. - Я поражен, - заявил Джозеф, - детально проработанная система. Теперь мажоры не пройдут мимо нас с недобрыми намерениями. - Не знаю, я испытываю к ним что-то вроде отвращения, вот представьте: мы в одиночку сражались с многократно превосходящими нас силами врага, а теперь вынужденно уходим в тень наносного шика, показных достоинств. Я еле сдерживаю себя, когда сталкиваюсь с общим поклонением перед адептами культуры, моды смешанных в половом плане. Понимаете, я не испытываю ничего отрицательного в отношении там хиппи или еще кого-нибудь, если бы это носило приглушенный оттенок. Углубленный в себя; ежели бы это являлось следствием исключительно внутренних потребностей. А ведь видим полностью противоположное: агрессивную пропаганду, - - - противопоставление агентов нового движения и тех, кто не в состоянии себе этого позволить или, просто, не желает присоединяться к ним. От моральной свободы не осталось и следа. Пусть одни люди делают на пропаганде, рекламе продукта деньги и им наплевать, во что одевается и как выглядит молодежь. Но есть помощники внутри молодежной среды, наделенные всеми этими благами, которые сплачиваются в союзы и атакуют обездоленных. Где обещанное равенство, есть только постоянный гнет! Нет, нет, Илюш, ты сильно преувеличиваешь, - протестует Генрих. - Наши интересы лежат в иной области, и, поверь, деньги скоро перестанут быть для нас ресурсом ограниченным. И потом, лучше уж свобода от принудительного равенства. Разумеется, если понадобится выбирать. Мне омерзителен дух самодовольства в юношеской среде, столь далекой от истинных свершений. Как часто мне хотелось стать одним из них. Не мог быть я им тогда, как не могу стать им и теперь. И если тогда я благоговел перед многими из них, то теперь я их презираю и не могу стать их частью. Я все клокочу гневом и не смогу унижать себя приятием тирании молодости, – заявляет Сэммлер. И все же Генрих, мне не дают покоя твои слова, о возможных источниках прибыли для нас, как ты планируешь всего этого достичь? Не беспокойся: у меня есть один план. План № 1. Non olet. Друзья решили ограбить один из богатейших ресторанов Города. И надо заметить: не самый изысканный. Грабить, разумеется, следовало, когда большая часть работы будет выполнена самими служащими ресторана, и деньги будут собраны ими в одном месте. Задачей авантюристов было перехватить саквояж, предназначенный для передачи инкассаторам. Операцию решили разделить на несколько частей, разнесенных пространственно. Сперва позаботились о лысых парнях с декоративными винтовками. Они подъехали немного раньше положенного срока. На лестнице стоял Джозеф, переодетый поваром. За подносом он держал меч, испытанный в боях, напившийся крови вероломных врагов. Сэммлер вспарывает брюхо инкассатору, отправившемуся осведомиться насчет получения денег. Двое слуг оставались в машине. В тот же миг Сент-Джон усыпляет обоих. Садится за руль и отвозит машину за угол. Необходимо отметить: камеры дистанционного наблюдения временно остались не удел. В качестве ширмы для преступных деяний были использованы безобидная связка воздушных шариков. Место настоящей машины для перевозки валюты занимает поддельная машина, точная копия настоящей, ее подгоняет к крыльцу Генрих. Инкассаторы в сборе, с благостными лицами и осыпающимся гримом встречают они сокровища, плывущие им прямо в руки. Все уходим! Чтобы отвести погоню, коли таковая началась, выполняется хорошо отрепетированный трюк. Машину с деньгами закрывает фургон сзади и слева, прижимая к боковой стенке и закрывая ее для обзора. Похитители сворачивают вбок, на одном из самых крутых и неприметных поворотов. Поворот дополнительно загорожен стеной. Преследователи не обнаруживают хитрости еще и потому, что одновременно с уходом первой копии, появляется вторая копия инкассаторской машины. Но, в действительности, перед полицейскими посторонняя инкассаторская машина, в данный момент – порожняя. Их, безусловно, отпускают, подкупленные перевозчики – официальные лица, якобы по делам в парк. И в завершение одна маленькая хитрость: первая копия – копия лишь внешне, по дороге с ее боков успевают содрать пленку, сообщающую ей сходный облик, и открутить лишние крылья, выпуклости, вносящие вклад в форму поверхности. Ну ладно, вроде бы и все? Почти, а что если наблюдение будет вестись с воздуха? В дело вступят наша тихоходная авиация в лице мистера Риверса. Тот на бесшумных крыльях доисторических стрекоз со спины подлетит к жужжащему геликоптеру и поразит его в сердце острым копьем или метким выстрелом расщепит лопасти. И стопки хрустящих банкнот с ароматом экзотических блюд захвачены! Судя по всему, повара просто купаются в роскоши, не выходят из ювелирных, от косметологов. Кассовое заведеньице – этот ресторан, или они редко опорожняют свои хранилища? После приключений, захватывающих дух, требовалось на время затаиться, а заодно и спрятать где-нибудь деньги. Подыскали неплохое хранилище под крышей заброшенной фабрики, от коей не осталось ничего, кроме стен и железных контрфорсов. План № 2. Secundum artem. Перехват кейса инкассаторов значительно укрепил финансовое положение наших красавцев. И через месяц они осмелились совершить очередной налет. Пока они старательно репетировали, оттачивали каждый жест, старались придать побольше убедительности поступкам и словам. Новый план незначительно отличался от предыдущего. Но теперь они руководствовались принципом, согласно которому следует не побеждать всех в драке, а уметь оную избежать. Теперь все было проведено гораздо тоньше и элегантнее. Банк представлял собой крупное здание с несколькими подъездами. Инкассаторами оказывались гостями все время у одного неприметного подъезда, теперь же территорию около него подделанным решением организации, занимающейся укладкой водопроводных труб, избороздили отбойными молотками группа рабочих в оранжевых робах. Моментально непонятно откуда выбегал Сент-Джон и доходчиво объяснял: сегодня выручку будут передавать у другого входа и сопровождал их до этого места. Перед инсценировкой намеренно совершался маленький беспорядок у стен банка. Группа нетрезвых молодых людей принималась в порыве революционного брожения крушить окна первого этажа банка или ограду банка незадачливо пробивала иномарка начинающего водителя. Что-нибудь совершенно безобидное, но наделавшее бы много шуму. Хмурящиеся недалекие инкассаторы послушно правили бежевый фаэтон к иному входу. Там их снабжали чемоданами с ворохом поддельных купюр. Они, удовлетворенные, держали путь на базу, не подозревая об обмане. Через несколько минут подставная машина подъезжала к настоящему входу, предъявляла искусно подделанные документы и забирала доход. Как бы можно было объяснить подозрительную задержку «пареньков за деньгами»? Ведь, действительно, придется опоздать, чтобы не столкнуться с ними лицом к лицу. Первый выход: свистнуть заявку у истинных инкассаторов с указанным временем приезда и изменить его методом лазерного стирания. Сказать, мы де ничего не знаем, во сколько указано, во столько и приехали. Второй выход: заставить настоящих инкассаторов опоздать, искусственно создав на дороге пробку. Взорвать под магистралью крупную трубу, к счастью, в области инженерносаперных работ Сент-Джону с его знанием подземной географии не было равных. То есть, поддельная машина пришла бы гораздо раньше настоящей и наскоро вымела весь доход. Неплохой расклад, согласитесь. Воспользуемся теперь краткостью плана № 2 и в оставшееся время кратко опишем канонические образы трех мстителей. Джозеф Сэммлер всегда засвечивался на камерах с языками пламени на голове, своеобразной прической, усвоенной им в день вынужденной экскурсии под снегом. Сент-Джон красовался круглой шляпой-котелком в духе американских прощелыг девятнадцатого века. Генриху посоветовали закрутить побольше косичек, в общем, он стал очень напоминать харизматичного пасующего французского «Тура» - Люка де Кергре. Кем в душе был Джозеф, все помнят. Чрезвычайно сложный портрет составил бы ему опытный психиатр: признаки мании, истерии, фобии, слабоумия, меланхолии, неврастении, кататонии, садомазохизма, некрофилии, мании величия и преследования, паранойи, шизофрении, фетишизма, нарциссизма, эротомании, беспричинной агрессивности, нездоровой скрытности и навязчивой тяги к сафической любви. Он бывал слаб, запуган, затем не находил в себе места для описанных страхов и опасений, негодовал на себя и на заставивших его чувствовать себя униженным. Иногда видел себя обделенным вниманием, осмеиваемым, он сторонился шумных торжеств, ему мнилось, будто он должен идти отдельной дорогой, он находил сладость в унижении, в самобичевании. Джозеф загонял самого себя в тупик, он отпугивал людей. Иногда он был ужасающе красив, иногда чудовищно уродлив, иногда в солнечный день, когда солнце висело у него за спиной, он вздрагивал оттого, что ему чудилось, будто он может провалиться в собственную тень на дороге, как в бездонную черную пропасть. План № 3. Otium cum dignitate. В качестве очередной жертвы борцы за справедливость выбрали крупную компанию по пассажирским перевозкам. На блестящих автобусах они организовывали дорогостоящие туры на несколько дней за рубеж, по городам России. И вот недавно они закупили с десяток фирменных машин на шести колесах, с известной звездочкой спереди. Заманчивое предложение, от которого наши корыстолюбивые друзья, почувствовавшие вкус к деньгам, их слоистому весу, их шершавой, пористой реальности, не сумели отказаться. Дело происходило зимой. Выпал снег, и приближались праздники. Автобусы гурьбой стояли на стоянке около посольства европейской державы. На дни всеобщего безделья была запланирована кража. Наняли водителей, состряпали документы, договорились со всеми на границе. Глухой ночью свет вырубили вдоль всего проспекта, хотя в посольстве и так бы никто не спохватился. Но пропажа могла бы обнаружиться днем, и чтобы избежать преждевременной шумихи, на месте уехавших автобусов возвели макеты из картонных коробок и засыпали их сверху снегом из снеговых пушек. Вроде как все на месте, ничегошеньки не украли. Автобусы колонной отправили в Польшу – рынок краденого транспорта со всей Европы, но обычно подержанные иномарки отправлялись, наоборот, из Германии, из Франции, а тут расщедрилась матушка Россия. Там можно было и спрятать их, по крайней мере, никто бы особенно и не пытался отыскать десяток автобусов в Польше. Это было абсурдно. Единственной проблемой оставались ментовские участки, щедрой щепотью рассыпанные по всему пути следования колонны. Обо всем было известно заранее. Большую часть объезжали по проселочным дорогам. В остальных случаях все делали по намеченному сценарию: подымали ложную тревогу, дабы отвлечь внимание от патологической активности на крайней левой полосе. Обычно Сент-Джон, прилетавший заранее, обстреливал сверху плоские крыши, обитатели придорожных участков разом теряли покой. Окончилось все очень успешно: комбинаторы выручили за сделку с «Мерседесами» кругленькую сумму, она покрыла все затраты. В каменном муравейнике поднялся большой скандал, похищение наделало много шуму. Полицейские ищейки разнюхивали что-то на каждом шагу. Яблоку не осталось места свободно упасть. Паспорт проще было не убирать в карман. В такой ситуации ребята приняли наиболее разумное решение: на время провалились сквозь землю, исчезли с лица земли. Не пересекая границ злополучного Города, оказались вне сферы досягаемости его длинных щупалец. Разумеется, Джозеф, Сент-Джон и Генрих пережидали опасное, смутное, темное время в полюбившихся им катакомбах. Выкидывали они и иные фортели, например, как-то раз нарядились в бомжей и оккупировали целиком одну лавку в подземке. Чинные пассажиры возмущались и бранились, но кто бы мог подумать, что рядом с ними, в столь неприглядном обличии едет гроза богачей и воплощение нонконформизма! Весь город служил ареной для их чудесных перевоплощений. Если бы кому-нибудь из тогдашних горемыкследователей довелось доподлинно узнать обо всех махинациях, подменах, инсценировках, что устраивали знаменитые заговорщики, то они принялись бы в каждом прохожем подозревать мятежника. Система признала свое поражение бездействием, власти в состоянии были только молча взирать на происходящее. Собственно, об этом все. Пришло время провести некоторые параллели между Джозефом Сэммлером и мифическим зверем из библейских пророчеств. О числе зверя сказано так много, что великий смысл послания затерся и исчез, посему мы легкомысленно пропустим этот пункт. На звере сидела Жена, одетая в багряницу. В отношении к Джозефу же данное пророчество используется в переносном смысле. Вспомним измышления Генриха об истории, довлеющей над Сэммлером, об Ольге, которая обожала красные одежды. Опять же сам зверь вполне мог ничего не знать, о сидящем на его спине пассажире. Имя зверю было Вавилон. Вероятно, излишне упоминать о том, какой город был родным для Джозефа. Цепочка смыслов тянется от Вавилона к Риму, а от того через Константинополь к притону косности и разврата. И в нашей стране присутствовала эпоха преследования божьих людей. Зверь и сидящая на нем Жена зовутся Тайной. Ну, это не более, чем анаграмма, ее фонетическую разгадку мы оставим читателю. Зверю поклоняются все земные цари. Земные цари – ныне богачи, дрожащие над своим златом. И вскоре они примутся молить Джозефа о пощаде. Семь голов зверя – дань уважения географии Города с его набившими оскомину Капитолиями. Багряная жена, сидящая на спине у зверя, держит золотую чашу, наполненную мерзостями. Смысл пророчества темен. О каких мерзостях идет речь, неясно. То ли это кары, что скоро настигнут несправедливых угнетателей, то ли проклятая душа самого Джозефа, полная горя, страха, тьмы и отчуждения. План № 4. O, sancta simplicitas. Очень скоро друзья набрались смелости и вновь решились на вылазки, на хитроумные, мстительные операции. Тут, разумным мне думается, было бы объяснить: юные мятежники вовсе не считали смыслом жизни всякие поступки, нарушающие общественный покой и благополучие. Они в большинстве случаев сознательно избегали вредить обычным людям, среднего достатка. Среди же зажиточных они выискивали наиболее прославившихся своими гнусными поступками, грязными руками. Они не трогали людей достойных, интеллигентных, утонченных, которые бы почувствовали себя крайне неуютно, окажись они на мушке у пиратов современности. Острие атак было направлено на бизнесменов с бандитским прошлым, на взяточников, искусно манипулирующими связями в правительстве. Сильные мира сего пали их жертвой. Они могли бы стать бестолковыми мясниками и просто очистить мир от паразитов, под чью дудочку танцуют все остальные: нуждающиеся ли или страшащиеся их гнева. Ведь они вполне способны заставить дрожать и пресмыкаться любого в этой бесправной стране, кроме тех, кому нет имени и у кого нету лица! Но не желание расправы служило им путеводной звездой, а жажда обрести могущество. А на всю планету только один язык, на котором разговаривает сила – конечно деньги. Стволы и собственные кулаки – каменный век, бартерный обмен. Будущее в универсализации. А благодетелям найти себе место в мире прожорливых акул крайне сложно, у воротил бизнеса просто отличное чутье на великое множество проявлений альтруизма. Их мишенью был очередной миллионер, офисный паук, дергавший за ниточки паутины из своего кабинета. Они стали действовать тоньше, дабы не подвергать свои действия огласке. Врагов для начала хорошо бы разделить, а затем работать с каждым по одиночке. Заговорщики принялись за гнусное дело шантажа. Но, как бы получше выразиться, подавляющее большинство методов дурны не сами по себе, а из-за того, что находят применение в руках дурных людей и обращены на людей достойных. В рамках плана № 4 все было с точностью до наоборот. Кремовые панели конторы со скоростью сверхзвукового лайнера устремляются в небо, загадочно молчит черный блеск однотипных окон. На бурливой поверхности главной водной артерии Города терпеливо зреет отражение здания на фоне скользящих троллейбусов и зевающих в полный рот пешеходов. Расцвели на стенах белые цветочки тарелок спутниковой радиосвязи и телевидения. Наняв специалистов, ребята достаточно быстро определили диапазон частот, в которых работали преемники и отправили бизнесмену парочку угроз коротких, но весьма точно определивших требования преступников. (Как вдруг жеманно заговорил неутомимый автор!) Они не ограничились информационной атакой. Хотелось бы напугать биржевого гения, мастера закулисных интриг, катающегося в достатке, будто сыр в масле. С этой целью они однажды подменили на ночном дежурстве штатного полотера и под покровом темноты пробрались в кабинет к шефу. Специальным раствором ребята написали краткое послание на окне кабинета. Сперва он был невидим, но после того, как хозяин кабинета очутился внутри, заговорщики с крыши дома напротив прошлись по надписи лазерным луч, и она полыхнула кроваво-красным. Послание повергло в шок бизнесмена, ему начало казаться, что каждый шаг его под контролем, что враги в состоянии воспользоваться каждой его оплошностью. Генрих предложил, чтобы нагнать страху на потенциального благодетеля, с помощью подставных водителей несколько раз протаранить машину бизнесмена. Те ограничились штрафами, зато получили солидное вознаграждение от нанимателей. Его звонки прослушивались, были изучены подробности обстановки его дома, собственно, благодаря камере, установленной Сент-Джоном. Остановившийся на крыше небоскреба мистер Риверс, спустился на канате на десяток этажей вниз и лишь после всех манипуляций установил шпионскую аппаратуру. В итоге терпению воротилы настал предел. Он сдался и пообещал доставить требуемую сумму в назначенное место. Однако забрать деньги незаметно, не попавшись при этом в лапы частных сыщиков и костоломов из его охраны, было задачей не из легких. Но ребята считались профессионалами в своем деле и не собирались проигрывать партию на всякой там мелочи, когда, по сути, все сделано. Последний шаг они обдумали особенно тщательно и разобрали обстоятельства до мелочей. Промашки возникнуть не могло, так как чемоданчик с деньгами страстно желал воссоединиться с долгожданными владельцами. Пункт передачи подобрали в центре рокового мегаполиса, посреди старомодных развалюх. Высокие здания, разбросанные в случайном порядке, удачно закрывали служивым обзор. Конечный пункт не торопились открывать, а посоветовали следовать указаниям, поступающим по телефону. Финансовому магнату устроили хорошенькую экскурсию по центру столицы: не все же за столом с бумагами париться! В конце концов, товарищ предприниматель очутился подле парадного входа некой гостиницы. На пороге стояла тележка с чемоданами, пока оставленная дворецким у дверей. Поступил приказ поставить чемодан в тележку и сваливать подобру-поздорову. Только купец успел сделать десяток шагов в сторону от гостиницы, как тут же шустрый малый с его чемоданом помчался по переулкам. Агенты в штатском, сменив позорные костюмы форменного обмундирования на облегающие туалеты от модных французских кутюрье, повылезали изо всех щелей, будто оголодавшие тараканы, и пустились вслед за долгожданным преступником. Но и он нехило был подкован: то и дело пересаживался с велосипеда на скутер, перемахивал через заборы. Через полчаса утомительного забега злоумышленника повязали. Им оказался житель беднейших районов Города, ну и пошла-поехала привычная похлебка криминальных хроник, колонка знакомств для быдла. Илью Соболевского скрутили и поволокли в камеру, бросили на сырой пол и собирались на следующий день подвергнуть допросу. С удивительной для столь крупного дела нерасторопностью полицейские не позаботились проверить свертки с деньгами в чемоданчике на месте. Тогда бы тревогу подняли гораздо раньше, хотя не спасла бы и их оперативность, Илья выгадал времени более, чем достаточно. Чемодан был до отказа забит фальшивыми купюрами. Это был вообще другой чемодан, не тот, что положил на тележку бизнесмен, а заготовленный нашей троицей заранее! Чемодан с оговоренной суммой забрал Джозеф. Никто и не подумал останавливать его или задавать ему вопросы, милиция-полиция участвовала в грандиозной погоне за подставным курьером. Многоопытные агенты попались на простейший трюк, просто и изящно. Но слишком уж была рискованна жертва Сент-Джоном, Иблис был ценной фигурой. Никто из органов не знал в лицо Гарри Гудини нового времени. Никому в голову не пришло проводить подробный осмотр содержимого его рта, носа, в меру пышной прически. Бесшумно, как паук, крадущийся вдоль паутинки, как начало дня, робко выглядывающее из-за горизонта, как улыбка, озаряющая первые минуты влюбленности, Гудини, сложил детали, прихваченные с собой, в отмычку и отпер решетку. Он слился с воздухом в изоляторе, рассеялся дымом по коридору. Римейк человека-невидимки в условиях российской тюрьмы, милитаризированный Кайтусь-чародей, кто больше? Левитация, порожденная продолжительным томлением в неволе, подбросила беглеца над острым углом стены и открывающейся двери. Он еле ускользнул от пристального взора тюремщика и шмыгнул в щель открытой двери незамеченным. Сторожа, охранявшего выход, он отвлек, разбив окно в коридоре помещения, и был таков! План № 5. Valete et plaudite. Ребята собрались в ресторане, на открытом воздухе. Они собирались обсудить проблему растущих прибылей, найти новые источники доходов. В Городе становилось небезопасно. Требовалось время, чтобы власти города отвыкли от них. Хотя бы немного усыпить бдительность представителей самых отсталых особей человеческого рода, принарядившихся в платья стандартных конфигураций, словно с целью облегчить собственное опознание для окружающих. Они развалились на стульях, изредка поглядывали на прохожих, тянули кофе из кружек, предлагали и отвергали один вариант за другим. Непросто, непросто, чего уж тут говорить, а никто и не обещал легких денег. Тяжелым трудом доставались им те самые крохи, что пока не нашли благородного применения. Легкие закуски, салаты: они просидели на воздухе часов пять. Джозеф начинал зябнуть. Генрих и Сент-Джон не прекращали жаркого спора. Джозеф в изнеможении перегнулся через спинку стула, и тут же вернулся в прежнее состояние. Сзади к их столику подходила официантка с подносом забрать опустошенные стаканы. Джозеф оглянулся на нее еще раз. Он в очередной раз с сожалением подумал: «Как жаль, что я не известный артист, и внешность у меня заурядная! Этим предположением я принижаю проницательность женщин в отношении оценки будущих избранников, ибо считаю, что они ориентируются исключительно на красоту. Что ж, хотел бы я быть уверен в обратном. Но не судьба! Да с чего же я сам так переполошился при виде официантки? Могу сказать точно, не всякая красота, не именно красота влечет меня столь сильно и непреодолимо! Прежде чем мы сумеем дать самим себе отчет в происходящем, мы уже поймем вот оно, это чувство. Вот, та девушка, которая может стать для нас смыслом всей жизни, ради которой мы готовы смириться со всем миром!» Светлые вьющиеся волосы, свободно спадающие до плеч. Спокойное, безмятежное, одухотворенное лицо будто светится красотой, нежностью. Преобладание в ее цветовой гамме светлых оттенков символично. Прическа распадается на отдельные пряди, касаясь плеч, одетых в сияющую белизной рубашку. Совершенство навевает на человека задумчивость созерцания. Перед божественной красотой мы склоняемся с большей покорностью, с большим смирением и кротостью, чем перед дулом пистолета. Мы поражены в самое сердце. И девушка подходит к их столу. Ставит чашки на поднос. Лицо немного покраснело. Джозеф смущенно отворачивается, потом спохватился: «Давайте я Вам помогу!» - Ничего, я уже закончила, - отвечает официантка. - Очень жаль, - сокрушается Джозеф. - Что я уже окончила работу или что Вы не успели принять участие в этом пустяшном занятии? - Я буду огорчен вашим уходом! Не стоит, это-то мне как раз не в тягость! Вам нелегко приходится работать здесь? – спрашивает Джозеф дрогнувшим голосом. Да нет, ерунда, я только подрабатываю, вместе с учебой в институте. Мы, вероятно, доставили Вам много проблем, пока сидели здесь? Нет, что Вы! Но сидите вы здесь уже долго. О чем это вы так увлеченно разговаривали? Увы, сейчас я не могу раскрыть Вам эту тайну, но обещаю, что расскажу об этом, когда мы придем в следующий раз. - Я просто поинтересовалась, - говорит красавица и собирается уходить. - Постойте, - Джозеф берет ее за руку. – Скажите мне, как все есть на самом деле, здесь не опасно работать? - До сих пор было нормально, не знаю только, чем обернется наша встреча! - Поверьте мне, у меня и в мыслях не было ничего дурного, но у меня есть одна просьба. - Говорите… - Обещайте, дождаться нас! - Непременно, - официантка уходит. Их новая кампания проходила далеко в Сибири, на местах добычи алмазов. Нетрудно было догадаться, чем друзей привлекли северные земли. Невинным занятием, они собирались поживиться дарами недр земли. Они совершили налет на сортировочный пункт неподалеку от гигантского карьера. Из гигантской ямы машины высотой в три этажа вывозили грунт, скрипя черными колесами и натужно ревя дизельными моторами. На глубине основных работ машины казались игрушечными. В процессе винтообразного подъема вверх из карьера, грузовики набирались сил и росли прямо на глазах. Сортировочный пункт располагался посреди пустыря перелопаченной земли. Вокруг него возвышались бетонные стены, как терновым венцом осененные колючей проволокой. Туда-сюда маршировали солдаты с автоматами наперевес и с приказом стрелять на поражение в каждого, кто осмелится посягнуть на драгоценный блеск ювелирных побрякушек. Преступники успешно изображали из себя ученых, специализирующихся в различных областях. Путешествуя по окрестностям, они отыскали высокую сопку на расстоянии полутора километров от предприятия. Прицел винтовки с радостью демонстрировал прохаживающихся вдоль забора солдат. Охрана явно не подозревала о ведущемся за ней наблюдении: солдаты между собой о чем-то переговаривались. Безлунная ночь стала союзником заговорщикам. Сент-Джон будто уснул, склонившись над прицелом. Щелкнул курок, и луна тут же снова скрылась за тучей, а дозорный с иглой в плече погружался в сон. Через пять минут у стен сокровищницы уже подготавливали штурм Джозеф и Вадим Тараканов. Через стену они организовали переправу весьма оригинальным способом. Соорудили у освобожденной от патруля стены нечто вроде лебедки или подъемного крана, устроенного наподобие колодезных журавлей. В качестве груза использовались заранее заготовленные кирпичи. Вокруг стояла кромешная темнота. Джозеф уже перемахнул на журавле через стену. Спустя некоторое время за ним последовал Сент-Джон Риверс, но уже на крыльях бесшумного планера. Между прочим, неподалеку от места их переправы висел старый фонарь, и он мог изрядно усложнить их задачу. Поэтому Генриху пришлось использовать туманообразующие агрегаты. Ребята не использовали никаких фонарей, ориентироваться же приходилось по сделанным заранее пометкам. Метки отражали ультрафиолетовый свет и позволяли не заблудиться в темноте. Нанесены они были из винтовки. Генрих зловещим вороном сидел на крыше здания и усмирял сверху охранников, отправляя их надолго в глубокий сон. Джозеф без осложнений проник в обычное с виду здание. Стены раздражали взор белой кафельной плиткой. Недолго: тут же в здание отключается свет, а заодно и сигнализация, и видеокамеры. Джозеф проникает в хранилище, вокруг слышен топот ног тех, кто в спешке покидает здание. В контейнере лежит богатый улов. Драгоценные камни радостно отзываются на приветливое встряхивание дружной дробью тысячи неотшлифованных граней! В наушниках начинается отсчет, условленный сигнал, означающий, что пора двигаться в обратном направлении. В здании все заволокло дымом: постарался Сент-Джон, запихавший шашек в выходы от вентиляции на крыше здания. Несколько месяцев упорных тренировок по прохождению одного и того же маршрута с закрытыми глазами не прошли даром. План здания стандартной планировки они знали уже давно и успели все отрепетировать. Качественное ограбление – как музыка: долго репетируешь, а потом исполняешь в переполненном зале, и каждая ошибка чревата провалом. Поблизости – топот ног отряда охраны, теперь по лестнице вниз, с десяток поворотов в непроницаемой мгле, и бац – с разбегу в стену. Что-то они не учли! Не беда – окно неподалеку. Весом всего тела Джозеф вышибает окно с рамой, вытаскивает припасенный крюк и в падении цепляется им за канат. Конец каната держит Сент-Джон, он относит канат со скользящим по нему Сэммлером за стену. Джозеф спрыгивает на песок, его уже поджидает на песчаном байке Генрих. Треск мотора гармонично сливает с рокотом заработавших автоматов. Охранники сообразили, в чем дело и, взобравшись на стену, стали обстреливать кортеж заговорщиков оттуда. Их ожидал пренеприятный сюрприз: брошенный на произвол судьбы журавль неожиданно заходил ходуном, сбрасывая стрелой лебедки охранников с их позиции. Внутри был, оказывается, маломощный мотор! Через день к путешествующим натуралистам нагрянули инспекторы с вопросом: «А не видели ли они чегонибудь подозрительного?» Любители родной природы – простые парни, приехали отдохнуть, развлечься посвоему, по-ученому, насилу оторвались от микроскопов. Любите и жалуйте гостей с далекого запада. Друзья честно смотрят им в глаза. Отвечают на все вопросы, подумав, но не долго, не смущаются, явно ни о чем не - подозревают, не знают об ограблении века, о похищенной горе алмазов. Представителям алмазодобывающей промышленности пришлось убраться, несолоно хлебавши. Единственной проблемой оставалась проблема вывоза алмазов из этой глуши: поселок городского типа с развитой промышленностью, ветка железной дороги местного значения, автомобили здесь от сотворения мира или их заарканенными притащили с большой земли на вертолетах. Путь к отступлению – или через аэропорт, или через тайгу на своих двоих. Но вскоре весь район будет оцеплен и прочесан с собаками и военными, после приезда милиции население города увеличится вдвое, - лишь только они поймут, что грабители собираются не шутить, а крупно заработать на этом деле. Воровство ведь доходный бизнес, сначала вкладываешь: в разведку, в информацию, во время, в течение которого должен жить и питаться, в аппаратуру, оружие, инструменты, затем стрижешь купоны. Никто не считает процент дохода относительно, вложенных средств. Все понимают, не сегодня, так завтра ты можешь загреметь в лапы органов, тебя могут подстрелить. И хорошо, если останешься жив, инвалидом, а не окочуришься на месте. Еще в столице приняли решение лететь по-человечески самолетом, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. С планером поступили достаточно остроумно, разобрав его и свернув в рулон, после этого он стал напоминать каркасную палатку. Как же обойтись с камешками? Даже впаянные в подошву ботинок, алмазы были бы обнаружены на рентгене. Кулинарное решение пришло к ним, словно с небес: решено было обмазать камешки в безвредном клее и обвалять в молотом кофе. Таким образом, сокровища становились неотличимыми от обычных кофейных зерен. Трюк сработал, и друзья доставили бесценный груз в Москву. Не имеет смысла вести речь о длительном процессе распродажи камней за границей. Скажем просто, все прошло успешно, и казна заговорщиков пополнилась очередной стопкой открыток из ада, символов бесчестья, залогов людской ограниченности, фотографий дьявола, сложенных сетей Вельзевула. Какой-то великий смысл заключен в безликости денежных купюр, в их схожести. Мертворожденные близняшки-рабы, меняющие хозяев по несколько раз за день. Вообще неплохая идея пришла как-то в голову Генриху: «А что, если организовать свое новое государство из трех человек? Причем флаг мы выберем с самого начала, до выбора территории, где будет государство располагаться. Флаг в виде огромной купюры. Банкноты размером с дом. Каждое утро играет гимн, и поднимают флаг. В качестве гимна, непременно, «Money» Pink Floyd. Но что за валюта будет осенять здание нашего немногочисленного парламента, государственной думы? Легко догадаться: наиболее котирующаяся на сегодняшний день. Государство изменников и приспособленцев, финансистов, апогей рыночной экономики. Ну да ладно, сладкая утопия мешает нам жить». План № 6. Pons asinorum. Марафон созидания денежных средств из пустоты либо чужих карманов продолжался. Не так давно ребята неофициально помогли задолжавшему банкиру расплатиться с кредиторами. Тот клялся им в вечной дружбе, хотя сумма по их меркам была уж совсем не большой. Взамен они потребовали от него одного: хранить язык за зубами и, кроме того, обеспечить местом их немногочисленный штат. Они сделали своим помощником прекрасную официантку, талисман их команды, благодаря которому авантюра с алмазами прошла успешно. Руководствуясь классическим пособием Конан Дойля, они решили немного увеличить свое состояние. С этой целью они навестили дружественную Белоруссию, сняли нежилое здание и устроили костюмированный бал, грандиозную бутафорию. Натащили кучу станков, чье назначение оставляло немало вопросов, но дело было не в достоверности, а в масштабах и первом впечатлении. По полу разбросали немного фальшивых стодолларовых бумажек. Легкий ремонт и иллюзия наспех покинутого здания. После сих действий они стали старательно раздувать слухи о существовании подпольных типографий по печатанию бумажных купюр. Пресса была настороже, все ждали скандала и разоблачений. Вскоре наш братский народ обнаружил гигантскую фабрику, по подделке денежных знаков США. Шумиха была страшная, вы понимаете, белорусы – народ шустрый, все начали сдавать зелень в кассы, стремясь, как можно скорее, избавиться от меченой валюты. Зеленая лихорадка перебросилась и на российские земли, здесь ее появление восприняли с меньшим ажиотажем, но закон пропорциональности все равно привел к значительному скачку курса. Ребята только этого и ждали и начали напротив скупать доллары по дешевке. Идея была стара, как мир. Но ребята продолжали придумывать новые варианты. Теперь они организовали подставную компанию, правовую поддержку обеспечил банкир. Компания занималась организацией досуга для богатых людей, заскучавших от роскоши, забывших о страхе и нужде. Они сыграли на любопытстве ко всему новому и нестандартному. Генрих предложил проводить инсценировки ограблений с участием клиентов за приличные суммы, оружие и боеприпасы были настоящими. Первый раз они устроили настоящую инсценировку с погромом недостроенного гастронома. Клиенты знали о подлоге, но это не умаляла удовольствия от приключения и гордости оттого, что ты участвовал в настоящем ограблении. Акция рекламировалась, как пейнтбол в условиях городских джунглей. Под броским лозунгом: «Почувствуй себя мерзавцем!» Клюнули очень многие, например, детки послов и президентов торговых компаний. Вместе с клиентами обсуждали план, советовались. После трех приключений от желающих ограбить супермаркет не было отбоя. И вот настал момент развязки, с оттяжкой стреляет ружье, повешенное еще вечером. Четвертое ограбление оказалось настоящим, но о мелкой подробности было осведомлено всего лишь три человека, если принимать во внимание официантку, то четыре. Нападение совершили на один из монструозных торговых центров, что опухолями разрослись вдоль кольцевой автодороги. Человек двадцать в камуфляже и с автоматами выбегают из автобуса на площадь перед супермаркетом. У охранников позевывающих в темной комнате с экранами наблюдения кофе в кружках выходит из берегов. Доблестные организаторы подбадривают нападающих, однако они одеты в обычную одежду, затертую в потных глубинах утреннего метрополитена. Они пропали с разбегающейся толпой и проникли в универмаг с черного хода. «Приветствуем вас, о ведра и швабры!» Не торопясь, с ленцой ребята наряжаются в рабочую одежду безобидного синего цвета. С другой стороны помещения слышны крики и выстрелы, в ангарного типа магазине никого. Они приветствуют напуганную кассиршу, ободряют его и советуют ничего не бояться. У главной кассы бок о бок стоят питекантроп и неандерталец. Взглядом сверлят ряды полок, заставленных консервами. Не хватает капающей слюны с тяжелых челюстей. - Как дела мальчики, - начинает Джозеф. - Вас никто не пытался ограбить? – поинтересовался Генрих. Качки, нахмурившись, молчат. Вопрос не из легких, все понятно. - Пошли вон, чумазые гориллы, - грубо обрывает дипломатические потуги товарищей Сент-Джон. У охранников срабатывает условный рефлекс, и они послушно двигаются в сторону грабителей. Метр – и ребята попадут в лапы верных псов капитализма. О, сладкое бремя условностей, как на короткое время приятно остановиться под твоей крышей и заговорить с благородным негодованием, со страстью обличителей и проповедников! Но грабители были невозмутимы. Джозеф отходит влево, Вадим, осененный монументальной прической, в противоположную сторону, Сент-Джон, оставаясь на месте, выхватывает саблю из-за спины и хвать по ногам бугаям. Охранники дружно падают, как подкошенные. Ребята уже сложили выручку супермаркета в рюкзаки и собираются покинуть и магазин и клиентов, оказывающих отчаянное сопротивление настоящим полицейским, которые, по их мнению, не на шутку разгорячились. Пока внимание сил правопорядка отвлечено на ищущих острых ощущений русскоговорящих яппи, истинные преступники на паленой легковушке мчатся по кольцевой с деньгами в мешках. «Угнетает не страх, угнетает однообразие, сколько можно повторять самих себя, копировать поступки из прошлого в настоящее. До каких пор это времяпрепровождение не надоест? Хотя, по идее, мы стараемся не для самих себя», - приблизительно такие мысли посещали всех авантюристов. Но они держались и старались не поддаваться влиянию минутного отчаяния. - Красавица, мы стали богаче еще на несколько миллионов рублей, - Джозеф, улыбаясь, сообщает официантке приятную новость. - А что произошло с теми новобранцами, отвлекавшими внимание полиции? - Об этом мы узнаем из новостей. - Отвратительный поступок, как вы могли так поступить с людьми, доверившимися вам? Представляю, что творилось у них в душе, когда они узнали об истинном положении дел. Потрясение на всю жизнь. - Знаешь, куколка, мы с тобой учились в одном институте, если мне не изменяет память. Я помню каждый момент наших безмолвных встреч. Ты робко или случайно поднимала на меня глаза, и я трепетал, я думал: это неслучайно, это что-то сулит мне в будущем. Мне тогдашнему, мне – студенту с глазами, покрасневшими от бинокуляра. Я боялся тебя, твоя власть была в твоем обаянии, твое величие – в неземной красоте, в том, какое влияние оказывала на меня твоя ангельская внешность. Меня одновременно одолевало столько опасений, столько страхов, я предан был множеству устремлений. И я был убог, неуверен в себе, краснел и пятился при виде опасности, малейшей трудности. А однажды, ты увидела меня, всмотрелась в меня попристальней, видимо, от того, что никогда не делала этого раньше, и просто рассмеялась. Это ли было не предательством? Мне было горько и обидно, я стерпел боль и обиду и пошел дальше. Как я сумел это вытерпеть, не забыв горький для моего самолюбия момент? Скажу так: мы получаем память в обмен на страдание, которые нам причиняет чувство времени! И теперь, можно сказать, я наслаждаюсь своим величием на фоне бедствий, окружавших меня в ту пору. Я вырос… Джозеф разворачивается и направляется в сторону выхода. У него на пути оказывается Генрих. В шутку он начинает декламировать: «Мы одиноки. Нам нужна подмога. Друзей ценить нам надо. Их немного.» - Я погорячился, - соглашается Джозеф, - не знаю, что на меня нашло. - Не беда, я бы тоже ни за что не согласился вернуться в свой прежний мир. Пусть и этот не идеален, но можем изменить его для себя. Мы вольны не прислушиваться к велениям собственной истории, благо ее просто нет, - заметил Сент-Джон. - Философия – чудная вещь, но только в промежутках между основным занятием: наметилась неплохая операция, - встревает Генрих. - И это нам говорит поэт! - Заметь поэт, а не философ: есть тьма любителей мешать два этих ремесла… - Все-таки не мешало бы выслушать твой план Вадик, - возобновляет свое участие в общем разговоре официантка. План № 7. Brevi manu. Вот, как обстояло дело: метро в Городе стало чем-то вроде культа. Символом перенаселенности. Это общественный институт взаимоотношений. В метро люди встречаются и расстаются. Дарят друг другу цветы и отвешивают пощечины. Заводят детей в переполненных вагонах и погибают под чугунными колесами составов. Метрополитен – огромный храм людей делового образа жизни. Здесь досыпают и доедают, спасаются от дождей и морозов. Метро – символ равенства и всесилия человека, достигшего пределов на небе и в глубинах земной тверди. Этот ад обязан пройти более-менее каждый. Официантка еще помнила, как утром по дороге в институт попала на пик пассажиропотока. Тогда перед местом возможной остановки дверей выстраивалась целая очередь до приезда поезда. Сзади подходящие люди с разгону, словно приливные волны, бились о существующую толпу, пододвигая ее к краю. Проезжающий поезд едва не калечил людей впереди очереди зеркалом для машиниста. Все испытывали недюжинную потребность хоть как-то выместить свою злобу на этот свинарник, на этот скотный двор. Тот, кто черпал выгоду из увеличения цен на билеты, на проездные, по мнению наших героев, мог бы делать это не столь откровенно. Общественному транспорту, вообще, неплохо бы стать бесплатным, а тут – ни капли разумного альтруизма. Ситуацию решено было исправить, совершив рейд за выручкой по билетным кассам грохочущего подземелья. День операции выбирали недолго, исходя из того, что наибольшую выручку метро получает в конце месяца. Хронологически в эти дни через ненадежные руки кассирш проходит наибольший процент от общей прибыли. Именно тогда все закупаются проездными на ближайший месяц. То есть, в один из последних дней месяца, решено! Охраняются кассы практически никак, исключение составляют пухлые милиционеры в юбках с элегантно болтающимися на талии кожаными кобурами. Новый жанр эротических фотографий – эротика милитаризма. Опаснее – последствия: либо нагрянет закамуфлированная группа захвата в наушниках и с автоматами, либо их как-нибудь опознают по записям развешанных тут и там телекамер. Требовалось пресечь осложняющие обстоятельства и не допустить развития сюжета операции в неугодном направлении. Бывший радист, отставной специалист в области радиоэлектроники, обиженный на судьбу низкой пенсией и невниманием бывших боссов пошел ради них на многое. Ребята посулили ему солидный оклад, и он обещался на время операции заглушить сигналы раций. Затем встроил в их внутреннюю телефонную сеть примитивное устройство, которое по желанию моментально размыкало их сеть. С камерами поступили хитрее: со срочным заказом обратились в фирму по производству устройств с элементами жидкокристаллических экранов. Согласно контракту устройства основное время должны были оставаться прозрачными, затем по сигналу, они становились непроницаемо черными. Таким образом, электронный свидетель оставался не у дел. Поехали дальше! Во второй половине дня должен быть совершен налет, потому что вроде бы в обеденный перерыв вырученные средства не передаются в общую кассу или хранилище. Понимают черти: самое опасное – собирать большую сумму денег в одном месте. Они взрываются охотнее бочки с порохом. Три человека участвуют непосредственно в изъятии финансов из лап поработителей народных масс. Официантка займется корректировкой их действий, а затем подхватит их на машине и заберет. У большинства станций самого красивого в мире метро два входа, и, следовательно, две кассы, поэтому необходимо будет разделиться, дабы не пробегать по станции несколько раз. Итак, к бою! Ровно в 18:00 по местному времени три человека спускаются по лестнице в вестибюль станции метро «Тушинская». Сент-Джон Риверс заходит со стороны пригородных поездов, Джозеф Сэммлер и Генрих со стороны автобусных остановок. Моментально закрываются шторки на камерах. Обе группы идут по подземному переходу, приближаются к залам с турникетами и кассой. Синхронно открываются две двери и Тараканов с Мартином Фьерро заходят в зал. Оглядываются – из милиционеров нет никого. Прямиком к кассам. Джозеф пытается открыть деревянную дверь, ведущую внутрь, но она заперта. Тогда Генрих кладет вместо денег бланк с посланием: « Без шума и криков, все тысячные купюры и стольники из кассы – нам! Не вздумайте нажимать вызов милиции. Все провода уже перерезаны». Женщина долго читает записку, словно не понимает написанного. Когда Генрих стучит стволом по стеклу, она резко поднимает голову, будто только очнулась: «Мадам, пожалуйста, не делайте глупостей, это не нужно не нам, не Вам. Вы же можете навредить и себе, и своей семье». Кассирша с криком вскакивает со своего места и убегает. Джозеф прыгает и ногами выбивает стекло: «Все приходится делать самому!» Осколки повсюду, руками в перчатках он собирает деньги в пакет. Застегивает молнию. Вдруг выбегает заспанный мужик, его поведение грозит обернуться катастрофой, но Генрих сшибает его с ног рукоятью пистолета. - Отчего же они так самозабвенно борются за то, что принадлежит не им, за то, что с лихвой будет возмещено страховкой. Если изжившие себя идеалы им милее белого света, пускай тонут в крови! Женщины, проходящие к кассе, видят осколки и брызги крови на стенах. Они визжат и убегают. - Андрей Николаевич, включаем помехи для раций, - приказывает Джозеф радисту! - Приехали, мать вашу, я и не заметил вначале, как появился этот мужик, пришлось его уложить! Дерьмо, дерьмо, как все неудачно! – сокрушается Генрих. - Пустяки, он придет в себя, еще здоровее нас будет. Нам надо спешить, Илюша уже заждался нас. Ребята перепрыгивают через заграждения и бегут по платформе. Сент-Джона пока нет, они беспокоятся. А вот как проходили дела у мастера винтовки и сабли. Едва он толкнул блестящую створку дверей, ведущих к кассам, как тут же натянул черный эластичный шарф на лицо. Японские самураи ступили на просторы русских земель с целью борьбы за порабощенных простолюдинов! Скоморох, сменивший пестрый наряд на одеяния больше идущие старухе с косой. Тучный милиционер в фуражке набекрень не оставляет выбора молодому убийце. Риверс с разбегу падает на правое колено и скользит по облицовочному камню; глазом приник к прицелу – три тяжелые пули из литой резины моментально оглушают полицая. Сент-Джон крадется к кассе. Кудрявая баба средних лет позади него, неожиданно заголосила: « Боже мой! Что же это делается. Днем уже людей губят. Кровь русскую пьют, ненасытные. Что б ты издох, проклятый ворюга!» У встречной явно истерика после увиденного. Но Илью это сильно задело, и он не захотел оставить это просто так. - Ох, глупое созданье, только бы шум поднять! Цел этот милиционер, ничего с ним не случилось. Но вот, что я скажу: как иначе мне помочь людям, не имея на то средств? А, если мне для этого требуется гора денег? Я же ради таких, как вы, стараюсь, чтобы вам потом лучше жилось. И ваша анафема мне вместо благодарности и слов поддержки. Бюргеры, подобные вам просыпаются в каждом, но нужно уметь шагнуть дальше правил и приличий и уметь взглянуть на ситуацию другими глазами, например, тех, кому сейчас нужна поддержка, но ее ни от кого кроме нас не получится получить. Да, что тут говорить! – не стану я тут с вами время терять: все без толку, не переубедить! Риверс с силой рвет за дверную ручку, та отрывается, грабитель нелепо растягивается на полу. Тогда саблей он бьет по стеклу. Страшный треск, столпотворенье. Тенью Соболевский проникает в кассы, срывает солидный куш и пропадает улыбкой с лица обманутой возлюбленной, обнаружившей вместо обещанного сюрприза обычную измену. Не чуя ног, летит наш герой вниз по эскалатору, укоряя себя за время, потерянное за разговором. На одних руках скользит по резиновым поручням движущейся лестницы. Затем пружиной выпрыгивает вперед. 18:06 – где же Джозеф и Генрих? А они, не дождавшись друга, превысившего допустимый лимит времени, сели в пришедший поезд. Сейчас он на глазах у Риверса отчаливает в неизвестность. Но еще есть шанс исправить ошибку. Илья бросается в погоню и в решающем прыжке хватается за выступающие части последнего вагона. Обычно они служат для крепления последующих вагонов. Хотя, раз такое дело, и для прогулки сойдут. Вихрем уносит Соболевского вглубь туннеля. Он трепещет и старается не разжать онемевшие руки. Под ногами мелькают шпалы, поблескивают рельсы, в истерическом танце вьются провода. Сент-Джон немного приподнимает тело. На полном ходу ногу заносит на, как нельзя более кстати, появившуюся приступочку, с тем, чтобы оттолкнуться от нее и в прыжке схватиться за деревянные ручки вдоль дверей. Руки, вспотевшие от волнения, соскальзывают по деревянным поручням. Ногами в пластиковых сабо Сент-Джон бьется о несущиеся в противоположную сторону шпалы и его тело разворачивает в воздухе вверх ногами и впечатывает в дверь вагона. Свет приближающейся станции приводит его в чувство. Он спрашивает в микрофон: « Где Джозеф и Генрих?» - В пятом с начала поезда вагоне, сейчас на Щукинской, но вы едете до Октябрьского поля, - отвечает официантка. - Значит, я их почти догнал, на Октябрьском поле я свою часть выполняю! Илья Соболевский, как ни в чем не бывало, заходит в вагон. На него почти никто не обращает внимания. Он дожидается появления декораций, соответствующей станции. Четким шагом следует на середину станции. Оттуда подает условный знак приятелям, и они расходятся в разные стороны. 18:11 – вторая атака на кассы, спрятавшиеся в стеклянные забрала. Включены затемняющие насадки для камер. Смутный дух надвигающейся катастрофы уже витает в воздухе. Джозеф и Генрих, ободренные счастливым появлением Сент-Джона, легко взбегают вверх по лестнице. Запрыгивают на блестящие серым блеском турникеты, сворачивают к кассам. Загоняют длинный рычаг для взлома в щель между дверью и стеной. Треск деревянных панелей, замок поддался очень скоро. Джозеф для устрашения вынимает пистолет. - Давайте, уважаемые, не скупитесь! – мягко уговаривает он кассирш. – Щедрым в жизни везет, тактак, полтинники можете оставить себе, а сошлитесь на нас! Браво, ваша станция выбилась в лидеры! Солидная выручка! - Хорошо, теперь не задерживаясь быстрее вниз, мы должны успеть на следующий поезд. С противоположной стороны станции в красивейшем подкате Илья Соболевский в черной маске с узкой щелью для глаз, сбивает с ног охранника и прыскает ему в лицо аэрозолем с усыпляющим раствором. Тот моментально засыпает. Не обратив внимания на его недвусмысленные одеяния, кассирша наивно спрашивает: - А вам что требуется? - Все тысячные бумажки! – без лишней скромности отвечает Сент-Джон. - Вам в пакете или так? – очевидно, она привыкла к нестандартным просьбам. - У меня есть с собой, сваливайте сюда. – Генрих протягивает ей мешок. 18:14 – каждая группа у пятой колонны со своей стороны передают мешки ребятам школьного возраста, дожидавшимся их здесь заранее. Те спокойно следуют к выходам и растворяются в толпе. Это были специально нанятые ребята, которые за солидную плату должны были забрать у грабителей груз и передать его на поверхности курьеру. Курьер ехал специально намеченным маршрутом от одной станции метро до другой на машине, занятой поливкой улиц. После того, как водитель отъезжал с людного места поблизости от станции метро, он, упаковав деньги в непромокаемый мешок, бросал их в бак с водой, и ехал дальше. После Октябрьского поля грабители проехали до Полежаевской и собрали выручку уже там. Выходить именно на этой станции имело смысл, поскольку около этой станции оканчивалось множество троллейбусных линий, и сотни людей расставались со своими средствами именно возле касс, расположенных над раздвоенной платформой станции Полежаевская. Затем бросок до Баррикадной и совместная атака на станцию с выходом в одну сторону. Однако сбором дани их посещение зала с коричневыми стенами не ограничилось. В 18:30 расхитители народных богатств с уверенным видом зашли в подсобное помещение на станции и полностью сменили одеяния. Со сменной одеждой в подсобных помещениях их ожидала наготове уборщица, соблазнившаяся солидными премиальными от компании грабителей. Нападению подверглись разные выходы станции метро Киевская. Решающим фактором, говорившим в ее пользу, был пассажиропоток с известного вокзала. Очень оперативно они перебрались на АрбатскоПокровскую линию, где разрушительному рейду подверглись Смоленская с ее длиннющим эскалатором и огромный пересадочный узел станции метро Арбатская. В 18:45 ребята тряслись долгим пролетом на мягких креслах, свойственных поездам этой почтенной линии. Но вдруг поступило тревожное сообщение, говорившее о готовящейся засаде на Площади Революции. Джозеф резко открыл двери поезда, и они прыгнули из вагона в темноту тоннеля. Там, словно букашки, они уцепились за толстенные кабели, развешенные вдоль стен тоннеля, и трепетали, ожидая, когда прогремит состав, расцвеченный окнами с зажженным светом. После описанного приключения они побежали вдоль пути, трясясь от пережитого приключения. Впереди уже бежал Сент-Джон Риверс, хорошо знакомый с сетью подземных переходов. По вентиляционным шахтам, вверх и вниз, непрестанно сворачивая и изменяя направление, они неслись под городом, растревоженным вестью о гигантских масштабах ограбления. - Мы выходим из метро где-то около площади трех вокзалов, - передает Сент-Джон официантке, поджидай нас в трейлере неподалеку от центральных касс. - Планы поменялись? - Финальный аккорд, иначе все усилия были зазря! - Будь наготове красавица, мы провернем все очень быстро. - Осторожнее там, не забудьте про маски и перчатки, не хватало еще засветиться в органах таким дурацким способом, - беспокоится Алиса. (Автор до сих пор не называл ее имени) Конечно мысль, пришедшая в голову грабителям, была здравая. Выручка центральных железнодорожных касс в десятки раз превышала выручку отдельных вокзалов и уж тем более касс метро. Однако последовательная атака на вокзалы города-блудницы, скорее всего, не прошла бы, потому что в этом случае легче было бы выявить алгоритм их действий, и гораздо труднее было бы утаить состоявшееся нападение. Теперь же после ограблений станций метро, нападение на центральные кассы казалось крайне оригинальным и неожиданным, этаким ходом конем. Создавалась видимость рациональных действий и глубокого расчета, а не спонтанных наитий. В помещениях центральных касс более сорока окошек, половина из них работает в каждый момент времени, около каждого очередь. Многие покупатели билетов приобретают билеты не только для себя, но и для группы, с которой они собираются в путешествие. Цена билета в одну сторону редко меньше тысячи рублей, с учетом всего этого к середине летнего дня в руках столичных представителей сети железных дорог должно были сосредоточиться неимоверные суммы. Автоматная очередь в потолок. - Внимание, - кричит на весь павильон Джозеф Сэммлер, - кассы берут технический перерыв на полчаса, просьба покупателям на время покинуть здание во избежание сложностей технического характера! Люди одетые по-летнему легко, с обгоревшими руками, открытыми животами, вываливающимися грудями торопятся к выходу. Кружевные белые одежды не могут сдержать напор удушливых испарений тучных тел. Дети держат за руки взрослых и с ужасом глядят на новых посетителей. Грабители сохраняют олимпийское спокойствие. Мимо них проходит рослый лысый, костлявый мужик с укороченной на бабский манер майкой. Джозеф с маской натянутой по самые глаза провожает его неотрывным взглядом. Мужик останавливается, руки в боки, нагло сверлит глазами: - Тебя чего-то не устраивает? - Да, твоя педерастическая внешность. Мужик, работая на публику, собирается шагнуть в их сторону. Но Сент-Джон реагирует на его поведение однозначным образом, винтовка нацелена в корпус: - Хочешь получить пулю, говори сразу, иначе получишь дополнительный приз или немедленно убирайся! Наконец можно приступать к работе: сигнализация отключена, камер так и не было обнаружено. СентДжон перепрыгивает через загородку и представляет весомые аргументы продавцам билетов на их рабочем месте. Генрих сторожит вход, Джозеф идет с внешней стороны от перегородки. Некая старушка замешкалась и еще оформляет покупку желтоватого клочка бумаги. Сэммлер терпеливо ждет завершения сделки. Картинный жест по окончанию: - Специальный приз, как самому сознательному и толерантному покупателю, Вам возвращается стоимость билета! Пожалуйста, - он заглядывает в окошко кассы, - верните госпоже… - Полевой. Госпоже Полевой стоимость билета, пожалуйста, - примите от нас с нижайшим поклоном, чаще ездите на поездах Российских Железных Дорог, - протягивает Джозеф старушке ее деньги. - Спасибо, спасибо. Ранцы наших друзей изрядно потяжелели. Солидная выручка, самая крупная за последнее время. Они, торопясь, бегут к фургону, захлопывают дверь, на полной скорости летят к Кольцевой. Погони пока не видно. Толпа народа теснится возле выходов на Тушинской. Беспрепятственно, выезжают они из Города и следуют к условленному месту, где их дожидается машина для уборки улиц, с деньгами, утопленными в баке. По окончанию самой масштабной из своих операций они решили взять перерыв и попробовать легализовать вырученные деньги, воплотить их обилие в неком проекте. Они желали ворваться в вольный цех предпринимателей, чтобы уже там задышать полной грудью. К тому же их средствам требовалась опора, логическое развитие – истории их приобретения. Ребята перебрали множество вариантов, но у Джозефа давно уже была мечта, связанная с деревенским бытом и надеждами на возрождение русского земледелия. И теперь ему посчастливилось сформулировать свои чаяния более четко. Русская деревня умирала, и это было ясно, как божий день. Она же могла стать источником неиссякаемых богатств. Большинство крестьян, постоянно проживающих в деревне, жила, в основном, благодаря тому, что росло у них в огороде. В деревне, где жил Джозеф у большинства было по половине гектара, как минимум. Без особых осложнений вытребовать у начальства можно было и целый гектар и больше. Естественную границу процессу увеличения сельскохозяйственных угодий порождала трудность и дороговизна обработки столь пространных наделов и невозможность сбыта овощей. Эту проблему предстояло разрешить юным предпринимателям. Сперва, для отвода глаза они взяли долгосрочный кредит на сумму более миллиона рублей в поддерживаемом ими банке, который они к тому же не столь давно спасли от отзыва лицензии Центробанком. Уложиться предстояло в один сезон, то есть сделать первый виток развития. Они договаривались о сбыте картофеля в Санкт-Петербурге на крупнейших рынках, в Нижнем Новгороде, в Рязани и во Владимире. Начали с родной деревни Джозефа Сэммлера, где его уже как-никак знали. Она лежала на вольных просторах нижегородской земли. Закупили сразу несколько небольших грузовиков, для транспортировки картофеля в районные центры. Заброшенные общежития, оставшиеся с Советских времен, переоборудовали в склады, ведь картофель вначале привозили сюда и проверяли его качество. Договаривались с водителями, кого-то взяли из местных, кого-то из конечных пунктов назначения груза. Большинство крестьян с восторгом восприняла идею подобной реализации своей продукции. Платили достаточно щедро, но за большие объемы картофеля. Люди приходили с заявками из десяти соседних деревень. К концу осени стало ясно, что даже простым увеличением охвата контролируемых территорий уже возможно добиться солидных притоков средств. К тому времени окупилась стоимость купленных машин. И может это выглядело буквоедством, но все же это очень радовало Джозефа и его друзей. СентДжон уже начал было скучать, как тут же объявилась одна проблема. Требовать своей доли начали представители местной криминальной элиты. В общем, нашим героям несказанно помог их опыт конспиративной работы: они практически никому не были известны. Поэтому гражданское ополчение подъехало к зданию склада. Однако, то было заблаговременно обнесено высокой кирпичной стеной со стороны дороги, а с противоположной стороны находилась затопленная низина. Низина каждую ночь до краев заполнялась туманами, и никому в голову не пришло атаковать склад хитрым маневром с той стороны. О проблемах сообщили милиции, но те сказали, им наплевать, разбирайтесь сами. Мол, что будет, то будет, они предъявлять претензий не станут. Туман прозрачной завесой висел над дорогой, высокие тополя закрывали небо. Склад же располагался на отшибе деревни, опасность свидетелей по большому счету никого не волновала. Сдвоенные пучки света от фар пронзали дрожащую плоть ночи во многих местах и выходили из лесной опушки, которой представлялся отрезок дороги со складом издалека, под разными углами. Сырость тумана смешивалась с едким маревом автомобильных выхлопов. Бандиты ожидали развязки, нервно ходили около ворот, курили. Светлячки зажженных сигарет не потухали ни на минуту. Далеко в деревне брехали собаки. Бандиты оделись легко и переминались из-за прохлады ночного воздуха с ноги на ногу, ежеминутно стучались в складские ворота, бранились. Сент-Джон с остальными держал совет, как проучить незваных гостей, чтобы сами они перепугались до смерти, но никто их россказням не поверил. У Генриха оказался с собой запас легких дурманящих веществ. Из листа ватмана скатали нечто, напоминающее трубу, надели приспособление на вентилятор, рассыпали гигантскую дозу порошка и направили вентилятор в сторону толпы бандитов. Затем Сент-Джон нацепил на спину планер и оделся в одежду с черной бахромой. Генрих обсыпал роскошные кудри пеплом и забелил лицо обычным мелом, обычную одежду он сменил на лохмотья. По совету Джозефа взяли длинную доску и вдоль ее длины приклеили обычных свечей, запасенных на случай отключения электричества. Потихоньку осаждался порошок на толпу бандитов. Разом юные авантюристы завыли волчьими голосами и водрузили на стену строй зажженных свечей. Для пущего эффекта включили умопомрачительный альбом «General Patton vs. The X-ecutioners». Рождалось ощущение неповторимой фантасмагории, усугублявшееся действием наркоты. Джозеф также весь изрисовал себя и напудрился. Джозеф и Генрих согласно плану должны были предстать перед хулиганьем в облике живых мертвецов. Они перебежали на другую сторону дороги на четвереньках. Увидевшие их издалека от непривычки слегка закачались, ибо первой их мыслью стала мысль об оборотнях. - Люди, проживающие в деревне, поневоле склонны доверять приметам и преданиям. Джозеф начал шуметь в придорожных кустах и глухо рычать. Преступники потянулись к стволам. У тех, что уже держали пистолеты в руках, оружие выбил из рук Сент-Джон, наблюдавший за происходящим в оптический прицел винтовки. Порядком озадаченные местные вымогатели стали легкой добычей для подкравшегося поближе Генриха. Преступникам почудилось, что он вылез прямо из-под земли под звон зазвучавших неизвестно откуда взявшихся колоколов. Он стал сшибать вымогателей одного за другим ударами увесистой дубины. Никто не успевал дотронуться до него: прежде чем иные успевали подумать об этом, их останавливал меткий Риверс. Вдобавок ко всему неожиданно из кустов бросился на них, картинно размахивая руками, словно на сказочном карнавале Джозеф Сэммлер. Он сделал вид, будто впился зубами в горло одному из бандитов и распрыскал вокруг томатного сока. У свидетелей происходящего глаза полезли на лоб, они не знали, что и думать. В довершение сцены диск луны затмил взмывший в небо на планере Сент-Джон; ноги подкосились даже у самых стойких. Для приличия, спустившись с неба, он помахал саблей, оцарапал нескольких грабителей. Затем общими усилиями они усыпили всех, засунули в машины и отвезли километров на пятьдесят в сторону от деревни. После столь памятного события от местных королей не было ни слуху, ни духу. Все новые и новые деревни подписывали контракт с их фирмой. Дело росло и набирало обороты. Полезные нововведения находили место в их плане. Они закупили с десяток тракторов для обработки земли, вводили премиальные, теперь огороды тщательно охранялись. В центральной России медленно устанавливалась картофельная монополия. В обмен на выгодные цены покупки у огородников их продукта предприниматели устанавливали льготные цены в сельских магазинах. Эволюционная форма колхозов в двадцать первом веке должна была выглядеть именно так. Приятельские отношения устанавливались и с местными властями. Лично сам Джозеф вел пока не всем понятную политику, переселяя жителей деревень из одного района в окружающие. Он будто для чего-то освобождал его. Ребята способствовали организации нескольких природных парков и заповедников. Общим заключением, итогом проделанной работы безупречно послужила мысль, высказанная Алисой, согласно которой, если прикладывать помимо усилий по скупке продукта еще старания по конструктивному обустройству отрасли, то деньги просто потекут в руки сами. Изрядно помогал им факт ежегодной возобновляемости картофельного сырья. В отличие от той же нефти. По своему характеру картофель в больших масштабах похож на древесину, ускоренную в цикле своего развития раз в тридцать. После подготовки материальной базы наши авантюристы вплотную подошли к общественной работе, о которой мечтали так долго. Для начала они через третьи руки, подставные организации передали деньги на возведение многоэтажного жилого дома с квартирами для обманутых вкладчиков в провинции. Обустроив дела обманутых покупателей, они с помощью сыщиков поймали подлеца, попытавшегося надуть обычных людей, пользуясь их бессилием в мире больших денег, и предали его суду. Вскоре их внимание было привлечено проблемой экологически чистой и дешевой энергии. Они закупили лицензии в Германии и начали возводить ветровые вышки в разных областях. Отечественные зефиры с радостью крутили белые лопасти новых мельниц во благо простого народа. Кое-где был скинут непосильный гнет квартирной платы, благодаря полезным новшествам. Различные отрасли общественной деятельности привлекали их внимание: мятежный поэт Вадим Тараканов организовал не один десяток скандальных, антирелигиозных выставок, допуская однако к участию не пустозвонов, собирающихся эпатировать публику, а тех, кому катастрофически недоставало свободы. «Понимаете, – не раз сетовал Генрих, - талант не терпит ни принуждения, ни ограничений и мы стараемся оградить юных гениев от подобного рода давления со стороны церкви, религии, агрессивного отношения людей верующих, но темных. Беда в том, что притесняемые раньше стремятся притеснять теперь сами, почитая это долгом для себя». Забывшемуся человеку всегда полезно получить пощечину, коей и стала эта выставка. Иначе он нагородит много бесполезного и даже вредного. Сент-Джон не нашел себе пока глобального направления приложения усилий, поэтому избрал для себя увлечение забавное, но не более. Он отлавливал карманников, разъезжающих в общественном транспорте в поисках легкой наживы. Электрификация проникла и в дело поимки нарушителей правопорядка: микроскопические камеры были размещены в салонах многих автобусов. Мистер Риверс начал создавать вокруг себя нечто вроде детективного агентства. Общими усилиями они отлавливали паразитов и делали им серьезное внушение, если их попытки не прекратятся, - грозились им, - то детективы будут вынуждены заявить об их проделках в родную милицию. На первый раз их прощали и приглашали к контрактному сотрудничеству. Джозеф с Алисой с головой ушли в более серьезный процесс. Процесс народа против компании по строительству элитных многоэтажных домов. Организация с сомнительной репутацией откуда-то выторговала себе разрешение начать строительство на территории общественного лесопарка. Строительство домов на территории московского мегаполиса – дело доходное и поэтому, когда дело доходит до дележа земли, крупным компаниям не до интересов отдельных граждан. Явление это само по себе очень возмутительное в глазах наших борцов за права человека требовало серьезного противодействия. Требовалось создать прецедент, провести показательный процесс в защиту интересов отдельных граждан. Наняли когорту блистательных адвокатов из-за рубежа, лучших отечественных образчиков этой профессии. Блистательнейшие умы бились над проблемой, волновавшей наших друзей. Опять же по приглашению Джозефа дело освещала зарубежная пресса. Таким образом, на суд оказывалось дополнительное давление в лице министерства иностранных дел, к делу подключили ООН и отделение по правам человека. В ответ на кордоны милиции, ежедневно подводимые к территории лесопарка, друзья вдохновляли на демонстрацию тысячи обычных людей. Джозеф с проницательностью и расчетливостью макиавеллиста подкупал верхушки молодежных организаций, радикальных и не очень, политизированных организаций и организаций к делу раздела власти, не имеющих никакого отношения, а те в свою очередь собирали полки бездумных малолеток на шумную демонстрацию на территории злосчастного лесопарка. Онанисты и анархисты, монархисты и толкиенисты, - все слои населения и объединения по интересам вышли на защиту зеленых насаждений. Правительство бубнило что-то крайне невнятное и бестолковое, касающееся несанкционированности выступления граждан. Хотя было ясно, что санкционировать его бы никто не стал. В таких вопросах важна стихийность народных чаяний, чего не добиться никакой легализацией. Кому из власть предержащих нужна очередная головная боль, кто захочет, чтобы его задницу спихнули с занимаемого им кусочка трона? Власть боится гласности, власть страшится освещения ее методов ведения игры. Солдафоны поражались тому, сколько человек может вместить пятачок перед потенциальной стройплощадкой, а толпа не дремала и не безмолвно трясла плакатами, а напирала и теснила живые заграждения. Ответственные чины по непонятному совпадению оказывались вне зоны доступа, в отпусках или деловых поездках. В ответ на применение слезоточивого газа для разгона толпы строй демонстрантов лишь немного отодвинулся от места проведения боевых действий. В дело, как обычно бывает, пошли камни и бутылки с зажигательной смесью. Джозеф пошел дальше, ночью разложив на дороге к парку шипы. После этого милицейский караван попал в ловушку, организованную собственными силами дорожную пробку. Из засады Сент-Джон элегантно рассек слитком свинца провода питания для стройки. В дело вмешивались влиятельные международные организации, такие как: ЮНЕСКО, зеленые. Наконец, под их давлением ненавистная всем стройка была прекращена. Позже Джозеф признавался: «Едва ли дело стоило тех сил, что мы в него вложили. Вообще, не понимаю, ради чего мы предприняли благородную авантюру по спасению парка. Уж точно не ради людей, обитающих поблизости от него, не ради сотни деревьев, растущих на нескольких гектарах парка. Самым честным ответом будет, для того, чтобы потворствовать собственному демону противоречий, чтобы выдержать битву, чтобы позиции силы противопоставить собственную силу и уверенность в победе. Чтобы, как говорится, нашла коса на камень». Приятное Сэммлер перемежал с полезным и, искусно улучив момент, он с друзьями начал активно скупать заводы по производству этанола. Подобные поступки действительно выглядели бы лишенными всяческого смысла, если бы наши друзья (нет, они не боролись с пьянством во вселенских масштабах) не поспешили употребить во благо услышанную не так давно новость о повышенных потребностях европейских государств в спирте в качестве топлива. Роль спирта в мировой экономики возросла в связи с ростом цен на нефть, и, скажем, в Бразилии 80% машин уже ездило на спирте. Планы Джозефа не были настолько наполеоновскими, чтобы для их осуществления требовалось бы обогнать Бразилию по количеству произведенного спирта, но он нанялся единолично поставлять спирт небольшому европейскому государству. Соревноваться с Бразилией было трудно, ведь на родных просторах не росло столько сахарного тростника, в итоге в дело пошла свекольная ботва, подсолнечник, недозревшая кукуруза. Кое-где спирт умудрялись гнать даже из молока. Спирто-картофельная империя процветала, и наши авантюристы почивали на лаврах, хотя они сами давно понимали, что потерян дух командной борьбы, единства, братской дружбы. Гораздо меньше времени они проводили теперь вместе за общим делом, занятием. Между ними то и дело сновали юристы, адвокаты, помощники. У них не оставалось времени на общение друг с другом. Они пресытились спокойной жизнью и потому решили развлечься делом настоящим, но не очень опасным, дабы снова поймать мимолетное ощущение сообщничества и причастности. Целью избрали поместье известного бизнесмена, находившееся на берегу Волги. Человеком он был очень влиятельным и одним из самых богатых в России. Сам в этом поместье он никогда не бывал, так как большую часть времени находился в деловых или увеселительных поездках. Поместье было очень богато обустроено, все, что касалось предметов роскоши было поставлено там на широкую ногу. Но в целом, смотрелось оно не очень опрятным и, как бы это выразиться, не чувствовалось в нем хозяйской руки. О семье богача не было известно ничего достоверного. Волжское поместье фигурировало в одном из скандалов двух- или трехгодичной давности, связанных с рейдами полиции по борьбе с наркотиками. Решение о выборе в качестве цели именно этого поместья было продиктовано сообщениями прессы о покупке бизнесменом дорогих старинных икон. И ребята не без оснований предположили, что пристанище картины найдут себе именно в этом доме. Проникнувшиеся сладким духом авантюризма юные грабители решили посетить поместье за несколько дней до намеченной операции. Территория поместья была окружена высоким непроницаемым забором. Редкий сосновый лес. Земли предпринимателя удобно расположились на склоне берега реки и примыкали к укромной бухте. Оттого по берегу забраться в дом казалось делом ничуть не более простым, чем с любой другой точки. Камеры если где-то и висели, то были отлично замаскированы. Но, учитывая общую запущенность усадьбы, более логичным казалось их полное отсутствие, как, впрочем, и какой бы то ни было охраны. Начинать операцию решили днем, когда не отягченные заботами жители загородной виллы утешались сладким сном полудня в компании с гостившей в доме прохладой каменных стен. Напротив, под ночь за забором разворачивались немыслимые боевые действия. Оттуда доносились дикие крики и вопли радости, смешанной со страхом и болью, слышались хлопки открываемых бутылок и прерывистое течение музыки. Бесподобным и многозначительным чудится пение птиц родом из того времени перед нападением. Мир замер и остановился в ожидании. Мир стал зрителем драмы. Многоликое население земли расселись на трибунах амфитеатра. Прекращены посторонние разговоры. Рокот барабанной дроби. Свой план комбинаторы обсуждали сидя в парке неподалеку от поместья. Листья клена казались лоскутьями изорванной одежды. Нещадно палило солнце. Голубое небо устало от зноя. На одно мгновение Джозефа посетило странное видение: безупречно голубое небо, опаляемое солнцем, вдруг разом поменяло цвет на кроваво-красный, а солнце, солнце, словно выгорев дотла, повисло в красном небе обугленным кругом. Почти сразу же видение пропало. Утиное племя со своим пушистым потомством старательно просеивали клювом тину в пруду. Торопливо переплывали с места на место, маневрируя между листьями, упавшими в воду. Почти всюду вокруг прудика росли клены. Они отражались в воде и окрашивали ее также в зеленый цвет. Пространство, огороженное ветвями, нависшими над водой, представлялось особенной изумрудной залой, каким-то иным миром, чуждым забот и страданий, тревог и сомнений. Миром, где для того, чтобы утолить жажду, люди пьют, голод – поглощают пищу, а не бросаются, например, с обрыва. Маленькие вихри кружили хороводы вдоль аллей. Когда мы желаем построить новое здание, мы обречены разрушить прежнее, но что мы должны сносить, если хотим обновить свою душу? На совете решили преодолевать ограду в самом скрытом от людских глаз участке, то есть в районе живописного парка, где и проводилось заседание. Вообще неясна цель, с которой люди возводят стены вокруг своих угодий. Ведь они в итоге становятся сами целью для покорения, дополнительным стимулом. Стены, окружающие владения, – символ, угроза тем, кто и не планирует проникать в чужие владения. Идеализируя ситуацию, можно было бы элементарно наставить табличек по периметру угодий с надписью «Стена» или «Огорожено», эффект был бы сравнимым со случаем реальной стены. Для тех же, кому непременно надобно проникнуть на запретные территории, нет никаких преград кроме людей, стоящих на страже. Важна не высота стен и не длина кинжалов, важно в итоге лишь одно, насколько далеко готов зайти похититель, чем он готов пожертвовать для достижения намеченных целей. Фактору решительности, сознанию собственного предназначения суждено сыграть в нашей пьесе главную роль. Кто-то ставит на кон все, чем обладает, и срывает джек-пот, кто-то остается ни с чем, потому что чересчур дорожил этим «ничем». В назначенный час авантюристы, преисполненные желания покорять и завоевывать новые вершины, желающие обрести покой в огне приключений, идут на приступ стен. Для безопасности перелезть через стены решили, не опираясь на них и их не касаясь. Возможно, такое решение было не более, чем соблюдением чистоты стиля. Подобно паукам, плетущим длинные нити, переливающиеся утром в лучах лесного солнца, они забирались на прилегающие к стене деревья, а оттуда перекидывали якоря и гарпуны на стволы внутри усадебных территорий. Затем ребята переползали по канатам, перебирая руками и ногами. Они повисали на приличной высоте и болтались там вверх ногами. Они осторожно спустились на пригорок, чрезмерно запудренный хвоей. Нагибались и двигались оттуда ползком. Они ожидали появления диковинных преград на своем пути, сказочных приключений: настолько им опостылела размеренная жизнь денежных мешков. Вскоре из засады на них двинулась стая здоровенных, прожорливых охотничьих псов. С рычанием животные бросились на путешественников. Псы сторожили отдаленные участки усадьбы от вторжений извне. Псы, приученные к облику человека и, более того, приученные причинять человеку вред, опаснее всякого волка, что жил на свободе. Их умышленно кормили скудным пайком с тем, чтобы возбудить в них безумную, неистовую агрессию. Шерсть дыбилась у них на хребтах, глаза горели недобрым огнем. Из разинутых пастей торчали красные, словно из парного мяса, длинные языки. Длинный ряд острейших клыков способен устрашить любого героя древности! Они скоро перебирали жилистыми лапами и приближались к ловкачам-комбинаторам. Но положение спас Генрих: недаром он проводил многие часы за старинными фолиантами, изучая в частности злоключения прекрасной Психеи. Генрих бросил собакам лепешки, пропитанные смиряющим зельем. Вкусив пищи из рук врага, грозная свора присмирела, завиляла хвостами, а вскоре мирно уснула на солнышке. Ребята успешно справились с первым приключением на своем пути и с опаской продолжили путь. Тропа же, которая служила им провожатым, заканчивалась неприступной стеной с запертой дверью. В подобном расположении забора и ворот прослеживалась хитрая мысль планировщика поместья. Центральные земли очутились как бы в окаймлении приграничных земель. По этим-то приграничным землям и бродила свора злобных собак, отделенная от остального поместья. Пройти же теперь на центральный участок представлялось задачей значительно более сложной, нежели преодоление стены вначале пути. Поблизости не росло подходящих деревьев, высокие стены наклонялись в сторону приграничных земель, не позволяя толком оседлать себя. Подход к двери находился вовсе под изобретательным навесом. Ребята подошли к дверям. - Так оно и есть, кодовый замок! – горестно воскликнул Джозеф. - Попробуем счастья в следующий раз? – попробовал настроить сообщников на более оптимистичный лад Сент-Джон. - Не хотелось бы переться мимо сумасшедших собак еще раз, нет уж увольте! – заявил Сэммлер. На двери есть что-то вроде замочной скважины для электронного ключа, видите углубление круглой формы. - Твое наблюдение сродни пункту в избирательном бюллетене «впишите свой вариант»: альтернатива, но до бессмысленности лишняя… - Существует один простой фокус с электронными ключами, может, сработает и на сей раз, – внес свою лепту Генрих. Он с вызовом плюнул на палец и коснулся мокрым пальцем углубления на двери. Дверь слегка подалась вперед, внутри запищал таинственный механизм. Его интонация свидетельствовала о крайней степени удивления. – Вот как, все оказалось гораздо проще, чем я смел надеяться! – пробовал сказать Генрих что-то в свое оправдание. До щелчка затворив дверь, путники продолжили движение вглубь вражеских территорий, как бы кощунственно такое определение ни звучало. Они шли по тропе, вознесенной на край высокого обрыва, откуда отлично просматривались окрестные земли вместе с господским домом. Колыхались на ветру благородные эвкалипты, серебристые тополя нежились на вечернем солнце, тополя сереющие дышали сладким речным воздухом, величественные черные тополя парили на фоне облаков из сахарной ваты, буки щеголяли гладкой серой корой и длинными мощными ветвями, привольно дышали вдоль обрыва скальные дубы, угрюмо крючились черешчатые дубы. Море зелени волновалось у них под ногами, а вдали несла свои воды река. Очертания противоположного берега оставались размытыми все время их прогулки. Река вздыхала от усталости вечного движения, но не прекращала размеренного движения вдаль. « Нам суждено разрушать, - думал Генрих, - как нелепо звучат все эти измышления на фоне божественной красоты. Мы всего лишь оружие в руках злого гения и, что бы мы ни творили, нам не избежать злого рока, который будет манипулировать нами, будто куклами, марионетками. Все мы – куклы в руках судьбы оттого, что не знаем будущего, а потому не можем сказать, к каким результатам приведут те или иные поступки. Даже, если бы нам стал известен результат нашего жизненного пути, едва ли бы мы сумели хоть что-нибудь изменить. Впрочем, такое знание до ужаса противоестественно, знать о предопределенности своих поступков невыносимо. Ото всего этого может стать невыносимо душно, как в комнате, из которой нет выхода. Такое знание способно заставить человека как в унынии опустить руки, так и начать почивать на лаврах, когда им ничего еще не сделано. То есть при известной уверенности субъекта в собственном счастье, подобное предсказание превратится в долговую расписку для фортуны». Тропинка шла вниз, крутой обрыв сменялся пологим скатом холма. Насыщенность зеленых красок в цветовом арсенале трав радовала взор и настраивала на благодушный лад. Жужжали пчелы, перелетая с цветка на цветок. Не находили себе места от беспокойства мухи. Ласточки легко ныряли у них над головами и тут же пропадали в складках ветра. Путники шли по аллее со сводом из сплетенных над дорожкой ветвями деревьев. Шум колышущейся листвы напоминал глубокие вздохи грустящего человека. Ребята по краю обходили лужу в то время, как издалека до них донесся звук чьих-то голосов и треск слабосильных моторов. Внизу между деревьев мелькали силуэты людей. Друзья, крадучись, подошли ближе к месту действий и стали наблюдать за происходящим. С разных сторон съезжались на поляну внизу юноши и девушки, кто на мотоциклах, а кто приходил пешком. Там царила атмосфера заговора, настроение пренебрежения недозволенностью происходящего. Кто-то явно исполнял роль хозяев, другие вели себя так, словно находились на вилле впервые, часто смотрели по сторонам, сложив руки на груди, слушали объяснения хозяев. Джозеф и приятели молча переглянулись, что бы могло значить подобное собрание в глуши, вдали от города? Большинство гостей, вероятно, проделало долгий путь перед тем, как попасть сюда. Они были богато одеты и смотрелись королями: гордо, независимо. Описанным события, происходившие тем вечером, отнюдь не ограничились. Странная деталь вскоре бросилась в глаза нашим путешественникам, несмотря на присутствие в числе гостей девушек, чей облик свидетельствовал или о богатых родителях, или о щедрых покровителях, несколько представительниц прекрасного пола сидели на задних сиденьях мотоциклов. Само по себе это наблюдение не могло служить причиной удивления ли или возмущения, если бы их руки не были связаны за спиной. А рот каждой из них не был бы занят кляпом. Они проявляли легкое неудовлетворение происходящим и изредка пытались развязать руки либо слезть с мотоцикла. Если чтонибудь из перечисленного им удавалось, их быстро возвращали в прежнее состояние. Посреди многолюдного собрания горел огромный костер. Рядом с ним находилась черная решетка, которая служила подставкой инструментам, гревшимся на огне. Гости о чем-то переговаривались, их внимание было сосредоточено на инструментах и связанных девушках, проявлявших немалую озабоченность происходящим. Вскоре нашим друзьям, замершим в укрытии, была явлена дикая картина: плененных девушек сняли с мотоцикла и усадили на бревно, однако сопровождающие не разошлись и продолжали держать их. Пленницам засучили рукава одежд на правой руке до плеча. Вид бледных рук особенно бросался в глаза своей обезоруженностью, беззащитностью. Палачи, кружившиеся около костра, перебирали инструменты. Наконец, они вытащили железный инструмент с раскалившимся на огне концом. Жертвы задергали ногами и принялись вырываться из рук охранников. Рука палача с обрядовым клеймом или орудием пыток медленно двигалась по направлению к распластанной на бревне жертве. Гости, вначале взиравшие на происходящее с интересом, занервничали, прекрасная половина человечества, присутствовавшая на церемонии, искала моральной поддержки у своих спутников. Порыв ветра со стороны реки накренил гудящее пламя костра. Рой искр взлетел в воздух. Уже чудился скрежет сведенных от боли зубов и запах паленой кожи. Момент, повторенный в памяти бесконечное число - раз, момент, возникающий в сознании раз за разом, то там, то здесь, момент, потерявший прописку во времени. Все произошло именно тогда. Тянущаяся рука палача остановлена. Инструмент безропотно уткнулся носом в землю, выпал из кисти, одетой в перчатку из черной кожи. Насилие предотвращено. Они поспели к сроку. Легкое замешательство в стане врага. Кто эти люди? Отшельник с красным лицом и вздыбившимися волосами, невысокий джентльмен в котелке и с обаятельной улыбкой денди, статный Аполлон с дредами и грустными глазами, без особого рвения играющий свою роль в спектакле? Действительно, то знакомые читателю заложники несчастливой судьбы и прихотливого промысла богов. Они не смогли стерпеть и вступили в открытое противоборство с хозяевами поместья, обнаружили, выдали себя, хотя им подобное разглашение было совершенно невыгодно. Обратимся к содержанию протекавшей между грабителями и хозяевами виллы беседы. Джозеф: всем оставаться на своих местах, повторяю, никто не сходит со своего места! (угрожает гостям пистолетом, ходит между ними кругами, водит оружием туда-сюда) Сент-Джон: Что за балаган вы здесь устроили, ублюдки чертовы, кто у вас здесь за главного? Генрих: Едва ли мы сдержим эту толпу (на ухо Джозефу). Джозеф: Всем встать на колени, руки за голову, можно лечь – от нас не убудет, никому не шевелиться! 1-ая девушка: Вы из полиции? Джозеф: А вы думаете из программы «Кто хочет стать миллионером»? Рейд полиции нравов решил наведаться к вам на виллу. Нам не до шуток! Генрих: Отряд народного ополчения, боевая группа революции. Или армия звучит масштабнее? Сент-Джон: С вами разговаривает армия США, звоните своим адвокатам! Генрих: Нет, пожалуй, все-таки миротворческий контингент ООН! 2-ая девушка: Павлик, это твой розыгрыш?! Джозеф: А заодно объясни нам Павлик, что происходило здесь до нашего прихода? Я вижу, не все здесь рассчитывали на хэппи-энд. Генрих: Сэммлер, а, может, это очередная полоумная секта возомнила себя пантеоном, сонмом божеств, или просто дети бизнесменов резвятся со скуки? Джозеф: Боюсь, декадансные настроения не пойдут в итоге им на пользу! Вадим Тараканов стоит, понурившись, под сенью дерева. Джозеф и Сент-Джон обходят стоящее на коленях собрание человек в сорок. Они движутся в противоположных направлениях. Илья Соболевский при ходьбе опирается на саблю. Джозеф: Как прикажете понимать происходившее здесь, дети мздоимцев и заимодавцев? Мы не можем ни отпустить вас, ни взять вас с собой, особенно, в таком составе. Сент-Джон: Вот попали в передрягу, блошиный рынок, тьфу (с досады плюет)! Храбрец из толпы: А как вы планируете поступить с нами? Джозеф: Злободневный вопрос! Возможно, запрем в чулане… Сент-Джон: Объявим строгий выговор (говорит в сторону). Внезапно один из зрителей срывается с места и бежит вниз. Сент-Джон пытается остановить его и скрывается из виду. Джозеф: Спокойно! Все остаются на своих местах. В толпе чувствуется какое-то движение. Джозеф не спускает с них глаз. Парень в бежевых штанах и цепочкой на шее выхватывает из-за пояса пистолет. Джозеф на доли секунды опережает мятежника. Они внимательно изучают друг друга. С чем сравнить эту ситуацию? Знаете, в волейболе, когда идет настоящая игра на площадке, разделенной посередине сеткой, случается, мяча касаются обе команды. При этом мяч находится прямо над сеткой. Борьба идет никак не дольше секунды. Кто кого передавит, кто кого перевисит в воздухе. Раньше в такие моменты раздавался свисток судьи, и назначался спорный мяч. Теперь же предпочитают продолжать игру, дабы увеличить зрелищность. В жизни спорный мяч не назначить, поэтому игра продолжается. Правда, как и в волейболе, непонятно, что обеспечивает победу одной из сторон: победит ли тот, кто первый коснулся мяча, победит блокирующий или нападающий, если так, то все зависит от положения рук блокирующего, от переноса рук на противоположную сторону. А если атакующая сторона планирует скидку? Почему порой невысокие пасующие одерживают верх над мощными центральными блокирующими, зависит ли победа от наскока, от куража, от внутренней уверенности в победе? Так и здесь, время останавливает свой ход. Джозеф приказывает: « Опусти пушку, никто тебя не тронет, а если выстрелишь, мой приятель разнесет тебе башку! Шевелись, времени не так много, решайся! Бросай пистолет, не подвергай риску своих друзей!» Парень, окончательно сломленный, бросает черноствольного вестника смерти на землю. Джозеф наклоняется подобрать оружие. Раздается выстрел. Генрих с дымящимся кольтом выходит из-за дерева. Плещет кровью хлюпающая рана в груди юноши с черными волосами. В его руках дрожит инструмент с клеймом на конце. Джозеф: Генрих, зачем? Генрих: Он пошел на тебя с железкой в руках, кричать было уже поздно, я не знал, что делать! Внизу за деревьями раздается пронзительный вопль. Бандиты и пленники обмениваются взглядами. Пленники определенно получили психологическое преимущество, поскольку в действиях Джозефа и Генриха просматривалась робость. Они сожалели о произошедшем, все происходило помимо их воли. Пленники решили воспользоваться временным замешательством и разом бросились вниз. Немного помявшись, Генрих и Джозеф бегут вслед за ними. За деревьями на площади, облицованной белым камнем бассейн, построенный скорее в декоративных целях. Шатер защищает одновременно от летнего зноя и возможной грозы стол, заставленный яствами. К Сент-Джону подбежало несколько человек, он умело защищался от них. Те пытались сбить его с ног, а затем затоптать, но он в очередной раз сбрасывал ополоумевших сектантов с себя. Пришедшие на подмогу Генрих и Джозеф пальбой поднимают ужасающий грохот, невыносимый шум. Кому-то выстрелом отрывает руку, другой, пробитый насквозь свинцом, падает на стол, приготовленный для пира. Коронное блюдо, гвоздь программы, соблаговолите откушать! Номинальные хозяева поместья атаковали Илью с табуретками в руках. Три человека уже валялось на земле, истекая кровью. И вот еще один юноша погибает, настигнутый смертоносным клинком на краю бассейна. Без промаха разил Риверс. Вверх взметнулся хоровод брызг и пены. Гости загадочной виллы стреляют кудато в пустоту и бегут врассыпную. Тишина завладевает полем боя. Три друга, стеснясь самих себя, старательно отводят глаза. Вода в бассейне помутнела. Вздулась рубашка на спине у бездыханного тела, погрузившегося в воду целиком. Джозеф: Как получилось так, что мы сорвались, превратились в безумных псов? Неужели нельзя было обойтись без жертв? Провернуть операцию элегантно, тихо, бесшумно? Сент-Джон: С самого начала не стоило сюда приходить, не надо было ввязываться во внутренние дела этого гнусного логова. Надо было оставить все, как есть? Быстренько схватить картины и бежать, так что ли? Генрих: Да нет, все же за нашими поступками стоит не только жажда денег, ощущений собственной власти. Мы поступили бы отвратительно, если бы прошли мимо той сцены с пытками. Ладно, не будем обсуждать сделанного. Мы поступили согласно представлениям о чести, совести, добре. Почти… Три безутешных воина безмолвно шагают по белым каменным плитам в сторону от бассейна. Они спускаются по лестнице в сторону реки. Хмурится небо, насыщенное дождевой влагой. Вдруг заговорил Генрих: «Мне вспоминается один мой сон. Будто я где-то на море также спускаюсь по каменной лестнице к воде. Широкая лестница с высокими сплошными каменными перилами. Море слегка волнуется. Оно сковано бордюрами набережной из булыжника. Прохаживаются отдыхающие вдоль берега, посматривают на воду, такую близкую, тяжелую, колышущуюся, почти живую. Дедушка в панамке и солнечных очках постелил покрывало и улегся на нем. Лестница достаточно высокая, и когда мы спускаемся, поднимается сильный ветер. Дедушка поднимается с покрывала и показывает нам, как можно обычному человеку взлетать с этой лестницы, пользуясь ветром. Ветер поднимал меня со ступеней, затем аккуратно ставил на гранитные плиты, но уже пониже. Я очень хорошо запомнил вид этих ступеней, то, как я совершал одну попытку за другой. Только к чему же я вспоминаю все это? Мне хочется взлететь и сейчас, но я не достоин своих снов, своего детства. Я разрушил волшебную материю снов, и ей не суждено воплотиться наяву хотя бы из-за моих провинностей. Наплевать на то, что я делал все из добрых побуждений, что хотел спасти пленных девушек, хотел воспрепятствовать злу. Важно одно, я позволил себе перешагнуть порог вседозволенности и теперь расплачиваюсь за это!» Теперь их путь лежит к обескровленному дому – приюту скорбящих и обездоленных. Они подошли к дому со стороны реки. Сент-Джон поддевает саблей оконную раму. Съезжает в сторону черненый пейзаж, ограниченный ею (подложной синью взятый в переплет). Маленькие комнаты, разбросанные по замку, подолгу пустовали. Толстым слоем лежит шершавая пыль, бархат времени, прах уныния. Следы в импровизированном снеге ведут к двери. Заговорщически скрипят петли. Не слышно суматохи в доме, ни паники, ни криков, ничего, что бы напоминало о недавнем погроме на поляне возле дома. Бесшумно ступают заговорщики. Лица их не выражают ничего, кроме сосредоточенности и легкого волнения. Найти бы гостиную: там висят картины. Мимо закрытых дверей, слипнувшихся створок, вдоль свернутых ковров… Фамильное серебро блестит внутри шкафов. Грабители оставляют его без внимания. Они торопятся, спешат покинуть дом, приютивший порок и страдание. Холсты вынуты из рам, зияющие раны оставлены на стенах. Ребят охватило страстное желание поскорее покинуть безлюдный дом с гуляющими сквозняками и мрачными отражениями в дверцах шкафов. Легкое затруднение настигло их на сем пути в лице обилия коридоров, лестниц, тупиков, дверей в никуда. Мрак сгущался, становясь все более материальным. Зыбкими становились ощущения, очертания реальных предметов, человеческих тел. Тени, полутона, непонятные звуки, напротив, вставали непроницаемыми стенами, кусками, обломками прошлого. Генрих случайно отстал от своих приятелей, замешкавшись. Он особенно не паниковал, так как знал, что и сам сумеет найти выход. На акустической перспективе чувств замаячили непонятные сигналы. Генрих вздрогнул, неужто его решили навестить призраки прошлых лет? Соскучились братцы без своего хозяина, замучила ностальгия, видимо. Но как не кстати! Шум с обратной стороны зримого давал о себе знать снова и снова. «За мной пришла смерть!» - подумал Тараканов и улыбнулся. Стучит когтями, испачканными в грязи по деревянному паркету, припугивает меня, не догадываясь, что я отлично подготовился к ее приходу. Ну же, появляйся! В проем двери вошла, словно приведение, женщина средних лет в белой одежде, с распущенными волосами. Озадаченный Генрих попытался представить себя дипломатом. - Я плохо представляю, кто Вы, уважаемый обитатель этого дома. Я здесь по важному вопросу. Дело в том, что на территориях, прилегающих к вашему дому, случилось неприятнейшее событие, за которым Вы, может быть, имели честь наблюдать. В таком случае, уместнее было бы спросить у Вас, а с чем пожаловали Вы ко мне, уважаемая госпожа? Я пришла убить тебя, мерзавец! – с этими словами патлатая ведьма достала спрятанный за спиной топор и бросилась с ним за Генрихом. Первый удар прошел мимо и рассек воздух. Лезвие задело крышку стола. Раздался страшный грохот. - У, безмозглая скотина, ты никак спятила! – не сдержался всегда тактичный Генрих. На него произвел большое впечатление контраст между его корректным обращением и бездумным оскорблением, брошенным ему в лицо хозяйкой здешних мест. - Я отомщу тебе за своего сына, ублюдок! - Ах, вот оно что, то-то я думаю, о чем Вы толкуете? Тогда все ясно: произошел, увы, один инцидент, чему я явился виной. Признаю свою вину, однако ложиться под нож не собираюсь, ибо вы не хирург, а скорее мясник. Также я не обречен на заклание, могу предположить, должность обрядовых палачей, жрецов у вас в роду признавалась почетной. – Чудовище в обличии женщины продолжало свое движение. Один удар, другой, дверь, захлопнутая у нее перед носом, разлетелась в щепки. В последний момент Генрих уходит влево по коридору и наклоняет голову. Не зря: топор задевает ему ухо. Генрих вскрикивает и на бегу зажимает ухо рукой: кровь льется между пальцев. – Да понимаешь ли ты хоть, что я говорю, дура шельмованная?! Хрен даю на отсечение, ты не представляешь, с кем имеешь дело, стой! – Никакого эффекта. – Я не хочу нести на совести груз еще одной загубленной души! – сознается Генрих и хватает руку женоподобного существа на месте сцепления с топором. На сумасшедшую признание не производит никакого впечатления. В припадке она начинает бешено дрожать и рвать волосы Генриху. Генрих мягко отстраняет ее руки; после очередной попытки зарубить его Генрих выхватывает топор и, перевернув его, вышибает древком зубы дикой ведьме, принуждая ее опробовать самой плоды применения грубой силы. Затем хватает демона и выбрасывает через окно на улицу. Все сделано, ветер врывается в дом, распахивая окна и разметывая тяжелые шторы. Генрих идет по дорожке, устланной камнем. В изнеможении приседает на бортик. Слезы, кровь текут по лицу. Как говорил художник из «Стужи»: «Убийство имеет привкус меда». И сегодня Генрих наелся того самого меда, вероятно, на всю жизнь. Он встает с травы и принимается ходить туда-сюда. Совершая суд над другими людьми, лишая их жизни, идя на поводу у собственного неистовства, мы губим в итоге самих себя. Это чрезмерно упрощает жизнь, делает ее плоской, бесцветной. В нас умирает художник. Бушует кровь в пористых глубинах мозга. Пронизываемый пологими лучами вечернего солнца Генрих ступает на траву, будто на ковер и идет в сторону сада. Цветущих яблонь белый аромат и пряное сиянье. Генрих ходит между деревьями, окруженный белесым туманом лепестков, словно вырвавшихся из-под пера талантливого импрессиониста. Набегают редкие облака, подгоняемые невзрачной «Autumn 1960» Брайана Ино. Легко на душе после тяжелого потрясения. Ни о чем не думает Вадим Тараканов, просто бродит, усыпляя в себе боль. Чутье охотника, которое проснулось в нем помимо его воли, подсказало Генриху, что кто-то следит за ним. Что он не один в своем блуждании по выдержанному в японском стиле саду. Он пошел быстрее и стал периодически оглядываться. То там, то здесь шевельнется ветка или вспорхнет птица, кто знает, что тому явилось причиной: его ли ошибка или же просчет противника? Генрих вышел на открытое пространство посреди сада. На поляне возведена круглая беседка с высокими бортами, лестницей, столбиками, поддерживающими крышу. Он обходит вокруг беседки, больше усмиряя смятенное сердце, чем выслеживая врага. «Возможно, за мной уж начали охоту злобные призраки, посланники тьмы, населенной тенями! Или в наказание боги послали мне губительное слабоумие?» – иронизирует по поводу своей впечатлительности мечтательный поэт. Хруст переломанной ветки моментально возвращает его к более актуальным материям. Он сосредоточен и собран, готов дать отпор навязчивым преследователям. Вынимает пистолет из кобуры, смазанной кремом, чтобы скольжение было бесшумным и не могло помешать в самый ответственный момент. Еще один шаг с поднятым дулом пистолета, и Генрих оказывается лицом к лицу, будто с посланцем неба, с ангелом, принявшим земное обличие и в ответ угрожающим ему пистолетом. Он пробует сопротивляться неземному обаянию девушки, стоящей напротив него. Но тщетно, он не в силах противостоять подступившей вдруг слабости, страшному волнению, охватившему все его тело. - Разве кто-нибудь сможет меня упрекнуть в том, что я напрасно отказался поразить такую красоту? Я физически не смогу поразить этот чудный образ, появившийся передо мной. Мне проще самому расстаться с жизнью, чем предать смерти ее! - На что ты надеешься, убийца, застреливший моего брата и предавший мучительной смерти мою мать? Что за подлые речи? - Если я правильно понял смысл твоих речей, то твой брат пытался отправить на тот свет моего друга, когда мы застали его и пару десятков его сподвижником за странным занятием. Они, видимо, пытались поставить клеймо на неких девушках, чему те, разумеется, были не рады. А мать, никогда бы не сказал, что Вы приходитесь родственницей тому чудовищу, что напало на меня с топором и настойчиво пыталось меня зарубить. Я перерос тот возраст, когда хвастаются ранами, но поверьте, еще немного и я не стоял сейчас перед Вами. - О, боже, какое странное стечение обстоятельств, как все странно повернулось, как вы не вовремя стали гостем нашего поместья! Мой брат и компания его бесстыдных друзей не знали никакой меры в выборе развлечений. Деньги и власть ослепили его разум. Простите мне эти высокопарные слова, он думал ему все позволено, что никто не должен стоять на его пути, на его пути к наслаждениям. А - моя мать спилась, затем начала принимать наркотики, чтобы расцветить мир вокруг себя, опустевший после ссылки в эту глушь. Наш отец решил сбагрить нас сюда. Мы доставляли ему многовато хлопот, когда находились подле него. Моя мама потеряла надежду после того, как осталась в одиночестве. Ведь и я однажды бросила ее и пристала к компании сомнительных друзей. И, тем не менее, вашему поведению нет оправданий. Эти люди были мне близки, вы отняли последнее, что было дорого мне на этом свете! А ныне, не зазорно ли просить у меня пощады, нагло бравируя своей невозмутимостью? – Она чуть ли не плачет. - Ваше горе разрывает мне сердце, кажется, я подписал себе приговор. Меньше всего на земле я желал принести вам горе. Я в безвыходном положении. Я не могу бежать от Вас, Вы не позволите мне остаться рядом с Вами, стать вашим другом! Куда мне деться? Если Вам мерзка мысль о дружбе со мною, пристрелите меня! – Генрих доверяет свою жизнь дочери хозяина поместья, пораженный ее неземной красотой. Стоит перед нею, не совершая попыток бегства или сопротивления. - Неужели непонятно: то, что Вы предлагаете – безумие? – девушка опускает револьвер. - Вся моя жизнь от начала до конца – сплошное безумие, череда неудач, разочарований, утрат. Одиночество – лейтмотив всей моей жизни. Перенести еще одно поражение мне не под силу. Постарайтесь забыть о происшедшем. Я не вижу иного выхода. Выбор за вами: хотите – продолжайте череду убийств мною, я не слишком значительная личность, чтобы мною дорожить. Решайтесь, это ведь так просто, нажать на курок, раз и готово, смелее! Если попадете точно, я обещаю не кричать. Только не уходите просто так, не оставляйте меня живым и безутешным, я не заслужил такого наказания. Нутро мое выжжено каленым железом страсти, я весь изнемогаю от невозможности быть вами любимым. Недаром Томас Бернхард однажды написал: «Красота чревата опасностью так же, как тьма раскрепощенностью страстей». Из огня да в полымя! Спасите мою мятежную душу – не покидайте меня, молю Вас. Давайте не будем оборачиваться взглядом в прошлое, ведь там не осталось ничего приятного для нас. - Правда, Вы почему-то правы, но, конечно, на меня подействовали не ваши бесполезные доводы. Я верю в силу ваших чувств, их искренность, неподдельную ярость вашего отчаяния. Неповторимый момент, как будто время позабыло о нас в пылу забот об остальном мире, Вы не находите? – бывшие враги садятся в беседку посреди сада и внимают тишине. Тишина поедает минуты, сладко текущие по руслу размеренности суток. Близился вечер. По полю брани по направлению к саду шли Сент-Джон Риверс и Джозеф Сэммлер. Не столь давно они, наконец, покинули лабиринты бесконечного дома и теперь искали своего приятеля. С содроганием они прошли мимо тела женщины, будто выброшенной из окна. С радостью они слышат родной голос Генриха. За деревьями в нежных просторах предсумеречного сада различают они белую беседку. Но Генрих не один. Очень странно, примирение с врагами не обещает ничего доброго. Генрих и прекрасная незнакомка лелеют доверительное молчание, зародившееся между ними. Но ее глаза внезапно расширяются от страха. - Не может быть, спасите меня, так же, как я спасла Вас, не отказав Вам в своей дружбе! За мной явились демоны из прошлого. Когда-то они погубили моего возлюбленного, теперь они прибыли, чтобы закончить свою работу! Сделайте же что-нибудь, они все ближе! Генрих оборачивается и видит своих друзей. Вздох облегчения. - Ты видно что-то перепутала. Эти демоны не тронут тебя, это милейшие ребята. Они – мои друзья, обязуюсь тебя с ними познакомить. - Да нет же, как сейчас я помню их зверский набег на наш беззаботный лагерь в покинутом Городе. Сперва тот с встопорщенными волосами расправился с милым моим другом, убив его о землю. Затем на крыльях прилетел тот, что рядом с ним, и саблей поражал всех остальных. С ужасом я вспоминаю события той ночи. - Все это – правда? – тихо спрашивает друзей Генрих. - Да, она рассказала всю правду, – признается Джозеф, – на меня тогда нашло какое-то затмение, я был взбешен наглостью дикарей-пришельцев. Они вторглись на мои земли и принялись там неистовствовать и распутничать. Мой характер легко описать двумя словами: ярость и ревность. Два этих чувства неразрывно связаны внутри меня, одно призывает другое. Я не в состоянии видеть порабощенную красоту. А тогда, тогда я мнил себя властелином мира. Я решил, что вправе указывать людям, как они должны себя вести. Еще немного бы и я погиб от рук охранников загадочного вождя. Сент-Джон меня спас. В происходившем не было ни капли его вины. Взгляд Генриха помрачнел. Он закрывает лицо руками. Трет глаза. - С кем же я связался! Как вы могли запятнать свою совесть поступками необъяснимой жестокости? Вы что соревновались, кто из вас более кровожадный? Мне не понять вас, друзья. Я содрогаюсь, при мысли о том, во что оказался вовлечен. - Ну, полно, Генрих, с каких это пор, ты считаешь себя невинным ангелом? Без нас бы ты окончательно бы сгинул в своих фантасмагорических снах, видениях, порожденных дурманящими ядами! – возмутился Сент-Джон. Тебе ли не знать, что в каждом человеке дремлет зверь? Мы, во многом, игрушки в руках судьбы, в руках наших чувств. Миром правят обстоятельства. И знаешь, придется признать: ты прав в своей позиции примирения с миром. Ведь ты победитель, ты по праву заслужил любовь этой красавицы. А проигравшие должны с позором удалиться. Я понимаю, нашей дружбе наступил закономерный конец. В таком случае, ты вправе потребовать от нас четверть всех денег, что мы заработали совместно. На этом все, прощай! – подытожил Джозеф. - Да, и спасибо, ребята, за время, что мы провели вместе, я никогда не забуду эти дни! Джозеф, передай привет Алисе, – попытался скрасить неудачное расставание Генрих. Поздно. Джозеф Сэммлер и Илья Соболевский медленно уходят в сумерки, наполненные стрекотом цикад. Солнце окончательно скрывается за горизонтом. Генрих и его новая подружка сидят в беседке, не взирая на мглистую ночную сырость. Поместье объято тихим сном. Необходимо также добавить, что расставание давних друзей добавило множество сложностей риторического характера автору, поскольку читателю не суждено будет узнать, чем завершилась вымышленная история Джозефа, его приятеля, Ольги и ее подруги. Сам автор полагает, что Томми Роадс – приятель Джозефа Сэммлера выберет Ольгу, поскольку их союз будет в точности копировать комбинацию, благодаря которой сам Томми появился на свет. К кому же в таком случае отойдет подруга прекрасной Оли? – загадка. Возможно, еще не все герои приснились Генриху и Сент-Джону. Попробуйте отыскать остальных героев в других книгах более достойных, чем та, которую Вы, любезный читатель, держите в своих руках. Не исключено, издатели, домашний принтер или администратор сайта все перепутали, и читателю перепала концовка другого рассказа, о котором автор не имеет ни малейшего понятия. После возвращения с операции Джозеф, Алиса и Сент-Джон еще некоторое время встречались и обсуждали проблемы по дележу собственности, поскольку Генрих не собирался возвращаться. Да и к тому же им абсолютно нечем стало заниматься вместе. У них не осталось общих интересов. Первым стушевался СентДжон, он все реже начал посещал общие встречи. Они жили в разных номерах гостиниц. Джозеф постепенно возвращался к обычной жизни, к общению с родными, с друзьями из прежней жизни. Но и это не приносило ему никакого удовлетворения. Все было фальшью, эта обстановка, постоянные недомолвки отдавали приторной сдержанностью политиков. Как-то его пришла навестить Алиса, из всех троих она больше всего общалась с Джозефом. И именно он пригласил ее на новую работу, открыл для нее новый мир. Возможно, девушка чувствовала себя обязанной Сэммлеру своим состоянием, мимолетным счастьем. После развала союза Джозеф, как бы это ему не было неприятно осознавать, потерял всяческий интерес к Алисе. - Знаешь, – сказал Джозеф смущенно в один из ее приходов, – я не хочу, чтобы ты испытывала какиенибудь иллюзии на мой счет. Ты больше не должна приходить сюда и навещать меня. Наши отношения никогда не станут большими, чем дружба. Не знаю, не стану говорить, что убежден в этом, женское сердце для меня загадка, но, возможно, тебе станет обидно или горько мое признание. Если так, то я очень извиняюсь, я виноват. Когда-то я мечтал о большем, и дружба с тобой должна была стать переходным этапом. Но внезапно я потерял интерес к тебе. С девушками, которых я люблю, я не в состоянии дружить, тем, кого я не люблю, я не советую дружить со мной. Я несносный эгоист и имею отвратительную привычку подминать под себя интересы других людей. Я стану грубым, нетерпимым, раздражительным. Не вздумайте приносить себя в жертву, это лишь усугубит мои пороки. Выберите себе лучшую участь, долю лучшую, чем любить бездушного человека! Вы красавица, вы заслуживаете очень многого. Видишь, Алиса, я начинаю говорить с тобой на Вы. Это дурной знак. Вежливость не возникает от любви, вежливость убивает нежность. К сожалению, я отучился совершать над собой усилия ради других людей. Знаешь, сердце мое онемело, оттого что я осознал, как много потерял в одной из передряг. Покинь меня! Мне нужно уединение. Постарайся простить меня или хотя бы понять. - Да, да я понимаю, - сказала Алиса и встала с кресла. Она немного побледнела и смешалась. Джозеф упал на кровать и уставился в потолок. Алиса подошла к двери. - Возьми книжку на столике, - попросил он, не глядя на нее, - там есть закладка, прочти стихотворение на заложенной странице. Я надеюсь, ты все поймешь. Алиса на автомате вышла из гостиницы, села в троллейбус и поскорее открыла стихотворение, о котором говорил Джозеф Сэммлер: «Целый день, холодна и бледна, Ты сидела безмолвно одна; Вдруг ты встала, ко мне подошла И сказала, что все поняла: Что напрасно жалеть о былом, Что нам тесно и тяжко вдвоем, Что любви затерялась стезя, Что так жить, что дышать так нельзя…» Она все поняла. Она отказалась от предложенной Джозефом доли награбленных богатств и продолжила обучение в Университете. Деньги она оставила Джозефу и навсегда пропала из его жизни. Несмотря на то, что отныне интересы Джозефа и Генриха не пересекались, до Джозефа дошли некоторые слухи о Генрихе. Заполучив красавицу, он, кажется, совсем свихнулся. На свою долю он закупил земли в - Тульской области, в Белевском районе. Там он начал строительство зданий с колоссальным размахом. Он нанял кучу архитекторов, художников, искусствоведов, археологов и открыл проект под названием «Новый Персеполь». Насколько стало ясно по первым штрихам масштабных работ, Вадим Тараканов замыслил строительство музея под открытым небом, где бы располагались точные копии архитектурный строений древности, в том числе, и не доживших до наших дней. Генриху хотелось ощутить себя где-нибудь в Малой Азии, внутри осажденной Трои. Или подле спорящих на вечные темы афинских мудрецов. «Дух прошлого утерян, но мы можем воскресить его. Мы можем сделать шаг в прошлое с помощью возведения храмов и дворцов прошлого», – заявлял Генрих в своих интервью. Парфенон и Пантеон, храм Артемиды и статуя Зевса нашли себе пристанище на землях Персеполя. Был воссоздан Галикарнасский мавзолей и колосс Родосский, ныне, правда, стоящий не у берегов моря, а на пыльных южных землях. Началось строительство самого правдоподобного из вариантов Вавилонской башни. Солнце с радостью освещало высокие стены храма святой Софии, с фресками и иконами, с куполом, будто висящим в воздухе. Встречал путников Александрийский маяк. Обширные пространства были отданы под площади, замощенные камнем. Величественная пустота заставляла посетителей замереть от восторга. Стелы, монументы, триумфальные арки, ворота попадались на каждом шагу. На берегу озера стоял мрачный Эскориал. Над окрестными лесами царил собор Святого Петра. Посреди степи возвышался огромный кратер Колизея. Уносился ввысь собирательный образ всех готических соборов со стреловидными арками, шпилями, контрфорсами, пещерной ноздреватостью Кельнского собора. С тысячами строителей и мастеров Генрих работал, не покладая рук. Его чрезвычайно захватила идея возрождения духа прошлого, здесь потребовалось и его художественное чутье, и фантазия и смелость в смысле независимости от условностей. На обособленном холме возвели копию римского Капитолия. На участке, закрытом с трех сторон лесом воссоздали гробницу Адриана. Большинство туристов стремилось посмотреть на лабиринт Миноса с острова Крит, на мифическое строение, в котором некогда обитал прожорливый минотавр. Поражал воображение построенный дворец царя Кира из Экбатан. Собрание лабиринтов пополнила копия лабиринта из Фаюмского оазиса. Открытый всем ветрам величавый и таинственный Боробудур венчал один из холмов. С ним гармонично сочеталась фантастическая пагода Шведагон. Фрагмент вавилонской стены окружал Вавилонскую башню. Тиринфские стены с их прославленной циклопической кладкой окружали традиционные чудеса света греческого происхождения. Генрих посчитал нужным у ближайшего к Персеполю участка Дона сделать огромную гавань, по образу Карфагенской гавани, описание которой можно встретить в «Саламбо» Флобера. Отдали дань уважения архитекторы и гранадской Альгамбре, и дворцу дожей из Венеции, соединив их в единое строение, в диковинный гибрид. Был возведен собор, напоминающий собор Святого Семейства из Барселоны, единое целое с ним образовывали паруса зала Сиднейской оперы. Для проведения спортивных мероприятий построили и копию старинных римских ипподромов, с огромными трибунами, длинными дорожками, угрюмой тягой к простым зрелищам и состязаниям. Надо ли после всего описанного добавлять, что Генрих остался далеко не в убытке, поскольку туристы, журналисты, культурологи потянулись в Персеполь рекой. Теперь пришло самое время узнать, чем занялся Сент-Джон Риверс. Образ его жизни поменялся не очень сильно. Единственное, чего он не желал видеть, к чему он не собирался он иметь никакого отношения, так это к пролитию человеческой крови, к стрельбе по живым мишеням, к борьбе, за что бы то ни было. Он стал гораздо более скрытным, открыв для этого целую фабрику по изготовлению поддельных документов. Илья постоянно менял прически, приклеивал усы, приобретал акценты, изменял цвет кожи. Прикидывался иностранцем в любом аэропорту, куда он не приезжал. Он накупил квартир по всему миру на крышах небоскребов: в Нью-Йорке, в Париже, в Оттаве, в Гонконге и в Дубае. Даже там он предпочитал не появляться лично, а говорил, что зашел в гости к другу или выжидал, когда портье отойдет с поста. Соседи никогда не встречались с ним лицом к лицу. Часто Сент-Джон прилетал домой на планере и заходил через балкон. Он сильно изменился: принялся посещать многочисленные светские приемы, вечеринки, рауты. Без его присутствия не обходилось ни одно крупное мероприятие в городе. Жизнь в духе Бегбедера или а-ля Пэрис Хилтон. К нему никто никогда не подходил. Он сидел в гордом одиночестве, пытаясь опьянеть от апельсинового сока или минералки. Его напряженный взгляд ни на секунду не останавливался на посетителях, он наслаждался видом толпы, варящейся в собственном соку. Он пытался постичь суть счастья богатых и беззаботных людей: в Америке, в Азии, в Европе или в Австралии – не важно. Уходил из клубов неизменно за полночь. Жизнь в роскоши изменила его больше всех, он сломался, он не смог противостоять соблазну успешного безмятежного существования. Борьба за всеобщее благополучие, борьба вообще в чистом виде ушла из его жизни, как цель. Закат он встречал у себя дома, на диване, лицом к окну с видом на заходящее солнце, - такие вот причуды. Не столь давно ему пришло ароматное письмо в розовом конверте. Женским почерком выписанная цитата гласила: « Я ухожу к моему Отцу, и хотя я с большим трудом пришел сюда, но теперь я не жалею всех волнений, которые я испытал на пути. Я даю мою меч тому, кто последует мне в моем пилигримстве, и мое мужество и ловкость тому, кто может взять их. Мои боевые рубцы я беру с собой, чтобы они свидетельствовали о том, что я бился за Того, Кто теперь наградит меня». Перейдем к последнему из действующих лиц. Вернее к последнему из главных героев, к тому, с кого мы начали свое повествование – к Джозефу Сэммлеру. Дела его пошли в гору, что, в общем-то, неудивительно: он предпочел взять в отличие от остальных свою долю не в виде чемоданов с деньгами, а в виде заводов, ветряных вышек, налаженных контактов с жителями деревень. Джозеф ратовал за неизменное увеличение площадей охвата, за подключение к сельскому хозяйству опытных агрономов. И это приносило свои плоды. Он был изобретателен и умел ждать. Джозеф стал богат, очень богат, богат, как Крез, богат, как сказочный шейх. Не помните ли цитату из Бернхарда: « Я читал интересную статью о шахиншахском дворце в Персии, - сказал он. – Вы знаете, эти люди, должно быть, имели столько денег, сколько нам не под силу даже вообразить». Что-то похожее можно было сказать и о Джозефе. После сезона упорных работ, когда он, казалось, позабыл об отдыхе насовсем, его неожиданно обуяла дикая страсть к непомерным тратам. Ему было неважно, что покупать, главное, чтобы это стоило очень дорого. Причем Джозеф не старался нигде афишировать свои приобретения и покупки. На освобожденных землях в Нижегородской области, неподалеку от городка Ардатова, он начал строительство своего имения. На живописных землях с пологими холмами, березовыми лесами, вперемешку с дубравами. Небольшое шоссе, оставшееся с советских времен вело через огромный парк к его дому. К строительству особняка Джозеф подошел очень основательно. Дом располагался чуть ли не в самой высокой точке окрестностей. Прекрасные панорамы простирались во все стороны от здания. Павильоны построенного дворца походили отчасти на павильоны в Кусково, усадьбе, принадлежавшей Шереметьевым. Общая планировка напоминала расположение крыльев дома в усадьбе Марьино, так же широко и масштабно, с площадью посередине. Обратная сторона дворца, его центральная часть, фронтон были выдержаны в стиле дворца в усадьбе Рождествено, сыгравшей столь важную роль в истории двадцатого века. Декоративное оформление стен виллы имело свои стоки в белокаменной прелести усадьбы Грачевка. Все эти оконца, большие и маленькие балконы с перильцами, лжеокна, параллельные ряду обычных окон. Крутые изгибы крыш, неровные края, сдерживаемые серебристой окантовкой, бордюры, веера лестниц, расходящиеся в разные стороны, лепные вазы, скульптуры девушек в ниспадающих одеждах и отдыхающих львов. Поражали воображение великолепные фонтаны, позаимствованные из Кузьминок и Петергофа. Спереди центральная часть дворца походила на дворец в Нескучном, с его многоэтажным триединством, симметрией, колоннадами по краям, поддерживающими балконы. С таким же успехом приписать авторство можно было и архитекторам Останкино, описанные пропорции были соблюдены и там, однако дворец в Нескучном был лишен верхнего ряда колонн. Их-то и не позабыл позаимствовать Джозеф для своего дворца. Мечтой же и идеалом Джозефу служил другой шедевр зодчества. Где он мог видеть такие высокие окна на втором этаже, такой масштаб строительства, бесконечное мелькание гербов и государственных символов, пышность, усмиренную классицизмом, вензеля вдоль крутобоких чешуйчатых крыш? Конечно, он мечтал о собственном Версале. Строительство велось в строжайшем секрете от прессы, средств массовой информации. Внутренности дворца поражали пышностью убранства: тяжелые шторы, дубовая мебель, хрустальные люстры, персидские ковры. Пустующие залы свидетельствовали отнюдь не о бедности фантазии хозяина, а, скорее, о его предусмотрительности. Залы были предназначены для торжественных приемов и балов. Более сотни комнат могли приютить гостей, заехавших к Джозефу отдохнуть. Хозяин же, по-видимому, не собирался оттуда уезжать, и все время проводил в стенах построенного дома. Более двухсот незаметных слуг обеспечивало бесперебойную работу всех служб внутри замка. Среди слуг совершенно точно не было ни одной женщины, разве что старухи прислуживали в роли экономок. Кухней Джозефу служил собственный шикарный ресторан, приютившийся на подземных этажах и отчасти на первом. Вечера Джозеф проводил в кинотеатре. Кинотеатр занимал отсек в левом крыле замка, если смотреть со стороны дороги. Мистер Сэммлер не пропускал ни одной новинки, ни одного блокбастера, ни одной молодежной комедии, шумного римейка или запоздалой работы от грандов вроде Тарантино, Спилберга, Финчера, Джексона, Кустурицы, Терри Джиллиама или Гая Ритчи, на худой конец. В замке он велел оборудовать студию звукозаписи мирового уровня. Сам он часто уединялся там и прослушивал музыкальные записи там. Собственно отлично оборудован акустически был и один из залов во дворце. По стенам было развешано около двадцати восьми колонок разного калибра для лучшего звучания. Так, кажется, забавлялся в свое время Фредди Меркьюри. В студии у Джозефа записывалось много иностранных и отечественных музыкантов, всех он устраивал бесплатно и обеспечивал всем необходимым. Однако просил их выступать для него либо джемовать с другими группами. Чтобы не терять форму, хозяин поместья велел поставить на чердаке четыре стола для настольного тенниса. Напарниками ему служили многочисленные гости. Соседями пинпонговым столам служили столы для игры в бильярд. Любителям азартных игр предлагалась рулетка. Джозеф не особенно хорошо умел плавать, однако не поленился наказать архитекторам, позаботиться о размещении в поместье двадцати пятиметрового бассейна. Две дорожки и зеленая гладь для прыжков воду: так Сэммлер пытался преодолеть боязнь высоты. Архитекторы предусмотрели скромный зал для игры в волейбол и бадминтон. Фирменная сетка, высокие потолки, ровное освещение. Бело-сине-желтые мячи в корзинах. Здесь надобно пояснить. Безусловно, Джозеф и сам был заядлым игроком в волейбол, но этим дело не ограничивалось. Пользуясь отличным материальным положением, он стал президентом одного из клубов суперлиги. Зарплаты он сильно не завышал, чтобы не переманивать игроков из соседних клубов, но помогал им в плане приобретения жилья или машин. Опытных игроков он также приглашал к себе на виллу, и там часто с ними играл. Игроки не смотрели на него свысока, как на обузу, а воспринимали все адекватно. В поместье был и тренажерный зал, и батут с мягкой ямой для падений. На улице также располагался небольшой бассейн с ночной подсветкой и бежевой плиткой. В случае дождя его закрывали навесом. Для приезжающих детей Джозеф приготовил множество аттракционов, каруселей, качелей, на которых не брезговал и сам повеселиться. Однако не стоит думать, будто мистер только и делал, что проводил время с гостями. В основном он пребывал в одиночестве, а гости, если и приезжали, то сторонились его и его невероятного богатства. Мысль гения авантюр подсказала ему решение и на этот случай. С детства он обожал животных. А более всего кошек. Джозеф с радостью ухватился за эту идею и принялся воплощать ее в жизнь. Он сразу понял: не стоит ограничиваться разными породами домашних кошек, можно шагнуть дальше и пригласить в гостеприимный дом различных видов конгресс. Благо братья наши меньшие лишены каких бы то ни было комплексов в отношении сословных различий. По дому свободно расхаживали дальневосточные коты с длинными ногами, коротким хвостом и, словно смущенным, выражением лица. Барханные кошки с огромными ушами и сизой шерстью, покрывающей даже лапы. Здоровенные кошкирыболовы плескались в фонтане, поражая окружающих своей грязной пятнисто-полосатой шерстью. Пугали гостей однотонные ягуарунди с необычайно вытянутым телом и коротенькими ногами, шныряющие по полу, будто крысы. Гонялись за кузнечиками мелкие полуторакилограммовые черноногие кошки из Африки. Американские рыжие рыси были выбраны из-за своего маленького роста. Густошерстные пепельно-серые Андские кошки являлись определенным аналогом снежных барсов в мире малых кошек. Так же, как и дымчатый леопард относительно обычного леопарда. Дымчатые леопарды были подлинным украшением парка с их глянцевыми физиономиями и мраморным рисунком вдоль ладного тела. Наблюдая за сими реликтами, Сэммлер представлял, какой земля была тысячи лет назад, во времена господства саблезубых сородичей пушистых доместикатов. Грациозные оцелоты в той же мере походили на крупных и опасных ягуаров, которых приглашать в поместье сочли занятием рискованным. Неповоротливые забавные манулы с круглыми ушами скрывались в высокой траве. Заметим, именно Джозеф являлся спонсором известного проекта по выведению нестерильных гибридов тигра и льва. По известным законам генетики эти диковинные кошки вырастали порой больше своих родителей и достигали 450 килограмм. Кроме того, Джозеф заказал генетикам-селекционерам восстановить геном исчезнувшего вида пятнистых львов. Безгривых пятнистых красавцев, живущих парами. По одной из гипотез, они были естественной помесью леопардов и львов. Однако, это маловероятно, ведь львы держатся саванн, леопарды же предпочитают леса. В природе же они непримиримые враги. В свое поместье Джозеф заказал выводок королевских гепардов. По строению тела королевский гепард ничем не отличается от обычного гепарда, но в его окраске присутствуют особенно крупные отметины, а все пятна связаны в узор. Мутация одной из особей привела к появлению нового подвида в условиях неволи. В парк завезли пустынных рысей из Африки с кисточками на ушах – проворных каракалов. В рифму к ним завезены были и пятнистые сервалы. Миловидные смышленые зверьки с огромными ушами. Ночью сползали с ветвей деревьев онциллы, пятнистые животные размером с обычную домашнюю кошку. Благородные гости из Южной Америки. С особой тщанием были завезены из дождевых лесов Мексики марги – американские кошки, занявшие промежуточное положение между мелкими онциллами и крупными оцелотами. Марги не слезали с деревьев и умели в отличие от всех остальных кошек спускаться с деревьев вверх ногами, поворачивая лодыжки на сто восемьдесят градусов. Золотистая шерсть, усыпанная черными пятнами, маленькая голова и непропорционально большие глаза. Рыбные азиатские кошки, похожие на циветт, караулили проплывающих мимо рыб. Рыбные кошки были очень опасны для гостей, так как отличались особенной силой и крепким сложением. У них практически не было переносиц, уши были маленькими, нижняя челюсть круглой и очень мощной. Когти никогда не убирались, сдерживаемые выросшими между пальцами перепонками. Охотно принимали ласки гостей бурые кошки из Шри-Ланки. Взрослые особи достигали всего-то полутора килограмм веса. Черные подошвы, рыжая шерсть, толстый хвост. Нагоняли страху на слуг приручаемые камышовые коты, признававшие лишь хозяина. Согласно опытам Брема они способны одолеть даже леопардов. Проверять такое заключение, рискуя жизнями своих питомцев, Джозеф не решился. Из представителей других семейств царства животных Джозеф приютил только когтистых барсуков и росомах. В этих животных чувствовалась независимость, угрюмая дерзость. Джозеф обожал наблюдать за этими гигантскими, опасными хорьками, прослеживать в них черты куниц. Присмиренных животных Джозеф обожал гладить по их пушистой, лохматой шкуре, трепать за метлоподобный хвост. Если переходит к проблемам географии, стоит объясниться: Джозеф по всему периметру своих необъятных владений огородил парк высоким забором, сложенным как бы из собранных в пучок пик. По парку были проложены дорожки, чтобы можно было кататься на велосипеде. Мосты соединяли противоположные берега ручейка. Ручеек на протяжении всей длины, заключенной в пространства поместья изрядно расчистили и расширили и слегка запрудили. Для катания на велосипеде был построен стадион с треком, там можно было также совершенствовать технику прыжков в длину. Зимой в парке представлялась отличная возможность покататься на лыжах. Джозеф заказал специальную машину для вырезания в снеге готовой лыжни – это очень облегчило проведение зимнего отдыха. Некоторые холмы были немного увеличены, чтобы дать возможность тренироваться хозяину поместья в навыках горнолыжного спорта. Впрочем, Джозеф упрямо не признавал горных лыж и всегда катался на обычных беговых. Добираться до глуши нижегородских лесов было бы делом чрезвычайно хлопотным, если бы Джозеф вовремя не позаботился о покупке нового вертолета X2 производства Sikorsky Airship. Новая модель благодаря наличию турбин горизонтальной тяги могла разгоняться до четырехсот шестидесяти километров в час. Та же хваленая «Черная акула» не могла разогнаться быстрее 310 км/ч. Долететь на модернизированном геликоптере до столицы из своего имения Джозеф теперь мог примерно за полтора часа. Экстравагантный миллиардер не обошел вниманием и современных атрибутов богатства и власти. Визитных карточек обустроенной жизни. Его автопарк щеголял самыми популярными и недоступными марками. Принц Монако позавидовал бы такой подборке великосветских экземпляров расточительства. Двухэтажный гараж, наполовину скрытый под землей, напоминал музей или автосалон, приманку для автоугонщиков. Но на некоторые автомобили у них просто бы не поднялась рука. Простенький Ягуар XK с открытым верхом блестел красной краской. Джозеф иногда любил прокатиться на удлиненном «хищнике» по МКАДУ. Машину он держал на платной стоянке неподалеку от апартаментов. Иногда Джозеф предпочитал Porsche 911 купе: серебристый изящный автомобиль. С немного горбатой крышей, выступающими «надбровными дугами» у фар. Эта модель поражала его тонкостью черт, стремительностью, воплощенной в симметричных воздухозаборниках, низкой посадке и плоском кузове. В иных случаях мистер Сэммлер выбирал Porsche Carrera GT с открытым верхом. Красный двухместный болид с волевыми впадинами на дверях и аэродинамическими изгибами позади мест водителя и пассажира. Ferrari 575М Maranello была очень похожа на ягуар, только с крышей. Кроме того, передняя пара колес была смещена максимально вперед, а, будто обрубленная, задняя часть слегка приподнята. По бокам красовались узкие щели – жабры воздухазаборников. Aston-Martin Vanquish – белый красавец с четырьмя фарами, парой дверей, внушающий благоговение и чувство страха. На таких не ездят простые смертные, обладатели таких машин не прощают случайностей другим и не допускают ошибок сами. Зверь с мощным торсом, словно породистый конь, мустанг со стальными мышцами. Немного сужен посередине; ребра жесткости отходят в стороны от суженных фар, словно скулы. Для деловых встреч, чтобы подчеркнуть статус владельца, больше всего подходил Роллс-Ройс Сильвер Сераф. Мрачный, черный автомобиль, традиционной формы со старомодной решеткой радиатора, маленькими зеркалами по сторонам. Само воплощение классического мафиозного стиля. Трехтонная махина поражала всех и своей скоростью. Инопланетный гость Ламборджини-Мурчелаго грел душу теплыми оттенками желтого цвета и поражал на месте своей новизною, своими выпуклыми фарами и общей для всех Ламборджини согбенной угловатой формой. Элитный спортивный автомобиль, непонятно, кто станет гонять на таком, но все равно это было дорого, то есть, однозначно, престижно. "Бентли Азур" представлял собой достаточно редкий вид автомобиля высшего класса с открытым кузовом. Этот двухдверный 4-местный кабриолет представлял собой оригинальную смесь престижности и молодежного стиля, ориентированного на скорость, ветер. На такой пятиметровой тачке неплохо бы проехаться под аплодисменты многотысячной толпы по центральной площади города. Высший шик! Излишне объяснять, что при всей своей любви именно к шикарным машинам Джозеф предпочитал пользоваться услугами наемного водителя. На очереди автомобили из высшей лиги: гениальный Maybach – произведение искусства, истинный шедевр, все к месту, ничего особенного и в то же время ничего лишнего. Широкий, просторный автомобиль, плавные очертания, гладкие формы. Mercedes-Benz SLR McLaren, разумеется, имеющий мало общего с обычными маломощными Мерседесами. Скоростной серебристый монстр с радиаторной решеткой на боку, фирменная звездочка марки не на ножке, а вживлена в корпус автомобиля. Удлиненная носовая часть, киль, проходящий посередине и стекающий к решеткам спереди. Каплевидная форма, форма метеора, кометы, несущейся сквозь слои атмосферы. По паре овальных фар с каждой стороны и огни под ними. Швейцарский алмаз Koenigsegg CCR поражал, прежде всего, своим дизайном. Крыша была выполнена целиком из стекла, кроме петли с задней части автомобиля, поддерживающей всю эту замысловатую конструкцию на весу. Одной из самых экстравагантных машин в коллекции картофельного барона оставалась Saleen S7 Twin Turbo. Синего цвета, волнистая, словно море в непогоду. По три фонаря с каждой стороны «за узким разрезом глаз» стекол фар. Многосекционые воздухозаборники у задних дверей, чуть перед задними колесами. Зияющие дыры ниже фар. Двери, открывающиеся вверх. Длинная задняя часть автомобиля испещрена мелкими щелями для пущего охлаждения внутренностей монстра. Благодаря особенностям конструкции этот продукт мог разгоняться до 100 км/ч за 2,8 секунд. Впечатляет, не правда ли? Оставалась до тех пор, пока по ошибке не приобрели Leblanc Mirabeau и Leblanc Caroline. По облику они были вылитыми гоночными машинами, одноместными, с подкрылками. Со сквозными воздухозаборниками и корпусом, полностью закрывающим колеса. С гирляндой фар, расположенной на каждом из крыльев болида. Версия Caroline выглядела менее футуристически, у нее была крыша. Ее длинные желтые крылья с черными колесами внутри напоминали короткие лапы механического зверя. Машины были похожи на ящеров, ползущих по земле. Часто, чтобы отдохнуть, когда останавливался в Городе, Джозеф садился в один из своих гоночных каров и ехал в небольшой ресторанчик в центре. От ревущего мотора дрожат стекла ресторана, будто рядом пролетает реактивный самолет. Легко откидывает вверх крышу автомобиля, ступая на желтую поверхность машины, спрыгивает на тротуар. Швейцары не успевают поприветствовать его, как он уже внутри. Возвращаясь, застает автомобиль, окруженным толпой зевак и доморощенных любителей формулы один. Молча, они уступают ему дорогу. И Джозеф, разрывая наступившую тишину грохотом мотора в клочья, скрывается из виду. Но и формуле один было далеко до американского гранда SSC Ultimate Aero. По оценкам специалистов из SSC, скорость болида на гоночном треке достигает 430 км/ч! Что и говорить, ведь 1046 лошадиных сил – не шутка! С виду он, однако, не был так примечателен: приземистый, обтекаемый, серебристо-серый, с зияющими «жабрами» у задних колес. Обычное лобовое стекло и зеркала, оттопыренные в стороны, словно заячьи уши. Представляете, промчаться на таком монстре по Кольцевой мимо телекамер на пределе скорости. Сдается мне, не сработает у них автоматический определитель номера машины нарушителя. Да и кто поверит, что только что мимо пронесся на скорости большей хотя бы даже 300 км/ч. Неплохо получится огорошить постовых! Pagani Zonda Roadster F C12S 7.3, версии Clubsport, был самым маленьким и невзрачным среди этой коллекции эксклюзивных гоночных машин. Выступающая кабинка, колеса, обтянутые железной плотью, зеркала забравшиеся чересчур высоко. Мистер Риверс ездил на ней очень редко. Самым же любимым железным конем мистера «13% мирового спирта» был Bugatti Veyron 16.4. Шестнадцатицилиндровый двигатель, расположенный в хвостовой части болида обеспечивал мощность в 1001 лошадиную силу. Разгонялся монстр из Франции до 407 км/ч. Правда, и выложить за него пришлось миллион евро. Но оно того стоило, потому что в машине чувствовался стиль, характер. Приплюснутый зад, просторная двухместная кабина, широченная морда с воздухозаборником в форме арки на фоне языка на капоте автомобиля, выкрашенного в черной цвет. Сам же автомобиль был вишнево-красным или, скорее, аппетитно-бордовым. В сем звере чувствовался напор, злоба, гнетущая ярость. Касательно личных авто мистера Сэммлера, пожалуй, все. Единственное, следует добавить, добирался до своего поместья Джозеф в высоком лимузине на базе «Хаммера» H2. Медленно трясся по шоссе между селами, валяясь на диване в салоне за тонированными стеклами. Постепенно к Джозефу пришла идея, что неплохо бы иметь пути к отступлению, на случай внезапного визита нежелательных гостей, когда к помощи вертолета прибегнуть было уже невозможно. Он велел начать строительство подземного тоннеля до Выксы – крупного города, в сторону, противоположную от Ардатова. Тоннель, по расчетам, должен был получиться длиной в сорок километров. В обстановке строгой секретности наняли немецких землекопов. В 4 часа утра те продефилировали по местному шоссе никем незамеченные со всеми своими бурами и установками. Работа заняла 6 месяцев. Под конец всех работ Джозеф понял: установить дорогу на магнитной подушке не получится, так как получится очень дорого. Это предприятие могло разорить Джозефа. Поэтому в глубине земельных толщ проложили обычную узкоколейку. Но начальный участок длиной в километр состоял из монолитных рельс, обитых, ко всему прочему войлоком, все для того, чтобы при отходе состава, ни звука не вылетело из-под земли. На время строительства собственного метро мистер Сэммлер отправился в морское путешествие на собственных яхтах. Он успел обзавестись несколькими кораблями. На огромной яхте «Giant» Джозеф выехал из Петербурга. В общем-то, от понятия яхта в нем осталось очень немного. На плавучем дворце не было никаких парусов. Несколько палуб, все в мраморе и коже, бассейн, вертолетная площадка, стоянка для маленькой подводной лодки. На многоэтажной «Pangaea» Джозеф проехался от Тенерифов до Монако, где участвовал в мероприятиях, посвященных открытию нового сезона автомобильных гонок. На симпатичном корабле «Seawolf C» совершили вояж в сторону Кипра. Судно было оборудовано системой защиты от торпед. В команде были люди, отлично управлявшиеся с орудиями, чьими дулами ощетинился корабль. Так проживал свою обеспеченную жизнь наш комбинатор, вырвавшийся из угрюмых трущоб столицы времен войны. Днем он укладывался спать. Утром вставал также достаточно поздно. Сторонился людей. Редко звонил родным. У него по-прежнему получалось обходиться без друзей. Он походил на Робинзона Крузо, запертого на острове посреди моря собственного нетерпения, страха и высокомерия. Пусть читатель решит, насколько будет в этом случае уместна одна цитата из «Дома на краю света» Майкла Каннингема: «Я знал, чего ему хочется. Ему хотелось спрятаться в любовь. Без этого жизнь была невыносима. Прославиться, несмотря на все его попытки, никак не удавалось, а надежда на будущее становилась все более и более эфемерной <..>». Ночь подступала все ближе и ближе. Тихий шелест листьев на ветру. Полноводный ток времени, метафорическая монотонность бытия. Со стороны деревни доносились остатки дневного говора. Джозеф, закутавшись в плед, лежал в раскладушке на балконе своего дворца. Влияние кулинарных изысканий вечернего приема пищи сводилось к дремотному прибою меланхоличных размышлений. Благостный покой размеренной жизни затворника, конец поискам безопасной предсказуемости, скука отныне – не причина унывать! Ночной мглы низкое покрывало застилало студеный купол неба, колодец звезд, бескорыстную бессмысленность мира, его тягостное безразличие к человеку. Облака, будто веки, сокроют мириады любопытных и бесстрастных глаз. С благодарностью Джозеф Сэммлер взирал на набегавшие облака, его клонило ко сну. Время беспокойств позади. Жизнь по назначенному распорядку лечила истомившуюся душу скитальца. Через пару минут он примет ванну, приготовленную заботливыми слугами, и забудется глубоким сном.