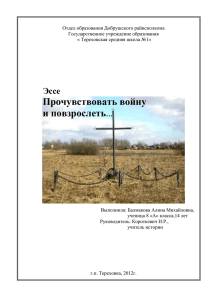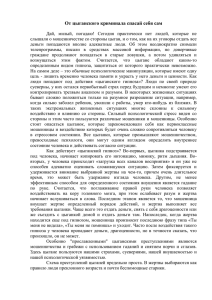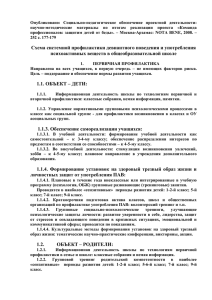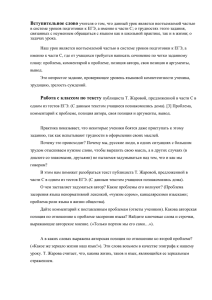ГЛАВА ПЕРВАЯ СТАРУХА ИГДРАСИЛЬ Dear reader,
advertisement
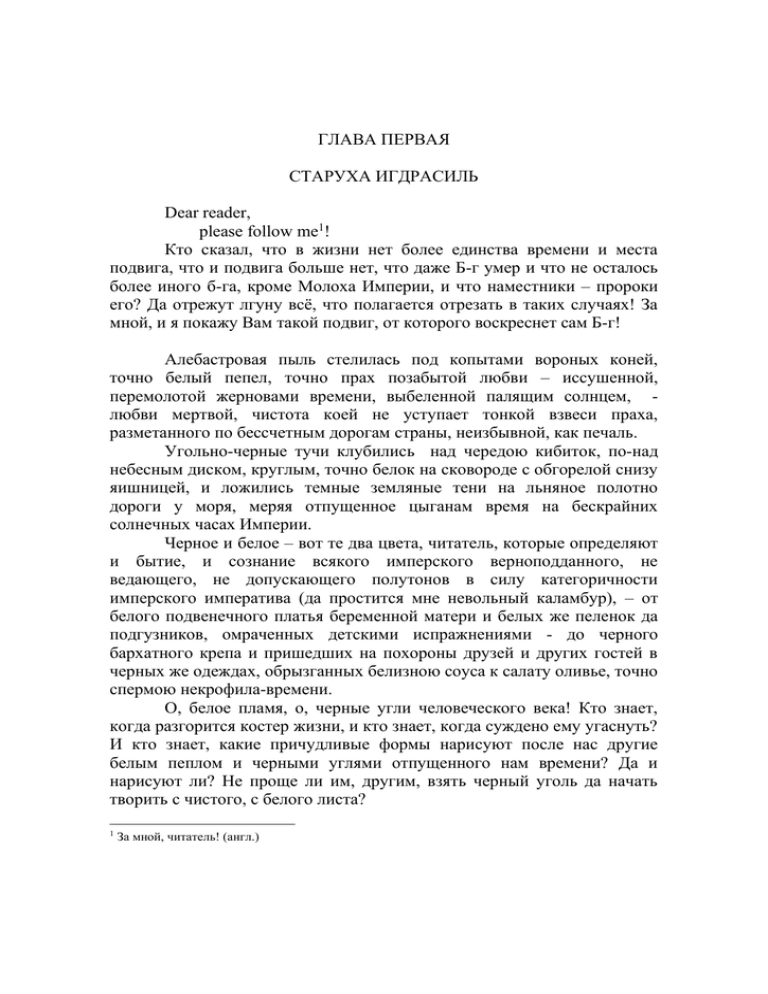
ГЛАВА ПЕРВАЯ СТАРУХА ИГДРАСИЛЬ Dear reader, please follow me1! Кто сказал, что в жизни нет более единства времени и места подвига, что и подвига больше нет, что даже Б-г умер и что не осталось более иного б-га, кроме Молоха Империи, и что наместники – пророки его? Да отрежут лгуну всё, что полагается отрезать в таких случаях! За мной, и я покажу Вам такой подвиг, от которого воскреснет сам Б-г! Алебастровая пыль стелилась под копытами вороных коней, точно белый пепел, точно прах позабытой любви – иссушенной, перемолотой жерновами времени, выбеленной палящим солнцем, любви мертвой, чистота коей не уступает тонкой взвеси праха, разметанного по бессчетным дорогам страны, неизбывной, как печаль. Угольно-черные тучи клубились над чередою кибиток, по-над небесным диском, круглым, точно белок на сковороде с обгорелой снизу яишницей, и ложились темные земляные тени на льняное полотно дороги у моря, меряя отпущенное цыганам время на бескрайних солнечных часах Империи. Черное и белое – вот те два цвета, читатель, которые определяют и бытие, и сознание всякого имперского верноподданного, не ведающего, не допускающего полутонов в силу категоричности имперского императива (да простится мне невольный каламбур), – от белого подвенечного платья беременной матери и белых же пеленок да подгузников, омраченных детскими испражнениями - до черного бархатного крепа и пришедших на похороны друзей и других гостей в черных же одеждах, обрызганных белизною соуса к салату оливье, точно спермою некрофила-времени. О, белое пламя, о, черные угли человеческого века! Кто знает, когда разгорится костер жизни, и кто знает, когда суждено ему угаснуть? И кто знает, какие причудливые формы нарисуют после нас другие белым пеплом и черными углями отпущенного нам времени? Да и нарисуют ли? Не проще ли им, другим, взять черный уголь да начать творить с чистого, с белого листа? 1 За мной, читатель! (англ.) Оба цвета времени и пламени - и черное, и белое, представлены на коре березы, символа провинции Московии. Оттого-то и велись поначалу летописи в Московии не на коже убиенных детей священной коровы, но – на черно-белой бересте. Оттого-то и нанесены на имперский штандарт оба цвета – по одному с каждой стороны… Оттого-то имеются на тюремных робах рабов империи как черные, так и белые полосы, ибо береза – совесть эпохи, а узники – березы времени, на коже которых пишутся новые летописи… Но вернемся к нашим цыганам. В первой кибитке, запряженной тройкой вороных лошадей, украшенных серебряными бубенцами, ехал старый баро Мелькиадэс в рубахе алого шелку, в зеленых бархатных штанах, сапогах жолтой кожи, с серебряной серьгой в ухе да с серебряным же крестом на груди. Как водится у цыган, с висков его свешивались две пряди, свалянные в тугие косицы, которые цыгане Индии называют dreadlocks, «замк[и] страха», а цыгане Магриба – «пейсах», и которые всякий представитель кочевого народа обязан отращивать на чужбине, доколе не воротится в обещанную Отцом отчизну. Верят также, что «замки страха», или «дреды», как называет их немногочисленное цыганское племя Империи, уподобляют их обладателей львам, прежде всего – Льву Зиона. Что дреды придают человеку особую силу и скрепляют договор между обладателем дредов и Всевышним. Длинными были дреды Мелькиадэса. Много лет странствовал по чужбине, много повидал на своем веку баро, но другой такой страны не видел, где так вольно чувствовали себя в душной пыли придорожные тати да жандармы. От провинции Московии до самых до окраин, с южных гор Кавказа и Черной Руси до Руси Белой, до северного Белого Моря проходили жандармы, как хозяева, точно им принадлежала необъятная Империя, требуя у путников мзду да склоняя, как это водилось за петухами2, юношей к содомскому греху, да не просто так склонить норовили, а с подчинением государственным устоям. Плохие времена, дурные нравы. Цыганам же и вовсе оставалось лишь таиться среди татей да жандармов, ибо Наполеон Третий, хоть и объявил всеобщие свободы, равенство и братство, на деле принял тайный указ, по которому из свободных в Сибирии более никто не жил, одни только негры да рабы жили, и выпить в Сибирии мучимым жаждой - Прозвище, которое московитские рабы в Империи дали пешим жандармам из-за голубого цвета их мундиров (прим. автора). 2 странствий цыганам было совершенно нечего. Ни несущих в себе дунайской влаги влахских вин, ни пряной хванчкары, ни киндзмараули, горько-сладкого, будто последний поцелуй первой возлюбленной, ни терпкого оджалеши, ни даже рафинированного, стерильного мерсо, тем более – легкомысленного божоле или прозрачного, как намек мздоимца, шабли. В самом деле, ведь если из свободных в Сибирии остались одни лишь цыгане, а из цыган – одни лишь свободные, и ежели всякий свободный есть цыган, а всякий цыган – свободный, то не прикажете же свободным цыганам пить с самими собой? Вот в эти-то суровые, сухие сибирские края и определил Император цыган тайным указом, обрекая вольных на бессрочное, оседлое поселение - по соседству с неграми да рабами. Оттого-то и было у старого Мелькиадэса мрачно на иссохшей душе, точно с обратной стороны обгорелой яишницы, точно внутри черного чубука пропитанной дегтем турецкой трубки, точно на девственной белизне подорожного листа поставили жандармы жирный оттиск контрольного штампа. И тогда вспомнил Мелькиадэс строки, которые родились в его сердце, когда проезжал табор близ села Чугуева, что возле Чернигова: Черно-белая жажда… но где же вино? Жду конца синема, домино, эскимо Всё голимо: здесь нет и не будет Закона, Только рабство да Норма… да и норма – говно Задумался старый баро о тех местах, мимо которых довелось ему проезжать. Иных уж нет, а те – далече… И вспомнилась ему старинная цыганская сказка, которую слышал он в детстве от деда. Давно это было. Странствовал как-то Пророк по земле, всё смотрел, чем люди живы да много ли им этой самой земли нужно. И разное видел. Видел земли, где только белые льды да белое небо, где холод и ночь. Видел жаркие земли, где ночь чернотой не уступает песку, и холодные, как сердце светской красавицы, земли, где чернота льдов и вод не уступает черноте ночи. Видел земли, где только белое солнце да белый песок, где только черные леса, и где только белая соль и солнце. Всякое видел. Но всегда в одной земле только одно видел: или соль, или снег. Или моря, или горы. Или солнце, или ночь. Везде людям плохо было: там, где соль – снега не хватает. Там, где снег небесный – нет соли земной. Приморские жители в горы хотят, горцы – к морю рвутся. Те, у кого вечное солнце, о ночи тоскуют. Те, у кого ночи много – о солнце печалятся. Но однажды пришел Пророк в Московию. Ходит, смотрит – удивляется. Прямо пойдешь – в снег попадешь. Направо пойдешь – в горы уйдешь. Налево пойдешь – к морю придешь. Назад пойдешь – в болото вступишь. Долго ходил Пророк, всё высматривал да выспрашивал, всё удивлялся. Понять хотел. Сначала – умом, потом – сердцем, а когда ни ум, ни сердце не помогли – честью и совестью. Так и ум, и сердце потерял, про честь и про совесть человеческую забыл, стал почти как Империя. Понял Пророк, что настало ему время обратно возвращаться. Приходит он к Джа и спрашивает: - Скажи мне, Джа, почему ты создал такой странный мир? Я всюду ходил - всё смотрел, чем люди живы да много ли им земли нужно. Разное видел. Видел земли, где только белые льды да белое небо, где холод и ночь. Видел жаркие земли, где ночь чернотой не уступает песку, и холодные, как сердце светской красавицы, земли, где чернота льдов и вод не уступает черноте ночи. Видел земли, где только белое солнце да белый песок, где только черные леса, и где только белая соль и солнце. Всякое видел – и плохое, и хорошее. Но всегда в одной земле только одно видел: или соль, или снег. Или моря, или горы. Или солнце, или ночь. А когда пришел в Московию, тоже много ходил. Всё удивлялся. Прямо пойдешь – в снег попадешь. Направо пойдешь – в горы уйдешь. Налево пойдешь – к морю придешь. Назад пойдешь – в болото вступишь. Так скажи мне, Джа, почему все остальные земли так несовершенны, в каждой чего-нибудь да не хватает, и только в Московии есть всё? Неужели у Тебя совсем закончились беды, когда ты создавал землю для московитов? За что Ты им такую прекрасную землю подарил? Неужели Ты любишь московитов больше, чем остальных детей? Засмеялся Джа. Поправил длинную седую бороду, улыбнулся Пророку и сказал: - Видишь ли, когда я создавал Московию, то решил, что главной бедой московитов станут они сами … Улыбнулся Мелькиадэс святым мыслям. Поправил длинную седую бороду, оглянулся на вереницу кибиток, и затянул тоскливую и веселую, долгую и быстротечную, как цыганская дорога, песню: Рад ха-лайла, рав ширэйну А-бокэа’ ’аль ха-ша-а-айим Шуви-шуви, хоратэйну Мэкхудэшэт шивата-а-айим3 И тотчас подхватил весь табор, и реял над дорожной пылью, точно белый ворон, возносясь к белому солнцу и облакам, привольный напев, подхваченный порывом ветра: Шуви-шуви, ве-насов Ки даркэйну эйн лахсоф Ки ’од нимшэхэт а-шалшэ-э-элэт Ки либбэйну лэвэхад Мей-’олам вэ-’адэй ’ Ад Ки ’од нимшэхэт а-шалшэ-э-элэт!4 Ла, ла, ла-ла-ла Ла, ла, ла-ла-ла, Ла-ла-ла, ла-ла-ла, Ла-ла-ла, ла-ла-ла! Ки либбэйну лэвэхад Мей-’олам вэ-’адэй ’ Ад, Ки ’од нимшэхэт а-шалшэ-э-элэт!!! Долго, смеясь, но грустя, смело, но с опаской, ехал табор до тех пор, пока не раскурил старый баро свою трубку с волшебной травой, и не раскурили свои волшебные трубки прочие цыгане, и не раскинулись, 3 Пала тьма – так взвейся в воздух Освещая путь собою Наша песня, и по звездам Бесконечной чередою… (вольный перевод) 4 …Вдаль, по кругу, без конца В хоровод сомкнув сердца Мы продолжаем путь с начала От истоков - на века Ведь дорога далека Ведь смерти нет, а жизни – мало (вольный перевод) как по волшебству, на поляне, вблизи березовой рощи, кибитки табора, и не обратилась земля на поляне в золото, и не была та земля лучше, чем все миры десяти сторон света, и не было там невообразимого сияния, и не было там деревьев из чистого золота, и лазуритовых деревьев, и хрустальных деревьев, и перламутровых деревьев, и деревьев из прекрасного нефрита, и не были все эти деревья сделаны целиком из одной драгоценности, а не из многих, и не было там деревьев, сделанных из двух, трех и более драгоценностей, вплоть до семи… И не было там дерева высотой в четыре миллиона верст, и не занимали его корни в окружности пяти тысяч тысяч тысяч тысяч тысяч верст, и не переливались, и не сияли, и не сверкали листья и плоды того дерева, и не было на том дереве ни красных, ни зеленых, ни синих драгоценностей – money5. Ничего такого там не было. А потому трудно было найти место, сулящее путнику столь же приятный отдых. У подножия столетних берез мчался ручей, вспениваясь белым, и терялся в небольшом водоеме с черными омутами, устланными белоснежным песком. Пять-шесть прекрасных дубов, надежно защищенных от ветра, росли по берегам ручья, осеняя водную гладь густой листвой, которая казалась чугунно-черною в наступающем сумраке; точно точеные узоры оград Куль-де-Сака, именуемого в официальной периодике «Сен-Пьером»; а вокруг водоема на ложе, подобного которому не найдется ни в одном шинке на десять миль кругом, манила мягкая трава. Издалека доносился шум моря. Близилась Иванова Ночь, когда и московиты, и цыгане разводят костры, и когда расцветает волшебная бханг-трава. Здесь и решили цыгане поставить кибитки. И вот поздним вечером, кончив дневной путь, цыганский табор, которым правил баро, ушел в соседнее село, продавать гаджо6 ганджа7, а старуха Игдрасиль и немая цыганская девушка остались под сенью берез, и, устроившись у костра, молчали, глядя, как тают на подушке ночного бархата звезды и огоньки самокруток да трубок цыган, что пошли в селение к гаджо. Немая ловила подолом рыбу, старуха плела свою пряжу. Цыгане уходили, пели и смеялись, ибо выкуренная волшебная трава мало-помалу стала оказывать свое действие. Мужчины казались бронзовыми, с пышными чугунными усами и густыми железными кудрями до плеч, в коротких коралловых куртках и широких шиферных мани (санскр.) – «драгоценность» Так цыгане называют несвободных. 7 А так цыгане называют волшебную траву. 5 6 шароварах; женщины и девушки - тоже бронзовыми, яркими, гибкими, звонкими, с лиловыми, точно аметисты, глазами.. Их волосы, чистые и червленые, были распущены, ветер, теплый и легкий, звякал, играя ими. Ночь и ганджа создавали женщин сугубых, страстных, странных и сказочных. Они уходили все дальше от старухи и немой, а отблески костра делали старуху и немую всё загадочнее. Кто-то терзал гитару... старуха напевала себе под нос мягким, бесполым голосом, слышался плач свирели... Azъ ember is ember8… - неожиданно оборвав напев, глухо прошептала старая Игдрасиль. Немая, наловив полный подол рыбы, вывалила улов у костра, подошла к старухе и обняла ее за тонкие плечи холодными, мокрыми, невесомыми, точно струи нездешнего дождя, руками. Заглянула в невидящие старческие глаза, поцеловала прохладными губами в гладкий лоб. “Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris”9, - подумалось немой, но, поскольку она была нема, то промолчала. Старой Игдрасиль отчего-то стало и страшно, и весело – так бывает, когда во сне шагаешь наугад с обрыва, не зная еще наверное, но догадываясь, что в самый последний миг проснешься в теплой, уютной постели. На долю мгновения обе они слились в объятии, приникли друг к другу. Соприкоснулись вплетенные в волосы каждой розы – белая и черная. Двое, старая и молодая – та, которой суждено уходить, и та, что еще не пришла. Времени не было – было только понимание того, что обе они суть едины в борьбе противуположностей, точно Блудница Вавилонская и Воля, и что без смерти одной не суждено вырасти другой. Следовало случиться предначертанному исцелению. Сухие, шершавые ладони гладили нежную кожу девичьего лица. Немая взглянула в глаза старой Игдрасиль. Зрачки потонули в колодцах радужки, но тотчас же всплыли и растеклись по глади белков, точно капля кавказской нефти, отчего взор казался бездонным - словно Поскольку цыгане владеют множеством языков, представляется затруднительным перевести высказывание старухи однозначно. Мы полагаем, что первое слово одновременно является определенным артиклем (венг.), неправильно написанным пояснительно-декларативным союзом «ибо» (англ.), либо полулатинизированным местоимением «я» (старослав.). Второе и последнее слово переводится либо как «человек» (венг.), либо как «тлеющий уголек костра» (англ.), предпоследнее – либо как «есть» в значении «быть» (англ.), либо как союз «и» (венг.). Читателю предполагается выстраивать смысл самостоятельно, помня, однако, что среди цыган практикуются любые сочетания смыслов... 9 Мысли немой истолковать значительно легче: «помни, человече, что прах еси и во прах обратишься» (лат.) 8 траурное бархатное небо, усеянное белыми искрами звезд. Пушистые ресницы несколько раз взметнулись вверх, тут же падая вниз. На лоснящейся, молочно-белой девичьей коже затеплился невидимый в ночном полумраке румянец. Скрюченные руки рванули платье немой от ворота, потянув на себя ткань. Треснули разрываемые кружева, из прорехи, что раскрылась под воротом, точно ворота крепости, ведущие к телу города, выглянул купол луноподобной груди, увенчанный темною восьмиконечною звездочкою соска. И уже вскоре суковатые пальцы старухи трепетно массировали затвердевшие, тлеющие темной страстью бусины девичьих сосков. Зашуршали пышные нижние юбки, беззубый рот старой женщины нежно, с неожиданным проворством кусал напряженные бедра девушки. Немая изогнула спину, широко разведя напружиненные ноги, подставляя глубокое лоно тьме старухиного рта. Игдрасиль поцеловала немую в губы – глубоко, нежно, так, что кончик слегка раздвоенного языка пощекотал самые глубины женского естества, разрывая девственную плеву, и липкая слюна старухи смешалась с густым соком воспламенившегося лона и горькой горячей кровью. Немая застонала, развела ноги еще шире – и все юбки, до самой нижней, треснули по швам. «Моя тринадцатая… последняя… больше такой уж не будет», не сговариваясь, одновременно подумали немая и Игдрасиль. Старуха печалилась о любви. Немая – о юбке. После, прильнув друг к другу, старая и молодая лежали, и запах пота старой Игдрасиль смешивался с юным девичьим дыханием и ароматом свежесорванных цветков ганджа, которые курили обе женщины. Немая была уже не нема. Новый союз она уважала, но очень боялась, а потому и в мыслях, и на словах ласково называла старую Игдрасиль «тётей». Но поскольку речь ее, не смотря на исцеление, не стала свободнее, то мы и впредь будем называть ее «немою». Воздух был пропитан пряным запахом выкуренной волшебной травы и резкими испарениями выпитого вина, незадолго до вечера обильно смочившего землю, ибо цыгане, даже если посторонним кажется, будто они пьют в одиночку, на самом деле помнят о поколениях предков, и всегда готовы предложить им возлияние. Еще и теперь по стоянке бродили обрывки облаков, порождения дыма ганджа - пышные, странных очертаний и красок, тут - красные, как исторгнутая лоном немой кровь, там желтые, как немногочисленные зубы Игдрасиль и как солнце над горой Синай (ибо только там обретает солнце свой истинный цвет). Между ними ласково блестели темно-зеленые, в отблесках белого пламени, изумруды отхаркнутой мокроты. Все это - звуки и запахи - было странно чуждо своим многоцветием чопорной, черно-белой Московии – ведь там, куда приходили чёрные и белые жандармы да клирики, и где терпеливо дожидались поворота оси времени белые и чёрные подданные, всё как бы останавливалось в своем росте, всё как бы умирало; и даже шум голосов гас, и любой, даже самый робкий, ропот, удаляясь, перерождался в деликатные вздохи и дурные ветры… Над костром пронеслась спугнутая с ночного гнездовья сорока. Черно-белое оперение отчего-то напомнило немой о том, как закалялась сталь имперского союза. В голове клубились облака разноцветных, точно дым ганджа, мыслей. То были думы о родине, дым отечества. Среди них покоя не давала одна: - Прочь бежали - начнём за тобой гоняться. Не берём даров - поспешим с дарами, Нет любви к тебе - и любовью вспыхнем, Волей-неволей… Будь у немой более бойкий язык, как у старухи – она засыпала бы Игдрасиль сотнями вопросов о том, что было прежде, до Империи. Она бы спрашивала так: - Многие наши знакомцы из прежде кочевых таборов обратились в верноподданных оседлых выкрестов - скажи-ка, тётя, ведь недаром?.. Неужели Московия дурным угаром сейчас упоена? Ведь воссияла когдато над снимком дихромным эпохи алая вспышка свободы с перстами пурпурными Эос, вложенными в раны воскресшего Молоха, ведь были схватки родовые – да говорят, ещё какие… недаром помним мы, немые, как родилась страна? История не знает слова «если», но, будь у старой Игдрасиль дар читать невысказанные мысли, она о многом рассказала бы немой. Например, спела бы Главную Песню о Старом: Ek man jötna ár of borna, þá er forðum mik fœdda höfðu. Níu man ek heima, níu íviðjur, mjötvið mæran fyr mold neðan10. Старуха жалела себя и думала про себя так: Да, Древо Предела, Белая Берёза… когда-то ты была юной и гибкой, и твой стан обхватывали десятки юношеских и девичьих рук, а твои тонкие прутья украшали ленты и браслеты. Но ты росла, как росла вскормившая тебя земля, и вот ты уже становишься старой, и твоя некогда нежная береста грубеет, и никто более не желает украсить тебя прежними письменами… Овеваемая всеми ветрами, стоишь ты, сестрица Игдрасилюшка, на бел-горюч-камне, посередь окаянного океана окоема ойкумены, на острове-буяне, со всех сторон окруженная врагами, пытаясь найти в каменистой почве хотя бы крупицу сострадания, чтобы напитаться живою водой, но что получаешь ты в обмен на веру, надежду и любовь? Непристойное предложение стать поленом для растопки, тлеющим угольком, который на хвосте приплясывающей сороки, пойманной святой Хельгою, войдёт в горящую древлянскую избу, сложенную из 10 Великанов я помню, рожденных до века, породили меня они в давние годы; помню девять миров и девять корней и древо предела, еще не проросшее (др. – исл., перевод Стеблин – Каменского). сестриц-берез… или оглоблей, что остановит на скаку вольного цыганского коня?.. В Московии тяжело даже чурке – что же говорить о живом, животворящем дереве, Древе Предела? И что станет тогда с Домом и Человеком?» Старуха Игдрасиль встрепенулась и, кивнув головой, спросила немую, чтобы отвлечься от прежних мыслей: - Что ты не пошла с остальными, ганджа гаджо продавать? Время и любовь согнули старую цыганку, только что бывшие агатовыми глаза прикрыли мраморные плиты бельм, ибо любовь - слепа. Голос звучал страшно, он хрустел, точно старуха ломала собственное естество, прибегая к человеческой речи. Немая покачала головой и тихо улыбнулась. - Э!.. стариками родитесь вы, немые. Мрачные все, как черные черти...Боишься ты, девушка, жить. А ведь молодая и сильная. Отчего? – любопытствовала старуха. - Оттого, что мы рождены, чтоб сказку сделать пылью, пеплом, солью земли. В этом – предназначение. Познавать себя, познавать жизнь. Учиться, учиться, и еще раз учиться, как говорил господин Л’енский, задержавшийся в нашем таборе на прошлую Масленицу… - Учиться? Зачем? Смерть и так всему научит. - Смерть учит всему. Жизнь – всему остальному. Обе погрузились в долгое молчание. Только и было видно, как пляшут вдалеке искры, что отскакивали от цветов ганджа. - Откуда эти искры? – еле слышно спросила немая старуху. Как любая из народа калас11, она, конечно же, знала о происхождении огней, но ей хотелось услышать голос Игдрасиль – ведь сама она толком говорить еще не умела. - Эти искры от горящих сердец Ивана да Марьи. Были на свете сердца, которые однажды полюбили так, что весь мир вспыхнул пламенем... От него-то и пошли искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая цыганская сказка, черная сказка... Черное, все черное! Видишь ты, сколько в черноте всего?.. А теперь вот нет ничего такого - ни дел, ни людей, ни сказок таких, чтобы были черными, только белое кругом, только седое да светлое... Почему?.. - Кто же такая Марья, тетушка? - Из наших, из цыган. Давно это было. Жила она в Куль-деСаке, и не было среди калас Куль-де-Сака девушки прекраснее. Все 11 калас – «черные»; так называют себя цыгане. мужчины её любили, все за ней ходили. Капитан тонтон-макутов12 на заставе – присяге изменил, с карбонариями ушел, контрабанду продавать стал, потом к террористам-народовольцам присоединился. Еще – горбун юродивый при храме Сен-Пьера жил, Иваном звали, тоже любил ее сильно. И она его, тоже очень крепко любила. Как клеймо на лбу сибирского раба, что выжжено железом и которое уже даже топором на плахе не вырубить, только смертью в памяти человеческой можно вывести - вот как крепко эти двое любили друг друга! И еще – третий был, священник. Бокор, не хунган – православным лоа молился. Эти двое, священник и капитан тонтонмакутов, они очень сильными были тогда в Куль-де-Саке, все их боялись. Одна только Марья их не боялась, да еще – горбун юродивый. А жил тот юродивый горбун при храме, в котором священник православный службы служил. А со священником однажды вот как было: он всё хотел усмирить свою похоть, потому что православным нельзя любить то, к чему влечет их сердце. И вот однажды, когда к нему в покои пришла женщина, схожая с Марьей, как две капли воды, то священником овладел бес. Ведь он думал, что обретает покой, а на самом деле обрел похоть. И когда женщина ушла, он поддался бесу, и ни о чем не печалился, ведь sarapia sat pesquital ne punzava13, а после, когда его левая рука узнала о том, что совершила правая, то он топором отсек себе десницу, надел власяницу и спустился в темницу, где сиднем просидел тридцать лет и три года. Когда же он вновь вернулся к людям, то стал старцем по имени Зосима Крондштатский. И вот однажды встретились эти двое, бывшие священник и капитан, в трактире и решили Ивана-горбуна извести, потому что очень они Марью крепко любили, а она их – нет, а еще – потому, что знали: двоим драться за женщину проще, чем троим. А горбун всегда на паперти сидел, когда в храме служба шла. Потому что священники в храме всегда православным лоа предлагали кровь и мясо, а Иван-горбун, хотя и был гаджо, всё равно православной веры чурался. Молчал много – оттого-то его все и боялись, ведь len sos sonsi abela, pani o reblendani terela14, но что может скрывать молчаливая вода, тихий омут? Думали капитан со священником, строили козни, но не сразу у них вышло. Но верно говорят: chuquel sos pirela, cocal terela15. Жандармов (разг.) Того, кто наслаждается, чесотка не грызет (цыганск.) 14 Если река шумит, то в ней – либо вода, либо камни (цыганск.) 15 Собака, которая ходит -кость находит. (цыганск.) 12 13 И вот однажды появился в окрестностях Куль-де-Сака мертвый табор. Такие таборы всегда появляются, когда русские цыганские таборы вырезают, а души убитых потом себе покоя не находят. Днем мертвые лежат там, где их русские убили, а ночью убийц своих ищут. Пришли мертвые к жандармам, потом – к капитану тонтон-макутов, жалобу оставили. И вот тогда капитан тонтон-макутов и священник решили горбуна обвинить в том, что это он один целый табор убил, потому что во-первых, он никогда не ходил на православные службы, а во-вторых, потому что он был очень сильный человек, а они были слабыми. Известно ведь, что or esorjie de or narsichisle, sin chismar lachinguel16. И вот схватили тогда Ивана-горбуна по ложному доносу, да на казнь повели. Днем повели, чтобы мертвые не могли правды сказать, кто их на самом деле убил. А перед этим пришли священник и капитан к Марье и сказали: хочешь, чтобы горбуна помиловали – обоим женой станешь. Эти лильипенди так и не поняли, что она – эранди17. И стала им Марья обоим женой. Только горбуна всё равно в тот же день казнили. Марья, когда узнала об этом – совсем обезумела. Кинжалом заколола капитана, а священника завлекла на ложе и во сне задушила. А потом пошла ночью на могилу, где Ивана-горбуна похоронили, и разрезала себе грудь тем же кинжалом, которым капитана заколола. Перед смертью вырвала свое сердце, закопала в землю и сказала: - Как у меня крепкая боль – такая же пусть хорошим людям сильная радость будет, а плохим - горе. Хорошим же – долу. Если у меня любви нет, то пусть хоть другим... Сказала – и умерла. Похоронили ее в той же могиле, куда горбуна положили. Мертвые им потом всем табором свадьбу справили, только вот к себе не приняли. У нас, ромале, закон простой, сама знаешь: если женщина уходит с гаджо – сама гаджо становится. А потому, когда на могиле выросла из сердец Ивана да Марьи два куста волшебной травы, мужской и женский, то назвали траву в память о влюбленных иваном-дамарьей. А еще, в память о гаджо с горящими сердцами - ганджа ту траву назвали. А ночь – Ивановой ночью. Вот как гаджо стали ганджа, и вот почему я всегда смеюсь, когда вижу, как мы, цыгане, продаем гаджо волшебную траву, потому что получается, будто они выкупают у нас самих себя, собственные души. 16 17 Доблесть карлика в том, чтобы далеко плюнуть (цыганск.) Эти дураки так и не поняли, что она – порядочная женщина. Но всякую Иванову ночь, когда умерла Марья, расцветают по всей Империи цветы ганджа. Говорят, что тот, кто сорвет этот цветок и выкурит его, обретет бесценную драгоценность18 – если только ему не помешают демоны и бесы… - Игдрасиль всхлипнула. В кустах раздался шорох. Немая вздрогнула: ей подумалось, будто на опушку крадется барсук – ведь эти черно-белые звери, подобно черно-белой птице-сороке или черно-белой березе суть символы Московии. Этому зверю, объединяющему в себе все качества излюбленных героев московитских сказок – подлость лисы, трусость зайца, ограниченность волка и тупость медведя, до сих пор поклоняются некоторые из обитателей Сибирии; свободным же он внушает неизменное отвращение. В битвах за берлоги и норы - там, где медведь побеждает силою, волк – хваткой, а лисица – хитростью, барсук, не мудрствуя лукаво, просто вываливает кучу испражнений, наглядно демонстрируя оппонентам, что нет в Московии более действенного средства борьбы, как вывалить под носом у противника кучу собственного помета. Действительно, какая-то четырехногая тень шустро протрусила через всю поляну на другой ее край, однако же цыганки тотчас же успокоились, заметив, что то было животное, скорее напоминавшее черного пуделя, чем барсука. Старая и молодая переглянулись и поспешно прикрыли наготу обрывками порванных в порыве страсти платьев, встревоженно вглядываясь в высокий силуэт господина, закутанного в черный плащ, точно по мановению волшебства возникшего на поляне под сенью ночных деревьев. - Buna sara!19. Не пугайтесь, добрые женщины. Я - одинокий странник, честный коммерсант, который вовсе не намерен причинить вам вред – напротив, я готов сразиться со всяким, у кого хватит неосторожности покуситься на ваши добродетельные тела и, особенно, души. Голос незнакомца звучал странно – будто он долго говорил на чужом языке, отчего его собственная речь стала чужой, а чужая – собственной. Подобное и ныне случается и на венецианских маскарадах – газеты нередко пишут о судьбе тех несчастных, маски которых намертво срастаются с их лицами, отягощая и без того нелегкую жизнь 18 19 money (англ.) Добрый вечер (молдавск.). нового владельца тем, что всякий раз, как тот произносит ложь, нос маски удлиняется. - Кто ты? – подала голос Игдрасиль. - Я – тот, кого никто не любит… - просто ответил незнакомец. - О, господин говорит с нездешним выговором, ведь у нас здесь – земля любви! Быть может, для господина она может стать землей обетованной? – игриво, и в то же время робко произнесла немая, надеясь перевести разговор в безопасное русло флирта. Мне не нужна любовь. Любовь мужчины и женщины подобна войне, любовь двух мужчин - ложке дегтя, двух женщин – бочке меда. А любовь человека и родины в этих землях немногим отличается от всех видов любви, смешанных воедино. К тому же, всякий человек от рождения и после смерти уж и так есть земля, прах, а значит – и любовь. Всё своё ношу с собою. Откуда ты, черный господин? И кто ты? - спросила Игдрасиль. Если вы так хорошо различаете произношение вы должны догадаться, кто я. Я полагаю, что ты из Черногории или из Беловодья. Из земли, что в двух шагах от горы Сион, в двух шагах от рая, или из какойнибудь похожей земли, - вновь подала голос немая, кокетливо поправляя белую розу, вплетенную в смоляные волосы. Да, черный господин – из земли. Все мы - из земли… А я – 20 пани ..., - вмешалась в беседу Игдрасиль, играясь черною розой в лунно-белых прядях. – Возможно ли, что мы встречались прежде? Всё возможно. Все мы земляки, и родина у всех у нас одна – Африка… Но отчего вы, добрые женщины, так настойчиво выспрашиваете о моей национальной принадлежности? Быть может, вы – из московитов? Или из Фискальной Службы Бдения, из департамента по национальным вопросам? Да полноте! Вы же видите, что мы – цыганки! - хором откликнулись старая и молодая. – хотите, мы вам погадаем, научим, как обрести истинную любовь? Благодарю вас, добрые женщины, - и незнакомец с улыбкой облизнулся в темноте, - любовью я успел пресытиться. А сытый brujo21, как известно, к любому учению держится глухо… Черный господин, мы надеемся, что не поступим нескромно, предложив тебе вина и мяса, которое наши чавале добыли в неверии22, 20 21 «Я» по-ненецки означает «земля»; «пани» на наречии цыган означает «вода». колдун (исп.) сказала Игдрасиль и поправила розу, вплетенную в ее седую прическу – розу черного цвета. Что вы, добрые женщины, я буду лишь рад, ведь неверие – это то, что одинаково хорошо кормит и вас, и меня. Мы, люди каинового племени, говорим с акцентом, по которому нас нетрудно отличить от московитов… Bai, jaona23, - согласно кивнули цыганки. О, да я погляжу, вы без труда догадались, что мы с вами родом из одних и тех же провинций. – Незнакомцу было превосходно известно, что цыгане, не принадлежа ни к какой стране, вечно кочуя, говорят на всех языках, и большинство их чувствует себя дома и в Итальянской, и во Французской империях, и в Белой, и в Черной Руси всюду; даже с горцами и с англичанами - и то они объясняются. - Laguna ene bihotsarena24, - обратилась вдруг к черному незнакомцу старуха, - мы земляки? Быть может, мы встречались прежде? – и черты лица ее, постаревшего, на котором не осталось и следа от былой красоты, осветила затеплившаяся, призрачная улыбка. Ну, землячка милая, попытайтесь, и да поможет вам божья матерь черногорская! Помните, как как-то утром, на рассвете, затянувшись божественным бхангом, заглянул я в дивный сад? Где цыганка-растаманка собирала самосад? Тогда еще рано партизаны дом покинули родной, и возглавлял их рас Кудрявый? Призрачная улыбка на лице старой Игдрасиль перешла в радостную и смущенную (она боялась поверить): старая цыганка узнала. Agur laguna25! - сказала она. - Барон Гэдэ, Вы выглядите, как гаджо! Но отчего... А оттого, - перебил Барон, - в урочный час Вы сами узнаете причину. Однако теперь уже поздно, а потому давайте ложиться спать. Mañana será otro día26 – с этими словами незнакомец, которого Игдрасиль называла Бароном Гэдэ, молча перешагнул через двух лежащих женщин и направился вглубь лагеря, к поставленным цыганами кибиткам. Скрылся в сумраке. Как только цыганки остались одни, Игдрасиль вскочила и принялась приплясывать и смеяться, точно безумная, приговаривая: "Он - моё вино, мой ром, я - его роми27, он ко мне вернулся ". А немая неверия = корчма (цыганск.) Да, господин (баскс.) 24 товарищ моего сердца (баскск.) 25 здравствуй, товарищ! (баскск.) 26 утро вечера мудренее (испанск.) 27 ром – муж, роми – жена (цыганск.) 22 23 стояла посреди поляны, нагруженная бременем греха, точно покупками после похода на рынок, и не знала, куда деваться. Она бросила к ногам престарелой возлюбленной всё, но та кинулась на шею не ей, а призраку страсти, черному незнакомцу, говоря: "Ах, эта ночь, эта ночь! Зачем эта ночь так была хороша, ах, если бы, если бы не горела бы грудь, не страдала душа...Когда я вспоминаю о той ночи, то сердце загорается и выстукивает такт завтрашнего дня вернее, чем если бы это были кастаньеты из черного дерева или слоновой кости...» Спать легли порознь. Старуха заснула быстро, легко, и на лице ее расцвела теплая и нежная, как белая роза, улыбка. Знала: он вернулся к ней, за нею пришел, и теперь она его от себя не отпустит. Немая не спала. Ворочалась с боку на бок, разгоняя ночную мошкару и муравьев. Не верилось, что всё, что только что происходило между нею и старухой Игдрасиль, кончено тут же, крепко и навсегда. Не такой любви, не такой судьбы хотелось. Немая думала так: «Неужели всё, неужели на этом закончится наша история, даже не начавшись? Что такого есть в нём, чего нет во мне? Чем он превзошел меня – превзошел настолько, что и на ложе любви, на смертном одре возвращается к прежней любви старая Игдрасиль?» Пошла в кибитку, где заснула старуха, разбудила возлюбленную и, мешая угрозы страшной мести с заверениями в вечной преданности, потребовала от старухи ответа: кто ей из двоих милее? Кто темнее, кто – светлее? Старая цыганка спросонья ответила не сразу. Зевнула, точно большая подслеповатая белая кошка, и так сказала бывшей немой: - Знаешь, дочка, мне кажется, что я тебя немножко любила. Но только это было не надолго. Две кошки, черная и белая, в одном таборе не живут. Чтобы им вместе ужиться, одной нужно стать собакой. Быть может, если бы ты отвергла цыганский закон, я бы согласилась с тобой уйти к гаджо, к себе. Но ты еще слишком молода, чтобы понять мою душу, а потому этого не может быть. Тем более, что умом ее всё равно не понять, да и аршином общим не измерить – только Гор или Озирис смогут взвесить ее на весах бардо. Нет, девочка моя, поверь, ты дешево отделалась. Мы повстречалися с чортом, да, с чортом; не всегда он из народа калас, и шею он нам не сломал. Дай же мне заснуть, и поставь за меня свечу божьей матери черногорской, она заслужила. Ну, не печалься, ступай себе с б-гом. Не думай больше о старой Игдрасиль…» И когда старуха повернулась на бок и вновь окунулась в пучину сна, немая, едва прикрывая наготу лохмотьями разорванного платья, встала и прокралась в палатку, где спал ночной гость. Барон проснулся от прикосновения нежных девичьих губ. Дыхание было свежим, ароматным, но с легким привкусом терпкой затхлости – точно глубины винного погреба или дым старого ганджа. Рука Барона протянулась во тьме, встретила обнаженную девичью грудь и стиснула трепещущую, пряную, податливую плоть. Губы немой приоткрылись, белые зубы в темном провале рта заблестели жемчужною слюною, агатовые глаза подернулись поволокой, и ее уста сошлись с устами Барона в долгом, пронзительном поцелуе. Немая отдавалась Барону с каким-то лихорадочным отчаянием, мстительно и злорадно. Их неожиданное соитие больше походило на борьбу. Всхлипывания, проклятия, слезы немой, смешение телесных соков с запахами мужского и женского потов – вот что застала старая Игдрасиль, когда, внезапно проснувшись посреди ночи, одернула полог в кибитке Гэдэ, чтобы удостовериться: странный человек, на которого прошедшие годы, казалось, не оказали вовсе никакого влияния, действительно - возлюбленный из ее далекой молодости. Гэдэ выглянул из-за спины сидевшей на нем верхом немой, лукаво подмигнул старой Игдрасиль и спросил: - Что, не нравится, что мы вот так, посреди ночи? Третьей будешь? Нет? А ты нас черненькими полюби; беленькими-то нас всякий полюбит. Это «нас» пронзило самое естество старой цыганки, как на пошлом рисунке стрела пронзает сердце. Вскрикнула Игдрасиль, закрыла лицо руками и, не видя ни белого света луны, ни черного тенистого леса, побежала, сломя голову, через заросли, петляя среди берез, по барсучьим тропам – к самому обрыву над морем. На верхушке каменной кручи остановилась Игдрасиль. Часто и прерывисто вздохнула – точно загнанная собака. Чтобы собраться с силами, вспомнила про себя стихи, которые когда-то посвятил ей один из прежних воздыхателей – в те дни, когда была моложе: Ivory Madonna Под моим оконом Блещет белым снегом Точно серебром Barren is her busom Снежною каймой Долу гнутся ветки Белой бахромой Politicians’re arguing Sharpening they knives Drawing up their bargains Trading baby lives28 Eat and drink rejoicing Раз уж here to stay Черный уголь ночи Перегной людей Ангелы, лениво Подлетев, кружком Обсыпают ветки Белым порошком… Старуха Игдрасиль тонко, по-щенячьи, заскулила. В сухих глазах блеснуло отражение луны, и казалось, что ее свет замораживает и морскую воду, и слезы, и сердце, и саму душу старой цыганки, развеянную над морем на мириады прозрачных искорок, соленых кристалликов разбитого зеркала морской глади... ******* Утром Барон и немая, обнявшись, спускались с кручи вниз, к волнам. Игдрасиль лежала на прибрежных камнях - неподвижно, навзничь – точно спящая сомнамбула или большая сломанная кукла с белыми волосами. Подойдя ближе, Гэдэ и немая увидели, как смерть прояснила старческий взор. Большие черные глаза, уставились на пришельцев не мигая – плиты мраморных бельм разлетелись снежными крупицами, не оставив и следа. Барон целый час просидел над трупом, жалея, что упустил, быть может, лучшую сделку в жизни. Российскому читателю английские строки знакомы прежде по тексту песни Food for Thought, авторство коего принадлежит кружку молодых музицирующих британцев, называющих себя UB40. 28 Потом он вспомнил, как Игдрасиль говорила не раз, что хотела бы быть похороненной на круче, на морском берегу. Он вытащил из-за голенища нож с рукояткой из берцовой кости вора, которого когда-то обыграл в карты, вырыл на взгорье ножом могилу для Игдрасиль и опустил ее туда. Гэдэ долго искал ее черную розу и, наконец, нашел. Цветок совсем не увял. Барон опустил его в могилу рядом с покойницей, вместе с маленькой ладанкой , соскользнувшей со старческой груди. Он так и не узнает, что в ладанке Игдрасиль хранила локон Барона, когда-то подаренный ей. А если бы узнал, для него было бы вовсе не важно. Немая вынула из прически розу белого цвета и положила ее поверх черного цветка. Усеянные шипами стебли, на одном из которых застыли капли темной крови, легли крестообразно. Может быть, немой не следовало этого делать. Тотчас дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев савана и горстей почвы сухое, как промерзлая земля, тело старухи Игдрасиль. Барон и немая прикрыли старое тело и сами, обнявшись, легли на землю около свежевырытой могилы, так, что свежевскопанный холм остался между ними, точно третий человек или земляная грядка. На лицо им ложились брызги морского бриза. Казалось, то душа мертвой Игдрасиль целует их солеными от слез губами. Кругом было мрачно. Ветер гнал по небу алебастровые и угольные тучи, как жандармы гонят цыган из больших городов медленно, незаметно, лениво... Волны шумели, лаская берег… И тогда немая, точно почувствовав тяжесть черных мыслей, что угнетали убеленную сединами Игдрасиль, прежде чем та решилась на последний шаг вниз с кручи, подумала о ней хорошо. И подумала так: Sér hon upp koma öðru sinni jörð ór ægi iðjagrœna. Falla fossar, flýgr örn yfir, sá er á fjalli fiska veiðir29. Потом Гэдэ и немая, держась в обнимку, вернулись к оставленным кибиткам. Когда ближе к полудню в табор вернулись цыгане и принесли бырыши от торговли с гаджо, то на вопрос Мелькиадэса, куда делась старая женщина, Барон Гэдэ и немая ответили пословицей, которая будет здесь кстати: "En retudi pancha nasti abela macha" - "в рот, закрытый глухо, не залетит муха". (c) by Zigeuner, 2005 : zigeuner@inbox.ru 29 Видит она: вздымается снова из моря земля, зеленея, как прежде; падают воды, орел пролетает, рыбу из волн хочет он выловить (перевод с древнеисландского Стеблин – Каменского)