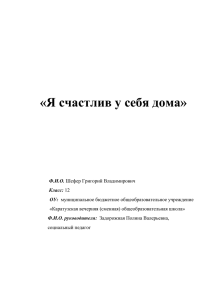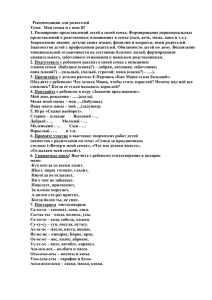Транскрибированный текст
advertisement
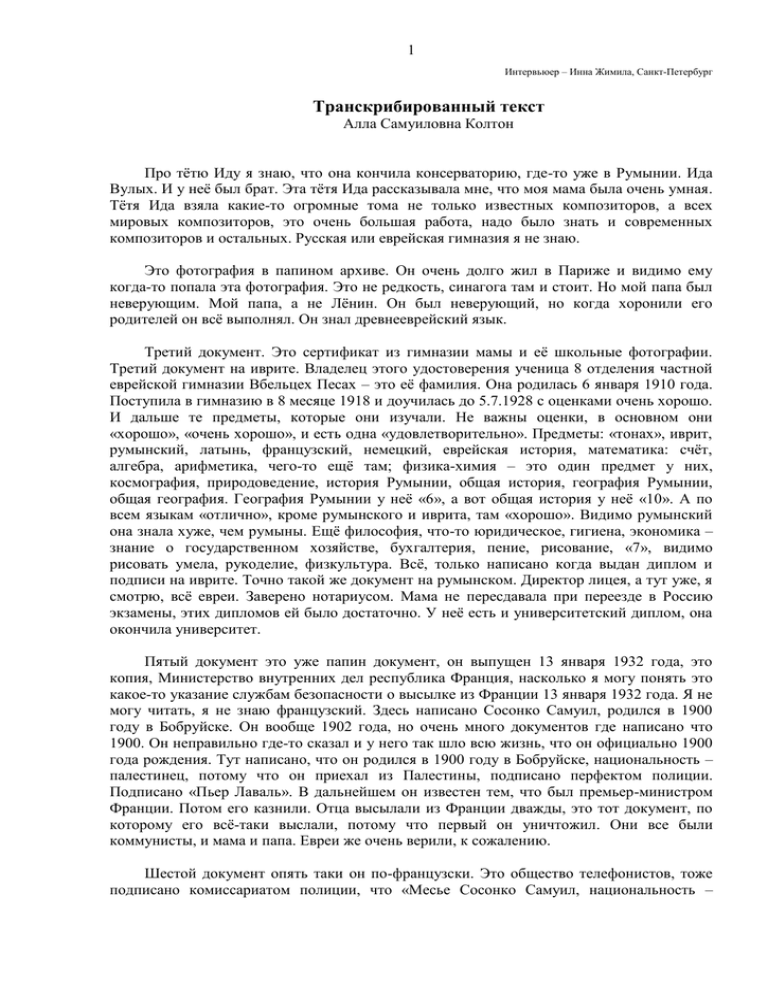
1 Интервьюер – Инна Жимила, Санкт-Петербург Транскрибированный текст Алла Самуиловна Колтон Про тётю Иду я знаю, что она кончила консерваторию, где-то уже в Румынии. Ида Вулых. И у неё был брат. Эта тётя Ида рассказывала мне, что моя мама была очень умная. Тётя Ида взяла какие-то огромные тома не только известных композиторов, а всех мировых композиторов, это очень большая работа, надо было знать и современных композиторов и остальных. Русская или еврейская гимназия я не знаю. Это фотография в папином архиве. Он очень долго жил в Париже и видимо ему когда-то попала эта фотография. Это не редкость, синагога там и стоит. Но мой папа был неверующим. Мой папа, а не Лёнин. Он был неверующий, но когда хоронили его родителей он всё выполнял. Он знал древнееврейский язык. Третий документ. Это сертификат из гимназии мамы и её школьные фотографии. Третий документ на иврите. Владелец этого удостоверения ученица 8 отделения частной еврейской гимназии Вбельцех Песах – это её фамилия. Она родилась 6 января 1910 года. Поступила в гимназию в 8 месяце 1918 и доучилась до 5.7.1928 с оценками очень хорошо. И дальше те предметы, которые они изучали. Не важны оценки, в основном они «хорошо», «очень хорошо», и есть одна «удовлетворительно». Предметы: «тонах», иврит, румынский, латынь, французский, немецкий, еврейская история, математика: счёт, алгебра, арифметика, чего-то ещё там; физика-химия – это один предмет у них, космография, природоведение, история Румынии, общая история, география Румынии, общая география. География Румынии у неё «6», а вот общая история у неё «10». А по всем языкам «отлично», кроме румынского и иврита, там «хорошо». Видимо румынский она знала хуже, чем румыны. Ещё философия, что-то юридическое, гигиена, экономика – знание о государственном хозяйстве, бухгалтерия, пение, рисование, «7», видимо рисовать умела, рукоделие, физкультура. Всё, только написано когда выдан диплом и подписи на иврите. Точно такой же документ на румынском. Директор лицея, а тут уже, я смотрю, всё евреи. Заверено нотариусом. Мама не пересдавала при переезде в Россию экзамены, этих дипломов ей было достаточно. У неё есть и университетский диплом, она окончила университет. Пятый документ это уже папин документ, он выпущен 13 января 1932 года, это копия, Министерство внутренних дел республика Франция, насколько я могу понять это какое-то указание службам безопасности о высылке из Франции 13 января 1932 года. Я не могу читать, я не знаю французский. Здесь написано Сосонко Самуил, родился в 1900 году в Бобруйске. Он вообще 1902 года, но очень много документов где написано что 1900. Он неправильно где-то сказал и у него так шло всю жизнь, что он официально 1900 года рождения. Тут написано, что он родился в 1900 году в Бобруйске, национальность – палестинец, потому что он приехал из Палестины, подписано перфектом полиции. Подписано «Пьер Лаваль». В дальнейшем он известен тем, что был премьер-министром Франции. Потом его казнили. Отца высылали из Франции дважды, это тот документ, по которому его всё-таки выслали, потому что первый он уничтожил. Они все были коммунисты, и мама и папа. Евреи же очень верили, к сожалению. Шестой документ опять таки он по-французски. Это общество телефонистов, тоже подписано комиссариатом полиции, что «Месье Сосонко Самуил, национальность – 2 палестинец, проживает там-то…» идентичен идентификации личности, справка с места работы. Он работал в Париже. Седьмой документ опять мамы, Пейсах Хая, Министерство наук, то ли что она сдала экзамен, то ли что она поступала в университет города Льежа. Она училась в Бельгии 2 года, её потом выгнали оттуда за участие в студенческих волнениях. Когда её выслали отец её как раз принял во Франции, он был председателем французского МОПРа, Международного фонда помощи революционерам. И как он говорил, единственный человек, которому он по настоящему помог через этот МОПР была мама. Документ 8. И опять у меня мамина фотография, снята летом, переходя в 7 класс, это мама писала, это её подчерк. Но видимо это она написала потом, уже здесь. Это мама и тётя Ида, а это её подруги. В центре во втором ряду мама. Крайняя справа её подруга, тётя Ида, а имена и судьбы остальных неизвестны. Девятый документ это опять очень похожая справка, опять Хая Пейсах, тоже какойто университет, кандидат натуральных наук, она была химик, теперь Брюссель, 29 января 1929 года. Тоже Бельгия. Она жила в Бельгии до 1930 года. Следующий документ №10 это те же лица, тоже бабушкина школьная фотография. Хая Пейсах, она крайняя справа, крайняя слева тётя Ида, а что они вырезали, я не знаю, это не я вырезала, это мама. Было очень много фотографий с вырезками когда сюда они перевозили. Обычно вырезали, когда был кто-то кого не нужно было, кого посадили и тому подобное. 11, это опять мой папа Самуил, стоит крайний справа. Он стоит со своими коллегами по работе в Париже. Здесь он в возрасте 25-30 лет. Примерно 1932 год. Фотография 12, это папа Самуил молодой, вырезана фотография, не знаю почему, есть какие-то отрывки, он писал по-русски: «на память местной … общих … в связи … Палестина, Тель-Авив». А фотография 13 это вся его семья, крайний слева сидит мой дедушка Мордух, это две сестры папы, младшая Идочка, она умерла в 5 лет, за ней стоит Гута, справа сидит Голда, жена, моя бабушка, рядом с бабушкой справа сестра Белла, средняя сестра между Идой и Гутой. Она утонула в 19 лет в Петербурге. Крайний справа это папа, он снят в гимназической форме. Каждый человек подписан на иврите. Про это девочку, Иду, написано: «погибла 5.11.1920». Её имя стёрлось. Про эту написано, здесь он пишет на идише, поэтому написано: «Бэйла, она погибла 13.8.1929». Её могила есть в Петербурге, около ограды кладбища, и дедушка там рядом. Он посадил берёзу там недалеко. Мне рассказывали что было сомнение, не самоубийство ли это, поэтому её похоронили около ограды. Гута умерла в 1980 году, мы с ней очень общались, она жила в Алма-Ате, и мы выехали к ней в эвакуацию в Сибирь. Очень близкая моя тётя, она меня очень любила. С её детьми мы общаемся. А остальные все погибли. Ещё есть дочка Беллы в Израиле, и там у неё ещё 2 внука. Здесь я знаю только Гуту, потому что она погибла. Какого года фотография я не знаю, но отец ещё учился в гимназии. Он учился в гимназии до 1919 года, скорее всего фотографию подписал кто-то из родителей, скорее всего дедушка. Скорее всего, фотография до 1917 года, потом, после революции, у них всё изменилось. Фотография 14 – Голда и Морбихт. 3 Фотография 15 это Хая и её подруга, здесь написано «Льеж, 6.11.1929, после экзаменов». Фотография 16 это Гута. Фотография 17 это Броня Селектор, папина двоюродная сестра. Она очень известна в России. Это её замужняя фамилия. Она была ведущей филармонии, очень известная, красивая женщина. У меня много её фотографий. Фотография 18 это мамина родная сестра Соня. Это старшая сестра, когда родилась не знаю. Фотография 19 это бабушка Шейва, я её знаю, я её видела, и младший мамин брат Моня, он умер в Израиле. Дедушкиной ни одной фотографии я не видела. Он был лысый, очень плохо видел, всегда был в очках. Был уважаемый человек. Моя бабушка занималась благотворительностью и была такая странная женщина в отношении к жизни, как я её воспринимала. Я и моя мама жили всю жизнь с родителями папы. Я не знала что есть двое ещё какие-то, я была маленькая. А после войны мама с бабушкой оказались в Черновце с вот этой вот сестрой Соней. У маминых родителей было четверо детей: две сестры, это мама и Соня, и два брата, младший брат Маня и старший брат, старше Сони, Ушев, он умер в Пэру, его фотографий нет. Он был очень сильный шахматист, работал в аптеке, но это из рассказов маминого двоюродного брата, Муни Пейсах, который умер в Израиле. Он об Ушеве мне рассказывал. Это Муня Пейсах очень дружил с моей мамой. Он рассказывал что Ушев был способный шахматист, работал в аптеке фармацевтом, не просто рядовой какой-то. Он у Ушева бывали приступы депрессии и он бывал временами в психиатрической больнице. Он не был женат, и так в одиночестве он и умер там в Пэру, в последние годы он переписывался с мамой. И через Муню мы даже получали посылки, не мы получали а Муня помогал своей маме, Соня жила с мамой, и маме моей присылал. У Муни тоже не было детей. У нас у Шейвы у Пейсахов дети есть только у моей мамы. У Сони не было детей. Она была гинеколог, у неё был муж. А у Муни были только приёмные дети, поэтому он умер, и ничего в Израиле не осталось. И кто его жена не знаю. Соня не любила его жену, поэтому ничего не рассказывала. Соня жила тоже в Черновце с бабушкой. У Сони был муж, он был еврей из дворянской семьи, это редкость. И он был очень эрудированный человек. Я тоже его знаю. Они вместе с Соней уехали в 1967 году в Израиль после войны. Я у него была в гостях, и он хорошо относился к маме и Соня считала меня наследницей. И Соня написала на меня завещание в Израиле, но мы его прозевали тогда, боялись переписываться. Мы не переписывались, после их отъезда папа боялся с ними переписываться. Он пережил так много что боялся, что это может нам повредить. А она писала сначала до востребования. У меня есть уже второе письмо где она пишет, что оставила завещание, и потом она перестала писать. Она заболела. Это уже рассказывал Муся, мой двоюродный брат, из Израиля. Я в Израиле была у Муси. Павлик, её муж, был очень эрудированный человек. У них была большая библиотека. Он сам был, у нас это называется сантехник, а это большая такая специальность, по технике безопасности на заводе, очень был в Черновцах известен, потому что у него было образование. Они оба работали они жили обеспечено. У них была уникальная библиотека с книгами по искусству, которую они забрали с собой. Всё это было мне завещано, всё это пропало. 4 Соня была такая смешная женщина, не с причудами как бабушка, но была очень смешная. Я приехала туда в гости, уже была студенткой, симпатичной девочкой. Она хотела меня там познакомить с кем-то с её «женихата». Я даже помню этого человека, он потом сюда приезжал. И она нарядила меня в свой плащ, из Израиля присланный, красивый. И шёл дождь, она держала зонт надо мной, сама шла под дождём, охраняла плащ, и мы тогда с Павлом страшно смеялись, я ему рассказывала, он не ходил на сватовство. А я тоже очень смеялись над этим. Потом этот Габби сюда приезжал, он ухаживал за мной, но у меня уже был Гарик, и когда я знакомилась, я была уже влюблена. Я не знаю, была ли у Сони с Павлом еврейская свадьба, скорее нет, потому что моя мама и все остальные были атеистами и революционерами. Они все воспитаны на Марксе и на Ленине. Они были очень интересными людьми, очень самостоятельными, со своими взглядами на жизнь. И имели всегда много друзей, большую компанию. И мы всегда ходили друг к другу в гости. Мама была очень гостеприимная. У мамы и папы остались друзья из Палестины и Франции. После 1956 года некоторых выпустили, а некоторые, как мама и папа, не сидели. Родная сестра моей бабушки, она была младшая, умерла в 1982, её звали Гита, она жила здесь. Вся папина родня жила в Ленинграде и общались. И Гита мне говорила, что папа был среди 3% нормы в гимназии, тогда же была норма. Папа родился в Бобруйске, Белоруссия. Я мало чего знаю. Дедушка был ремесленник, бабушка была домохозяйка. Папа, по рассказам тёти Гиты, был способный человек. В царской России принимали ограниченное количество евреев в гимназии и институты, 3%, то, что было ликвидировано после революции. Почему евреи так бросились в революцию, они же были бесправны в царской России. Вообще у евреев очень много наивности, ведь в Израиле тоже кибуцы, социалистические общины. И тётя Гута и папа, они были передовыми по сравнению со своими родителями, родители считали, что надо заключать браки только между евреями. Вот тётя Гута была замужем за русским. Они ушил из дома рано, и Гута и папа, потому что были не согласны со своими родителями. Папа был, наверное, единственный из их округа, которого взяли в русскую гимназию. Они гордились им. Там не было еврейской гимназии. Вообще в России евреи не имели гимназий. И даже Бобруйск, это бедные места, родители имели мало. Вот у мамы была обеспеченная семья, занималась благотворительностью, они были средней зажиточности. Я помню, дедушка Мордух в Петербурге после войны лудил, паял кастрюли. Он просто помогал, он уже был очень дряхлый согнутый. Я считала что он очень старый. Ему было 72 года когда он умер. Он умер от старости, у него не было болезней, он был очень изнеможённый человек. Бабушка умерла раньше его, в 66 лет, он она умерла от рака, неожиданно, в 1949, а он в 1951. Дедушка и бабушка, конечно, были в молодости верующими. А после войны дедушка говорил: «я верю на всякий случай, а вдруг это есть». И у него были целые 2 полки книг на древнееврейском, с золотым теснением, он читал их, хотя и не имел образования. И после войны через дом от нас была квартира, в которую дедушка ходил молиться, собиралось 10 евреев, это называется «миям». У него был талос, он брал с собой, и когда дедушка умер, папа все его книги отдал туда. Дедушка пытался рассказывать еврейскую историю мне и моему брату Жоре, он всё это знал. После войны мне уже было 7 лет, во время войны было не до этого. После войны я себя хорошо помню. Он всё время пытался что-то рассказать. И я слушала только после смерти бабушки, мне было его очень жалко, и я проводила с ним время, всё лето около него просидела. И он говорил: «вы будете жалеть». Он очень много знал, но мы не слушали. А папа мой просто исполнял все обряды, и на похоронах, пока были живы 5 бабушка и дедушка Пасху мы всегда отмечали, маца у нас всегда была, и Пасха у нас всегда отмечалась. А после их смерти мама тоже всегда старалась покупать мацу, но раньше дедушка читал молитву, папа рядом стоял, чего-то делал, а после их смерти отмечали Пасху уже как дань традиции, а родители были атеисты. До переезда они жили в Бобруйске. Там отмечались все праздники, даже в субботу не чиркали спичку, приходила русская женщина, которая зажигала всё в субботу, всё это исполнялось. В каком году они переехали, я не знаю, потому что мой папа с Зямой сбежали в 1919 году. Зяма – его друг, он жил в Москве, у нас часто бывал. Они сбежали из Бобруйска, тогда беспорядок, революция, они на поезде, в вагоне, под полкой переехал границу, сбежали в Палестину. Тётя Гита мне говорила что сначала он поступил в институт и они думали, что он будет учиться. Потом выяснилось, что он сбежал, и бабушка с дедушкой очень волновались, пока не получили от него весточку. По-моему это уже было в Петербурге. Им было уже по 18 лет, они хотели посмотреть Палестину, они знали языки, и они сбежали в Палестину и жили там несколько лет вдвоём. Заработают себе немного, гуляют, развлекаются с девочками. Это папа рассказывал. Они работали на одной работе: по очереди надо было поливать апельсиновые сады, ночью, не днём. И одну ночь дежурил один, другую – второй. И папа заснул и водой что-то смыло, их уволили. И вот так вот они путешествовали по Палестине. Он рассказывал, что спали на улице, а там тепло, летом только ноги в море и спать, иначе жара такая, что невозможно. Они так путешествовали, не имея специальности, ничего, живя на заработанные деньги. Прокутят, потом снова устраиваются на работу, пока папа не пришёл в какой-то возраст. Он сбежал, а в это время погибают его сёстры. Белла без него, в 1929, а эта девочка, наверно, ещё при нём, в 1914-1915 году, ещё в Бобруйске, её могилы здесь нет. Он сбежал в 1919 году, а вернулся в 1932. Он узнал в смерти Беллы из писем. Дедушка хотел, чтобы его похоронили рядом с Беллочкой, он посадил там 2 берёзы, они растут там до сих пор. А бабушка хотела, чтобы её похоронили рядом со своей мамой, Леей, там же на еврейском кладбище, на другом месте. Дедушка говорил: «значит, мы будем лежать отдельно». Мой брат родился на улице Красной конницы. А потом, когда я родилась, мы жили на улице Союза связи, это около Главпочтамта. На улице Красной конницы была комната в коммунальной квартире. На Союза связи это обменом, потому что семья была уже большая, приехали папа с мамой, мы жили все вместе, родился Жора, должна была родиться я. Было тесно там, и обменом, наверное, они доплачивали, получили большую комнату, 37 метров, и угловая, её разделили. Эта квартира существует и сейчас. Мы переехали из неё только в 1965 году, потому что дом пошёл на капитальный ремонт. В этой комнате жили: дедушка, бабушка, Самуил, Хая, Жора, Алла, папа, мама, всего вшестером. У нас в квартире было 7 семей. И после войны у нас даже в коридоре стояла кровать, люди приехали из эвакуации и было негде жить, дома были разрушены. Войну я тоже немножко помню. Папа решил вернуться в Европу из Палестины когда им надоело уже «сходить с ума». Уже в Россию вернуться было нельзя. И они проехали Италию, Бельгию, решили остановиться во Франции. У папы высшего образования нет и не было. Он остановился в Тулузе и работал там на телефонном заводе, выпускали АТС. Он уже вступил в Компартию. И там была газета, многотиражка. Он участвовал в выпуске газеты и был чуть ли не главный редактор. И там он был председателем МОПРа. 6 Мама в 1928 или 1929 поехала поступать в Льеж, она поступила в Льеже в университет, она была химиком, и через пару лет она участвует в студенческих волнениях, её выгнали из университета. Училась она хорошо, он эмигранты не имеют права участвовать в революционной деятельности. Во Франции было то же самое. И она решила ехать в Париж, явилась к папе без средств, она училась на свои средства, работала гувернанткой. Они познакомились, потому что он был председателем МОПР. Они ей оказали материальную помощь, и она поступила в Леонский университет как химик. В 1934 году она его окончила. А папа занимался революционной деятельностью по нашим газетам. Они верили в то, что писали наши газеты. Такая была наивность. И эмигранты не имеют право заниматься политикой: его один раз посадили, арестовали, предупредили, а уже второй раз, это был 1932 год, его за подписью Лаваля выслали из Франции. И его довезли до границы с Бельгией, сам перешёл границу, явился в МОПР и попросил чтобы его устроили куда-нибудь. Мама ещё училась. Ни он, ни его друг Зяма гражданства так и не получили. В МОПРе папу спросили, кто он, куда бы он хотел поехать. А у него родители были в Петербурге. И они через Германию связались с Россией, Россия согласилась принять. И папа в 1932 году приехал в Россию. На границе у него сразу забрали партбилет. Он увидел Россию и был очень удивлён тем, что увидел. А в 1934 году мама закончила институт, они любили друг друга, папа её вызвал. Тогда ещё не сажали так, ещё они не знали. Может быть, если бы он знал, он бы не вызывал её. Но она хотела к нему. Она знала русский язык. Мама родилась в городе Бельце, это Бесарабия, она знала Россию, Румынию. Мама была с высшим образованием, европейские языки знала и переводила. А папа знал в совершенстве французский, хорошо знал немецкий, даже переводил во время войны. И благодаря этому он в своей жизни кончил старшим научным сотрудником, не имея диплома. Мама в 1934 вернулась, в 1935 родился брат, а в 1937 – я. Тогда не расписывались, они расписались после войны. Тогда был свободный брак, и не меняли фамилию, ничего. Зарегистрировались они, наверное, в 1956, 1957, просто чтобы иметь одну фамилию, было в чём-то им удобно. И для нас было удобно с Жорой чтобы были одинаковые фамилии. Тогда не требовалось свидетельство о браке. Маму не брали на работу здесь, даже в партком обращались, и устроили маму на Лакокрасочный завод. Она до войны там работала. Потом началась война, папа сразу ушёл добровольцем. А тётя Гута, она вышла замуж за москвича. Её муж, Григорий Степанович, по партийной разнарядке был послан в деревню, это было до войны. Его отправили в Павлодарскую область, это Сибирь, в 1939, поднимать совхоз, он был председателем совхоза. А тётя Гута приезжала рожать всех своих детей к бабушке домой и рожала здесь в Санкт-Петербурге. Двух детей до войны она родила здесь. Гута кончала институт Герцена в Петербурге, как они познакомились со своим мужем, я не знаю. У них было 4 детей. И когда началась война мама с бабушкой, дедушкой, бабушкиной младшей сестрой Гитой с тремя детьми, про которую я говорила, со мной и Жорой, мама вывозила нас в Павлодарскую область в совхоз, где дядя Гриша был директором. Мы приехали, нам дали комнату в бараке. И так мы были всю войну. А Григория Степановича в 1942 году перевели в Алма-Ату, он был зам министра сельского хозяйства Казахстана. Они с тётей Гутой остались в Алма-Ате, а мы остались в совхозе. Я помню барак, это просто коридор и с двух сторон двери. И за каждой дверью в комнате жила семья. Во всяком случае, 3 кровати стояло. Я помню, мы с братом ссорились, кто из нас будет спать с мамой. А брат был старший и хитрый, а я считала плохо, и он не через ночь, потому что ночь он, ночь я, сказал: «по две ночи мы будем 7 спать», и всё время меня обманывал: «Нет, ещё прошла одна ночь». И он всё время с мамой спал, а я редко. Мама за меня не заступалась, я была вредная девица, а Жора был добрый, поэтому мама прикрывала его. И тётя Гута рассказывала про маму, уже ясно, что она была сильная личность, тётя Гута говорит: «я очень боялась, что мама приедет с совхоза, избалованная француженка, и как она будет себя вести». И мама абсолютно вписалась, я помню, как мы ездили на участки, сажали картошку. И мама преподавала математику в старших классах совхозной школы. Они заготавливали дрова, пилили, кололи. Тётя Гута была завучем школы, и говорила, что за маму она никогда не краснела. Она всё умела и всё это делала. Мужчины там были только больные, все остальные – на фронте, поэтому она всё это делала. Женщины, которые считали себя больными, ничего не делали. Мы заготавливали дрова в дом, держали корову, в последний год и свинью. Убили её, продали и купили для папы всю одежду. Он уже приехал, прошёл всю войну. Везли ему в чемодане, и по дороге у нас украли этот чемодан. Это была большая трагедия для мамы, бабушки и дедушки. Мы уехали туда ещё в 1941, до блокады, а папа остался здесь, был сначала в войсках ПВО. Он вернулся в 1932 году, и, так как он работал на заводе связи во Франции, он поступил здесь на завод «Красная заря», тоже телефонный, АТС, здесь в Ленинграде. Он, по моему, и сейчас есть. Папа работал до войны на этом заводе и тоже участвовал в многотиражке, выпускал редактором, это была его общественная работа. Они уже знали что к чему, и мама и папа, и понимали всё, что происходит. Вся основная часть папиных друзей «сидела». Все обвинялись, кто немецкий шпион, кто французский шпион. Маму почему-то не сажали. А папу его завод спас, потому что его начальник, зная что происходит и, зная его биографию, направил его на пол года в командировку в сельскую местность, они прокладывали телефонный кабель, куда-то в среднюю полосу России. И всё время его отправляли в командировку. Начальник был русский, просто он всегда к нему хорошо относился. Умели жить в общежитии, они вообще были интернационалисты, и нас так воспитывали, передовые люди, и не имело значения, русский, еврей, армянин. А бабушка с дедушкой с тётей Гутой долго не общались после того, как она вышла замуж за русского, и дедушка не знакомился с дядей Гришей, и не хотел, и не разрешал ему приезжать. И дядя Гриша не сказал тёте Гуте, приехал сюда в командировку и явился дедушке и представился. Дедушка же не мог его выгнать. Так и познакомились. Это было в 1939 году. Так что соблюдали. И хоронили бабушку и дедушку по еврейским обычаям. Одежду надо было вывернут, подкладку, чтобы не испортить костюм, для того чтобы, почему-то по еврейским обычаям старший сын должен был на процедуре похорон рвать или резать на себе одежду. И я это помню, я присутствовала на похоронах бабушки и дедушки. Служба была по всем правилам. И ему подрезали подкладку и он тоже читал какую-то молитву. Папа был в войска ПВО. Потом было самое ужасное время, потому что был голод в Ленинграде, войска ПВО собирали по квартирам и на улицах трупы, их заставляли. Самое страшное было ложиться спать, потому что из-за голода часть людей не просыпалась. Потом их перевели, когда защищали Невский пятачок, он был связистом, был на передовой, у него очень много медалей, и, кроме того, медаль «За отвагу». Потом, когда перевели в действующую армию, это было уже счастье, потому что кашей кормили, не давали сразу есть, потому что они могли сразу умереть. Так папа заработал язву. И в действующей армии он прошёл через Кёнигсберг, Польшу и Германию. Он был связистом. И потом, когда наши стали захватывать немецкое оборудование, так как знание 8 языков была редкость а папа знал, и он читал что за оборудование и разбирался, и обучал даже наших солдат. Захватят, например, маленькую телефонную станцию, которой надо пользоваться в бою, и он учил, читал документацию, знал телефонию и вообще человек был способный. И знал язык, а таких фактически не было людей, которые знали и то, и то. И поэтому к концу войны он обучал солдат. А солдаты его научили «р» говорить. И даже в допросах пленных участвовал, его брали как переводчика. Кончил он старшим сержантом уже в Германии, после победы. Есть судьба. Его всегда хоронил кто-то. Было два случая, когда он мог погибнуть и не погиб. У него было ранение, несколько сантиметров и всё. А он, чтобы от части не отстать, даже в госпиталь не поехал. В подбородок через мягкие ткани прошла пуля, у него даже остался шрам под губой. И один раз он вышел из блиндажа, и сразу в блиндаж попал снаряд, и все, кто там был, погибли. Вот так дважды на войне он чудом остался жив. И чудом он остался жив до войны, его не арестовали из-за того, что он был всё время в командировках. Знали что его могут посадить, поэтому его и отправлял начальник. Знали, только друг другу не говорили. А в 1937 году Соня приехала в гости к маме с папой и очень хотела в Россию, а она ужасно болтливая женщина, ей нельзя сказать, что не надо приезжать. Она после войны жаловалась, что они не рассказали ей что нельзя, и не пригласили. А она обиделась на них, что они её не пригласили остаться, когда она приезжала к ним сюда из Румынии, где она жила с Павлом. Очевидно, они пересидели там войну. Мы с мамой поехали к ним в 1946 году в Черновцы. Была Соня, Павлик, её муж, и моя бабушка Шейла. Бабушка красилась, красила волосы, париков никаких не носили, тогда не было выщипывала себе брови, и мама тоже, она была из Франции, современная женщина. Мама хозяйство всё вела в коммунальной квартире, маникюра уже не было. Всегда стриглась, всегда носила бусы, очень любила, всегда брови выщипывала, губы всегда красила. Она была не очень интересная, но у неё была пикантность. Папа был красивый. У него была копна вьющихся волос, и женщины его любили всегда, а мама была человеком скромным, но никогда не ревновала, никогда даже не делала вида что она знает что она знает о каких-то папиных приключениях, а они были. И мама умерла в 1965, а папа в 1979, и 14 лет он жил и не женился, вместо мамы он не мог никого достойного найти, но женщины всегда вокруг него были, и желающих было очень много. И даже после его смерти одна женщина со мной общалась, Татьяна Абрамовна, она мне говорила: «я его любила». Так вот эти старики любили, так мне казалось старики, папе было столько лет, сколько мне сейчас, когда мама умерла. Мы переписывались с отцом в то время, когда он был в армии, и даже приходили маленькие посылочки. Он присылал бумагу. Солдаты имели право, когда советские войска вошли в Германию, то офицерский состав вагонами присылал, целые вагоны, и мебель, и одежду, трофеи, а солдатам разрешали за какой-то отрезок, кажется месяц, маленькую посылочку. И мы получали, папа присылал, а я в 1945 году пошла в школу, писали на газетах, мне было 6 лет, папа любил меня, маленькая пошла в школу, Жора был уже в 3 классе, а я в 1 пошла. И папа присылал мне чистую бумагу. Потом присылал слоники, 7 слоников, безделушки, на счастье, костяные, потом в форме деда мороза флаконы из-под одеколона, раскрашенные, для нас это было что-то необыкновенно красивое. И сюда привезли, у нас долго на Союза связи он стоял, для нас это была невидаль. Потом карандаши он присылал, 6 чайных ложек серебряных, они и сейчас есть у меня, и нож-пилка, он тоже есть сейчас, только ручка сломалась. Вот это папа присылал из Германии. А привёз он, когда приехал оттуда, велосипед и приёмник, и после войны нельзя было западное радио, и вообще приёмников не было, и они с мамой слушали «Голос Америки» и я сама не знаю что. 9 Я не умела писать, а мама постоянно писала ему. От папы приходили в основном не письма, а открытки. В основном не просто открытка, а вид природы, красивая открытка. Были раскрашенные новогодние, когда они шли по Германии, очень красивая открытка была. И открытки были мне, Жорке. «Скоро мы победим». И все патриотизмом были проникнуты. Ну после войны он говорил, когда я говорила: «вы знали, что из себя представляет Сталин, зачем вы воевали за эту страну?», папа говорил: «мы выбирали меньшее зло». Они считали, что Гитлер будет хуже. Мама привезла открытки после войны, но они не сохранились. Когда мы жили в бараках, нашими соседями были тоже эвакуированные, не евреи. Меня всё время дразнили жидовкой, и там, и здесь. У меня шрам, в меня кинули камнем, уже здесь, в Ленинграде, мы играли во дворе. Свои никто не дразнил, а так это было часто. Я в институт поступала в 1959 году, уже было послабление, а 1958 год, Жора поступал, он не мог поступить, куда хотел. Он поступил в Горный институт. А 1959 год уже было послабление, и мой муж, Лёнин отец, он поступил в университет на матмех, и его выпускники были сплошные евреи, потому что сняли запрет, и это было 1 год, и вы можете проследить выпуски, половина – евреи. После войны мы в ноябре 1945 года мы вернулись из эвакуации поездом в товарных вагонах. Везли вещи. В это время была амнистия, ехали с амнистированными, а в вагоне было много всего, возвращались после эвакуации. В Ленинград можно было вернуться только по разрешению, папа прислал вызов. Папа вернулся в эту же комнату, она охранялась, так как он был военный, ушел на фронт, наша комната была опечатана, комнаты сохранялись за военными, и поэтому там даже у нас был потайной шкаф, и в этом шкафу сохранились вещи, даже мой большой пупс, и я так хотела вернуться в Ленинград из-за этого пупса. А другие вещи не сохранились, потому что топили, и папа очень долго в блокаду был в Ленинграде, а у нас соседка была дома и в эвакуацию не выезжала. У нас очень много народу погибло в начале войны, потому что к войне были не готовы, людьми «затыкал» Сталин, просто тысячи людей, молодых парней, отправлял Сталин, а защищаться было нечем, ни танков, ни самолётов, даже ружей, поэтому их всех убивали. Поэтому, если посмотреть похоронки, то основная масса людей погибли в первые месяцы войны, потому что Сталин растерялся. И муж тётя Ани погиб в первые дни войны, и она осталась с близнецами, а папа приходил, в ПВО их отпускали, он её подкармливал и потом разрешал сжигать всю мебель, надо было греться. Но у неё всё равно оба близнеца погибли, осталась только дочка Тамара, она была старшая. Тётя Аня уехала уже после снятия блокады со своей дочкой Тамарой к своей сестре в эвакуацию. А мы возвращались очень долго, несколько месяцев, потому что товарные поезда ходили не по расписанию, а папа должен был уехать в командировку, потому что после войны захватили очень много немецких телефонных станций, они назывались «шаговые». Поднимаешь трубку, нажимаешь кнопку «А», телефонистка говорит: «Алло», и ты говоришь: «такой-то номер». Папа всё это переводил, и был единственным человеком в России, который знал эти шаговые АТС, его сразу взяли в Гипросвязь, это проектная организация связи, после войны сразу он начал работать в Гипросвязи, был руководителем группы, его подчинённых я очень многих знаю. Они кончили когда-то наш Институт связи, и они рассказывали, что папа научил их работать, и разбираться, и проектировать, он был очень большим специалистом, он знал ещё французский, немецкий, его очень хотели взять в НИИ Связи, Москва его звала, и он так любил свою работу, никуда не соглашался уйти. 10 Папа нас ждал, ждал, не дождался, и когда мы приехали, его здесь не было. Мы приехали в ноябре, я уже должна была пойти во второй класс, но целую четверть мы ехали. Первый год я училась в эвакуации. Я была маленькая, и меня, чтобы нигде не «болталась», отправили учиться. Читать я научилась, а таблицу умножения я не знала. Здесь взяли во второй класс, а они уже все знали таблицу умножения, и когда учительница спросила, а я не знаю, я очень плакала. А учительница увидела, что я всё-таки не дурочка, она сказала: «мы с тобой выучим». Она стала задавать мне эти столбики. Мы приехали, никто нас не встречает, через Москву, в Москве нас встречала тётя Ида, мамина подруга, они с ней списались, она нас встретила в Москве. И у нас в белье везде были блохи, мы же не мылись, ехали вместе с амнистированными, все вшивые, я вся чесалась, и когда мы приехали тётя Ида нас сразу в баню, если вши – надо пропарить. Меня привели в баню в Москве тётя Ида с мамой, и я вся чешусь, подошла гардеробщица: «что это с девочкой?». Я не помню, что говорили тётя Ида с мамой, а меня предупреждали, что я не должна чесаться, но я была маленькая девочка, 7 лет, и я не могла выдержать. А Жорка не вымылся, только мы. Он уже большой, 9 лет, в женскую его не пускали, а один он не мог ходить, в Москве он ничего не знал. Он мог пойти в баню с дедушкой, но дедушка и бабушка сидели «на вещах». А меня взяли с собой тётя Ида и мама. Я в метро ни за что не хотела заходить на эскалатор. Меня пустили по неработающей лестнице, я боялась. Они меня уговорить не могли. Такая деревенская девочка. Из Москвы мы уже ехали нормальным поездом, уже не в товарном вагоне, приехали, и никто не встречает. И мама пошла пешком с Московского вокзала. Пришла домой, там тётя Аня уже приехала, какие-то соседи, они сказали, что папа оставил ключи и уехал в командировку. И они взяли тележку на 2 колёсах у дворника, и пришил за нами на вокзал. Меня устроили в школу, а папы всё нет и нет. Город казался чужим, никакой красоты я не видела, всё было разрушенным. Только странности, теперь я должна была ходить в школу, с соседкой Тамарой. Он приехал до нового года. Я ходила в школу во вторую смену. И вдруг вечером за мной пришла соседка. Я удивилась, почему меня встречают. Вхожу в комнату, и сидит совершенно незнакомый мужчина, я не могла понять кто это. Мне говорят: «это твой папа». Он привёз корзину испорченных яблок, и сказал: «ешь». И я ела, и не могла остановиться. Мама мне сказала: «хватит». Папа говорит: «ешь сколько хочешь». И с тех пор я не ем яблоки вообще, потому что я переела при встрече с папой. Мы с папой много разговаривали, но никогда не было такой близости, никогда не обнимались с ним, не целовались. Он всегда обнимал и целовал жену Жоры, свою невестку, а со мной никогда. Всегда он был от меня на расстоянии. Видно я военные годы прожила без него, и он стоял как-то особняком. И маму, и папу я называла на «ты», но «телячьих нежностей» не было никогда. После войны мама не могла устроиться, она устроилась в библиотеку библиографом. Она знала языки, переводила с 6 языков. Французский, немецкий, английский, румынский, русский, иврит. Но иврит тогда был не нужен. За всю жизнь он не пригодился ни маме, ни папе. Она ещё переводила с испанского и итальянского. Так что она могла разобрать более или менее любой европейский язык. И она была в химической библиотеке, аспирантам она переводила много, и её очень любили, она много помогала студентам. На её похоронах была тьма народу, это было что-то невероятное. Она переводила всё безвозмездно. Она умерла в 1965 году, она как раз вышла на пенсию, и у неё был рак груди, он пошёл в ноги и она несколько месяцев лежала и в декабре умерла. Мы остались в квартире на Союза связи одни. Весь дом был расселён, на наш дом, куда мы должны были переехать, был не готов. Так как Жоре не где было жить, он по 11 распределению уехал в Красноярск в 1958. А я кончила в 1959, и Жора посчитал, что площадь нужна мне. У меня уже был Гарик. Жора женился, его жена, Люся была подруга дочери тёти Гуты, когда он ездил в Алма-Ату они там познакомились. Он начал ухаживать. Она сюда приехала, когда он кончал институт, они поженились, и оба уехали в Красноярск. Это было в 1958 году. В 1959 у них родился Миша, а после смерти мамы у них родился второй сын Кирилл, с которым они уехали в Германию. Когда хоронили маму Жора здесь уже жил, они вернулись из Красноярска. Когда в 1965 году появились кооперативы, то есть можно было купить квартиру, причём независимо от того, какую площадь имеешь, мы одни из первых вступили в кооператив. Был такой ажиотаж с квартирами, можно было купить квартиру только тем, у кого площадь была меньше 4,5 метра на человека. У нас было больше, но меня взяли в кооператив, а мама и папа были людьми всё-таки западными, и они знали, что можно купить квартиру, и они всё время собирали деньги, чтобы Жору вернуть сюда. У них были деньги, потом папа был «нарасхват», работал дни и ночи и хорошо зарабатывал. Тогда телефония развивалась, были нужны АТС, он был руководителем группы, дома прямо не бывал совершенно. Жора был выписан из Ленинграда как военнообязанный, а Люся была прописана, это всё было предусмотрено, прописали Люсю, но не выписали, тогда было нельзя вернуться в Ленинград без прописки. Если бы выписали Люсю, то они бы не могил вернуться. А военнообязанный не мог оставить прописку, пришлось Жору выписать, они уехали в Красноярск, а Люся осталась здесь прописанной. В Красноярске на это никакого внимания не обращали, и поставили прописку в этот же паспорт, хотя она была не выписанная. Они жили там 3 года. Потом там была целая история. Жора там стал работать не по своей специальности, нефтяное бурение, жуткая специальность, работы не было, и он поступил на завод конструктором, хорошо себя проявил. В Ленинграде в Колпино Ижорский завод выпускал такие краны, и не хватало специалистов, и его начальника пригласили, сказали: «возьмите любых 3 сотрудников». Этот начальник взял мужа моей подруги, Жору, и ещё одного, Лешу. И сказали, что дадут здесь комнату. И моей подруге сразу дали комнату, а Жора уехал в Алма-Ату переждать, пока тут дадут комнату. Это был 1964-1965 год. И, конечно, Жору не взяли, это был закрытый завод, они делали что-то военное. Краны была гражданская специальность, он всё равно не взяли, и Жора остался с Люсей жить у её мамы. И тут кооперативы. И сразу на моё имя, Жоры же не было, мама с папой сразу вступили в кооператив в 1964. Сразу же Люся приехала сюда с Мишей. У неё был потерян паспорт, в котором у неё были прописки в Красноярске и Алма-Ате. Когда её допрашивали, где паспорт, она сказала что он утонул в реке, получила новый паспорт с пропиской. А в 1965 году летом, всю зиму мы жили вместе, квартира была готова. Мы ещё успели отвести маму на машине, показать ей новую Жорину квартиру, и в 1966 году мама умерла. Их квартира была на улице Гагарина. Они въехали летом. А наш дом стали расселять зимой того же года. И мы уже выбирали квартиру, когда нам предлагали район, так, чтобы это было ближе к Жоре. Когда мы выбрали квартиру, то выбрали квартиру тоже в Московском районе на проспекте Космонавтов. Мы жили в 15-20 минутах ходьбы. Но наш дом был ещё не готов, мы жили без всех удобств там, на старой квартире, с больной мамой, туалет в соседней квартире, электричество отсоединено, всё было перекрыто, ждали, когда достроят. И когда дали ордер мы буквально на следующий день переезжали. Лёне было 6 лет. После войны начались новые аресты. Они все происходили ночью, и папа тоже был по командировкам, и вечером папа с мамой уходили гулять. У нас был личный телефон, 12 папа был специалистом, это были единицы людей, много кому было нужно, тогда вообще были единицы телефонов. Ему звонили его забирать, а его нет, и не приезжали. Аресты происходили так, группа в машине, которая ездила арестовывать, брали список, 100 человек или 50 человек, и они отмечали арестованных, и не знали, кого они арестовали, кого не арестовали, такая неразбериха, сегодня один список, завтра другой, кого тут не взяли они не перенесли. Из-за этой неразберихи папа остался на свободе. КГБ знало, что он на свободе. За ним было приставлено 3 человека, которые должны были следить, что он говорит, как говорит, как ведёт себя, шпионит ли он. И двое это были его самые близкие друзья, его сотрудники, их завербовало КГБ, одна из них ему потом об этом рассказала. Она должна была раз в неделю или 2 недели встречаться с представителями КГБ у Финляндского вокзала, рассказывать, что папа говорил, с кем встречался. Она не могла отказаться от этого, её саму бы арестовали. Второй это был дядя Аарон, я даже считаю, наш родственник. И он тоже папе рассказал. А третий человек так папе и не рассказал. Они не могли в себе это вынести. Они ему рассказали, а они знали, что он никуда не донесёт. Особенно на дядю Аарона напирали. Но никто из них троих ничего плохого про него не рассказал. После смерти Сталина в 1956 году стали возвращать тех политических заключённых, кто был репрессирован, и реабилитировать и давать квартиры, возвращать назад. А папа ещё здесь был непосаженый, и тётя Малка с дядей Витей и тётя Загава с семьёй, они не сидели. И из Сибири вернулась Соня. Она нашла тётю Загаву, это всё одна компания. Её реабилитировали, она, когда пришла к Закаве, и рассказывает, чьи допросы она видела, Загава сказала: «Муля жив и здесь». Она сказала: «не придумывай, потому что я сама видела допросы, подписанные папой», показания, что она – немецкий шпион. И когда её реабилитировали, то в списках умерших был папа, Сосонко Муля. Она видела сама, потому что он не сидел, а у них числился посаженным. Раз его на момент реабилитирования не было живым, значит он умер. И она видела прямо в списках. И она в тот же день приехала и увидела Мулю, и я помню, как она потом с ним целовалась, потом привела своего сына из детдома, пока ей дали квартиру, она жила у Загавы. И потом они получили здесь однокомнатную квартиру на сына, и она осталась в той же коммуналке, работала в библиотеке. Папа мой был умный человек, Сталина вообще терпеть не мог. Они с дядей Аароном в 1952 году ездили друг к другу, обсуждали эти жуткие события и каждый день виделись, друг без друга они не могли жить. А нам ничего не рассказывали, я не знала, что папа был во Франции, пока не стала заполнять анкету, поступая в институт. В институт я поступила до замужества. Я вышла замуж, когда была на последнем курсе. Это был Химикофармацевтический институт, он находиться на Петроградской стороне, напротив ЛЭТИ. У меня биография очень простая. Я поступила в институт без всяких проблем в 1959, училась прилично в школе и хорошо сдала экзамены, всего было 30 баллов, было 6 экзаменов, я набрала 27 – три пятёрки, три четвёрки. Проходной был 25, поэтому я поступила легко. А в 1958 нельзя было поступить. Был 1959 год, и, может быть, 1960, когда евреи могли свободно поступить. Когда я была на втором курсе, мы уже познакомились. Была такая смешная история. Была Броня, папина двоюродная сестра, моя бабушка и её мама – родные сёстры. Она очень дружила с моим папой. До войны она работала в радиокомитете, очень красивая. Когда её мама умерла, ей было 10 лет. Она жила с отцом, с мачехой она не уживалась. Она поступила в ремесленное училище, тогда не было ПТУ, была очень красивая, и её кто-то 13 из её ухажёров устроил в радиокомитет. И там же работала мама моего мужа, Гария Абрамовича, и они там познакомились и очень дружили. И после войны мама моего мужа, Александра Львовна, и Броня поссорились. Броня была на свадьбе Александры Львовны до войны. Во время войны Броня была в эвакуации с радиокомитетом, и после войны они встретились и поссорились. Они уже друг о друге ничего не знали, но Александра Львовна видела, что она ведёт концерны в филармонии. В филармонии раньше вели концерны, она была представителем. В Большом зале только она вела. И в 1956 году на концерте к ней подошёл брат Александры Львовны, просто он был на концерте, подошёл, она приехала домой к Александре Львовне, они начали снова дружить. А у моей тётки была одна мысль: выдать меня замуж. У неё на дне рождения была Александра Львовна в первый раз, и я страшно понравилась Александре Львовне, и она Броне сказала, чтобы на день рождения Ляли, это младшая сестра, чтобы я пришла. Броня мне передала, я, конечно, сказала, что я никуда не пойду. Тогда ещё второй курс, мне было 17 с половиной, я сказала, что я не пойду. И как она меня уговаривала. И Александра Львовна позвонила мне, и я сказала, что я тяжело больна и не могу прийти. Но она сказала: «я очень прошу», и я не смогла отказать, и мы с Жоркой отправились туда, к Ляле на день рождения, вся та семья была мне абсолютно незнакома. Но от Брони уже тьма рассказов. Я помню, как я вхожу, и была очень улыбка обаятельная у моего мужа. Это я помню. Так мы и познакомились. Потом я уехала на практику в Киев после 2 курса. А Броня на это лето сняла дачу вместе с Александрой Львовной в Зеленогорске. И когда я приехала с практики, Броня сразу сообщила, что приехала Алла. А Гарька был на даче, конечно, он никакого вида не показывал, что я его интересую. А тётка у меня за словом в карман не полезет, а он понимал, она ему уже все уши прожужжала: «Алла, Алла». Ему хотелось со мной встретиться, но он не знал, как это сделать. А тогда, в 1956 году, только стали пускать иностранцев сюда, в Россию. И в Ленинграде было много иностранцев, и ездили смотреть на иностранцев. И он думал, как бы получить мой телефон. Я жила рядом с Исаакиевской площадью, рядом с Асторией, кругом туристы. И он стал изображать: «так хочется посмотреть туристов». И Броня сразу: «вот тебе телефон Аллы». Тётка не верила, что он позвонил, пока он не описал, в чём я была одета. Мы тогда гуляли по центру. У меня в гостях тогда была дочка тёти Гуты из Алма-Аты. И мы с Беллкой пришли на свидание. Я очень была спокойна. И мы очень много гуляли. На пятом курсе мы поженились. И сразу у нас родился Лёня. А у Лёни с поступлением были уже трудности. Он кончил школу в 1976 году, и заранее было известно, что в университет его не возьмут. Он кончал мат. школу №30 и его учительница говорила: «кому как не Лёне учиться в университете». Уже тогда заранее составляли списки, кого из евреев «берут» в университет, и их преподавательница поддерживала связь с человеком, который должен был регулировать количество евреев на матмех. И с ними согласовывали. И кого из «половинок», кого из «целых», из «целых» почти не брали. И Лёнина двоюродная сестра Женечка, они учились в одном классе, дочка Ляли, они были очень дружны. Лёня был победителем городской, и даже один раз всесоюзной олимпиады, а Женечка была победительницей всероссийской олимпиады и была золотая медалистка в этой школе. Нет ни одного класса, где бы она проучилась без грамоты все 10 лет. Женечку взяли, она была «половинка», но с такими данными. У неё мама была еврейка, а папа «половинка». Было известно, что Лёню не берут в университет, и ничего сделать было нельзя. А поступать в другое заведение он не хотел, поэтому сдавал экзамены, и его «валили» везде. Его не взяли в 1976. Он год работал, занимался на компьютерах программированием, 14 очень успешно. И в университете было очень много друзей у него. У него было много друзей, но они ничего не могли сделать. Потом, когда разговаривали с тем, кто занимался приёмом евреев, тот, кто давал Лёне рекомендацию дал слово, что Лёня не уезжает. Потом этот сказал: «хорошо, пусть поступает на механику, мы мешать не будем». И он всё сдал. А когда он не поступил, у меня папа ещё был жив, он умер в 1979 году, а это было в 1976, жутко переживал, что Лёня не поступил, и говорил: «уезжайте». Но мы не уехали, а брат у меня уехал в 1992 году, и Женечка уехал. Брат в Германии с младшим сыном, а старший здесь. А брат Люси здесь, и каждый год приезжает, и часто 2 раза в год они здесь. И мы все отпуска проводим вместе. У нас вообще была очень дружная семья. Мы перезваниваемся с Люсей, Люся звонит каждые 10 дней. И племянников своих я очень люблю. Мишка здесь, старший, а Кирилл, самый любимый, младший, он там. Раньше отпуск мы проводили все вместе, потом, когда дети стали взрослыми, они стали отдыхать без нас. Мы ездили в разные места: в Мурманск, Прибалтику, Латвия, недалеко от Риги, были в Рогачёве 2 лета. Просто там отдыхал какой-то наш приятель, хвалил, и 2 лета мы там отдыхали, понравилось. Потом Украина, Белоруссия, Нарычи. Потом Лёня уже женился. Когда они уже стали студентами, то уже, конечно, всё. Так что все племянники были при нас, и все отъезды, Женечкин отъезд, были очень болезненны. Мама мужа, Александра Львовна, была ещё жива, когда мы поженились. Она умерла в 1951. Отец его умер во время войны. Кто он – я даже не знаю. Вроде бы его дедушка имел ювелирный магазин, его раскулачили, держали в тюрьме, морили голодом. Он отдал всё, что было. Больше я ничего не знаю. Бабушек мужа я обоих видела здесь в Петербурге. У мужа есть сестра Аида. Маленькая она называлась Ляля, а Аида – имя, которое никому не нравилось. Её назвали в честь умершей сестры Александры Львовны. Дети оба были Аида и Гарри. Она потом мне говорила: «как такие сумасшедшие имена можно было дать?», а тогда, когда давали, не думали. Аида всю жизнь называла себя Лялей. В институте она была Лялей, только когда пришла на новую работу она представилась как Аида. И там, на работе решили, что она глухая. Потому что зовут: «Аида», а она не откликается. Потом они уже не знали и поняли, что она не глухая. Она умерла в 30 лет. Она умерла летом, а я с детьми, с Женечкой, была в Белоруссии. Я вначале работала в своём институте. Устроиться было очень трудно. Потом папа меня устроил в свой Научно-исследовательский институт связи, у них была своя лаборатория. И там я работала с 1961 до 1971 года. А в 1971 году моя студенческая подруга Кира Карасёва, которая в Красноярске за Жориного товарища вышла замуж и вернулась сюда назад на Ижорский завод. Она работала на Ижорском заводе и устроилась на третью станцию переливания крови в Пушкине, это рядом, и она устроила меня на эту станцию и я работала технологом, делала анализ крови. А Гарий Абрамович остался в аспирантуре, и когда он учился, опять же его руководитель Грип устроил его в Горный институт на кафедру теоретической механики. Нашу станцию закрыли в ноябре 1998 года, я уже на пенсии. У меня были очень жуткие беременности, начинался жуткий токсикоз, причём в первый же месяц. Во первых тошнило, я не видела, не слышала, просто не жила. Я пыталась иметь второго ребёнка и даже ложилась на сохранение, Броня меня устраивала. Но остался один Лёня. У дедушки со стороны папы была борода. Другого дедушку я просто не знаю. И другую бабушку я видела всего 4 раза в своей жизни, мама очень страдала из-за неё, она была очень странным человеком. Например, она приехала к нам после смерит моей бабушки, моя бабушка умерла, а дедушка ещё остался жив. А у Сони ушёл муж из-за этой 15 бабушки, он не мог с ней жить, и Соня попросила, чтобы бабушку мама взяла, так как моя бабушка умерла. И мама забрала свою мать к себе сюда. И дедушка, и папа, все дали согласие. И что она здесь делала, старая уже была, она ходила, искала работу. Её содержали, уговаривали, стыдно перед соседями, она ходила на первый этаж, где была парикмахерская, устраивалась туда уборщицей. Причём она совершенно не собиралась работать, она в своей жизни никогда не работала. Он она всё время искала работу: «я не могу, чтобы меня содержали, я должна найти работу». Ужасно. Потом она ужасно досаждала дедушке. Ей очень здесь не понравилось, здесь было тесно, а там у неё была отдельная комната, и она прожила здесь несколько месяцев и вернулась к Соне, а Павлик за это время уже к ней вернулся. И она там уже стала вести себя тихо-тихо, уже поняла, что она Соне мешает. Она была странная во всём, я не могу вам рассказать, бывают странные люди. Как она говорила, как она одевалась. Она была седая, но красилась, была огненно-рыжая, брови все нарисованные. Тогда это не принято было. 1949 год, после войны, и женщина, старая, мы стеснялись её, я была девочка, у меня бабушка была красивой, она могла со всеми ладить, везде любили, а эта не умела общаться с людьми. Но она никогда никому плохого ничего не делала. И всю свою жизнь она занималась благотворительностью, и большие деньги она тратила на помощь. То есть она была человеком хорошим, но всегда была странной. Мама с ней никогда не жила, и ей было очень тяжело с ней жить. Но они могли позволить себе отправить дочь за границу, они были обеспеченными, дедушка был уважаемый обеспеченный человек, бабушка не работала, хозяйством не занималась. И все 4 детей у них с высшим образованием. Правда мама прирабатывала гувернанткой, но это было принято у студентов. Почему мама умела и готовить, и вести хозяйство, у меня мама делала совершенно всё. И она никогда ничего не боялась в своей жизни и всё умела. Была очень спокойной. Вот папа был вспыльчивым человеком. Он был еврееподобен, он был религиозно еврееподобен. И очень любил рассказывать, а мы не любили слушать. Для нас он был очень занудным. И бабушка его всегда одёргивала. Из праздников я помню только Пасху. У нас была маца, галушки, фаршированная рыба, а больше ничего. Бабушка не старалась нас заставить, потому что родители были неверующими, а дедушка старался. Бабушка была более светская. Пасху мы справляли и после смерти дедушки и бабушки. Без молитв, но маца была всегда. В детстве иногда ходили с дедушкой в синагогу. И дедушка иногда брал Жору на молитву, у них иногда не хватало десятого человека для молитвы. У нас на улице была комната, где они иногда собирались и молились. Это было просто в жилом доме, раз в неделю. Девочек туда не брали, только Жора был там несколько раз, ему одевали шапку. Дедушка называл это синагогой. Всё религиозное после смерти дедушки папа отнёс туда. Бабушка не читала мне этих книг, а дедушка их всё время читал. Это молитвенники, Библия, история государства. Он вообще был образованный в этом смысле, в иудейской литературе, светскую не читал, никогда не выписывал газеты, что делали мои родители. У него были свои суждения, своя оценка верований, Бога. Но он говорил, что на всякий случай верит, то есть он как бы признавал атеизм, но не хотел это внутренне признать, что можно жениться на русских, он понимал, что это всё в наше время предрассудки. Ортодоксальное еврейство уже всё-таки отходит, и не только в России, он и в Америке. Вот, например, приезжает кантор – женщина. Она из Лос-Анжелеса. Это уже очень сильно похоже на молдавскую, русскую музыку. Она очень перекликается с еврейской. Так это такая молитва красивейшая, совершенно такая классическая музыка, и красивая и весёлая, там танцуют и всё. А вы посмотрите, ортодоксальная наша синагога. Еврейского в квартире у нас ничего нет. Раньше висела мезуза на дверях, я её подарила Лёне. Висит глаз, подарок, из Иерусалима. 16 Стали разрешать праздники. Лёня, Женечка ходили танцевать, и я тоже ходила, мне это было интересно. Это было в синагоге, в Хануку, когда в праздники танцуют. Я просто смотрела, потому что мы этого ничего не видели. Дома мы уже не делали Шаббат. Я не возражала бы, чтобы мои внуки праздновали Шаббат. Вот Пасху, например, я праздную, мои друзья собираются, но тоже без обрядов. Но сама я уже хотела бы, но если бы меня пригласили. Для меня, наверное, поход в синагогу не имеет большого значения, он к Израилю я не безразлична. Просто приятно, когда что-то хорошо, если это евреи. Я была в Православной церкви, но туда не хожу. Просто ходили с экскурсиями и были в Иерусалиме в Православной церкви. Тоже интересно. До войны у нас была няня, мама работала, а бабушка была больная, но я её не помню. После войны, 1946-1947 годы, мы снимали дачу под Ленинградом. А потом в Токсово. Насчёт дедушкиных братьев и сестёр я не знаю, а бабушкиных 2 сестёр я знала. У них было 4 сестры и 1 брат. Они жили здесь. Моим любимым предметом в школе была математика. Я не могу сказать, что меня дразнили в школе, но вообще с антисемитизмом сталкивалась. Вообще в классе мои подружки не обращали на это внимания. На эти темы мы не говорили. Сейчас у меня мои 2 ближайшие подруги – русские. Еврейки все уехали. Мы как раз сейчас очень много говорим о еврействе с русскими подружками. Демократизация меня коснулась, так же как и всех. Стало свободно и с литературой, и с чтением, и с еврейским вопросом. Но я не эмигрирую, потому что не эмигрируют мой муж и сын. Никакую помощь ни от каких благотворительных организаций я не получала. Полное собрание сочинение Энгельса и Ленина он собирался, когда уйдёт на пенсию, изучать, но не изучал. Он очень мало был на пенсии, он работал до 72 лет. Потом мы всё это выбросили.