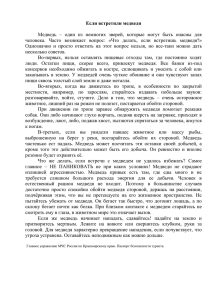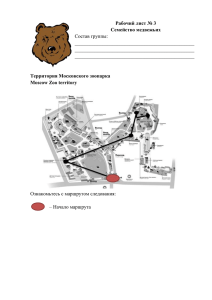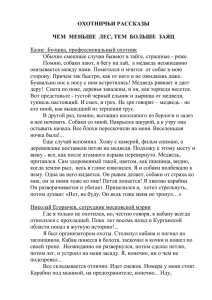Медведь: белорусская ипостась.
advertisement
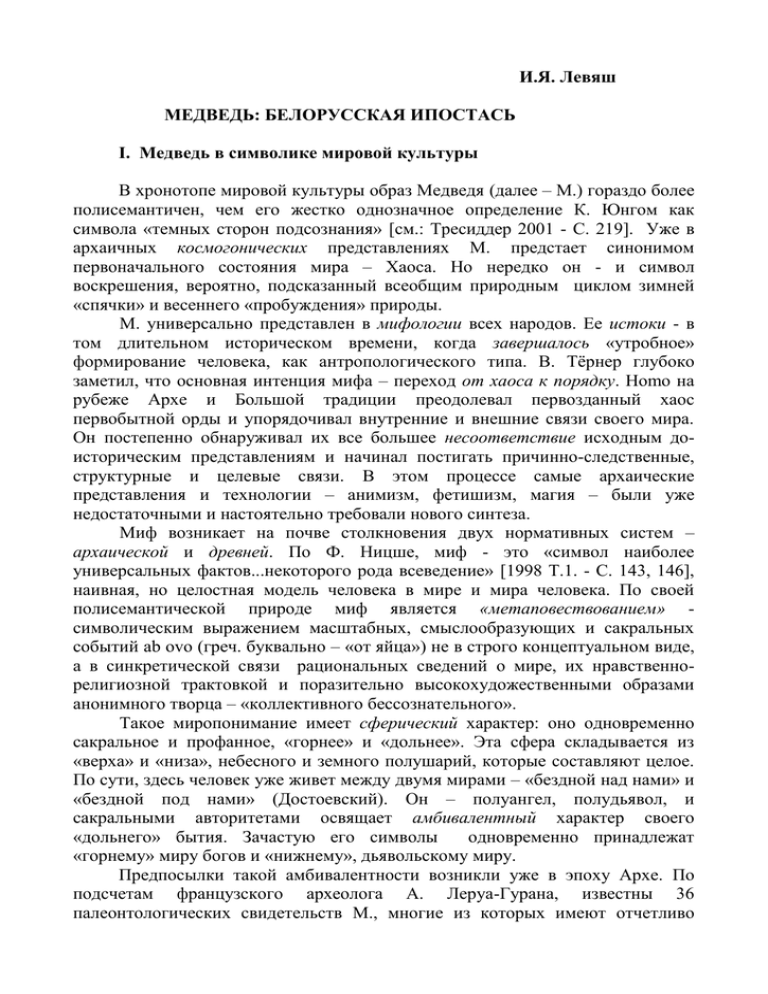
И.Я. Левяш МЕДВЕДЬ: БЕЛОРУССКАЯ ИПОСТАСЬ I. Медведь в символике мировой культуры В хронотопе мировой культуры образ Медведя (далее – М.) гораздо более полисемантичен, чем его жестко однозначное определение К. Юнгом как символа «темных сторон подсознания» [см.: Тресиддер 2001 - C. 219]. Уже в архаичных космогонических представлениях М. предстает синонимом первоначального состояния мира – Хаоса. Но нередко он - и символ воскрешения, вероятно, подсказанный всеобщим природным циклом зимней «спячки» и весеннего «пробуждения» природы. М. универсально представлен в мифологии всех народов. Ее истоки - в том длительном историческом времени, когда завершалось «утробное» формирование человека, как антропологического типа. В. Тёрнер глубоко заметил, что основная интенция мифа – переход от хаоса к порядку. Homo на рубеже Архе и Большой традиции преодолевал первозданный хаос первобытной орды и упорядочивал внутренние и внешние связи своего мира. Он постепенно обнаруживал их все большее несоответствие исходным доисторическим представлениям и начинал постигать причинно-следственные, структурные и целевые связи. В этом процессе самые архаические представления и технологии – анимизм, фетишизм, магия – были уже недостаточными и настоятельно требовали нового синтеза. Миф возникает на почве столкновения двух нормативных систем – архаической и древней. По Ф. Ницше, миф - это «символ наиболее универсальных фактов...некоторого рода всеведение» [1998 Т.1. - С. 143, 146], наивная, но целостная модель человека в мире и мира человека. По своей полисемантической природе миф является «метаповествованием» символическим выражением масштабных, смыслообразующих и сакральных событий ab ovo (греч. буквально – «от яйца») не в строго концептуальном виде, а в синкретической связи рациональных сведений о мире, их нравственнорелигиозной трактовкой и поразительно высокохудожественными образами анонимного творца – «коллективного бессознательного». Такое миропонимание имеет сферический характер: оно одновременно сакральное и профанное, «горнее» и «дольнее». Эта сфера складывается из «верха» и «низа», небесного и земного полушарий, которые составляют целое. По сути, здесь человек уже живет между двумя мирами – «бездной над нами» и «бездной под нами» (Достоевский). Он – полуангел, полудьявол, и сакральными авторитетами освящает амбивалентный характер своего «дольнего» бытия. Зачастую его символы одновременно принадлежат «горнему» миру богов и «нижнему», дьявольскому миру. Предпосылки такой амбивалентности возникли уже в эпоху Архе. По подсчетам французского археолога А. Леруа-Гурана, известны 36 палеонтологических свидетельств М., многие из которых имеют отчетливо 2 плотский и вместе с тем сакральный характер. Очевидна фаллическая интерпретация культа М. в древнейших артефактах (фаллос в форме медвежьей головы) [Беларуская…2004. – С. 333-336]. Но в этом культе не менее устойчиво заметно и матриархальное начало. Медведица предстает не только воплощением силы, способной соперничать с мужской мощью, но и символом материнской заботы и тепла. Некоторые изображения связаны с мифом об этом звере, который умирает и воскресает. Языческие традиции символизации М. – это, в терминах В. Розанова, «не одинаковость, а единосущее». В традиционном Китае М. был знаком мужской отваги, а появление М. в сновидениях - признаком рождения сыновей. Для японских айну и индейцев-аглонкинов в Северной Америке М. – это хтонический праотец и знак силы и мужественности. М. был одним из воплощений бога в Северной Европе, например, Одина в Скандинавии, и неистовый воин Берсеркерс носил медвежью шкуру. М. связан со многими воинственными божествами, включая древнегерманского Тора и кельтского Артио из Бёрна (швейцарский город, букв. «медведь»). На Международном конгрессе, посвященном 100-летию со дня рождения академика А.П. Окладникова, был представлен обстоятельный анализ культа поклонения медведю, широко отраженного в писаницах и петроглифах Сибири и Крайнего Севера [см.: Homo Eurasicus … 2008]. «Чаще всего семантический смысл этих изображений связывается с распространением видов животного, но иногда вместо изображения животного встречаются изображения звездного ковша (Большой Медведицы)» [Табарев 2000. – С. 10-14]. В классической протоевропейской (античной) традиции М. занимал одно из самых сакральных мест. Девственные жрицы храма богини-охотницы Артемиды облачались в костюмы медведя. Это было двусмысленное перевоплощение. Не только Марс, но и Аполлон Ликейский («Волчий») также были оборотнями. Аполлон назван «Ликейским», поскольку люди прибегали к нему как к защитнику от медведей и волков. Но он и сам превращался в волка, ворона, лебедя, барана и некоторых других животных. Такой многообразный позитив М. в языческих верованиях отрицается в монотеистических религиях. Уже в Ветхом завете Давид сражался с медведем, как с Голиафом. В христианской и в исламской традициях М. предстает как темная сила, жестокая, похотливая, мстительная и жадная. Тем не менее в одном из мест Библии описаны лохматые медвежата, облизываемые матерью. Это - образ язычников, нуждающихся в духовной опеке Церкви. В секулярной европейской культуре также заметно тяготение к тандему человека с М. К примеру, Ф. Ницше писал, что «никогда не знал искусства восстанавливать против себя..., но, может быть, найдется слишком много следов добрых отношений ко мне...я приручаю всякого медведя...» [1990 Т.2 - C. 337]. В целом в парадигмах обществ Архе и Большой традиции М. полисемантически предстает как интегральный символ сакральных базовых универсалий культуры – Эроса и Танатоса, мифологизации мира и противоборства его светлого и темного начал, в монотеистических и дуалистических (манихейских) традициях - Бога и Сатаны. 3 II. Проблема идентификации/самоидентификации Медведя в Беларуси Реконструкция символа М. в мифо-сакральных традициях Беларуси затруднена попрежнему открытым характером проблемы исторического и духовного самоопределения ее народа. На пути решения проблемы – прежде всего специфическая история белорусов, которые столетиями пребывали в состоянии фронтира между Западом и Востоком. Методологическая точка опоры преодоления этого затруднения - в метафоре Ф. Ницше: «Кто же здесь, собственно, задает нам вопросы…Кто из нас здесь Эдип? Кто сфинкс?» [1990. Т. 2– С. 154]. Сфинкс и ее вопрос – это одна из граней мифологического способа мышления. Досократовскому человеку было еще неведомо рациональное самопознание, и он познавал себя путем проекции своей сущности вовне и ее образной рефлексии. Сфинкс – это вопрошающий о собственной сущности Эдип. Для любого культур-исторического актора это двуединый вопрос его идентификации/самоидентификации. Он предстает в двух основных версиях. Первая из них - релятивистская - сводится к тому, что народ видит себя глазами внешнего, но конституирующего Другого, предполагает исходное и постоянное референтное соотнесение с Другим и нередко принимает заемные имиджи за собственную суть. Соотнесенность с Другим, конечно, играет роль генерирующего или дегенерирующего фактора, но, если речь идет о зрелом субъекте, - никогда не конституирующего. Самоидентификация, или субстанциональная субъектность, первична относительно идентификации. Программный рефрен Ф. Достоевского: «Только бы мы осамились, стали самими собой» [ПСС. Т. 11. - С. 137]. Этот процесс также не в «белых одеждах», не свободен от заблуждений. Но его смысл - в смысловом позиционировании прежде всего не относительно внешнего Другого, а внутреннего, всегда противоречивого своего-Другого. В таком ключе самоидентификация Беларуси может быть представлена как вопрос Сфинкс Эдипу. Это не уникальный вопрос. Еще Гете в период становления единой Германии вопрошал: «Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiss das Land nicht zu finden» («Германия? Но где она? Я не могу найти этой страны»). Великобритания до сих пор озабочена вопросом о том, является ли она трансатлантической или европейской страной. Духовное самоопределение белорусского Эдипа осложнено нерешенностью специфической триединой проблемы. Во-первых, в отличие от обыденных представлений, не столь однозначно, что белорусские традиции – прежде всего христианского характера. Беларусь – не исключение в том смысле, что христианский мир в целом и его символы – отнюдь не заведомые антагонисты язычества. Напротив, писал З. Фрейд, христиане «плохо крещены...под тонкой штукатуркой христианства они остались тем, чем были их предки, потворствовавшие варварскому политеизму» [Цит. по: Маркузе 2002. - С. 67]. Россия, утверждал Г. Федотов, «откликнулась христианству своим особым голосом». По Дм. Мережковскому, 4 это «язычество, притворившееся христианством, как у Толстого», в отличие от «христианства, притворившегося язычеством, как у Ницше». Для В. Розанова, нареченного «русским Ницше», «язычество – утро, христианство – вечер…Боль мира победила радость мира – вот христианство. И мечтается вернуться к радости. Вот тревоги язычества» [1970 - С. 120, 170]. В чем латентная причина амбивалентности в отношении христиан к своему Богу? Свою роль сыграла своеобразная «родовая» трамва – некогда насильственное внедрение христианства на славянских землях. Но главное, видимо, фрейдовская «любовь-ненависть»: любовь к Богу и вера в него как следствие удовлетворения запросов верующего человека, логическая подмена основания «поэтому» следствием «этого»; леонтьевское «темное христианство»: страх перед Божьим всемогуществом или, – при очевидном в «миру» несоответствии Бога ожидаемому идеалу - напротив, «годится – молиться, не годится – горшки покрывать». Во-вторых, открытая проблема - произошли ли белорусы, согласно канону российской историографии, из «общей колыбели» - Киевской Руси или древнекиевский период - это последующая история белорусов, как уже сложившегося самостоятельного этноса. В самом деле, А. Тойнби отмечал, что в течение целой исторической эпохи не только германские, но и славянские народности были дохристианскими. По сути конфедерация Киевская Русь возникла гораздо позднее, после утверждения христианства в западноевропейских государствах и Византии. Уже в в VIII-IХ в.в. белорусы создали свое государство – Полоцкое княжество, и, как отмечают белорусские историографы, «несколько столетий наш Полоцк противостоял киевской экспансии». Затем, после дезынтеграции Киевской Руси и татаро-монгольского «распада связи времен», преемником древнебелорусского государства стало Великое княжество Литовское (ВКЛ), и в нем «длительное время белорусылитвины держали главные позиции». Во-третьих, относительно «главных позиций» в целом нельзя сказать о периоде пребывания Беларуси в Речи Посполитой. Однако сова Минервы все же прилетает, и a posteriori в Варшаве признают, что, по словам публициста С. Братковского, у Польши есть «кое-какие обязательства перед Беларусью, Украиной, Литвой и Латвией». Об этих долгах напоминает то, что «треть нашей интеллигенции носит фамилии, по которым легко установить, из каких земель она происходит». Достаточно напомнить, что официально польский поэт А. Мицкевич (из Гродненщины) сильно тосковал по родине, когда утратил ее. В поэме «Пан Тадеуш» («Pan Tadeusz») он писал: «Litwo! Ojzyzno moja! Ty jestes jak zdrowie, // Ile cie trzeba cenic ten tylko sie dowie // Kto cie stratil. Dzis pieknosc twa w caley ozdobie // Widze i opisuje, bo teskne po tobie». Еще сложней – проблема «яйца и курицы» во взаимоотношениях Беларуси с Литвой [см.: Балто-славянские…1984; Седов…1993]. Как признают эксперты, этимология самоназвания «белорусы-литвины» - это сущая западня. «Белорусская концепция истории ВКЛ в основных своих положениях противоречит литовской…Предки литовцев – Жмудь – занимали 1/10 часть ВКЛ. Ныне - претензии литовцев на монопольное владение духовным 5 наследием ВКЛ…Все-таки мы другой этнос – славяне (хотя и с примесью балтской крови)» [З гiсторыяй…1994. - C. 9-15]. В этой патовой ситуации трудно определить «кто есть кто?», и мы будем исходить не только из этимологического, но и исторически исходного смыслового тождества понятий «белорус» и «литвин», их традиционно единого образа жизни и миропонимания. К счастью, один из неизменных символов в этом ареале – Медведь не обнаруживает никакой двухосновной специфики, и вполне легитимно характеризовать его как белорусский. III. Медведь в концептосфере белорусской культуры Источниковедческая база постижения феномена белорусского М. позволяет реконструировать его в концептуально целостном виде [см.: Бараг…1963; Беларусская…2004; Беларускi…1993; Беларускiя…1992; Беларусь…1996; Бенвенист…1995; Богданович 1895; Бяздоннае…1993; Валодзiна…2000; Демидович 1896; Жыття…1998; Зайкоускi…1998; Зямля…1996; Иванов 1992; Коваль 1995; Легенды…1983; Мiфы…1994; Рогалев …1994; Этiмалагiчны…1978; Czerniawska…2005]. Традиционный белорус говорил: «Веру усялякаму зверу». Однако белорусам, как и другим европейским народам, свойственно мировоззренческое «троемирие»: высший мир (божественный), земной, «дольний» и нижний, хтонический миры. Характерно, что далеко не все населяющие его живые существа наделены универсальной символикой. Одни из них пребывают на Олимпе «сверхмира», другие – воплощают земную, «мирскую» ипостась народа, третьи – низведены в нижний «антимир», и между ними прослеживается постоянная ценностная и функциональная инверсия. В «верхнем» мире, в пантеоне белорусских богов, в свою очередь, – несколько уровней. К высшему уровню принадлежали боги, архаичные по происхождению и с наиболее важными и разносторонними функциями. Древнейшей из этих персонажей, по канонам матриархального бытия, была Мара. Поздней, с патриархальной «сменой вех», она деградировала к уровню одной из ипостасей «нижней» демонологии. Мару сменил мужской персонаж Велес (Волос) - опекун животного мира, охоты (древнейшей отрасли хозяйствования) и загробного мира. Об архаичности и универсальности этого образа свидетельствует приписываемая ему способность быть оборотнем и представать в образах медведя, волка, быка и змеи. После принятия христианства на смену Велесу пришли новые, антропоморфные божества. Единственным инвариантом осталась приоритетная приверженность к представителю зооморфного мира, наделенному не медвежьей или бычьей силой, а мудростью и доброжелательным отношением к человеку. Это Аист, или по-белорусски Бусел, существо, близкое к Богу своим ясновидением («Бусел глядзiць на воду, а углядаецца пад воду»). Он напоминает драму Адама и Евы в раю как человек или ангел, наказанный Богом за любознательность. Порученный ему мешок (или горшок) с собранными там нечистыми животными и гадами он должен был бросить, не открывая, в преисподнюю, но 6 развязал его и выпустил всю эту живность на землю. За это Б. превращен в птицу, должен наблюдать за теми, кого упустил, и очищать землю. Став птицей, Б. тесно связан с человеком, селится рядом с ним. В одном из вариантов мифа, возможно, под влиянием ветхозаветного сюжета, человек не выполнил Божественное поручение из-за своей любопытной и настойчивой жены, развязавшей мешок. И тогда Бог превратил в буслов всю семью. С одной стороны, Б. – святая птица, и ее взаимоотношения с Богом – это пример гармоничных взаимоотношений человека с дикой природой. С другой стороны, Б. воспринимается как носитель и распорядитель небесного Огня – Грымотника. Постепенно более важным стало то, что Б. связан с символикой прилета на христианский праздник Благовещенья. Его дата определяется вычитанием девяти месяцев от дня рождения Христа. В белорусской традиции обрядность Благовещенья воплощена в культах Медведя и Змеи (первый – просыпается от зимней спячки, вторая – сбрасывает и обновляет шкуру). Это – роды земли, ее воскрешение. Связанные с праздником ритуалы благословения урожая или рождения детей свидетельствуют о близости Б. к Богу. Совершенно иное, «горизонтальное» соотношение Б. с автохтонным в белорусском ареале Зубром. Поразительно, но, в отличие от первого, следов мифологизации зубра нет, и он всегда был прописан и остается в пределах земного мира. Но почему? Древнейший обитатель лесной пущи, почти раритетное животное на белорусской земле, зубр ныне наделен наибольшим и однозначно позитивным приоритетом. «Зубр – символ Беларуси, ее вольнолюбия и силы непоказной, ибо стародавностью происхождения и терпеливостью характера с белорусом сходится» [З гiсторыяй…- С. 31]. Однако модернизация образа зубра не вполне корректна. К нему обращались с целью метафорической оценки не только благородных качеств белорусского народа, но и инволюции его менталитета. Еще в начале ХУI в. М. Гусовский поэтизировал благородство и сдержанность зубра-рыцаря («не трогай – не зацепит»), но позднее, в ХУII в. Ф.Смикта-Чернобыльский уже иначе интерпретирует эту черту характера: «Давно резать стали литвина. И то де, с прыроженя натуры…просто как овца: где их больш берет волк, там оне дальше за ним идут! Большы будет жычлившый народу польскому, ничели своему!…не ведаем, куды в сию есмо диру влезли!». Зубр-«литвин» недюжинно сильный, но способный вести себя как овца («волк берет»), слишком «земной», лишенный мистической силы, не вдохновляющий символ. Единственная зооморфная альтернатива, в которой воплощены жизнь и смерть, поучительное «всеведение» мифа и идея Божественного/дъявольского сверхмогущества – это Медведь. Своей силой он напоминает Зубра, и народная присказка констатирует: «Дужы, як зубр. Дужы, як мядзведзь». Но этим и ограничивается их одномерный паритет. М. – не только нечто большее, но и более многомерное, а в мифе – универсальное существо. В триаде «Бусел - Медведь – Змея» у М. по-своему нет соперников. Это сакральная универсалия, знак как первозданного хаоса, так и его преображения в космос жизни. В символической обрядности белорусского Эроса провозвестник воскресенья Б. воплощается в просыпающегося от спячки 7 Медведя. Он выступает как одна из основных ипостасей Бога или его воплощения на земле, воскрешение к новой жизни, но в то же время - и угроза ей. Змея же – знак неотделимости Эроса от Танатоса, мудрого momento more – напоминания о бренности жизни. В триединстве этих ипостасей сущего перед нами отчетливо «вертикальная» иерархия «верхнего», небесного, земного, жизнеутверждающего и «нижнего» миров. Вполне естественно, что, являясь своеобразной синергией этих миров или, говоря добрым старославянским термином, – их сакральным средостением, М. был табуированным, и в таком контексте нередко являлся иносказательно и обобщенно. Народное присловье говорит: «Нешта у лесе велiкае здохла», и «лес – лесам, а бес – бесам». Становление культа М. в Беларуси прослеживается еще в археологических артефактах эпохи неолита. Он достиг значительного распространения в железном веке. Амулеты из зубов М. встречаются на городищах культуры штрихованнай керамики и днепро-двинской культуры. Их находили и при раскопках раннефеодальных городов (Волковыска, Полоцка, Могилева и др.). В святилище на Благовещенской горе в Брянской области (начало н.э.) была найдена большая глиняная посудина в виде головы медведя с широко раскрытой пастью. Изделие размещалось около одного из центральных идолов. На Смоленщине найден череп большого М., который венчал центральный столп святилища. Архаичный М. символизирует не только сакральную, но и земную, в том числе и зооморфную, ипостась бытия. Сохранились т.н. камни-следовики со следами М. Вероятно, им приписывались многообразные функции благословения здоровья, благополучия, а также охраны от нечистой силы. Известный образ: рядом со святым Власом (христианский преемник Велеса) можно видеть дьявола с медвежьей мордой. М. в белорусских мифологических представлениях и ритуалах выступает как амбивалентная универсалия – божество, которое умирает и воскресает, элемент астрального кода, культурный герой, родовой предок, тотем, духхранитель, гарант выздоровления и освобождения души, но также и звериный двойник человека, оборотень, в наиболее типичном облике волколака [Czerniawska 2005]. М. был медиатором связи между сакральным и хтоническим мирами. Например, согласно летописям, у литовцев ХIII в. при сожжении умершего вместе с ним клали когти М. и рыси, с помощью которых покойный должен был взобраться на высокую гору к Богу. С олимпийской высоты М. способен творить добро и зло в антропном «миру». Представления белорусов об этих качествах релевантны древнеиндийским Ведам, в которых М. воплощал бурю, гром и ветер. Еще в ХIХ в. белорусы заклинали надвигающуюся бурю словами: «Медведь, медведь, разгони тучи, дам тебе кучу овса». Покровительственная роль М. заметна в присказке: «Як ў мядзведзевым вушку – так хораша». Позитивное отношение к М. было настолько глубоким, что раньше часть белорусов была убеждена в своем подобии М., и женщины считали, что у М. даже груди белые, как у девушки. В восточном Полесье еще в начале ХХ ст. во 8 время праздников, перед тем, как отправлять детей ко сну, пели песню о М., который должен залезть на кладовую, где они спят. В белорусских свадебных песнях молодых людей часто называют «медведем» или «медведицей», а их свадебную дружину (шаферов) –«медведником». Белорусы также считали, что если приведенный в хату ручной М. заревет, то вскоре в ней будет свадьба. В позднефеодальное время в культуре белорусов известны такие элементы, как Сморгоньская медвежья «академия», где дрессировали М., и катание Пани Каханки Радзиввила летом по дороге, посыпанной солью и в санях, запряженных М. (ХУIII в.). У этой традиции – неоднозначная проекция в сакральный и хтонический миры. Вероятно, с этим связано поверье о том, что созвездие Воз (Большая Медведица) – это воз, в который запряжен М. На нем перед концом света будет ездить антихрист и подбирать людей, чтобы они забыли о Боге. Отступники оказываются в загробном мире, и его христианская и языческая версии определенно расходятся. В христианском понимании это пекло, в котором страдают грешники. Но в белорусском язычестве существует представление о «пекНым пекле», где не только черти живут весело, но и «грэшным душам пазваляюць весяліцца». Здесь вместе с карнавальной буффонадой есть и выразительный пласт языческих представлений о загробной жизни как проекции земного, где, по словам мифа, «каму на гэтым свеце добра, таму й на том свеце не ліха». Характерно, что персонаж трансляции человека из одного мира в другой – не темный, а белый медведь как солярный символ. Не менее регулярно мифологический М. выступает зримым воплощением недоброй, оппозиционной богам темной силы «нижнего мира». На Каляды подземный царь, превратившись в М., вместе со стаей волков («метелицами») гоняется за женой Перуна, которая должна родить солнечного бога. Известен сказочный сюжет, где М. выступает терриоморфным эквивалентом Бабы Яги или лесной властительницы. В лесной избушке на курьей ножке он испытывет дедову и бабину дочек, и в итоге первая получает богатую награду, а вторая – жестокую смерть. Не свободен, видимо, от глубоких мифологических корней и широко распространен сказочный мотив «Медведь на липовой ноге». Нога из липы семантически сближает медведя с человеком. Липа преображает человека в М. в согласии с его пожеланием: «Каб мяне ўсе баяліся». Другие легенды связывают медведя с человеком, который, надев кожух (шкуру медведя навыворот), хотел напугать Бога и был за это наказан. Теснейший симбиоз языческих и христианских представлений о М. предстает в совпадении во времени и смысловом резонансе праздников Комоедицы и св. Катерины. У древних греков созвучное название с Комоедицей имел медвежий праздник Comoedia. Он был посвящен богине Артемиде и отмечался перед 25 марта. Комоедица – один из праздников белорусского народного календаря. Он происходит накануне католического Благовещенья 24 марта (6 апреля по старому стилю) и посвящается М. Считали, что в это время он пробуждается от спячки и выбирается из берлоги. В эти дни готовили специальные кушанья: овсяный кисель, потому что М. любит овес, гороховые комья и сушеный 9 репник (в знак того, что М. едят преимущественно траву, растительную еду). Главная еда – гороховые комья (каша или галушки из гороха), и отсюда название праздника. После обеда старые и малые ложились в постель, но не спали, а оборачивались, перекачивались из бока в бок так, ритуально воспроизводя перевертывание медведя. На 24 марта по христианскому католическому календарю выпадает один из праздников в честь св. Катерины. В переводе с греческого Катарина означает «всегда чистая». Непосредственной предшественницей этой святой в Беларуси была древняя богиня, женская пара Велеса, которая имела отношение к животному миру, особенно к М., была опекункой браков и торжеств. Катерина – персонаж белорусского фольклора, который вобрал в себя черты как христианской святой, так и языческого божества. У белорусов, как и у некоторых других европейских народов (французов, бельгийцев, немцев), день св. Катерины считается концом зимы. Белорусский М. неизменно сопричастен не только к сакральному миру либо хтоническому «антимиру», но и является универсальным персонажем повседневности – в сказочной форме или в нравоучительных присловьях. В фольклоре белорусов распространен мотив происхождения человека от М. и его содействия человеку. М. предстает в одной упряжке с чертом во время поездки к царю славного работника Миши, рожденного от сожительства одной молодухи и М. Он встречается в сказке о трех братьях-охотниках, которые возвращают домой на возе, запряженном М., спасенную от Чудовища царевну. Производное от М. и популярное имя Миша – белорусское Мiкола интересно своим происхождением и символикой медвежьего культа. В договоре Киевской Руси (911 г. н.э.) сказано, что дружинники князя Олега клялись своим оружием «и Перуном богом своим и Волосом скотьем богом». После принятия христианства заменителями Велеса стали святые Влас и Николай. На Беларуси особенно был распространен культ св. Мiколы как опекуна плодородия земли, домашних животных, пчел. Как известно, у западных славян, в том числе и в белорусском фольклоре, М. часто называют человеческими именами Мишка, Михаил, а медведицу – Маруха. Это название «Маруха» повторил Адам Мицкевич в своем «Пане Тадеуше». М. порой называли еще и Мартином, а в Румынии – «брат Николай» (frate Nicolae), что, возможно, является контономинацией имен Николая и Михаила. Польский поэт ХУI ст. М. Рэй в одном из своих стихотворений обращается к М. – «пан Мика». Возможно, это обращение связано связано с тем, что святой Мiкола (Николай) после принятия христианства заменил Велеса, который воплощался в образе М., а «Маруха» происходит от имени богини Мары, хтонической богини рождения и смерти, образ которой позднее деградировал в персонажа демонологии. Однако не только Мiколы связаны с медвежьим культом. Характерно, что в различных сюжетах и сентенциях оценка человека зависит от того, каков он в сравнении с М. В этом ракурсе «азвярелы чалавек страшнейшы за самага яраснага звера». Таков человек, который становится М., потому что, переодевшись в кожух изнанкой наверх, пытался устрашить Бога. В М. 10 воплощается бобыль, который хотел, чтобы чудесная липа сделала его самим Богом (сказка «Жадный бобыль»). М. оборачивается бездельник, который, ленясь сам искать лесных пчел, выкрадывал чужих. Но и для «баязлівага» человека « і корч – мядзведзь». О сдержанно-уважительном отношении к М. свидетельствуют такие сентенции, как: «На жывым мядзведзi скуры не купляй» или «Важаком быць – трэба з мядзведзем знацца». Но «знацца» не безоглядно: «З мядзведзем дружи, а за стрэльбу дзяржы», и «Маленькая кулька мядзведзя валiць». Человек способен контролировать поведение М.: «Людзi i мядзведзя вучаць», «І мядзведзю кольца у губу ўдзяюць» или «Мядзведзь хай танцуе, а цыгану хай на сала шанцуе». Вообще человеческое общение предпочтительнее контактов с М.: «Хай мядзведзь куделю прадзцець, а мы будзем з людзьмi сядзець». V. Символика Медведя в традициях российско-белорусских отношений Белорусская культура – изначально центральноевропейская, начиная с позднего Средневековья и Ренессанса, все более становилась фронтиром между европейским Западом и Евровостоком – Россией [Беларусь…1996]. Культурно-цивилизационный фронтир по определению амбивалентен, сочетает в себе как ценностно-смысловые мосты, так и оппозиции и даже разрывы, и эти полюса всегда, в зависимости от конкретно-исторических реалий, находятся в динамике притяжения-отталкивания, фрейдовской «любви – ненависти». Этот культурно-исторический маятник не позволяет однозначно редуцировать смыслы белорусского Медведя к роли «пограничника» между Западом и Востоком. В постижении его символики важно не преступить меру, не оказаться в плену современных, заметно политизированных, оппозиций: с одной стороны, ряженых «тутэйшых» безоглядно прозападного белорусского национализма, с другой - великорусского шовинизма, для которого белорус – только ветвь «триединого русского народа», «младший брат» великороссов. В реальности в белорусском мainstream’е тесно переплелись самые различные миграционные и геополитические потоки: с Запада – немецкие, польские и еврейские, с Юга – татарские и цыганские, с Востока – русские (в основном преследуемых староверов). Издавна автохтонные на своей земле, белорусы воспринимали пришельцев в зависимости от добра или зла, которое они приносили на белорусскую землю. Наиболее типичен чужынец, іншаземец, чужародзец – представитель иноэтнической общности, соответствующий в народном сознании с категорией «иномира» и враждебного, в отличие от «коренных», «местных», «тутэйшых». В белорусском языке масса присловий, которые выражают инаковость «чужынцаў»: «Гаварыў бы па-нямецi, да язык грецкi. Гаварыў бы па-польскi, да язык конскi», «Iншы горад - iншы гонар», «Хоць да Кракава, усюды адзiнакава», «Да нашага берага добрага не прыстане», «У чужой парафii няма 11 чаго указваць», и, наконец, непримиримое: «Два мядзведзi у адной бярлозе не месцяцца» [Беларуская мiфалогія - С. 185, 209, 211, 212, 217, 226, 258, 270]. В этом контексте обобщенным синонимом «чужынца» выступает одна из ипостасей Медведя-оборотня – Чёрт. Его характерная примета – тождественное немоте иноязычие («немец» - в значении Ч. и немого) или непонятный язык. «Немой» - От nĕmĭcĭ, т.е. не владеющий языком группы, а значит, чужой [Бенвенист 1995. – С. 238-239]. «Инаковость» находится в соотношении с «нечистой силой». В белорусском фольклоре Ч. очень часто выступает в образе «немчика» или «пана в немецкой одежде». Ч. приписывали разнообразные аномалии физического, умственного и морального порядка. Способность негативного влияния цыган, евреев и татар авторы «Белорусской мифологии» объясняют «радикальной разницей между религиозными, социально-бытовыми и хозяйственными традициями их и белорусов…Татары и жиды «молятся черту», чтобы «загубить христиан»…(отсюда) неприятие специфического образа жизни цыган (кража коней, гадание) и жидов (корчмари, ростовщики, торговцы)» [С. 558]. Однако М.-Чёрт – и сакральное существо. После принятия христианства в пантеоне белорусских богов была, как осторожно, с оглядкой пишут белорусские этнографы, «магчымасць існавання дуалістычный пары Белабог Чорнабог» [Беларуская… - С. 364]. Рациональное объяснение такого цветосмыслового дуализма в том, что, хотя природа «чужынцаў» вызывала подозрение, они были были социально необходимыми, т.к. обладали знаниями и опытом. Так, лучшим укротителем пожаров считался цыган. Как правило, он был кузнецом, еврей – корчмарем, немец – лекарем. Тем, кому покровительствовал Чернобог, приписывались сильные колдовские способности (в преимущественном большинстве – негативного характера). В этом ряду, как вредоносное, фигурирует «око цыганское, жидовское, татарское, московское», и «маскалi» выступают в роли Чернобога. Еще во время осады Полоцка войсками Стефана Батория (1579 г.) проливные и продолжительные дожди считали следствием колдовства русского гарнизона. Этот прецедент можно рассматривать как характерный признак фронтира - смысловой перекресток. С одной стороны, нередкий мотив – русский человек фигурирует в культовых болотах, т.е. он «чужынец», или нечисть. В одном предании расказывается о заклятии реки (колодца) русским колдуном. Но колдовство – безошибочная примета сверхестественной силы, и обладание ею противоречит уничижительным оценкам русских: «Не дуры Маскву, яна і так дурная», или «Дурняў да Масквы не перевешаеш» [Беларуская… С. 276, 557]. С другой стороны, в белорусском фольклоре и преданиях русский человек часто выступает в различных позитивных ипостасях - как христианин, священник, миссионер, чародей и асiлак - доблестный воин медвежьей силы [Бараг 1963]. В 1890 г. А.М. Сементовский опубликовал предание о борьбе под Полоцком войска российской царицы, асiлка-Катерины против польской рати асiлка-Батуры. Победила Катерина, польские войска изгнали, «i тут русская земля стала». Однако, отмечают авторы «Белорусской мифологии», в предании перепутаны разные эпохи: король Речи Посполитой Стефан Баторий (Степан 12 Батура) – исторически в ХУI в. - встречается с российской Екатериной II, царствовавшей в ХVIII в. Согласно этой версии, псевдоисторическая трактовка специально создана А.М. Сементовским, человеком великодержавных взглядов и «западнорусского» направления в науке». Смысл этого направления заключался в обосновании того, что с той легендарной поры русская земля стала тут, т.е. в Беларуси. Как бы ни интерпретировать такое предание, оно свидетельствует о позитивной интенции белорусского «коллективного бессознательного» относительно смысловой инверсии своего Белого бога и русского Черного бога. В преданиях известны и такие мотивы, как стремление русского боярина побудить белорусов к переходу в православие, или речь идет о проклятой реке (в ней утопился сын ведьмы) и предложении русского возродить реку за плату «в 100 рублей и доброго коня». В такой бело-черной оптике становится понятным отношение к русскому Медведю, «москалю». В Европе, с которой Беларусь, начиная с позднего Ренессанса, была традиционно связана инненсивными культурными коммуникациями, господствовал двусмысленный имидж русского народа как «крещеного медведя». Двусмысленный потому, что Г.В. Лейбниц - автор этого хрестоматийного определения – удачно «схватил» в этой метафоре не только мощь России, но и ее выдающуюся роль в европейском христинском мире [Герье 2004]. Маркировка России как М. была скорее не наветом, а самоназванием. Даже патриотически ориентированные российские исследователи отмечают, что ойкумена славян, расселявшихся по Восточной Европе, «первых поселенцев на территориях в верховьях Оки, Волги и далее – к северу и востоку, - это буквально «медвежий угол» тогдашней Европы, и не случайно на гербе одного из возникших здесь городов (Ярославля) изображен медведь» [Наумов 2008. - С. 68]. Иное дело – российский М. все более представал миру в своей великодержавности. Ф. Достоевский, скептически отзываясь о «так называемых знатоках народа и государства», писал: «Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками,…мы ввели их в моду…пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дёгтя с «букетом императрицы» [Т.10.- С. 31-32]. «Сиволапый» неудержимо трансформировался в имперский «…огромный кулак, жилистый, узловатый,…и всем становилось ясно, что если эта глубоко национальная вещь опустится без промаху на предмет, то действительно только мокренько станет» [Там же. Т.8. - С. 134]. Так произошло и с Беларусью. После трех разделов Речи Посполитой она была включена в состав Российской империи и даже утратила свой этноним, отныне называясь Северо-Западным краем. Но белорусский народ был и остался для русского народа, по словам Достоевского, «бесконечно нам родной». В таком измерении русская ипостась М. традиционно предстает в Беларуси в динамичной амплитуде от имперского Чужого до действительно братского «Своего-другого». 13 Литература: Балто-славянские исследования. 1984. – М., 1986. Бараг Л.Г. «Асiлкi» белорусских сказок и преданий (к вопросу о формировании восточнославянского эпоса) // Русский фольклор. Вып. VIII. – М.-Лен., 1963. Беларуская мiфалогiя. Энцыклапедычны слоўнiк. Мн., 2004. Беларусь у сiстэме транс’еўрапейскiх сувязяў у I тысячагоддзi н.э. - Мн., 1996. Беларускі народны каляндар. – Мн., 1993. Беларускiя прыказкi, прымаўкi, фразеалагiзмы – Мн., 1992. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. - М., 1995. Богданович А.Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. Этнографический очерк. – Гродно, 1895. Бяздоннае багацце: Легенды, паданні, сказы. – Мінск, 1993. Герье В. Лейбниц и его век. Отношения Лейбница к России и Петру Великому. – СПб., 2008. Валодзіна Т. Благавешчанне: семантыка і месца ў народным календары беларусаў // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – Мн., 2000. №3. Демидович П. Из области верований и сказаний белорусов // Этнографическое обозрение. – М., 1896. №1. Достоевский Ф.М. ПСС в 30 т. – Т.8, 10, 11. – Л., 1973, 1974. Жыцця адвечны лад: Беларускiя народныя прыкметы i павер’i. Кн. 2. – Мн., 1998. Зайкоускi Э.М. Месца Вялеса у дахрiсцiянскiм светапоглядзе насельнiцтва Беларусi. – Мн., 1998. Зямля стаіць пасярод свету…Беларускія народныя прыкметы і павер’і. Кн.1. – Мн., 1996. Иванов В. В, Топоров В.Н. Медведь // Мифы народов мира. - Т.2. – М., 1992. Коваль У.І. Народныя ўяўленні, павер’і і прыкметы: Даведнік па ўсходнеславянскай міфалогіі. – Гомель, 1995. Легенды i паданнi. – Мн., 1983. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. – М., 2002. Медведь // Тресиддер Дж. Словарь символов. – М., 2001. Міфы Бацкаўщыны. – Мн., 1994. Наумов С., Слонов Н. Россия – суверенная цивилизация // Свободная мысль. – М., 2008. - №11. Ницше Ф. Сочинения в 2 т. - Т.2. – М., 1990. Ницше Ф. Сочинения. - Т.1. – М., 1998. Рогалев А.Ф. Белая Русь и белорусы (в поисках истоков). - Гомель, 1994. Табарев А.В. О ранних свидетельствах существования культа медведя в Евразии и Северной Америке // Медведь в древних и современных культурах Сибири. – Новосибирск, 2000. – С. 10-14. Седов В. Белорусы – славяне-балты? // Лiтаратура i мастацтва. 30.04.1993. С историей на «Вы». Мн., 1994. 14 Тресиддер Дж. Словарь символов. – М., 2001. Этімалагічны слоўнік беларускай мовы. Т.1.– Мн., 1978. Homo Eurasicus в глубинах и пространствах истории. - СПб., 2008. Czerniawska Julia. Волколак: от чуждого к чудесному // Acta Neophilologica. – 2005. – № 7.