Владимир Гольдман
advertisement
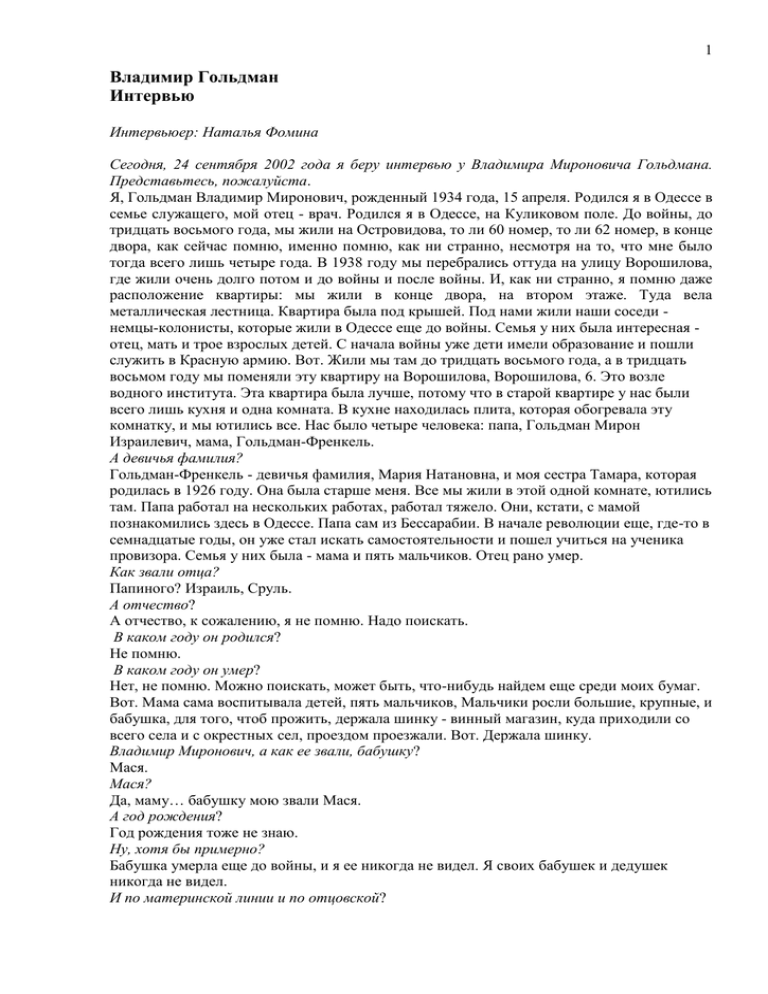
1 Владимир Гольдман Интервью Интервьюер: Наталья Фомина Сегодня, 24 сентября 2002 года я беру интервью у Владимира Мироновича Гольдмана. Представьтесь, пожалуйста. Я, Гольдман Владимир Миронович, рожденный 1934 года, 15 апреля. Родился я в Одессе в семье служащего, мой отец - врач. Родился я в Одессе, на Куликовом поле. До войны, до тридцать восьмого года, мы жили на Островидова, то ли 60 номер, то ли 62 номер, в конце двора, как сейчас помню, именно помню, как ни странно, несмотря на то, что мне было тогда всего лишь четыре года. В 1938 году мы перебрались оттуда на улицу Ворошилова, где жили очень долго потом и до войны и после войны. И, как ни странно, я помню даже расположение квартиры: мы жили в конце двора, на втором этаже. Туда вела металлическая лестница. Квартира была под крышей. Под нами жили наши соседи немцы-колонисты, которые жили в Одессе еще до войны. Семья у них была интересная отец, мать и трое взрослых детей. С начала войны уже дети имели образование и пошли служить в Красную армию. Вот. Жили мы там до тридцать восьмого года, а в тридцать восьмом году мы поменяли эту квартиру на Ворошилова, Ворошилова, 6. Это возле водного института. Эта квартира была лучше, потому что в старой квартире у нас были всего лишь кухня и одна комната. В кухне находилась плита, которая обогревала эту комнатку, и мы ютились все. Нас было четыре человека: папа, Гольдман Мирон Израилевич, мама, Гольдман-Френкель. А девичья фамилия? Гольдман-Френкель - девичья фамилия, Мария Натановна, и моя сестра Тамара, которая родилась в 1926 году. Она была старше меня. Все мы жили в этой одной комнате, ютились там. Папа работал на нескольких работах, работал тяжело. Они, кстати, с мамой познакомились здесь в Одессе. Папа сам из Бессарабии. В начале революции еще, где-то в семнадцатые годы, он уже стал искать самостоятельности и пошел учиться на ученика провизора. Семья у них была - мама и пять мальчиков. Отец рано умер. Как звали отца? Папиного? Израиль, Сруль. А отчество? А отчество, к сожалению, я не помню. Надо поискать. В каком году он родился? Не помню. В каком году он умер? Нет, не помню. Можно поискать, может быть, что-нибудь найдем еще среди моих бумаг. Вот. Мама сама воспитывала детей, пять мальчиков, Мальчики росли большие, крупные, и бабушка, для того, чтоб прожить, держала шинку - винный магазин, куда приходили со всего села и с окрестных сел, проездом проезжали. Вот. Держала шинку. Владимир Миронович, а как ее звали, бабушку? Мася. Мася? Да, маму… бабушку мою звали Мася. А год рождения? Год рождения тоже не знаю. Ну, хотя бы примерно? Бабушка умерла еще до войны, и я ее никогда не видел. Я своих бабушек и дедушек никогда не видел. И по материнской линии и по отцовской? 2 Ни по отцовской, ни по материнской линии никогда не видел. Но они жили долго, много лет в этом селе Попушое, оно сейчас слилось с Белгород-Днестровском, с Аккерманом. Вот. Мне папа рассказывал, что в свое время, даже тогда, когда начались погромы, к ним очень хорошо относились в селе, и священник, который жил в этом селе, во время погромов прятал их у себя от налетчиков, погромщиков. Село было смешанное? Там жили и православные?.. Да, в этом селе, в основном, жили, там, в основном, жили украинцы, молдаване, гагаузы, венгры, евреи. Это пригород был Белгород-Днестровска. Белгород-Днестровск, также как и Одесса, - это конгломерат всех этих южных народов, там и гагаузы были, ну все, все, кто Жил здесь на юге Украины, они базировались там тоже. Кто занимался сельским хозяйством, кто ремеслом. Вот. А евреи жили отдельно, обособленно? Нет, они жили в общем селе, в общем селе. У них была какая-то община, конечно. Синагога была? Была синагога. Или даже если не было, это село было близко от Белгород-Днестровска, а в Белгород-Днестровске были в свое время очень большие общины еврейские, кладбища, которые по сей день, еще чуть ли не с 1700-х годов памятники стоят, раньше даже, чем в Одессе. Бабушка и дедушка похоронены на этом кладбище? Нет, я не знаю, где похоронены, и не знаю, где их след даже. Абсолютно не знаю. Вот. А что Вы знаете о папиных братьях? Папиных братьях… Их было пять человек. Это был Зейлик. Это был Лева. Это был папа Мирон. И двух братьев я не помню имя, сейчас уже. А папа был средний? Папа был самый младший. Даже так. Самый младший папа был. Вот. А папа родился в каком году? Папа родился… там по документам небольшая была путаница у него с документами. По одним документам папа родился в 1883 году, по другим - в 1888-м. Вот. Ну, это связано было с этими всякими войнами, те которые проходили. Это и до Октябрьской революции империалистическая и все эти войны. Вот. Документы были утрачены, а потом восстанавливались? Да. Доходили эти документы. Скорее всего, предполагаю, что папа все-таки был не в 1888-ом, не в 83ем, а именно в восьмом году. Вот. Так мне помнится. Вот. Потом я находил его диплом об окончании Ростовского института, мединститута. Он закончил два факультета мединститута, работая уже учеником провизора, он пошел по этой линии. Он закончил фармацевтический факультет и лечебный факультет Ростовского института, медицинского. Потом уже приехал в начале 20-х годов сюда, в Одессу. Здесь он познакомился с мамой. А мама была, работала… Мама работала тогда… она помогала… шляпница. Помогала шить шляпы. У нее образования не было. Откуда она была родом? Сейчас расскажу. Мама сама происходила из более такой, можно сказать, зажиточной семьи. Они с Проскурова, с тех краев. У нее была большая семья. Двенадцать детей было, братьев и сестер. Вот. Они жили в Проскурове, и ее отец был как бы арендатором. Он у помещика арендовал землю. Он нанимал людей, которые эту землю обрабатывали. Отдавал помещику урожай. Естественно, какая-то часть урожая оставалась у него, и они жили с этого. У них был свой дом, и они жили довольно таки, по сравнению с тем как жил мой отец, жили вообще многие, считалось, что они живут неплохо. Но нужно было получать какие-то специальности, потому что все-таки это была под Проскуровом сельская местность. Дети разъезжались кто куда. Вот. Многие приехали в Одессу, и поэтому мама тоже сюда уже потянулась к старшим сестрам. Вот. 3 А Проскуров это в какой области? Это в Хмельницкой области. Вот. Там еще долго потом оставались жить наши. Моя сестра с дядей жили тоже, они еще в Проскурове жили после войны. Маркус жил в Проскурове. А кого-то Вы помните по именам? Помню, конечно. У мамы двенадцать было, но я сейчас, пожалуй, многих не назову. Была, значит, Феня, сестра старше мамы. Была Роза. Это была младше, или, во всяком случае, ближе к маме. Была Софья. Вот. И Маня… Эти девочки были. Еще была Бетя. Пять девочек. А из мужчин был Маркус, Натан и Лева. Больше я, наверно, не вспомню. Нужно посмотреть у меня где-то даже есть наше генеалогическое древо. Я его составлял, привлекал старших сестер, и они мне помогали. Вот. Ну, вот мама тогда тоже приехала в Одессу, а уже здесь была старшая сестра Софья. Она здесь закончила потом медицинский институт, вышла замуж за известного до войны врача, был такой терапевт известный, диагностик хороший - доктор Корнблит. Вот. Это был ее супруг. Это была одесская интеллигенция. Да. Вторая сестра мамина, Розочка, она тоже закончила медицинский институт. Старшая сестра, вот эта Феня, принимала участие в революционной деятельности и в 1905 году, когда началась революция, революционеров начали преследовать, и они уехали в Америку. И Феня в 1905 году вместе со своим мужем, муж у нее был русский, Коля. Они уехали Америку и жили в Америке уже вплоть до… до послевоенного времени. Они еще живы? К сожалению, их нет. Детей у них не было, они были одни. И пока еще жил Коля и Феня, они жили вместе. А потом получилось так, что Феня умерла и Коля тоже один остался в доме для одиноких, и там умер. Фамилию их Вы не помните? Видимо Феня взяла фамилию мужа? Да. У них фамилия, по-моему, я боюсь сказать. Ее фамилия девичья Френкель, а фамилия мужа? Нужно будет вспомнить, я еще, может быть, Вам подскажу. Мы еще будем потом составлять генеалогическое древо. Да, потом я подскажу. Не все сразу. Вот. Мы вернемся к маме. Мама была шляпницей. Мама работала шляпницей получала мизерные гроши какие-то, ютилась где-то на квартирах, питалась, рассказывала мне тоже, по всяким таким дешевым обедам, где готовили всякие недорогие блюда, для подмастерьев и рабочих, которые… Сколько ей было лет? Мама моя на девять лет моложе папы. И в каком возрасте она приехала в Одессу? Ну, где-то тоже думаю, что это было в начале двадцатых годов. Значит, ей уже было где-то около двадцати, да? Да. Ну, что сказать, мамина семья была более патриархальная. Папа, например, он даже не знал когда какие праздники еврейские, он рассказывал, что мама на праздники там и мацу доставала и стол накрывался на Пейсах, и на все остальные еврейские праздники. Они знали, они чувствовали, что они евреи. Они ходили в синагогу по праздникам, но только по праздникам, соблюдали и Шаббат. Вот. Но кашрут, сомневаюсь, почему, потому что папа на этом как-то не останавливался. Но в доме у мамы, во всяком случае, была такая атмосфера еврейская. Не скрывали, что они евреи, несмотря на то, что жили в этом интернациональном селе. Вот. И… А вот у мамы семья более патриархальная была. И дедушка соблюдал кашрут, соблюдал все посты, соблюдал все законы. Молился в синагоге, имел свое место даже и он как-то больше к еврейству был, у него был и талес, все это, все как положено. И мама все это привезла … Владимир Миронович болен и дает интервью в постели. Он быстро устает, и мы будем иногда прерывать работу. 4 Фотографии есть, можно посмотреть, ну, во всяком случае, на фотографиях именно патриархальные видно. Интересна судьба этих всех фотографий. Эти все фотографии были у моей тети Фени, в Америке. Когда она умерла, все фотографии вернулись вновь к нам в Советский Союз. И кто-то их переслал из сестер, братьев вот этих и они уже попали ко мне. Копии есть, есть оригиналы. Вот. И все времени не было разложить, подписать, абсолютно не было времени. И это бич наш, что у нас горы фотографий неподписанных. Со временем забываешь, кто на них изображен. Наверное, это моя неаккуратность. Наверное, это общая беда. Или отсутствие постоянное… Нехватка времени. Вот. Родители моей мамы, как я сказал, более патриархальные, и вот это, и все ее знания, которые она впитала в своем доме, она принесла в наш дом тоже. Я не могу сказать, что у нас было весьма религиозно в квартире, что мы соблюдали все законы, но, во всяком случае, когда были еврейские праздники, мама всегда знала, мама всегда соблюдала эти праздники. Мне рассказывала об этих праздниках. И даже вот после войны, когда мы вернулись из тюрьмы, из гетто, из концлагеря мама постоянно постилась. И когда она постилась, то, будучи десятилетним, я постился вместе с ней. Все праздники, которые нужно было поститься. Мама мне говорила: «Не надо тебе это делать, ты еще мальчик, ты маленький, тебе не нужно». Но все то, что мы пережили во время войны - тот ужас и страшный голод, он остался во мне. И мне казалось, что если я буду поститься, то мои дети и мои внуки не будут ощущать, что такое голод. Это не столько была дань традиции, посту, сколько внутренний порыв, чтоб мои внуки не голодали. Может, Бог даст, это зачтется, и они будут сыты. Владимир Миронович, а как мама с папой познакомились? Их познакомила сестра. Папа работал врачом. А мамина сестра тоже работала врачом и знала, что папа холостяк. Софа их познакомила. А какой папа был? Вы можете его описать? Он был самый младший, он был самый хиленький среди всех своих братьев. Он был высокий немножко сутулый, худощавый, всю свою жизнь он не был полным. Нельзя сказать, что папа был самым здоровым из братьев, но, как ни странно, папа прожил самую большую жизнь среди них. Он умер, когда ему шел 102-й год. Папа дожил до 1990 года. Шестого апреля, девяностого года папа умер. А когда он закончил практиковать? Папа долго работал, вплоть до восьмидесяти с лишним лет. Это была целая плеяда одесских врачей, одних из основателей одесского кожно-венерологического диспансера, даже больше - кожно-венерологического института, который после войны переехал уже в Харьков. Это была плеяда таких знаменитых врачей: профессор Лейтес, Кульбацкий, Матусис, Краснов, Балабан. Они были евреями? Многие из них были евреями, но не только евреи. Они здесь работали на кафедре мединститута здесь институт кожно-венерологический. Кстати, находился этот институт на Нежинской, 77/79, где сейчас куплено помещение для «Гмилус Хеседа». У меня еще была такая мечта, что, может быть, когда будет открытие, я пройдусь по тем кабинетам, по тем этажам, по которым ходил мой отец, организовывая институт. Почему? Потому, что интересна и другая географическая точка, это до войны, когда папа работал в самом кожно-венерологическом диспансере, в стационаре, он тоже связан немножко с историей Одессы, с еврейством - в этом помещении сейчас находится Израильский культурный центр. Вот. Именно там, на втором этаже до войны был стационар, кожновенерологический и поликлиника, а потом был военный госпиталь, о котором я потом Вам более подробно расскажу, потому что во время войны отцу пришлось быть главврачом этого военного госпиталя. Он оставался в Одессе? Да, мы оставались здесь в Одессе. Ну, что, если вернуться к нашим, опять к нашим милым годам. Мы поселились на Ворошилова, 6, как я рассказывал. Это был сделан тогда обмен, 5 с доплатой, с большими тогда какими-то деньгами, которых у нас не было. Мы одалживали, я помню, и многие годы потом отдавали этот долг. Но квартира по тем временам считалась хорошей квартирой. Сколько там было комнат? Там было три комнаты. В одной комнате было где-то около десяти метров, во второй около десяти метров, а в третьей было немножко больше. Всего в этой квартире было, пожалуй, тридцать семь.., в общем до сорока не доходило - метров. Там была кухонька, в такой коридор заходили, направо была уборная. По тем временам считалось - ну, это квартира с уборной! Был водопровод? Был водопровод, канализация, и на кухне стояла раковина, угловая такая. В кухне стояла плита, которая обогревала комнату, справа. Чем она топилась, плита? Углем, дровами. У нас во дворе был сарай. Мы покупали уголь, дрова и топили. У нас была гостиная, когда в нее заходили, направо было окно и дверь на балкон. И из этой комнаты были двери в две маленьких спаленки, которые по десять метров, даже менее. Но это была самостоятельная квартира. Жили мы под чердаком, окна выходили на югозапад. Зимой, куда ни шло, но летом было невыносимо - эта квартира была как духовка. Накат был слабый, перекрытия не имели гидроизоляции, чтобы сохранить прохладу в квартирах. Мы открывали окна ночью, а днем старались закрывать, чтобы как-то сохранить прохладу в квартире. Сколько помню себя у меня всегда ощущение неимоверно жаркой квартиры на Ворошилова. Жили мы там с 38-го года и до начала войны. До того, как нас оттуда выгнали. Сначала на переселенческий пункт, потом в тюрьму, потом мы вернулись, потом в гетто, потом в концлагерь. Расскажу я об этом более подробно тоже. Мебель у нас была, ни ахти какая, комоды со стеклами под хрусталь, типичные для двадцатых-тридцатых годов. Посреди комнаты стоял стол, несколько шкафов, ни ахти какие стулья. Ну, папа один работал, сестра занималась, я еще был маленький, еще не пошел в школу, мама вела хозяйство. Так что особенно не разгуляешься. Вы не помните, что мама готовила из еврейских блюд? Мама готовила как обычно, особых разносолов не было. Но, во всяком случае, у нас в доме всегда были такие еврейские блюда, как бульон, или из курицы, или из говядины. Причем, мама отваривала вначале фасоль, потом она ее вынимала. Всегда у нас был форшмак, была селедка. Фаршированную рыбу делали нечасто, надо сказать, достатка особого не было. Мама была очень экономная женщина. Старалась сэкономить даже на приготовлении пищи. Вот я рассказывал, что она варила бульон с фасолью. Бульон шел на первое, а фасоль, с кусочками мяса, на второе. До войны мы жили очень скромно, никаких разносолов не было, хотя мы не голодали, конечно. Отцу доставалось; он работал на двух, минимум на полутора работах. Летом, как правило, папа работал на Куяльнике в санаториях Семашко, Ленина. Он всегда договаривался, что будет там дежурным врачом, ему выделяли комнатку. Мы с сестрой и с мамой приезжали летом туда. Я помню, мы несколько сезонов перед войной там отдыхали. Это был прекрасный отдых для нас. И папа, работая там, проводил свой отпуск у моря. Что касается одежды - то же самое. Одеты всегда были очень скромно. Мама всегда старалась сестричку приодеть более нарядно, мне что-то купить, какую-то вещичку. Сама мама была очень скромно одета. У папы был один костюм, и на работу и везде и всюду. Очень скромно жил, врачом-ординатором работал. Больших заработков не имел, хотя профессия была довольно выгодная - венеролог. Папа всегда боялся приватных приемов. У него не было частной практики? Частной практики он не вел, потому что это было запрещено. Мой папа был страшный законник, если что-то где-то было запрещено - для него это было табу, которое он никогда не нарушал. Возможно, на него наложили отпечаток послереволюционные годы, тридцатые годы. 6 Жесткий режим. Да, он много повидал, как врача его вызывали в ГПУ, где он консультировал. Он там повидал много. Папа очень боялся антисоветских разговоров в семье, эти разговоры пресекались. А то, что мамина сестра Феня в Америке - это было за семью печатями. И я узнал об этом только после войны. Хотя тетя Феня после революции даже приезжала и виделась с мамой и папой. Еще до войны? До войны. Но я ее не помню, только вот отголоски того, что она приезжала. Привозила им какие-то вещи, которые они боялись надеть. Сексотство очень было развито тогда, вокруг были завистливые люди, которые могла донести. Вот так вот протекала наша жизнь. А мама только занималась хозяйством? Мама занималась хозяйством. Она немного работала медсестрой в свое время. Она окончила медучилище? Нет, училищ никаких не кончала, мама окончила, по-моему, три или четыре класса гимназии, или начальную школу. Мама была не очень образованная женщина, но, не смотря на это, у нее был глубокий ум и тонкое восприятие действительности, она очень хорошо ориентировалась в жизни. Они с отцом жили очень дружно. Они прожили вместе очень долгую жизнь, и я не слышал, чтобы они когда-то ругались. А как она выглядела? Мама была очень красивая женщина. У них в роду вообще все сестры были очень красивые. Она рано поседела, это было связано с войной. Папа был вообще белый, как лунь. Мама всегда ориентировалась в жизни. После войны, когда у нас по записи продавали холодильники и машины, она со своими тремя классами образования пошла и встала на учет, чтобы купить холодильник, пошла и встала на учет, чтобы купить машину, «москвич». И вот, когда мамы уже не было, подошла наша очередь и моя сестра купила «москвич», на котором потом долгое время мы ездили. Причем мама хотела не просто холодильник, она хотела хороший холодильник. Она была прекрасной хозяйкой и папа, имея за плечами два высших образования, всегда слушался ее в вопросах быта. И всегда у них было мирно и ладно, они всегда ладили друг с другом. Кроме Мирошенька и Манечка я не слышал других обращений между ними. Вот такая теплая была атмосфера в семье. Расскажите, пожалуйста, немного об их друзьях. У них было много друзей. В основном, это были евреи. Во-первых, это круг маминых сестер и братьев. У папы здесь никого не было, все его родственники остались в Бесарабии. На Пересыпи жил мамин брат дядя Лева. Здесь жил доктор Корнблит, муж Софы, он был довольно известным врачом-терапевтом. Это был более высокий круг общения, очень интеллигентные люди. А маме, не смотря на ее три класса образования, очень нравилось общаться с этими людьми. В основном собирались у родственников. Собирались по праздникам, на дни рождения, на другие какие-то торжества. У нас собирались реже - была маленькая квартира. А Софа жила на Кузнечной, возле музыкального училища, там у них была комната такая большая, где всегда принимали друзей. Тетя Роза тоже окончила мединститут. Она вышла замуж за немца. У нее был сын Октав, на год старше меня. С мужем она разошлась до войны. У тети Розы и Октава была очень трагическая судьба. Она отравилась и отравила его, когда началась оккупация, и нас гнали в гетто. Это отдельный сказ. Илья Корнблит участвовал в Финской кампании, вернулся обмороженный и вскоре заболел волчанкой, дюингом. Эта болезнь неизлечима по сей день. Никто не знает, отчего она возникает и как ее лечить. У него лицо было сплошным струпом. Он был очень культурным, образованным человеком с широчайшей врачебной эрудицией. В доме у них всегда были животные: собака, голуби, какие-то экзотические черепахи. Моя двоюродная сестра Женя Корнблит была неописуемой красоты. У нее был молодой человек, Генрих Осташевский, впоследствии народный артист Украины. Он теперь считается Праведником мира. Он спас мою сестру. Очень красивый, интересный человек. Об этом потом будет отдельный сказ. 7 Расскажите, пожалуйста, о своей сестре? Тамара родилась в Одессе, в роддоме на Комсомольской. Училась она на Мечникова, угол Ворошилова. Сейчас там стоит жилой дом напротив церквушки, а до войны там была школа, кажется 26-я школа. Это была обычная общеобразовательная школа, не еврейская? Да, обычная школа, не еврейская. Мне тоже не пришлось учиться в еврейской школе, или ходить в еврейский детский сад. Помню, мой детский сад находился при кирхе. Потом меня перевели в другой детский сад на Мечникова, угол Манежной, возле бензоколонки. И туда я ходил до самого начала войны. Помню, как папа отводил меня в садик. По дороге он показывал мне вывески, номера домов, учил меня цифрам и буквам. Мне очень нравился мой детский сад - двухэтажное, новое здание с огромными окнами. Сестра была старше меня и уже училась в школе. Я иногда приходил к ней в школу и сидел на уроках, мне так интересно было. У нее было много русских подруг, которые учились вместе с ней. Прошла жизнь, а они остались такими же большими друзьями, как и в детстве. Особенно во время войны, когда мы были здесь в оккупации, и после войны поддерживали самые теплые добрые отношения, помогали Тамаре всегда. Тамара была очень веселой девочкой, всегда занималась художественной самодеятельностью. У нее была такая поэтичная, артистическая натура. Я ей всегда немного завидовал, потому что она была старше, и у нее были такие интересные подруги. Мне это очень импонировало. Я всегда старался прийти к ней в школу, пойти с ней в буфет. Мне это очень нравилось. Она Вас любила очень? Да, мы с ней были очень дружны. Не без того, чтобы и подраться иногда. Но, тем не менее, она меня любила очень, и я ее тоже очень любил. Тамара мне всегда очень помогала. Когда я вернулся из армии начал работать, получая какие-то гроши, первый костюм мне купила моя сестра Тамара. Она тогда уже вышла замуж и работала в Новых Бобелярах зубным врачом. А сколько ей было лет, когда началась война? Тамара родилась в 1926 году. Она была старше меня на восемь лет. В сорок первом году ей было пятнадцать лет. Тамара всегда помогала маме по хозяйству. У нее был веселый и легкий характер. Она легко находила контакт с людьми, всегда старалась им помочь. Она была очень хорошая, очень добрая. Как она выглядела? Она была невысокого роста, с немного монголоидным разрезом глаз. Я не могу сказать, что она была большой красавицей, но ее темперамент, ее веселый нрав были отражены у нее на лице, и в любой компании она была центром притяжения. Она никогда не сидела в уголке и выделялась в любой компании. Была очень обаятельной? Да, была обаятельной, и это осталось у нее на всю жизнь. Все люди, которые с ней общались, отмечали это. Когда она работала врачом на селе, вокруг нее всегда группировались люди. Она создавала теплые, хорошие компании, которые потом существовали десятилетиями. Это были и ее сотрудники, и сотрудники, ее мужа. И когда они собирались - это всегда был настоящий фейерверк веселья: и капустники, и импровизации, и стихи, и всякого рода выдумки. Тамара очень увлекалась поэзией, читала много стихов и даже сама, я помню, что-то писала. Всегда была душой и заводилой всех компаний. Судя по тому, как Вы о ней рассказываете, Вы очень ее любили. Да, очень. Я очень любил родителей, любил маму. Она была очень добрым и хорошим человеком, которая, не смотря на то, что была такая скудная, тяжелая жизнь, всегда старалась с кем-то чем-то поделиться. Я помню, в любые времена, как бы нам тяжело не было, мама всегда варила большую кастрюлю супа, и все мои друзья со двора знали, что, придя к нам, они всегда получат тарелку супа. Многие мои старые знакомые до сих пор 8 вспоминают семью доктора Гольдмана. И так мы жили всегда. Сколько я себя помню, ни один человек, который зашел в квартиру, не вышел голодным. Вот такой уклад был у нас. В доме никогда не было никаких разносолов, была самая простая пища. Но мама всегда старалась угостить, потому что были соседи, которые жили хуже, чем мы. Как сейчас помню, у нас после войны стоял плафон от лампочки, который мама приспособила вместо миски, и куда она перетапливала смалец. В лучшие времена это был куриный или гусиный смалец, когда не было этого, в ход шли и свиные обрезки. Смалец с черным хлебом и солью был угощением для моих друзей. Мама очень тепло относилась ко всем. Она немножко умела врачевать - научилась у папы за эти годы. Она помогала папе изготавливать мази, умела делать перевязки. Что Вы больше всего ценили в Вашем отце? Папа в своей жизни никого не обидел. У него был девиз, который он передал мне: «Делай людям только хорошее». И всю жизнь я пользовался этим девизом. «Потому, что даже муха может сделать плохое человеку. Если перед тобой стоит тарелка супа, и муха сядет и нагадит, то она испортит тебе эту тарелку супа. Человек может тебе сделать еще хуже. Старайся с людьми жить дружно. Старайся им делать хорошо. Десять человек придут к тебе, ты им сделаешь хорошо, они уйдут и не запомнят, но одиннадцатый человек запомнит, и когда ты его встретишь, он сторицей воздаст тебе за все хорошее, что ты делал людям». И это были не просто слова - это был его жизненный девиз. И слова эти подтвердились. Это было в жизни нашей семьи. Во время оккупации, когда в Одессе военная разведка взорвала здание немецкой комендатуры, начали хватать заложников. Мама с папой как раз в это время возвращались домой от тети Розы с Жуковского, и их поймал полицай. Всех, кого схватили в этот день, расстреляли или повесили. В Александровском саду просто перекинули доски с дерева на дерево и вешали подряд всех: и коммунистов, и евреев, и беспартийных, и молодых, и старых. И именно в этот день мама с папой оказались на улице, они еще и подушку несли с собой. Полицай им: «Кто такие? Куда идете?» Папа говорит: «Я доктор». «Ах, доктор. Доктор - жид, прокуроржид. Жить нам не давали, ну ничего мы сегодня со всеми вами покончим!». И повел их в сторону шестого отделения милиции. Навстречу им две девочки, молоденькие, лет восемнадцати. И к полицаю: «Кого это ты поймал?» «Да вот веду двух жидов расстреливать». А они ему говорят: «Знаешь, кто это? Это же наш доктор, венеролог. Он же лечит нас, что ты делаешь, кто будет нас лечить». Подхватили полицая под руки, повисли на нем: «Да зачем они тебе нужны. Идем с нами погуляем. Брось их». Короче говоря, две эти девчонки уговорили полицая, он их отпустил. Папа потом сказал: «Они были как два ангела». Никогда в жизни папа не лечил женщин. Значит, кто-то когда-то показал этим девочкам на папу и сказал, что это врач венеролог и хороший человек. И вот вам такое совпадение, именно тогда , когда судьба родителей уже была предрешена, появились эти две девушки и спасли отца и мать. И они спасли не только папу с мамой, они спасли и меня с сестрой. Был поздний вечер, мы с Тамарой сидели дома и гадали на иголке, где же папа с мамой? С нами был дядя Лева из Бессарабии, который не успел эвакуироваться. Он все время нас успокаивал, пока не открылась дверь, и не появились папа с мамой. Нужно делать доброе дело или не нужно делать доброе дело? Если бы папа в свое время не сделал добра тому человеку, который рассказал о нем этим девочкам, все было бы решено. Вот такова жизненная философия нашего рода: делай людям добро. Десять лет пройдет, и добро это к тебе вернется. Папа был на редкость бескорыстным человеком. Он вообще не понимал, что значит, брать с больного деньги. И люди потом спасали нас от голодной смерти: кто-то принесет кусочек хлеба, кто-то какие-то крупы… Дар давался, дар… Но чтоб папа сказал: «Дай мне рубль, дай мне десять рублей». О чем вы говорите! Днем и ночью вся улица… Ходили, стучали: «Доктор Гольдман, помогите!» Папа был из арцизных врачей. Они обслуживали население. Арцизный врач пользовался большими льготами, особенно, в сельской местности. И в то же время, на нем лежала обязанность врачевания всех тех, 9 которые проживали в его округе. И если арцизный врач требовал деньги за лечение, это считалось самым большим грехом. Папа в молодости жил в сельской местности. Я в свое время, даже побывал в Будаках, где папа учился на ученика провизора. Это небольшое молдавское село. В любое время дня и ночи мог понадобиться врач. В любое время дня и ночи к нему приходили и звали к больному. Если была подвода, сажали на подводу, а нет - так пешком, накинув на себя брезентовый плащ. Отсюда у него и было отношение к больному. Никогда он не сказал человеку: «Ты мне заплатишь, я тебя буду лечить». И это вас спасло во время войны? Каждый из нас что-то внес в спасение семьи. Мы жили на Ворошилова до сорок первого года. Когда началась война, в школу я уже не пошел, первого сентября. А шестнадцатого октября Одесса уже была оккупирована. Началась эвакуация заводов и фабрик. Папа тоже обратился в горком или исполком с просьбой об эвакуации. Нам дали посадочные талоны на пароход. Папу заверяли, что его семье ничего не угрожает. Мама сказала: «Только с тобой, мы уедем все вместе». Поэтому мы не уехали пароходом. А папа должен был работать? Да, папа работал. Папа работал в кожно-венерологическом стационаре. А с начала обороны Одессы туда стали привозить раненых, и он стал госпиталем, военным госпиталем. И папу назначили главным врачом военного госпиталя. И на него распространялись законы военного времени, т.е., если врач бросал свой пост, он становился дезертиром. Папа сказал, что он еврей, что он не может оставаться в оккупации. «Мы вам гарантируем, что мы вас вывезем вместе с семьей, с последними ответственными работниками». А кончилось тем, что шестнадцатого октября в город вошли румыны, пап продолжал ходить на работу. И не кого не вывезли, ни госпиталь, ни раненых. И папа дал команду раненым: «Кто как может, расползайтесь по городу, прячьтесь!». Персонал продолжал ходить на работу, больные оставались в госпитале, нужно было им помогать. У папы я нашел документ, когда я оформлял документы в «Клеймс Конференс», копию трудовой книжки в которой было написано: уволен 16-го октября 41-го года, приступил к работе 27 -го апреля, 44-го года. Вот такая запись есть , то ли в трудовой книжке, то ли справка такая есть. Папа ходил на работу до последнего дня, а в это время по городу уже начались облавы. Румыны начали заходить в квартиры, начали делать обыски, забирать людей. Были организованы пересыльные пункты, в основном в школах, куда сгоняли всех евреев. Забивали эти помещения до отказа и не знали, что с ними делать, куда их девать. Нас забрали до того, как мы попали на пересыльный пункт, а до этого были обыски. Я начал рассказывать, что когда началась эвакуация, через Одессу хлынул поток людей из Бесарабии. Мой дядя Зейлик со своей семьей: со старшей дочерью от первого брака, с дочерью, сыном от второго брака и женой. Их было пятеро. А как их звали? Сейчас я вам скажу. Мирра - старшая дочь. Рухл звали его вторую жену, Броня - младшая дочь, которая умерла в Белгород-Днестровске три года тому назад, Мирра умерла в Израиле, Саша умер в Ровно, лет уже около десяти назад. Вместе с ними проезжал дядя Лева, который тоже жил в Аккермане. Дядя Лева был коммерсантом, прекрасно владел румынским языком, ездил в Румынию. Когда они ехали через Одессу, дядя Лева заболел. Эшелон проходил через Одессу, останавливались они на Одессе-товарной. Они даже приходили к нам. И дядя Лева сказал, что он заболел и ему придется остаться. И он остался вместе с нами. К сожалению, он погиб потом. А Зейлик со своей семьей уехал, и все остались живы. И остался дядя Лева с нами. И когда пришли румыны, и начались обыски, нас в один из дней вызвали в шестое отделение милиции. Всех евреев собрали и погнали. И тут-то я впервые услышал слово «жид». Когда нас выводили через двор, кто-то из детей крикнул мне: «Жид!». Потом мне пришлось часто слышать это слово. Пригнала нас туда, а папа был на работе. Когда он пришел с работы. Соседка отдала ему ключи и сказала, что нас погнали в шестое отделение. Папа сказал: «Знаете, что дайте мне ключи, я 10 надену галоши и пойду к ним туда». А соседка говорит: «Зачем вам уже галоши, они вам уже не понадобятся». Так и не дала ему ключи от квартиры. Папа пошел в отделение, нашел нас там. Там нас продержали сутки или двое, оттуда нас погнали в 122-ю школу, где был пересыльный пункт. Там людей сортировали: часть отправляли в тюрьму, часть угоняли на какие-то работы, часть гнали в Дальник, на расстрелы. Но точно никто не знал, что происходит, куда деваются люди. А по городу продолжались облавы. В школу набили столько людей, что негде было стоять. Нас не кормили, мы ели, что было взято с собой в дорогу: сухари, луковица, соли немножко, колотый сахар, чеснок. Прошло больше шестидесяти лет, а я до сих пор помню вкус этих сухарей. Воды тоже не было, туалеты не работали. Условия жуткие. Выгоняли всех в Ольгиевский сквер, делали переклички, потом загоняли обратно. После этого мы попали в одесскую тюрьму. Одесская тюрьма! Глубокая осень, холод, проливной дождь. Вся улица залита водой, грязь. Тысячи людей бредут в сторону тюрьмы. По бокам идет охрана. Вся вереница людей вливается в тюремные ворота. Здание тюрьмы встретило нас, охрана, полицаи, румыны, изредка попадаются немцы. Командование тюрьмой осуществлялось немцами. Нас загнали туда. Масса измученных мокрых людей. Нужно было где-то располагаться, разместится на ночлег. Мы просочились в главный корпус: цементные полы, металлическая лестница. Все забито людьми до предела. Люди лежали прямо на полу. Устраивались на том, что принесли с собой. Все старались уйти на верхние этажи, потому что там было меньше обысков. Постоянно что-то искали, кого-то уводили, били. Это был кошмар и ужас. Забирали молоденьких девочек, уводили и тут же за стенами тюрьмы насиловали. Это был кромешный ад. Нас пригнали. Ночь мы провели в этом кошмаре. Утром - опять построение, опять переклички, опять сортировка: мужчин в одну сторону, женщин - в другую. На следующий день начали формировать этапы по сто-двести мужчин, Их угоняли. Мы не знали, куда их гонят. Впоследствии выяснилось, что их угоняли на разминирование минных полей под Одессой. Их выстраивали в шеренгу, сзади шли автоматчики. Их гнали по полю и люди взрывались на минах. Так их и гоняли целый день, а потом, оставшихся в живых, расстреливали. Потом мы узнали, что на пороховых складах, на Толбухина собрали 26-го или 23-го октября по одним сведениям 23 тысячи, по другим - 25 тысяч человек, там были и военнопленные. Всех их согнали в эти бараки, облили бензином, подожгли. Смрад стоял на протяжении нескольких недель. Так впервые была проведена фашистами акция по сожжению. Это была первая акция на юге Украины. Мы постоянно голодали в тюрьме, кушать ничего не давали, доедали последние крохи. Ходили слухи, что нас будут расстреливать. Другие говорили, что вроде помилуют. Все это продолжалось, по-моему, я боюсь ошибиться в числах, до начала декабря. Потом пришел приказ, выпустить всех евреев из тюрьмы. С семи лет на всю жизнь я запомнил эту тюрьму. Когда я уже был взрослым, вернулся из армии и познакомился с одной девушкой, у которой отец работал в тюрьме. Мы с ней както сидели возле этой тюрьмы и я говорю ей: «Ты знаешь, а я сидел здесь». Она говорит: «Как сидел? Не может быть?» «Да». «И ты помнишь расположение?». «Ну, давай, я тебе расскажу. Если зайти, по центру - главный корпус, справа медицинский блок». И рассказал ей все подробно. Как будто смотрел старую пленку и вспоминал все, что было в детстве. Она не поверила, что я помню это с детства. Освободили нас из тюрьмы. Поплелись мы к себе домой. Двор у нас был хороший, нас пустили во двор. Некоторых евреев во двор не впускали. На воротах чертили свечкой крест. Это означало, что евреев во дворе нет, чистый двор. Когда мы пришли к себе во двор, оказалось, что нашу квартиру заняла соседка, которая жила в однокомнатной квартире. Она перебралась в нашу. А нас пустили в ее квартирку. У нас было только то, что мы принесли с собой. Соседи, слава Богу, принесли, кто, что мог: какое-то рядно, подушечку, дорожку, кто-то, что-то еще. Все, что можно выменять на еду, мы уже 11 выменяли. Денег не было. Не помню, каким чудом, мама выменяла большую, как выварка, кастрюлю сои. Соседи нам помогали, потому что мы не могли передвигаться по городу. Вот эта выварка сои нас и спасала. Это был наш хлеб, это был наш суп, это было наше все. Эту сою мы варили, и это было наше спасение. Отец за это время заболел брюшным тифом и слег. А рядом был постоялый двор, и румыны держали там коней. Кто-то сказал румыну, что папа - доктор, венеролог. Он пришел к нему и сказал: «Если ты меня вылечишь, ты будешь жить, а если не вылечишь - я тебя расстреляю». То ли у него гонорея была, то ли сифилис. Скорее всего - гонорея. И пап начал его лечить. Когда он приходил, папа нас всех выставлял за дверь Он делал спринцевания, лечить-то чем было сульфидином. Короче говоря, этот румын в знак благодарности, как сейчас помню, принес папе большой хлеб, бутылку вина, которое мы папе добавляли в чай, еще что-то принес, типа сала. Это было для нас большим подспорьем. Представьте себе двор, весь засыпанный снегом, холодище страшный, угля и дров у нас не было. Кое-как отапливались, каждый вечер ожидали каких-то сюрпризов. Прибегали какие-то полицаи, какие-то румыны, искали партизан, искали оружие. Но двор у нас был хороший, хотя, конечно, разные были люди. Но к папе все относились с уважением, и както оберегали нас. В конце декабря пришел приказ: до десятого января все евреи должны собраться на слободке. Захватить с собой необходимые вещи, продукты питания и явиться на Слободку. А все это время через Слободку шли этапы, которые собирались на пересыльных пунктах. Гнали людей на Дальник, гнали в Богдановку, гнали в Березовку, нет под Одессой ни одного метра квадратного, чтобы там ни была пролита кровь евреев. Здесь были не только одесские евреи, здесь были и евреи из Бессарабии. Богдановка, Доманевка, Мостовое, Карловка, Ахмачетка - эти населенные пункты на Южном Буге стали местами расстрела сотен тысяч евреев. Десятого января мы всей семьей, вместе с дядей Левой и нашими соседями-евреями потянулись на Слободку. А как реагировали прохожие на вашу колонну? Когда мы проходили по Пишоновскому переулку, навстречу нам попались две женщины, которые несли полные ведра воды. «Вам повезет», - сказали они, - «вы останетесь живы». К сожалению, не все уцелели, не все. Начался путь в гетто. В гетто на Слободку стекались со всех улиц, лежащих выше Дюковского сада, это и Нагорная, и Градоначальническая. И вся эта масса людей десятого числа должна была прибыть на Слободку. В этот день был страшный мороз, свыше двадцати градусов. Над толпой стоял пар от дыхания. Колонны охраняли румынские солдаты с собаками. Я так замерз, что все время кричал. Рядом, по тротуару проходил румынский офицер: «Почему он так кричит?» А дядя Лева на чистом румынском языке ему отвечает: «Он обморозил себе лицо и ноги. Поэтому он кричит». Тогда офицер распорядился, чтобы вся наша семья зашла в ближайший дом. А на Слободке одноэтажные домики, с летними кухнями, с сарайчиками. Тут же подскочил солдат, выбил ногой калитку, вытащил нас из колонны, и мы ввалились во двор. Сколько я не искал потом этот дом, не смог его найти. Помню только, что справа была летняя кухня, в которой мы и поселились. Кухня была промерзшей насквозь, но все равно, это было спасением. Мы прожили там, примерно, неделю. Весь этот этап, в котором мы шли, прогнали мимо, на Дальник. Все эти люди были расстреляны и сожжены. Когда приходили полицаи, хозяйка говорила, что нас поселил здесь румынский офицер. Те уходили, боялись нас трогать. Сидели мы в четырех стенах этого сарая, чем-то нужно было питаться, продуктов было совсем мало. И там впервые я попробовал менделах, это такие маленькие-маленькие горошинки из муки. У нас было немножко муки. И мама варила такой суп. Почему-то запомнилась именно там эта еда. Хозяева относились к нам равнодушно. А через десять дней, с последней облавой нас погнали в высшее мореходное училище, где находилось гетто. Когда нас туда пригнали, там все уже было забито людьми. Отопления никакого не было, окна были разбиты. Часть была забита фанерой, часть завешана какими-то тряпками. Канализация не работала. Туалеты были залиты фекалиями. Из окон туалетов свешивались с четвертого по первый этаж огромные 12 сосульки желто-коричневого цвета. И это было до самой весны. Когда нас туда пригнали, папа встретил знакомых врачей, которые сразу надели ему повязку с красным крестом. Это означало, что он врач этого гетто. Нас определили вместе с другими врачами в большую комнату, где стояли двухъярусные кровати. Там мы и жили. Все эти врачи были евреями? Да, все они были в гетто. Это и Турнер, и Срибнер, мать Сушона была вместе с нами в гетто. Петрушкин был, но он находился в другом здании, рядом, там, где был туберкулезный диспансер. Это был накопитель. Каждый раз приходили обозы, забирали людей и под охраной увозили в Дальник. Самый большой этап, когда угнали почти что всех, был 23-го февраля. В этот день чистили гетто полностью. Всех, кто мог ходить, угоняли. Потому что в это время вспыхнула эпидемия сыпного тифа, и очень боялись, что она распространится на город. Поэтому спешили вывезти всех, кто еще мог передвигаться, чтобы уничтожить их. Больные, которые здесь оставались, должны были умереть своей смертью. Лекарств никаких не было. Врачи находили старые простыни, стирали, кипятили их и делали перевязки. Очень много было гнойных заболеваний. Начался сыпной тиф. Я тоже заболел сыпным тифом. 23-го февраля приехал румынский офицер, видимо, врач. И он контролировал, чтобы всех, у кого не было температуры, угнали в этап. У меня была температура за сорок, он не поверил. При нем стряхнули термометр, при нем измерили температуру. И меня оставили, со всей нашей семьей. А дядю не удалось спасти, как папа не старался выдать его за медицинского работника. Он ушел в этом, самом большом этапе, и больше мы его никогда не видели. После этого гетто законсервировали. Потянулись страшные дни. Трупы вывозили на телегах за город. Питания не было, обменивали последние вещи. Румыны боялись распространения эпидемии и запрещали это, но кто-то всегда ходил за забором и кричал: «У меня есть хлеб, что дашь?» Отсюда кричали: «У меня есть шапка». «Бросай!» Шапка летела через забор. А на нашу сторону бросали хлеб. Или не бросали. Вот просходил обмен. Кое-что приносили люди. Перебрасывали через забор кукурузу, картошку - знали, что мы сильно голодаем. К нам приходили наши соседи со двора. Даже соседи, которые жили с нами на Островидова, в 38-м году, немцы Берзеры. Они приносили нам еду. Я по сей день помню вкус жареной картошки в глиняном глечике. У них были взрослые дети, они видели, что мы обречены. И они предложили забрать меня к себе. Я был беленький, блондинчик. И они предложили забрать меня к себе и спрятать до освобождения. Вся семья собралась на совет. Родители сказали мне: «Как ты скажешь, так и будет». И в восемь лет мне пришлось самому принимать решение. И решение было таково, что я остаюсь с родителями. Берзеры продолжали ходить к нам и приносить еду. Постепенно я стал поправляться. Начал передвигаться по этажу, где мы жили. А потом начал лазить на чердак. И на чердаке я нашел много маленьких коробочек на кожаных ремешках. Я не знал, что это такое. И только потом, много десятилетий спустя я понял, что это было. Это были тфелины. Пожилые люди, которые соблюдали Шаббат, поднимались на чердак, прятались от охраны, молились и надевали тфелины. Там же они их и прятали за стропила, за балки. Там они и оставались лежать, когда их угоняли в лагеря уничтожения. И только через несколько десятилетий я увидел в синагоге эти тфелины. Жизнь в гетто была, конечно, страшная, но нам начали давать кое-какую еду. Маленькая черная булочка из отрубей и какую-то баланду один раз в день. Все были настолько отощавшие, что еле передвигались. Врачи держались дружной общиной. То ли в июне, то ли в июле объявили, что гетто будет закрываться. Прибыли полицаи, румыны и начали всех выгонять во двор. Тех кто не мог двигаться, выносили на кроватях. Нам объявили: «Кто хочет встать налево, кто хочет встать направо». Налево стояли кровати с лежачими больными и наша семья встала направо. И нас повезли на Сортировочную. Был солнечный день, кругом зеленела трава. Прибыли на Сортировочную, подали вагоны для перевозки угля. Нас загрузили в эти вагоны, Утрамбовали так. Что трудно было даже стоять. Началось наше путешествие в Березовку. Сколько мы ехали, не помню. Когда нас выпустили из вагонов, перепачканных 13 углем, кто-то закричал: «Шо це негров привезли?». Мы еле передвигались. Люди сваливались на платформу еле живые. А впереди мы увидели колодец. Журавль. Там же стояли колоды, из которых поили коров. Когда мы бросились к этим колодам, полицаи не разрешили, сказали: «Это для скота, это не для жидов. А вы пейте из лужи». Там стояла лужа, чуть ли не по колено. И вот из этой лужи мы начали пить. И эта вода казалась нам хорошей. Опять началась сортировка. К вечеру появились какие-то крестьяне, начали говорить нам: «Вас все равно поведут на расстрел, кто может, спасайтесь. Кто может дать, что-нибудь ценное, того мы спрячем на хуторах». Кое-кто согласился, нагрузили несколько телег, люди поехали, и больше их никто не видел. Утром нас погнали дальше, на Мостовое. Жара, степь. Многие отставали, их тут же расстреливали. Меня прикладом румын ударил по голове, шел как в тумане, в анабиозе. Пригнали нас в Семихатки или в Пятихатки, это Березовский район. В поле стояли маленькие вагончики, уже забитые людьми. Мы разместились, как могли, кто в вагончиках, кто под вагончиками. Мы должны были заниматься обработкой полей, засеянных кукурузой. Сначала нужно было ее полоть, потом нужно было ее сапать. Всех выгоняли на поле, независимо от возраста, от состояния здоровья. Постоянно били, Вместе с нами было несколько военнопленных. Нас охраняли полицаи. Есть было нечего. Рвали молодые побеги кукурузы и ели их. Немного легче стало, когда появились первые початки. Но за них наказывали. Двадцать пять розог получал тот, кто ел эти кочаны. Потом папу, как врача отослали в Доманевский концлагерь. И мы всей семьей прибыли туда. Там очень много людей погибло до нашего приезда. Из Доманевки нас отправили в Ахмачетский лагерь, где было несколько бараков, где держали скот. И эту ферму превратили в лагерь. Есть воспоминания бессарабского раввина об этом лагере, написанные в 44-м году. Там людей вообще не кормили.За водой ходили по десять человек. Полицаи развлекались: последнего пристреливали. Вокруг вырвали всю траву и съели. Оттуда папу перекинули в другой лагерь, недалеко от Ахмачетки, в село Пасека. В степи стоял барак, там было человек двести евреев. Они работали в поле, обрабатывали овощи. Стало немного легче - можно было съесть морковку, бурячок… Папа лечил всех, кто жил в этом бараке. Колхозники узнали, что есть врач и стали приходить со своими болячками к отцу. Папа делал им мази, а что оставалось, доставалось больным в бараках. Прожили мы там с 42-го года по март 44-го. Тамара ходила на работу в столярную мастерскую, она там убирала. Маму и папу гнали на поле. Совсем недавно я пробовал получить документы о нашем пребывании в лагерях, но ни один из наших архивов не давал мне такой справки. Отвечали, что документы не сохранились. Тогда я обратился в музей Холокоста, в Вашингтон и оттуда пришел ответ, что действительно Гольдман Мирон, Мария Гольдман-Френкель, Тамара Гольдман с 42-го года находились в Ахмачетском лагере на сельхозработах. И даже ведомость, в которой они расписывались. И я узнал почерк отца. И отдельный был еще документ, что среди врачей Доманевского лагеря находились врачи: Турнер, Сибнер, Гольдман, Сушон. Спустя столько лет, я получил официальное сообщение из Вашингтона, а потом все это мне подтвердил Николаевский архив. Шел 44-й год. Наши наступали. Румыны удрали. Но вслед за ними шли власовцы и калмыки, которые чистили все села. Собирали мужское население и гнали на запад. Мы решили, что папа должен уйти, потому что в бараке оставались одни старики, женщины и дети. Папа тоже был уже пожилым, но, тем не менее, мы решили, что ему надо уходить. И папа ушел. Ходили разные слухи. Мы с мамой очень волновались о папе, и пошли его искать. Начали спрашивать, где могут быть евреи. И нашли его в ближайшем селе, где тоже был барак с евреями. К тому времени в это село пришли немцы. Проверки, переклички, кто такие? Начали делать обыск и у папы нашли брикет прессованной немецкой ваты, несколько ампул йода, опасную бритву и советский паспорт. Начали кричать: «Кто такой?». «Я доктор». «Ты лечишь партизан. Ты украл эту вату! Ты партизан! Будем расстреливать». 14 Немец вывел папу из барака. Я выскочил из барака, бросился в ноги этому немцу, целовал его сапоги. И видно растопил его сердце, папу отпустили. Ночью вокруг барака поставили охрану. Но мы решили, что нужно бежать. И с рассветом мы решили уходить. С рассветом мы вышли из барака. Тропинка спускалась вниз. И вдруг мы видим, что навстречу нам идет этот немец. Тропка узкая. Ну, думаю, сейчас он нас всех перестреляет. Мы с ним поздоровались: „Guten morgen!“ Он прошел мимо. Блуждали целый день и к вечеру вышли к какому-то селу. На краю села - барак с евреями. А вокруг калмыки. Пригнали скот. Тут же режут баранов, готовят себе еду. Мы были голодные, и я рискнул: подобрал бараньи потроха, утащил их в барак. Мама с женщинами промыли их и приготовили какую-то еду. Мы поели. Попали из огня да в полымя: удирали от немцев, а попали к калмыкам. Переночевали ночь в этом бараке и на рассвете тихонько ушли. Пошли в сторону Пасеки, где осталась Тамара. В село мы заходить боялись, прятались в поле, в кагатах, так назывались ямы, в которых хранили буряки и картошку. Мама пошла в село, за Тамарой. Через несколько часов она вернулась и сообщила, что всех, кто там был немцы переписали и сказали, что если хоть один уйдет - десять человек расстреляют. Что делать? Забрать Тамару - десять человек расстреляют. Решили возвращаться. Вернулись в этот барак. Снова все вместе. Утром немцы пригнали коров. Каждому дали по корове и сказали: «Отвечаешь головой». Всех погнали в сторону Днестра. И самое обидное, что на противоположном берегу Буга уже были видны наши красноармейцы. Южный Буг разделял нас. Шли мы несколько дней, коровы пытались удрать, нужно было их кормить. Вместе с коровами получилась довольно внушительная колонна. По дороге немцы заходили в дома, забирали одежду у крестьян и одевали нас. Одеты мы были ужасно: в старых рваных ватниках, на ногах остатки обуви. На детях были трусы, вязанные из конопли. Коров почти не осталось. Потом немцы разделились. Там были Отто и Фриц. Отто был старший. Иногда он надевал на грудь бляху «Полевая жандармерия». А полевая жандармерия - это как СС. Отто достал большую грузовую машину. Погрузил нас в кузов, сам сел в кабину, и мы поехали на запад. Фриц забрал бале молодых. Вы остались все вместе? Сестру забрали. А мы с папой и мамой остались вместе. Машина сломалась. Опять пришлось идти пешком. Сил уже не было. Все говорили папе: «Доктор, идите, скажите ему, пусть он нас здесь расстреляет - нет сил идти». А уже гремела канонада, наши наступают. Мы остановились ночью в каком-то селе, нас расселили по хатам. Мы сидели в погребе, хозяева принесли мамалыгу, молоко. Ночью началось наступление. На рассвете наши разведчики вошли в село. Грязные, в фуфайках, без формы. Хозяйка покормила их. Они ушли дальше. А утром пришли уже основные части. Офицеров мы не узнавали - у них вместо ромбов на петлицах были погоны. Сразу же к нам приехали из Особого отдела. Узнали, кто мы такие. Сказали, чтоб пока отдыхали. Как потом выяснилось, Отто и Фриц были дезертирами, которые нас использовали, как статистов для прикрытия. Поэтому они вас и не расстреляли? Да, мы им были нужны. Мы очень волновались за Тамару. Хозяйка пристроила нас в свободной хате, где никто не жил. Дала нам немножко крупы, овощей. Мы жили там несколько дней, и все время искали сестру в окрестных селах. И нашли. Фриц сдался в плен. Мы собрались все вместе и решили двигаться в сторону Одессы. Шли через села. Солдаты кормили нас, давали хлеб, консервы. Крестьяне принимали нас на ночлег. Так мы двигались в сторону Одессы. Ближе к десятому апреля Тамара села на попутную машину с военными и поехала в Одессу. Одессу освободили десятого, а двенадцатого апреля Тамара уже была в городе. А мы с папой и мамой продолжали потихоньку свой путь. По дороге встретили семью Кролецких, они тоже возвращались в Одессу. У них отец, Сережа, был украинец, а мама, Лида, - еврейка. Они это скрывали. Лида Была очень похожа на украинку - блондинка с голубыми глазами. Говорила на чистом украинском языке. А Сережу, сколько они находились в оккупации, все время забирали то в сигуранцу, то полицаи - он очень был похож на еврея. Но все обошлось. И вот мы 15 встретили их. У них была корова и лошадь, запряженная в повозку. На повозке сидело двое детишек: Наташа и Толик. Толик 36-го года, Наташа чуть старше. Уж не помню. Сережа Лиду снял с повозки, посадил маму. Вот так мы несколько дней добирались до Одессы. Когда вошли в Одессу, город еще горел, горела ТЭЦ, горел хлебозавод. По обочинам дорог валялись трупы немцев и румын. Сережа привез нас к себе. И мы базировались все вместе в его комнатке. Потом пошли к себе во двор, а нас не пускают. Во двор не пускают? Нет, в квартиру не хотят впустить. Хозяйка, которая жила с полковником румынским. Ее брат был прокурором одной из наших воинских частей. Папа пошел к военному коменданту, который оказался очень порядочным человеком. И через двадцать четыре часа ее выселили из квартиры. Мы вошли - голые полы, никакой мебели, ничего, все растащили, все побили. Первую ночь переночевали на полу. Началась мирная жизнь. Папа в Сережиных брюках и рубашке пошел на работу. Все очень удивились и обрадовались, когда увидели его живым. Он вернулся в свой институт? Да, в стационар. А мы потихоньку начали обживаться в своей квартире. Кто-то из соседей что-то принес, кто стол, кто стул. А пока я жил у дядя Сережи я им помогал, выводил корову и лошадь пастись в Дюковский сад. Целыми днями я пас их. Мама готовила, помогала Лиде. Владимир Миронович, а когда Вы пошли в школу? Мне уже было десять лет, а я никогда учился в школе. В гетто папа и Тамара учили меня читать и писать. Папа на куске шифера углем писал буквы, а я их заучивал. Но многого я, конечно, не знал из того, что знали мои сверстники, которые учились в это время в школе. Когда мы обосновались в нашей старой квартире, мама пошла к директору 50-й школы и упросила его взять меня в школу. Директор сначала предложил взять меня в первый класс. Но мама сказала, что надо мной же все будут смеяться, что я такой большой, буду сидеть в первом классе. И она уговорила директора взять меня в третий класс. С одной стороны, она правильно поступила, но с другой стороны - не совсем. Первый диктант, который я написал, имел 262 ошибки. Это был сплошной красный листик. Я не знал прописных букв, я писал печатными. Я не успевал писать под диктовку. Все пять лет, что я учился до седьмого класса, я ужасно мучился. Школа была для меня продолжением концлагеря. Это Вы преувеличиваете. Да, это точно. Потому что я ничего не соображал, что они делают. Когда они написали 262 разделить на два и нарисовали какой-то угольничек, то для меня было все равно, что этот угольничек, что интеграл. Абсолютно одинаково. Счета я не знал, элементарную арифметику не знал, таблицу умножения не знал… Многое, конечно, зависело и от учителей. Если бы я попал в хорошие руки, мне, конечно, можно было помочь. Спасибо, у меня в классе были очень хорошие друзья Вова Ковалев и Игорь Устинов, и они меня тянули буквально за две руки. Помогали делать уроки, втолковывали, объясняли. Постепенно, постепенно что-то стало проясняться. Окончил школу на одни троечки. Переэкзаменовок, правда, не имел, но каждый раз на лето давали задание подогнать какой-нибудь предмет. В пятом классе стал заниматься спортом, спортивным туризмом и это меня немножко стимулировало. А то я всегда был в арьергарде, отстающим мальчиком. Что касается драк, то в этом отношении я никому не уступал. Ребята решили поступать в техникум. И я с ними. Это после окончания семи классов? Да. Папа хотел, я чтобы окончил десять классов, а потом поступал в институт. Но я не хотел продолжения этой «каторги», и сказал ему, что пойду в техникум. Самый прельстительный был техникум пищевой промышленности: во-первых, там была хорошая стипендия, но главное, практику проходили на хлебозаводе, на мясокомбинате. Всегда можно было поесть. Годы были голодные, а мне было пятнадцать лет. Когда я сказал об этом папе, он рассмеялся: «Ты что, еще не наелся за это время, после лагеря?» «Нет, - 16 ответил я, - я уже наелся, но вот детям своим я всегда смогу принести кусочек хлеба». Но в пищевой техникум конкурс был - 40 человек на место. А друзья мои решили поступать в техникум измерений. И я подал документы вместе с ними. В каком году это было? 1949 год. Друзья мне очень помогали, и я был принят. Начались занятия. Новые друзья, девушки, которые не знали моих комплексов и недостатков. Можно было начинать все сначала. Я почувствовал себя увереннее. Я продолжал заниматься спортивным туризмом. И, хотя учеба на первых курсах давалась мне по-прежнему тяжело, я начал изживать свои комплексы. А дальше пошло учеба пошла легче. Специальные предметы мне давались легко. Когда мои друзья ушли в армию, я остался один. Вы в армии не служили? Служил. Техникум окончил неплохо, даже троек было немного. Диплом защитил хорошо. Тема диплома была: «Техника измерения больших объемов жидкостей и газов». Потом в жизни мне это очень пригодилось. Что еще сказать про техникум? Ходил в туристические походы. Организовал секцию спортивного туризма. Ходили в походы по Крыму. Ко мне начали тянуться ребята. Стали лидером? Да, начал выбиваться в лидеры. Произошло становление характера. В 53-ем году окончил техникум. Распределение. Куда? Думал, гадал… . Техникум наш был всесоюзного значения, т.е. мы могли выбирать, начиная от Владивостока и кончая самым западным городом, начиная от самых северных районов и кончая Кушкой. Специалистов было мало. Мы могла выбирать любой областной город Советского Союза. Я выбрал Архангельск. А командировки были на Новую Землю, на Шпицберген, в Котлас. Поехали мы втроем: Мусик Володарский из параллельной группы, Сеня Бухер, потом он работал заместителем директора Полиграфмаша, и я. Прибыли молодые специалисты. Квартиру нам на дали, пришлось снимать. Вернее, дали одну квартиру в Северо-Двинске (Молотов, он тогда назывался). Мы решили, что эта квартира будет за Семеном Бухером, так как мы должны были идти в армию. Мы занимались проверкой всех приборов, которые ставились на подводные лодки. Все приборы мы проверяли. Мы с Мусиком работали в лаборатории, в Ахангельска. Должны были ехать в Котлас, там открывать отделение лаборатории, но времени уже было мало. Мы приехали в августе в Архангельск, а в ноябре нас уже призвали в армию. Владимир Миронович, а как Ваша семья пережила 53-й год? Дело врачей? В 53-ем году, когда умер Сталин, мы как раз находились на практике во Львове. Были страшно потрясены смертью вождя, плакали. Мы как раз проходили практику на Львовском приборостроительном заводе. Там колоссальные цеха и трансляцию о смерти все слушали на своих местах. Все были в слезах и в шоке. И тогда я и мои товарищи по группе решили вступить в комсомол. Вернулся в Одессу и стал готовиться к поступлению в комсомол. Но меня не приняли. Почему меня не приняли? Это были отголоски «дела врачей». Евреев в партию, в комсомол не принимали. Отказ в принятии мне объяснили в Центральном райкоме комсомола тем, что я недостаточно знаю доклад товарища Берии. Потом я вступил в комсомол в армии. Меня чуть ли не на аркане туда затащили. Отец, будучи врачом, на своей шкуре испытал все, что происходило в 53-м году. Он был очень законопослушным, как я уже говорил, и всю жизнь учил меня не высовываться. Сам он не хотел подниматься выше простого врача. Ему достаточно было просто быть хорошим врачом. В это время атмосфера в доме была очень тревожная, все окружение моих родителей были врачи. Ждали, что с минуты на минуту арестуют, или выгонят с работы. Но, Бог миловал, он как работал, так и остался работать. Муж одной из моих сестер, Заславский, который занимал крупный пост в ленинградской администрации, в результате этой кампании окончил жизнь самоубийством. Она осталась одна с двумя детьми и вынуждена была пойти работать на фабрику упаковщицей. А чьей она была дочерью, Владимир Миронович? Сони? 17 Нет, нет. Сейчас я вспомню. Как же звали ее отца? Мы посмотрим. А ребята выросли. Оба получили образование. Защитили кандидатские. Чуть ли не два метра высотой гренадеры. К сожалению, рано ушли из жизни - у обоих был рак. Сколько лет вы жили в Архангельске? Вы из армии вернулись в Архангельск? Нет. В ноябре нас призвали. В армию прибыли как раз на октябрьские праздники. Нас повели в баню, переодели. И в часть. Я попал в учебную часть, которая готовила сержантов, командиров танков. Вы попали в танковые войска? Да. Пришлось учится в этой курсантской школе. Первый год был тяжелый. Кормили плохо. Вначале у нас было немного денег - покупали батоны, масло. Потом перешли с батонов на черный хлеб, с масла - на маргарин. Потом деньги кончились. После обеда собирали со столов хлеб, набивали себе карманы. Нужны были калории- нагрузка была большая. Школу закончили, нас распределили по частям. Все это время мы были вместе с Мусиком, моим одесским товарищем. Какая у него была фамилия? Володарский. А полное имя? Мусик. Просто Мусик. Не знаю. Наверное, Михаил. Уехали они в Америку, сейчас живут в Америке. Отслужил последний год в танковых частях. Вроде солдатом плохим не был. А тут еще объявили, что тот, кто хочет и имеет специальное образование, может подать на то , чтобы сдать экстерном и служить вместо трех лет - два года. Нас таких набралось около ста человек. К концу службы мне присвоили звание младшего лейтенанта. Предлагали остаться в армии, служить, но я не согласился. Вернулся в Одессу в 55-м году, имея диплом техника в кармане. Нужно было устраиваться на работу, а работы нет. У папы знакомств особых не было. Начали искать, кто бы мог помочь устроиться на работу. Вспомнили, что у одной из Тамариных подруг во время войны отец оставался в партизанах, а сейчас работает на заводе Старостина. Он пошел со мной к директору завода: «Хороший хлопец, берите». Но пятая же графа… Короче зачислили меня с дипломом техника на должность ученика электрика. В электроцех. Проработал я в электроцехе года три. Присвоили мне очередной разряд. Видят - парень смышленый. Пригласили меня в технический отдел. Пошел работать в техотдел. Работа более квалифицированная, больше свободы. Участвовал в самодеятельности, опять занялся туризмом. В 56-м году поломал ногу. Но, тем не менее, принимал активное участие в общественной жизни. Уже был комсомольцем. В армии вступил - командир танка не мог не быть комсомольцем. А в техотделе Вы работали на инженерной должности? Техником. Постепенно я рос, мне стали давать более сложные задания. Мы строили доменные печи для комсомольских строек, ударных комсомольских строек. Наш завод комплектовал все оборудование для взвешивания. Пару раз посылали меня в командировку, помочь достать оборудование, ездил аж до Томска. Все в порядке, выполнил все командировочные задания. Десять лет прошло на заводе, меня даже сватали на должность секретаря комсомольской организации. Но я им объяснил: «Иван Алексеевич Соловей - директор, Танов - секретарь партийной организации, Степанов профсоюзный лидер. Вам нужен Гольдман сюда? Он вам испортит всю вывеску! Не надо». Все смеялись. Предлагали идти работать в цех. Но я за это время, в 60-м году, в 61м, поступил в строительный институт. На какой факультет? На факультет «водопровод и канализация». Но этому предшествовало очень много интересных событий. В Одессе не было такого института, в который я бы не поступал. В цехе надо мной уже смеялись. Когда начинались вступительные экзамены: «Ты что, опять идешь в институт поступать?» Я говорил: «Да». 18 Шесть раз я поступал в институт. Во всех институтах: в политехническом, ленинградском заочном, технологическом, холодильного оборудования, я терпел фиаско на первом, или на последнем экзамене. Это было следствием антисемитизма? Пожалуй, да. Я прошел армию, имел стаж работы. Ничего не помогало. Я уже думал, что я дурак дураком. Когда мы с Майей поженились, мне помог ее дядя, Гольдфарб Иосиф Вольфович, один из основателей строительного института. Поступил я на вечерний факультет с самым мизерным количеством баллов. Когда я первый раз пришел в аудиторию и начал знакомиться со своими однокурсниками, я понял, что на голову выше некоторых из них, хотя они поступили с первого захода. Среди них были и такие, которые за всю свою жизнь прочитали, максимум, три книги. И я понял, что не такой дурак, как мне все эти годы пытались внушить. Началась учеба в строительном институте, Днем работа на заводе. Вечером - институт, Это продолжалось шесть лет. В 65-м году я пришел к своему директору, увольняться. Он стал меня уговаривать остаться на заводе. А к тому времени я перешел с факультета «водопровод и канализация» на факультет «отопление, вентиляция и газ». Он предложил остаться на заводе и работать по этой специальности. Но я решил переходить в проектный институт. Это было в 66-м году. Я начал работать в институте «Укржилремпроект». Занимался газификацией города и области. Начал с техника. Прошел все ступени, и стал главным инженером проекта. Предлагали мне стать начальником отдела, но я не соглашался. Проработал я в институте полных двадцать семь лет. Решил уходить досрочно на пенсию, потому что в это время открылись новые перспективы. В свое время я начал заниматься общественной работой в «Ассоциации узников концлагерей и гетто». Вскоре меня ввели в совет ассоциации, а потом избрали заместителем председателя. Около трех с половиной лет я работал на этой должности на волонтерских началах. В это время «Джойнт» стал подыскивать кандидатуру на должность директора еврейского благотворительного центра. И, с подачи Феликса Мильштейна, председателя общества еврейской культуры, мне предложили эту должность. Раввин поддержал мою кандидатуру. В 93-м году, в октябре, меня пригласили в «Джойнт» и предложили эту работу. Я сказал, что директором никогда не работал. На что мне ответили, что надо же когда-нибудь начинать, и что им моя кандидатура подходит. Я уволился из института и перешел в «Джойнт», организовывать это дело. Кроме названия, которое было еще до революции «Гмилус Хесед», ничего пока не было. Несколько человек «Джойнт» рекомендовал мне в качестве сотрудников и с этого началась работа. Сначала мы базировались на Воровского, в помещении Еврейского культурного общества, потом нам сняли двухкомнатную квартиру, потом, по мере того как мы разрастались, мы перебрались на Польский спуск, 13. А в 96-м году Балтиморская еврейская община подарила еврейскому благотворительному центру большое помещение на Троицкой, 41. Начались годы работы в «Гмилус Хеседе». Начинали буквально с нуля: первых сорок человек взяли на патронаж из тех, что были при Обществе еврейской культуры. Это были наши первые подопечные. Собирали сведения об остальных людях. На сегодняшний день мы обслуживаем порядка девяти тысяч человек в Одессе и Одесской области. Владимир Миронович, а как пережила оккупацию семья маминой сестры Софы? Они все попали в гетто, и Женя тоже. Генрих Романович Осташевский, женин жених, проявил себя в высшей степени благородным человеком, он ее выкупил из гетто. И она с чужим паспортом проживала в Одессе. Тетя Софа вместе с нами была в гетто, а из гетто, сразу как-то, она попала в Доманевский лагерь. И все время она была в Доманевском лагере. А судьба Ильи Корнблита сложилась очень трагично: он болел волчанкой и умер в гетто. Софа осталась жива? Софа осталась жива. Мы знали, что она в Доманевке. Пару раз передавали ей устные весточки, что мы живы тоже. После освобождения Софа вернулась в Одессу, работала 19 врачом. Женя продолжила учебу в медицинском институте, она еще до войны училась в мединституте. Генрих учился в театральном училище. Жили они прекрасно, у них в 42-м году родилась дочка Валя, они ее прятали, пережили очень много: их выдавали, они убегали из Одессы, скитались по селам. Как могли, помогали тете Софе, посылали ей продукты. После войны они жили на проспекте Мира. Валя подросла и поступила в медицинский, как бабушка с дедушкой и мама. Успешно его закончила, окончила аспирантуру, защитилась. Работала с Олейниковой, та ее очень ценила, на кафедре повышения квалификации кардиологов. Она была прекрасным кардиологом. Валечка вышла замуж за Розиного сына Витю из Ленинграда. Они здесь поженились, у них прекрасная дочка - Ланочка. У Ланочки - муж Рафик, талантливый программист, прошел конкурс на работу в Майкрософте и перевез их всех из Техаса в Сиетл. А Витя работал в проектном институте связи, на Р.Люксембург. У него была лейкемия. Умирая, он завещал семье отсюда уехать, как бы хорошо им здесь не было. И в 89-м году они выехали сначала в Италию, а оттуда - в Соединенные штаты. Софа осталась здесь? Нет, Софа умерла, дай Бог памяти, в шестидесятые годы. Ее здесь похоронили и рядом с ней похоронили Витю. На еврейском кладбище? На втором еврейском кладбище они захоронены. А как Вы познакомились с Вашей женой? С моей женой я познакомился у моих приятелей, которые жили на Чижикова, 4. Я пришел к ним в гости, там увидел Майю. Она мне очень понравилась. И я стал к ним захаживать. Она меня тоже не отвергала, а наоборот даже… Мы поженились, когда мне было двадцать шесть лет, а Майе двадцать. А еще тогда работал на заводе. А Майя училась? Да, Майя училась в Лингвине. Что такое Лингвин? Институт иностранных языков. В Одессе? В Одессе, Иняз его еще называли, потом он перешел в университет. Так что заканчивала она уже факультет Романо-германских языков. Она изучала английский язык. Вообще-то сначала она поступила в медицинский институт. Проучилась один семестр - ей не понравилось, и она бросила. А когда вы поженились? Мы поженились 4 декабря 60-го года. Девичья фамилия Майи? Ее девичья фамилия Кангун Маиса Довудовна. У нее семья была более патриархальная. Нельзя сказать, что они соблюдали все законы, но, во всяком случае, у Давида Исааковича, маиного отца, всегда было место в синагоге. Даже в советское время? Даже в советское время. В последнее время особенно. В советское время он занимал большой пост, он не мог это себе позволить. Он был участником обороны Сталинграда, он был политруком. Но со временем его исключили из партии. Там у него были неприятности. Помогал людям и сам на этом, как говорится, сгорел. Образование у него было высшее, он окончил педагогический институт. Преподавал математику. Очень толковый был человек, очень эрудированный, спокойный. У него можно было очень многому поучиться. А мама? Маина мама тоже окончила педагогический институт. Преподавала в школе, была завучем. Была директором летних лагерей. У них была преподавательская семья. И, тем не менее, на все еврейские праздники готовились еврейские блюда, зажигались свечи. 20 Именно тогда я впервые попал в синагогу. Сначала поход в синагогу заключался в том, что нужно было побыстрее взять мацу и улизнуть. Но постепенно я стал интересоваться историей еврейского народа, религией. Тору достать невозможно было, купил библию. Стал читать библию. Прочитал евангелие. Остановился все- таки на Ветхом завете. Владимир Миронович, а вообще, в вашей семье много читали? Да. У Майи была очень читающая семья. У нас дома тоже. Я очень любил читать. Я себе строил грандиозные планы, когда уйду на пенсию - перечитаю всю свою библиотеку. Я не позволял себе купить бокал пива, а покупал книгу. Так у нас было заведено. Владимир Миронович, а кто в Вашей семье и в семье Майи говорил на идиш? Что касается моей семьи, то у нас говорили на идиш только тогда, когда не хотели, чтоб дети понимали. Мама с папой говорили? Мама с папой между собой. Но мы уже догадывались, о чем идет речь. Кое-какие слова мы понимали. Большой запас слов я получил, будучи в лагере, в гетто. Там многие говорили на идиш, и я многое понимал. В семье у Майи больше говорили на идиш. Говорили они, конечно, на русском языке. Еврейская речь звучала, особенно пословицы, поговорки, всякого рода шутки и т.д. Родным языком все-таки был русский? Не украинский? Русский. Конечно русский. Майя владеет английским языком? Да, Майя владеет английским и украинским языками, она преподавала их в школе. А кто-то еще в семье говорил на иностранных языках? Нет, к великому сожалению. А Вы говорили, что дядя Лева знал румынский язык. Да дядя Лева говорил на чистом румынском языке. Но, к сожалению, он погиб в 42-м году. Вот такая атмосфера была в нашей семье. А когда родилась Ваша дочь? Лариса родилась 28-го июня 1963 года. Я уже тогда занимался в институте, условия были очень тяжелые. Стоял вопрос о том, чтобы я бросил институт. Но, несмотря ни на что, я окончил институт. Довольно успешно. У меня были очень хорошие отношения с моими товарищами по курсу, по институту, с преподавателями. С коллегами по работе у меня были прекрасные отношения. Уже после того, как я перестал работать, мне еще приносили на рецензию проекты, я продолжал оставаться консультантом. В быту Вы не испытывали антисемитизма? Трудно сказать. И да, и нет. Особого прессинга на меня не было. Я не был диссидентом. Я интересовался всеми этими делами постольку поскольку, скорее тесть мне подкидывал материалы, которые можно было почитать. Первая библиотека алии. Он приносил эти книги. Об аресте Эйхмана я впервые тогда прочитал книгу, об операции «Энтебе». Об Израиле книги. Каким было отношение к Израилю? Всегда очень теплое, даже когда я там еще ни разу не был. Бог дал мне возможность три раза побывать на Земле обетованной. Три раза возили меня христиане, организация «Эвен Эзер», которая занимается перевозкой евреев в Израиль. Первый раз я был в 93-м году, еще была жива моя сестра. Последний раз я был в 98-м году. Какой институт окончила Тамара? Тамара училась в зубоврачебной школе, сразу после войны, Окончила ее и работала в Марьяновке, вместе с Женей, моей сестрой. Та работала районным врачом, а Тамара зубным. В Одесской области? Да. Потом она работала в Булдынке. Много лет, с 52-го года по 90-й, работала в Новых Белярах. Там же она вышла замуж за Зиновия, он окончил горный техникум, приехал из Киева. Там они познакомились, поженились. 21 Как его фамилия? Натанзон. У них родились двое детей: Ирочка старшая и Мишка. Ирочка 54-го года рождения. Дети здесь же, в Одессе, поступали. Обычная история: Ирочка поступила в строительный институт, а Миша был вынужден ехать в Томск. И окончил Томский институт, факультет автоматизации систем управления. А Тамара вернулась в Одессу? Нет, Тамара всю жизнь прожила в Новых Белярах. У них был домик. Она там и умерла? Нет. Тамара в 90-м году выехала вместе с детьми в Израиль. И она умерла в Израиле, в 94-м году. 6-го января, 94-го года. А мама когда умерла? Мама умерла в Одессе. В 72-м году, на Ворошилова. Она была похоронена на еврейском кладбище? Да она вместе с папой и Зиновием похоронена там. И вот у меня мечта , чтоб я лежал рядом с ними. Даст бог, сбудется и это. Вот так. Отец и мать были, как я говорил, в высшей степени порядочные люди, пусть им земля будет пухом.