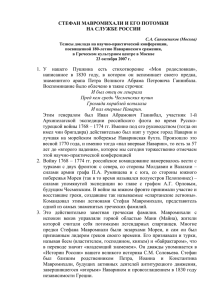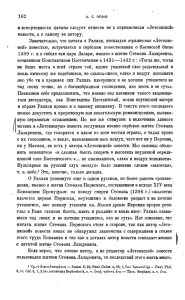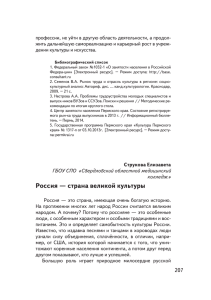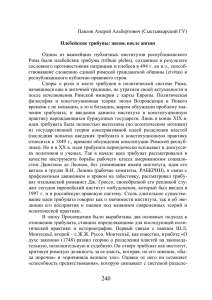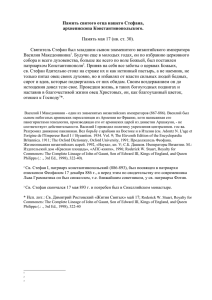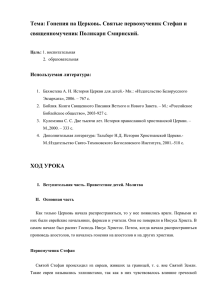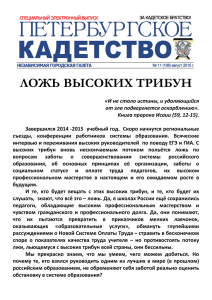историческое произведение - Сыктывкарский Государственный
advertisement
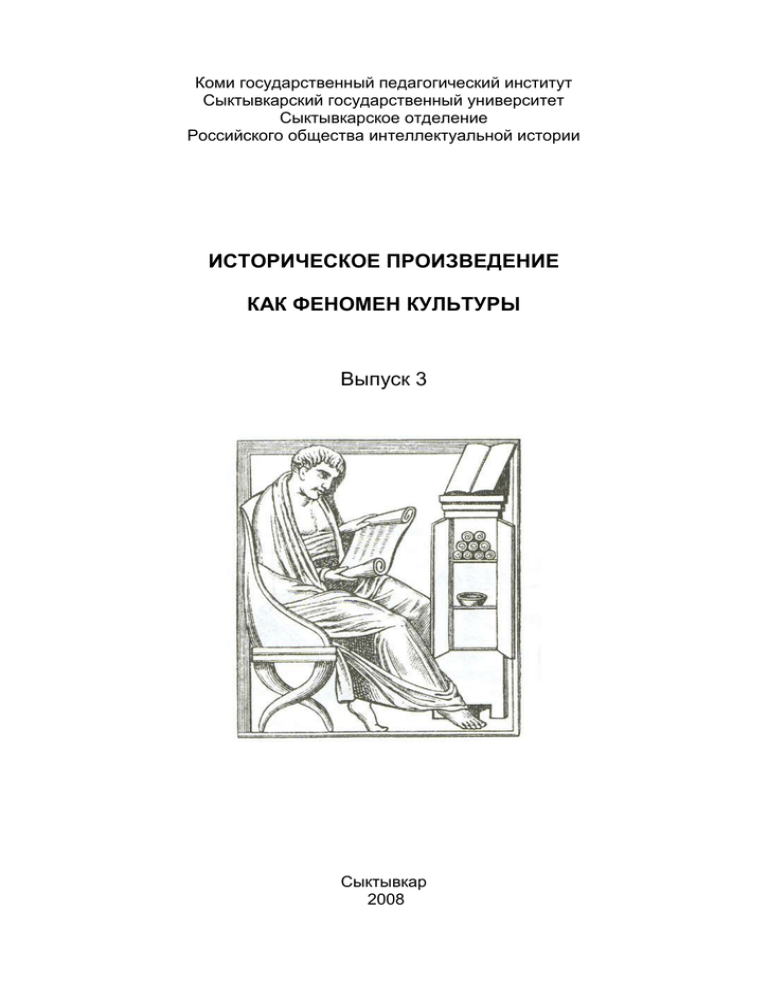
Коми государственный педагогический институт Сыктывкарский государственный университет Сыктывкарское отделение Российского общества интеллектуальной истории ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ Выпуск 3 Сыктывкар 2008 УДК 168.522 ББК 71 И90 Историческое произведение как феномен культуры: сборник научных статей / отв. ред. А.Ю. Котылев, А.А. Павлов. – Сыктывкар: Изд-во КГПИ, 2008. – Вып. 3. – 167 с. ISBN 978-5-87661-142-0 Настоящий сборник составлен из докладов членов Сыктывкарского отделения Российского общества интеллектуальной истории (РОИИ), сделанных в рамках научного семинара «Историческое произведение как феномен культуры» в 2008 г., и продолжает серию публикаций с одноименным названием (первый выпуск издан в 2005 г., второй – в 2007 г.). В представленных статьях авторами поднимаются как теоретические вопросы анализа исторических текстов, так и рассматриваются на основе конкретных текстов многообразные аспекты исторического сознания и ментальной традиции от эпохи античности до современности. В приложении публикуется тематический перевод труда известного римского историка-антиквара I в. н.э. Валерия Максима «Достопамятные деяния и изречения». Книга адресована преподавателям и студентам гуманитарных факультетов, всем интересующимся вопросами развития исторического знания. УДК 168.522 ББК 71 © Коллектив авторов, 2008 © Коми государственный педагогический институт, 2008 ISBN 978-5-87661-142-0 2 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие. Личностная история – интеллектуальная интерпретация Фадеева И.Е. Картина мира как текст культуры: историческая персонология и культурологическая рефлексия Сулимов В.А. Языковая картина мира и проблема языка описания Лимонов В.А. О философии истории Ф. Ницше Красильникова С.В. Жанровая категория «писатель» и «читатель» в памятниках севернорусской историографии XVIII-XIX веков Котылева И.Н. Роль рода купцов Строгановых в развитии почитания св. Стефана Пермского в XVI-XVII в. (к постановке проблемы) Котылев А.Ю. Прежереченый Митяй и преподобный отец наш Стефан: варианты проявления личностного начала в культуре Руси XIV века Тренькина Ю.С. Историчность жития Сергия Радонежского на примере эпизода «Встреча со старцем» Гончарова В.И. Автобиография Максимилиана I Габсбурга как отражение культуры XVI века Изотова Ю.Ю. Средневековье и «старый порядок» в типологической концепции Н.И. Кареева Макарова Л.М. Миф Лени Рифеншталь Семенов В.А., Несанелис Д.А. Литературный этюд (рыт пукалöм) Питирима Сорокина в этнологическом контексте Сурво А. Финское наследие Приложение Павлов А.А. «Достопамятные деяния и изречения» Валерия Максима о плебейском трибунате и трибунах Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения / пер. с лат. А.А. Павлова Содержание предыдущих выпусков 3 4 8 21 29 34 42 49 75 82 98 104 113 117 124 142 165 Предисловие Личностная история – интеллектуальная интерпретация Современная социокультурная ситуация, как и любая другая, имеет свои минусы и плюсы. Относительное равнодушие значительной части общества к историко-культурным проблемам развития своей страны, соседствует с мощным потоком формирования множественности исторических теорий, концепций, подходов, методов, точек зрения, мнений и позиций. Своего рода динамичным срезом этого положения стал Интернет, в котором строгая наука соседствует с вольным допущением, исторический источник граничит с мистификацией, добросовестное размышление соприкасается с рекламной акцией и тупым фанатизмом. Неотграниченность научного исторического знания от других его разновидностей стала сегодня очевидной реальностью. Попытки создания зоны единообразия загоняют консервативных ученых и родственных им представителей власти в безвыходную ловушку, в которой под влиянием безграмотных тестов и некачественных учебников вместо патриотизма воспитывается цинизм, эффективность подменяется приспособленчеством, научный поиск рассматривается как угадывание точки зрения очередного правителя. Оскуднённость такого подхода к науке и образованию невнятна только для тех, у кого глаза зашорены зеленью доходного дождя или прелестью возврата в изобретенное ими же идеальное прошлое. Движение науки истории вперед предполагает трезвый взгляд на былое и нынешнее, который может возникнуть только у человека образованного, воспитанного в традиции уважения к иной точке зрения, готового признать неправомерность своей позиции под воздействием новых фактов и аргументов. Если говорить кратко – исторический взгляд на мир требует личности, личностного подхода к проблемам развития мира, человечества, страны, города, деревни, рода, семьи, человека, человечка. Личностное измерение историко-культурного процесса предполагает наличие в нем нескольких концептуальных проекций, каждая из которых организует сложную подсистему знаний и представлений. Наиболее ранней и омассовлённой из них является «история личности», непосредственно восходящая к античной традиции сравнительного жизнеописания «великих и знаменитых». Сравнение стало первым собственно научным методом, позволяющим открывать и фиксировать специфические качества не только отдельных людей, но и порождающих их народов, стран, культур. В то же время, компаративистика, противостоя мифологизации и идеологизации культурного поля в целом, исторических персонажей в частности, могла соответствовать принципам формирования массового политизированного сознания только в самых примитивных своих вариантах. Научная система потребовала возникновения следующей личностной проекции, конституируемой стремлением творческого преображения реальности, авторской истории. Личность историка выковывается в пространстве между наковальней необозримого прошлого и молотом социально-политических предпочтений окружающей среды. Только ускользнув от опасности 4 поглощения и Сциллой безликого информационного хаоса, и Харибдой идеологической ангажированности, историк способен обрести научный метод, имеющий высшим своим выражением авторскую концепцию. Необходимость выбора между авторскими позициями предполагает возникновение третьей личностной проекции – читательской. Личность читателя обретает в историческом тексте идентификационные характеристики, вписывая свое существование в определенный историкокультурный контекст, отождествляя себя с тем или иным пространством, языком, народом, религией, картиной мира в целом. Личностная ориентация этого процесса, его осознанный характер сближают читателя с историком на основе общей наблюдательной позиции, при разных степенях отстранённости и вовлечённости. Высший уровень активности реципиента обозначает его превращение в исследователя, высший уровень самосознания историка характеризуется непрестанным ученическим интересом к вечным тайнам Книги Бытия. При повсеместном распространении и актуализации сегодня личностного восприятия истории, не следует забывать его пространственновремен-ной и социокультурной ограниченности. В равной степени представляются недоработанными и прогрессистские теории личности, изображающие ее развитие как процесс непрерывного нарастания определенных качеств от периода к периоду, и точка зрения ученых, жестко связывающих личность с новоевропейским типом культуры. Более перспективной являются попытки создания личностных типологий (и вариантов исторического сознания / самосознания) в связи с классификациями социокультурных систем. Однако следует помнить, что и в рамках конкретного, хроно-локально-опосредо-ванного социокультурного процесса, личность проявляется неравномерно и непоследовательно. Можно скорее говорить о всплесках личностной активности, иногда отделёнными друг от друга солидными промежутками времени. Представляется перспективной разработка гипотезы, связывающей такие вспышки с переходными состояниями социокультурной системы, когда действенность ее норм, канонов, стереотипов, подавляющих и заслоняющих личностную активность, снижается в связи с внутренней нестабильностью, или вторжениями извне. Профессиональная позиция историка во многом определяется формой его индивидуального интереса, в поле которого могут оказаться самые разные эпохи, темы и факты. Утверждение «о чем бы я не писал, пишу о себе», используемое честными авторами для обозначения сути исследовательского подхода, указывает на личностную основу применения любого научного метода. При осуществлении выбора «своей» темы или «своего» персонажа, ученый осознанно или подсознательно останавливается на личностно близких ему текстах, изучение которых отвечает целям развития личности. В частности, сохранение доминирующего положения политической истории может быть объяснено не только традицией, но и тем неизбывным интересом, который большинство людей питают по отношению к агональным столкновениям своих предшественников и современников. Важность действий властителей и 5 приближенных им особ мотивируется, таким образом, не только мифологизацией этих персон, но и активизацией особого личностного интереса к себе подобным. Каждый «метящий в наполеоны» примеряет на себя властьсодержащие треуголки, вдальуказующие скипетры или президентские смокинги. Имитационное использование этих символов в принципе безопасно, так же как военные игры, симулирующие процессы от помахивания мечом до запуска ядерных боеголовок. Однако на уровне массового сознания эти игры могут обернуться достаточно серьезными перекосами и психологическими травмами, коль скоро не будут выведены в разряд компьютерных стрелялок и стратегий. Поиск себе подобного в истории вполне безобиден только в том случае, когда речь идет о созидающей личности: интеллектуале или художнике. Характерная в этой связи репрезентация революционера в советской культуре неизбежно приуготовляла крах самой советской социокультурной системе, малоспособной к проекции в будущее позитивных идеальных образов. Находка в прошлом своих аналогов имеет в личностной перспективе обозначение оригинальности путей исследования и его выводов, что подчеркивает независимость ученого от предметов и плодов его труда. Личностная история, актуальное исследование своего прошлого, сколь угодно удаленного во времени и пространстве, требует его встраивания в картину мира историка, что возможно только путем интеллектуальной интерпретации исторических источников. Пути организации этой формы творчества могут быть различны. Следует напомнить, что уже возведение текста в ранг источника является первичным вариантом интерпретации. Важной ее формой выступает перевод, представленный во всех выпусках данного сборника концептуальными работами А.А. Павлова, требующий не только знания языка и культуры иной страны, но и вступления с ними в напряженный диалог, нередко длящийся всю жизнь. Наделение личностными качествами автора переводимого произведения, его творческой манеры, народа, который он представляет нашему времени, являются необходимыми, хотя и не всегда корректными процедурами. Однако сама корректность перевода напрямую зависит от степени интимности отношения переводчика к другой культуре, глубины прочувствования духовного мира чужого человека и вживания в инокультурную среду. Сопоставлению различных вариантов одного источника посвящена статья Ю.С. Тренькиной, выявляющая особенности авторской позиции Епифания Премудрого, искаженной позднейшими переделками. Формированию образов исторических персонажей в культурном контексте определенных периодов посвящены статьи И.Н. Котылевой, В.И. Гончаровой и Л.М. Макаровой (Стефана Пермского, Максимилиана I Габсбурга и Лени Рифеншталь соответственно). В совокупности они демонстрируют многообразие социокультурных способов утверждения и фиксации фигуры значимого деятеля. Исследованию взаимодействия исторических фактов, массового сознания и художественной культуры посвящены статьи А. Сурво, В.А. Семенова и Д.А. Несанелиса. В них раскрываются непростые пути 6 формирования исторических знаний и мифологических представлений, не имеющих, в большинстве случаев, линейного выражения. Рождение образа ученого-историка в российской культуре репрезентирует статья С.В. Красильниковой, показывающая, что конституирование научного метода было неразрывно связано, как с формированием авторского самосознания, так и с образованием социальной группы компетентных читателей исторических сочинений. Характерным направлением в развитии научного знания стала история историософии, представленная в сборнике статьёй В.А. Лимонова. Примечательно, что в данном случае исследуются взгляды мыслителя (Ф. Ницше) относившегося к европейской исторической науке достаточно скептически. Пространство исторического сознания имеет в себе значимые зоны самоотрицания, нередко более актуальные, чем центры утверждения. Своего рода антитезой ницшеанству являлась позиция Н.И. Кареева, охарактеризованная в статье Ю.Ю. Изотовой, поскольку она предполагала универсальность исторического знания, привлечение к его формированию методов иных дисциплин. Важной частью формирования современного научного сознания является интерпретация процессов интерпретации, представленная в статьях И.Е. Фадеевой и В.А. Сулимова. Исследования взаимосвязей действия языковых норм с процессом научного мышления стали актуальными с начала прошлого века, обозначив конец эры позитивизма и путь формирования новых парадигм. Сегодня ни одна область научного знания не может обойтись без метаметодологического анализа процесса своего возникновения, хотя многие историки-«конкретники» предпочитают не задумываться о путях формирования собственных методологических предпочтений. Выход третьего сборника «Историческое произведение как феномен культуры» становится обозначением определенной традиции. Редакторам и авторам хотелось бы обсудить наметившийся круг научных проблем в более обширном собрании единомышленников и критиков. Приглашаем всех желающих принять участие в создании следующего выпуска и проведении научной конференции. С заявками и предложениями обращаться по адресу akotylev@pochta.ru А.Ю. Котылев 7 И.Е. Фадеева* Картина мира как текст культуры: историческая персонология и культурологическая рефлексия Задачей этой статьи не является рассмотрение современной картины мира в целом, включающей в себя естественнонаучные представления о вселенной, материи и сознании, а также основные цивилизационные коды, составляющие многообразие человеческой культуры. Задача статьи – выявление когнитивных и культурологических оснований моделирования картины мира в ее национально-культурных параметрах и в исторической перспективе. Актуальность такой поставки вопроса очевидна: состояние перманентной переходности, переживаемое русской культурой на протяжении XX-XXI веков, требует осмысления смысловых и ценностных констант, невозможное без обращения к анализу структур личности и человеческого сознания в тех формах, в которых они представлены в текстах современной культуры. Между тем, даже таким образом поставленная, проблема обнаруживает достаточно много ответвлений и аспектов. В современной научной литературе существует ряд подходов, которые с известной долей упрощения можно разделить на два типа. С одной стороны, это лексикографическое описание концептов, «констант» (Ю. Степанов), ключевых слов – «гештальтов» (А. Вежбицка), характеризующих русскую ментальность, представляемых как некоторая первичная (объективно существующая) данность вне ее категориального моделирования при посредстве того или иного языка описания (метаязыка). С другой – это опыты создания такого метаязыка на основании философской или филологической рефлексии текстов культуры. Примером первого могут служить словари В.П. Руднева или М.А. Эпштейна, примером второго – словарь «Космос русской культуры» К.Г. Исупова. И хотя именно словарь как форма репрезентации картины мира претерпевает наиболее значительные трансформации, становясь гипертекстом или «проективным» описанием философской рефлексии, – картина мира, моделируемая в каждом отдельном случае, представляет собой бесконечно расширяющуюся вселенную смыслов, представленных в текстах культуры. Цель этой статьи определяется как объединение трех разнонаправленных векторов исследования: 1) попытки осмысления картины мира современности и постсовременности в ее радикальных изменениях по отношению к некоторому исходному состоянию (XVII-XVIII вв.); 2) выявления значения культуры, культурологической рефлексии и текста культуры как базовых концептов современной картины мира и как маркеров когнитивных изменений в сознании современного человека; 3) опыта моделирования когнитивных и ценностных оснований русской картины мира при учете выявляемых аксиологических констант и ментальных характеристик. * Фадеева Ирина Евгеньевна – доктор культурологии, заведующая кафедрой культурологии КГПИ. 8 *** По М. Хайдеггеру «сущностно понятая» картина мира представляет собой не картину, изображающую мир, а мир, понятый как картина: «бытие сущего ищут и находят в представленности сущего» 1. Являясь результатом культурологической рефлексии, картина мира предполагает наличие субъекта, который, изменяясь, качественно изменяет ее не только содержательно, но и в системно-структурных характеристиках. По мысли Хайдеггера, при превращении мира в картину сущее в целом берется так, что оно только тогда становится сущим, когда поставлено представляющим и устанавливающим его человеком, и где дело доходит до картины мира, там выносится кардинальное решение относительно сущего в целом. Представление субъекта о мире как о «сущем в целом» основывается на компетентности познающего субъекта2, возможности для него целенаправленного и осмысленного действия в мире. Теоретическое моделирование мира как картины основывается на обозначении дистанции между зрителем-наблюдателем и собственно «картиной». Корреляция между возникновением афинского театра в V в. до н.э. (позиционированием наблюдателя-зрителя) и философии (позиционированием наблюдателя как умо-зрения) предстает в Новое время как корреляция между расцветом театра Расина и Корнеля и формированием рационалистической философии Декарта. Эти коррелирующие ряды возникают как следствие усложнения и дифференциации социокультурной коммуникации в результате разделения позиции адресата и наблюдателя, что, в конечном счете, приводит к противопоставлению объекта и субъекта – субъекта, обладающего полнотой знаний о сущем (в пределе абсолютного субъекта, «монологического разума», по Ю. Хабермасу), и объективной реальности, представленной познающему сознанию. Исторический характер этих допущений, дает основания рассматривать картину мира как исторически преходящий этап эволюции человеческого сознания (время картины мира – это XVII-XIX вв.). Снятое феноменологией Э. Гуссерля и экзистенциальной герменевтикой М. Хайдеггера тотальное противопоставление мира и познающего разума, объекта и субъекта, переводит вопрос о картине мира из плоскости объективного знания и отражения / представления мира в сознании человека в сферу исторической персонологии и сущности человеческого бытия в культуре. Картина мира XX-XXI вв. складывается не только под воздействием изменений, произошедших в собственно научном знании, но и изменений в человеческом сознании, наиболее точно выражаемых в характере семиотических процессов. Следствием произошедших изменений становится качественно иное функционирование семиотических единиц, так же как и их внутренние изменения. Мысль М. Фуко об историзме форм означивания (от символических и аллегорических структур средневековья и Ренессанса к дуальной и дискретной знаковости классической эпохи – и, 1 2 Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие. М., 1993. Там же. С. 49. 9 наконец, – к включающим в себя «трансценденталии», – «квадриальным»1 знакам XIX и XX столетия) дает основания полагать наличие связи между пониманием мира как системы представлений («образов») и бинарностью знаков. В отличие от классической картины мира, когда понятия и слова, их обозначающие, представлялись в качестве заместителей вещей (что дало Д. Свифту прекрасный повод для иронии), постнеклассическое видение сформировало иной способ представления смыслов – посредством сложных («квадриальных», «континуальных») знаков, «означаемое» которых, являясь многомерным по своей сути, не только не может соответствовать вещам (как полагала логика «дуальных» знаков XVII веков в теоретической модели М. Фуко) или понятиям (как полагал Ф. де Соссюр), не только не допускает представлений о их независимом от познающего разума существовании, но и, в силу своей многомерности и несамотождественности, предполагает множественные способы означивания в рамках множества «возможных миров». Современный человек воспринимает мир как текст, что естественным образом снимает вопрос о текстовом или не-текстовом характере реальности как таковой: если человек XVII-XIX столетий видел и представлял мир в качестве «картины» («представления»), то сейчас мир предстает в качестве текста, подлежащего интерпретации, – текста культуры. Однако, если «картина» может быть более или менее адекватно описана посредством словаря (в пределе – энциклопедии) или построенного на пропозициональной логике нарратива, то текст взывает к пониманию и интерпретации. Справедливость сказанного может быть подтверждена и при обращении к естественнонаучной картине мира, моделирование которой невозможно без учета позиции наблюдателя и языка описания. Картина мира современной культуры представляет собой способ означивания и интерпретации смыслов, представленных в текстах культуры (в т.ч. и научных), – виртуально существующее и меняющееся в процессе своего описания или интерпретации образование – гипертекст, не обладающий, вопреки известному определению Р.А. Богранда и В. Дресслера, качествами цельности, связности, осмысленности. И если картина мира классической эпохи могла быть описана как семиосфера (и ее исторически отдаленный аналог – Энциклопедия), то сейчас она предстает в качестве моделируемого (или не моделируемого) отдельным человеческим сознанием семиозиса – как способ и процесс интерпретации бесконечно разворачиваемого гипертекста, равно зависимый как от интерпретирующего сознания, так и от сознания порождающего. Однозначно описать картину мира современной культуры невозможно в силу перманентной изменчивости «означаемого» и подвижности позиции наблюдателя (множества наблюдателей). Балансируя между Сциллой атомарности и Харибдой «гиперинтерпретации», доминированием автора и произволом читателя, текст культуры все же может быть структурирован посредством ряда констант. Следует, на наш взгляд, обозначить две координатные оси, пересечение которых образует пространство текста: ось Фадеева И.Е. Исторический семиозис как методологическая дилемма // Историческое произведение как феномен культуры. Вып. 2. Сыктывкар, 2007. 1 10 смысловых метаконцептов (базовых концептов, концептов языка описания) и ось аксиологических констант. Безграничность «гиперинтерпретации» (У. Эко) бесконечно разворачиваемого гипертекста, иначе говоря, ограничена исторически (базовыми концептами и аксиологическим константами культурной традиции) и семиотически – когнитивно-семиотическими моделями, характерными для того или иного историко-культурного «среза» человеческого сознания в его исторической динамике. Переориентация универсального представления о мире в целом с «картины» на «текст», с нарратива и энциклопедии – на гипертекст существенно меняет набор «базовых» (в смысле Д. Лакоффа) концептов/метафор, центральное место среди которых теперь занимает не искусство (образ), а культура. При этом картина мира современной культуры выстраивается не только как динамически подвижная модель, но как процесс моделирования, создания этой модели, то есть является метатекстом, языком, порождающим тексты культуры во всем их смысловом многообразии и бесконечном спектре интерпретаций. Или, иными словами, современная картина мира, являясь по своей сути не картиной, а текстом (метагипертекстом), определяет необходимость формирования релевантного ей языка описания. Единицами этого языка являются не дискретные понятия, складывающиеся в том или ином порядке в некоторый «словарь» и коррелирующие с артефактичностью и атомарностью составляющих «картину» элементов, а концепты, образующие в совокупности гипертекст. В отличие от понятий, концепты – сгустки смыслов в расширяющейся вселенной текстов; концепт, являясь по своей природе надтекстуальной сущностью, вбирает в себя не только «третье измерение» (глубину смысла), но и «четвертое» – время1. В отличие от классической эпохи и соответствующей ей картины мира, базовым концептом при описании которой являлось понятие «образа» («представления»), базовым концептом языка описания современной «картины мира» стал концепт текста. Поскольку сказанное вступает в видимое противоречие с процессом «визуализации» или «иконизации», наблюдаемыми в современном социокультурном и текстовом пространстве, следует предположить наличие существенных изменений, происходящих в самой феноменологии текста, все более приобретающего виртуальнобесконеч-ный характер, локализованного в пространстве пересечения множественно реконструируемых контекстов и интертекстов. Становясь способом интерпретации смысла, или – что то же самое – результатом моделирования формы представленности изменяющегося мира в перманентно изменяющемся сознании человека, картина мира перестает существовать в том виде, в котором она существовала в классическую эпоху. Можно назвать ряд факторов, разрушающих традиционную модель картины мира как некоторого устойчивого образования, воплощающего базовые представления о мире и человеке. Следует уточнить при этом: концепт в нашем понимании – нечто противоположное понятию. Смысл концепта не исчерпывается его дефиницией, представляя собой расширяющуюся вселенную смыслов, представленных в текстах. 1 11 Во-первых, в силу лавинообразного увеличения количества и качества информации, когда виртуальный информационный поток подминает под себя отдельное индивидуальное сознание, не способное справиться с ее обилием и невозможностью свести ее в сколько-нибудь непротиворечивую единую систему, невозможность построения «прямой перспективы», когда параллельные линии должны обрести общую точку соединения в локусе абсолютного субъекта, становится непреодолимой. Другим фактором является разнонаправленность информационных потоков, их качественная неоднородность, невозможность унифицировать их в рамках единого метаязыка. Несомненно, с этим обстоятельством сталкивался любой исследователь-гуманитарий, попытавшийся объять необъятное множество теоретических концепций и моделей описания социокультурной реальности. Существенную роль в опыте создания картины мира играет случайность, вероятностность информационного пространства, представленного в каждый отдельный момент человеческому сознанию. Являясь необходимой составляющей любого процесса познания, случайность становится необходимым компонентом и картины мира, лишая ее общезначимости и достоверности. При этом появление массовой культуры и обезличивание человека как результат «диалектики Просвещения» (Т. Адорно и М. Хоркхаймер), становится основанием ситуации «смерти субъекта», представленной как «смерть автора» или как «смерть адресата»1. Другой стороной роли вероятностности, случайности в процессе формирования картины мира является ее аксиологическая природа – в частности, вовлеченность в ее структуры человеческой практики, которая, являясь основой существования культуры, не является фактором природного существования, не поддается обобщению, универсализации, поскольку входит в сферу личной ответственности (М.М. Бахтин) и свободы человека. Человек, по Бахтину, включен в бытие в качестве индивида своим «не-алиби в бытии»2. И если мир становится картиной, оставляя субъекта за ее пределами, то вовлечение субъекта в ранее дистанцированную от него «картину» разрушает ее пространство, обнаруживающего свою иллюзорность, «матричность». И, наконец, невозможность композиционного объединения разнородных информационных фрагментов в единую картину препятствует их динамический, процессуальный характер, определяемость их множественными позициями наблюдателя и внутренней динамикой, неидентичностью отдельных моделей, языков (кодов) и концептов. По словам Фадеева И.Е. Смерть адресата // Вестник Коми государственного педагогического института. Сыктывкар, 2004. При всей кажущейся общности этих «смертей», подчеркнем противоположность векторов их действия. Если «смерть автора», по Р. Барту, связанная с тотальностью интертекста, взывает к интерпретации и провоцирует ее, то «смерть адресата», предполагая невозможность интерпретации, предполагает тем самым и распад любой коммуникации, являясь существенной составляющей деструкции социокультурного семиозиса в целом. Говоря иначе. Ситуация смерти автора – это ситуация «смерти автора», когда читатель, используя выражение Р. Барта, не «родился». 2 Бахтин М.М. К философии поступка // Пешков И.В. М.М. Бахтин. От философии поступка к риторике поступка. М., 1996. 1 12 В. Подороги, например, не существует события с точки зрения «локального наблюдателя», ибо тот сам лишь ускользающее событийное мгновение; с его точки зрения мир постигается лишь в форме отдельных свершающихся событийных фрагментов1. Таким образом, проблема моделирования современной картины мира «в целом», как таковой, как подлежащего интерпретации (гипер) текста, становится вопросом исторической персонологии. Можно утверждать, что картина мира в каждом индивидуальном случае – процесс или условный результат деконструкции множества текстов культуры, с существенной долей случайности попадающей в поле зрения индивида. Это, впрочем, не снимает вопроса о картине мира как транссубъектном образовании, поскольку индивидуальное сознание, в целях культурной и личностной самоидентификации полагающее собственное видение как конституированное некоторым объективно существующим целым, стремится к творческой объективации. Общенациональная – или общекультурная – картина мира складывается как топос пересечения разнонаправленных интерпретаций множества интериоризированных текстов. И если, по мысли Р. Рорти, у каждого человека есть свой «словарь» «конечных концептов»2, формируемых в этом топосе и лишь частично совпадающих в более обширном пространстве межличностного общения 3, то вопрос заключается в выявлении некоторого «закона универсальности» – или механизмов универсализации, имеющих не семантический, а операциональный характер. Что связано в первую очередь с социокультурной аксиологией. Иначе говоря, проблема картины мира – это проблема субъекта культуры – с одной стороны, и культуры как системы ценностей (то есть норм и запретов, по Ю.М. Лотману, а значит, тоже субъекта культуры) – с другой. Между тем подготовленная классической картиной мира, ситуация «смерти субъекта» обусловила проблематичность картины мира как таковой, поскольку отказ от идеи абсолютного («монологического») разума привел и к отказу от абсолютного субъекта познания. И хотя именно этот отказ стал конституирующим для переноса центра внимания с творческой деятельности субъекта на текст, понятый процессуально – как процесс бесконечного «письма», – это привело, с другой стороны, и к деструкции коммуникативного пространства, особенно очевидной в СМИ. Например, по мысли Ж. Бодрийяра, современные масс-медиа «являют собой то, что навсегда запрещает ответ», делая «невозможным процесс обмена (разве только в формах симуляции ответа, которые сами оказываются Подорога В.А. Словарь аналитической философии // Логос. 1999. № 2. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М., 1997. 3 «Конечность» здесь не следует понимать как некоторую окончательность, семантическую статичность, поскольку даже для индивидуального сознания, исходя из Рорти, порождение каждого нового текста есть не что иное, как порождение новой картины мира – а значит, нового «словаря» концептов. При этом важно отметить, что не картина мира является производной от набора концептов (индивидуальных или общекультурных), а концепт производен от индивидуальной картины мира, создаваемой текстом, приобретающей – или не приобретающей – общекультурный статус. 1 2 13 интегрированными в процесс передачи информации, что, однако, ничего не меняет в однонаправленности коммуникации)»1. В то же время существование современного социума оказалось невозможным без «коммуникативного действия» (Ю. Хабермас), необходимого как в целях социальной интеграции, так и формирования человеческой личности. Осуществляемое в контексте «жизненного мира», коммуникативное действие направлено на понимание, определяющее сущность интеракции как условия социальности. В свою очередь необходимость понимания в процессе интеракции и коммуникативного действия определяет и необходимость понимания «жизненного мира» в целом. *** Указанные факторы определяют катастрофическое возрастание необходимости культурологической рефлексии (культурного «аутопойесиса»): невозможность проекции на единую плоскость разновекторных информационных потоков, не объединенных к тому же никаким «монологическим» («абсолютным») субъектом, определяет необходимость деконструкции как тотальной интерпретационной стратегии. Перенесение «точки фокализации» извне «картины» на ее «иное» – собственно на сознание человека (а также его «телесность», «опыт тела») и на ее «зазеркалье» – интериоризированный интертекст, существующий в топосе пересечения индивидуальных сознаний – дает основания рассматривать картину мира как бесконечно развертываемую культурологическую рефлексию, представленную в бесконечных рядах текстов культуры. Говоря иначе, картина мира сегодня – это не только текст культуры, подлежащий интерпретации и деконструкции, но и интеллектуальная рефлексия этой интерпретации. И, соответственно, базовым концептом языка описания современной картины мира является концепт культуры, включающий в себя культурологическую рефлексию (то есть самопознание и самоконструирование культуры). Казалось бы, очевидное утверждение обнаруживает свою неочевидность при сопоставлении с классической эпохой, когда таким определяющим картину мира концептом (одним из) представлялось искусство (и производное от него понятие «образ»), «отражающее» некую объективную реальность. Формирование представления об образе как своего рода «кирпичике», «атоме» художественного целого находится в очевидной зависимости от атомарной теории и классической механики XVII века. Классическая картина мира, основанием которой служил ряд базовых представлений о соотношении мира, языка и сознания, включала в себя понимание науки и техники как сущностных явлениях, притом, что сущее, ставшее предметом научного исследования, могло определяться как «предметность представления, а истина — как достоверность представления»2. И поскольку, повторим, картина мира, «сущностно 1 Baudrillard J. Requiem pour les media // Baudrillard J. Pour une critique de l'economie politique du signe. P., 1972. P. 200-228. 2 Хайдеггер М. Время… М., 1993. 14 понятая», по Хайдеггеру, представляет собой «не картину, изображающую мир, а мир, понятый как картина», а значит, бытие сущего следует обнаруживать «в представленности сущего», – именно понятие образапредставления явилось наиболее релевантным при описании эстетической феноменологии (так же как и человеческого сознания в целом). Атомарное понимание художественного образа, непосредственно вытекающее из классической картины мира, между тем, пришло к определенному противоречию с художественной реальностью XIX-XX веков. Открытый классической наукой и философией субъект, в рамках романтического миропонимания и мирочувствия, обнаружил свою отнюдь не рациональную, а иррациональную природу, в результате чего и творчество, и искусство, и феномен художественности обрели несвойственную им ранее иррациональность, «мистичность», «несказанность». Категории художественного образа и искусства, характеризуя картину мира начиная с XVII и до начала XX века, были весьма существенной составляющей бинарной модели – мира и сознания, объекта и субъекта, основанной на «дуальном» знаке классической эпохи1 и индуктивизме позитивизма и эмпиризма. Изменения произошли в конце XIX и на рубеже XIX-XX веков. В частности, обнаружение неадекватности индуктивизма для объяснения новых физических теорий (теории относительности и квантовой механики с вытекающим из нее принципом дополнительности Н. Бора) послужило одной из причин перехода к новому – «дисконтинуалистскому мышлению», например, в историографии2, легитимирующему не-связность исторических векторов в пределах одной модели историософского или собственно исторического текста. Собственно исторический текст сейчас, скорее, может быть уподоблен не словарю-«энциклопедии» (и соответствущему ему принципу нарративности), а словарю, построенному на принципе гипертекста. Определенное противоречие между словаремгипертекстом и историческим повествованием как нарративом (особенно значимое в контексте идеи «нарративизации истории») дает основания говорить о существенных изменениях, произошедших в стратегиях нарративности как таковой (что напрямую связано с изменениями в человеческом сознании – то есть объясняется персонологически и когнитивно). Спровоцированное мобильностью позиции множественного наблюдателя и лавинообразным увеличением потока информации визуально-клиповое мышление не может быть адекватно представлено в традиционных формах нарратива, требуя иных пропозицональносинтагматических конфигураций. Однако не только естественнонаучные открытия и философская рефлексия гуманитарного знания, но и художественный модерн (русский символизм, в частности), разрушив бинарность семиотических единиц, релевантную классической картине мира, изменил место и статус искусства. Уже в интерпретации В. Дильтея искусство – часть жизни, а не нечто, Наиболее характерным примером такой семиотической бинарности в ее эстетическом преломлении может служить известная формула Н.Г. Чернышевского: искусство – «воспроизведение жизни» (а также «суррогат» жизни, «копия» жизни и др.). 2 Визгин В.П. Эпистемология Гастона Башляра и история науки. М., 1996. 1 15 внеположное ей и потому ее отражающее: искусство в этом смысле – способ существования жизни как некой целостности, снимающей оппозицию объектно-субъектных отношений. Весьма показательно в этой связи известное определение искусства М.С. Кагана: искусство – зеркало культуры. Поскольку культура, по Кагану, есть не что иное, как способ и опредмеченный результат человеческой деятельности, это переводит интерпретацию и моделирование искусства из плоскости субъектнообъектных отношений классической картины мира в сферу философской рефлексии квантовой физики и художественного модерна. Так же как, впрочем, по Марксу, источник прибавочной стоимости – не материальное производство как таковое, а человек. В контексте сказанного иной смысл приобретает мысль Т. Адорно, высказанная почти полвека назад – «Искусство насмехается над вербальной дефиницией»1 – насмехается, поскольку само является не чем иным, как дефиницией. Дефиниция, предполагая наличие «референта», предполагает и «акт реферирования», то есть выстраивание «семиотического мостика» (Д. Шоттер) между миром и сознанием. Иначе говоря, искусство как дефиниция может существовать только (1) при ориентации на некоторый контекст, в соответствии с тем или иным индивидуальным опытом идентифицируемый как искусство, а также (2) при наличии других, соотносимых с ним, понятий. Искусство является элементом описания классической картины мира, когда картина мира есть искусство и искусство есть картина мира. Искусство, в соответствии с его ролью, «отражает» не картину мира, а именно «мир», представляя его как «сущее в целом», на чем основана художественная практика, начиная с идеи «подражания природе» и завершая ленинской теорией отражения. Именно поэтому великие произведения искусства, начиная с «Потерянного рая» или «Гамлета» и заканчивая «Войной и миром» (‘мiром’), создают образ этой целостности. Иными словами, каждое произведение искусства классической эпохи, вплоть до конца XIX века, представляло собой законченную, внутренне связную, логически согласованную картину мира, где господствует закон кореференции, подчиняя себе так и оставшееся иллюзией желание референтивности. Отсюда и определения произведения искусства в терминах «законченности», «завершенности», «связности», от Аристотеля до Богранда и Дресслера стремящиеся к отделению и противопоставлению искусства и мира. Парадокс заключается в том, что, представляя собой «картину мира» и представляя «сущее в целом», искусство не представляет ничего, кроме самого себя. Впрочем, желание референтивности оказалось парадоксальным образом разрушенным референтивностью как таковой – на русской, в частности, почве – символизмом: в своем движении от «реального к реальнейшему» символизм открыл не «диадичный» символ архаики – а «квадриальный» знак неклассической картины мира, включавший в себя трансценденцию субъективности. Исторически локализованное «вхождение искусства в горизонт эстетики» (М. Хайдеггер) дает основание полагать если не историческую 1 Адорно В. Теодор. Эстетическая теория / Пер. с нем. А.В. Дранова. М., 2001. С. 4. 16 смерть искусства (опередившую в философской рефлексии Гегеля смерть Бога, субъекта, автора, социума и т.д.), то изменение семиотики, означая, что очерченная человеческим сознанием конфигурация смысла, именуемая искусством, очевидно, изменяет свой облик. Впрочем, вопрос заключается в феноменологии эстетического переживания, отнюдь не отменяемого, а, возможно, приобретающего еще большую актуальность в ситуации «депроецирования»1 человека. Иначе говоря, искусство, ускользая от любых вербальных дефиниций, может быть осмыслено посредством целого ряда языков описания. Описанная посредством различных языков и понятийных систем, художественно-эстетическая феноменология в целом предстает, в результате, как континуальное целое с размытыми контурами, в сердцевине которого остается некоторая точка, темное пятно, неподдающееся рациональному осмыслению и логическому описанию – собственно феномен художественности, эстетической суггестии, «наслаждения», которое дает искусство. И если в классическую эпоху феноменология эстетической суггестии (=художественности) определялась оппозицией (и единством) отражаемого и отражения (=формы и содержания, «идеи и образа»), то XX век обрисовал другие контуры и поставил иные акценты, наиболее точно обозначенные М.М. Бахтиным. Смысл художественного произведения в современной картине мира, как она представлена в онтологической герменевтике М.М. Бахтина, является результатом эстетического завершения «всесторонне пережитого состава бытия», порождаясь «тотальной реакцией»2 авторского сознания. *** Можно утверждать, что экзистенциальная герменевтика бытия и онтология текста М.М. Бахтина (в отличие, например, от экзистенциальной герменевтики М. Хайдеггера) представляет именно русскую картину мира, поскольку опирается на довольно устойчивую традицию понимания процессов творчества и познания не как самостоятельных и независимых от бытия, но как части человеческого бытия (упоминание имен С. Франка, Н. Лосского, В. Эрна и др. не требует дополнительного комментария, как не требует дальнейшего обоснования примеры интуитивизма или философии «цельного знания» и «цельного человека»). Понимая проблематичность попытки разграничения картины мира как некоторой гипотетической модели, с одной стороны, и русской картины мира, не укладывающейся в диалектику общего и особенного, – с другой, попытаемся все же сформулировать допущения, позволяющие обрисовать контуры некоторого «русского» взгляда на мир, определяющего русскую культурную и национальную идентичность. Оставив в стороне вопрос о естественнонаучной картине мира, представляющей, скорее, «общий знаменатель», чем национально специфическое образование, подчеркнем, что нерелевантными являются сегодня представления о т.н. «наивной» картине мира, представленной, якобы, в естественном языке. Проблема не так академична, как может показаться, поскольку от понимания «русскости» 1 2 Хюбнер Б. Произвольный этоc и принудительность эстетики / Пер. с нем. Минск, 2000. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 165. 17 как таковой зависят стратегии интерпретации исторического прошлого и футурологические прогнозы, политические концепции и социальные проекты. Русская картина мира (=культурологическая рефлексия) в том виде, в которой она существует в качестве некоторой устойчивой модели, имеет достаточно точно локализованное в историческом прошлом начало, складываясь в рамках модерна на рубеже XIX-XX веков. Формируемая в результате концептуализации аутентичного опыта, допускающего различные стратегии означивания, культурно-национальная идентичность может быть представлена посредством ряда текстов, не сводимых к некоему общему смысловому знаменателю. Культурологическое знание как рефлексивное по своей сути, где «объект знает себя», «либо экранируя сознание наблюдателя, либо вступая с ним в контакт»1, представляет собой своего рода конструкт – культурологический дискурс, референция которого либо отсутствует, либо является результатом интерпретирующей деятельности наблюдателя (уже не «монологического» и не «абсолютного»). Между тем результатом культурологической рефлексии славянофилов, русской религиозной философии и символизма стал ряд идентификационных признаков, характеризующих сущность русской культуры как некоторое якобы объективно существующее целое. Философская стратегия теологизации аутентичного опыта, с одной стороны, и бинарность семиотических моделей – с другой, реализуя западный, используя выражение Б. Гройса, «дискурс об Ином», постулировала символический характер русской культуры, онтологизм и персонализм русской литературы и философии (В. Эрн), соборность и душевность как некоторые исконно присущие русской ментальности характеристики. Иллюзия объективности русской ментальности и культуры – таких как «соборность», «народ», «душа» и т.д. – легла в основание т.н. «русского текста» русской культуры, визуально подкрепленного художественным модерном Абрамцева, Талашкина, Мамонтовской оперы и их поэтическими аналогами от крестьянских поэтов до мистики символизма. Концептуализация русской философии, литературы, жизненного опыта в парадигме бытийственности, коррелируя с мистикой и поэтикой символизма, дает основания для определения символа и символических структур сознания в качестве основного «пра-символа» (используем метафору О. Шпенглера) русской культуры: символ – концепт языка описания «русского текста» и, в то же время! – объект этого описания. Символ, например, в интерпретации Эрна онтологичен и персонологичен (как онтологична и персонологична, с этой точки зрения, русская философия и культура в целом): «цельность и многозначность живого опыта неискаженно живет в символе, и поэтому символ есть натуральный язык всякой внутренней мысли, вырастающей из конкретного жизненного опыта», – утверждает Эрн2. Гиренюк Ф.И. Хвост ускользающей субъективности: Почему закатилась звезда социальных наук? // Ex libris. Кафедра: иллюзия, социум, наука. 31 июля 2008. № 2226 (471). 2 Эрн В.Ф. Борьба за Логос. М., 1911. С. 225. 1 18 И если, начиная с Ч.С. Пирса, Г. Фреге или Ч.У. Морриса, символ рассматривается как трехмерная сущность, «триада» – разновидность знака, предполагающего наличие трех компонентов – собственно означающего, значения и смысла (референции), то, в противоположность такому пониманию, Эрн обнаруживает в символе «четвертое измерение». Это область онтологического смысла, связанного с «недрами личности», в глубинах которой «раскрываются тайны сущего»1. Определивший основную черту русской культуры и философии как «логосность» (и противопоставив ее западному «ratio»), Эрн, в сущности, воспроизвел в новой интерпретации и концепт-образ Софии, столь значимый для древнерусской культуры и, соответственно, действительно, представляющий собой смысловую константу русской картины мира. Немаловажно с этой точки зрения то, что само появление категории софийности в древнегреческом языке, в противоположность понятию логоса, семантически было связано с понятием ‘символ’2. Говоря о связи концепта Софии с категорией возвратности, В.Н. Топоров отмечает наличие семантики самосозерцания, углубленности мысли на себя, наполненности3. С этим наблюдением коррелирует обоснование Эрном символизма как онтологической константы русской культуры. В отличие ее от «экстериоризма новоевропейского 4 рационализма» , основанием онтологического символизма является «интериоризм мысли», определяющий, в свою очередь, задачу «внутреннего, метафизического изучения человека»5, противоположную в самой своей сути западному «психологизму». «Тайны Сущего раскрываются в недрах личности»6, поэтому само понятие истины для философии логизма онтологично, истина – «пребывающее существование», «живущее»7 не «соответствие», а «бытие в Логосе»8. Невозможность понятийно исчерпать сущность человеческой личности становится основанием символического ее понимания посредством акта любви: «Метафизическая природа любви, – утверждает П. Флоренский, – в сверхлогическом преоборении голого самотождества «я = я» и в выхождении из себя, а это происходит при истечении на другого, при влиянии на другого силы Божией, расторгающей узы человеческой конечной самости»9.Само прикосновение «голой души к голой душе», с точки зрения Флоренского, представляет собой смысл человеческого общения. Там же. С. 96. Топоров В.Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. I. Первый век христианства на Руси. М., 1996. С. 73. 3 Там же. С. 78. 4 Эрн В.Ф. Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М., 1912. С. 336-337. 5 Там же. С. 338. 6 Эрн В.Ф. Борьба за Логос... С. 96. 7 Флоренский П. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. М., 1914. С. 17. 8 «Если мы хотим истолковать Вселенную в терминах живого и конкретного внутреннего опыта человечества <…>, мы должны отбросить схематический язык рассудка», – утверждает, например, В.Ф. Эрн (Эрн В.Ф. Григорий Саввич Сковорода… С. 224). 9 Там же. С. 91. 1 2 19 Однако именно любовь как стремление «сообщить себя», по выражению М.М. Бахтина, определяет необходимость позиционирования фигуры Другого и бытийность диалога. И для онтологического символизма начала XX века, и для экзистенциальной герменевтики свободы и ответственности Бахтина именно понятие диалога и Другого явилось определяющим, определяя вместе с тем сущность символа и символизма как такового. Символ как структура сознания (не риторическая фигура!) предполагает необходимость онтологически понятого диалога, поскольку, по Бахтину, смысл символа может быть интерпретирован только в символе, открывая бесконечную смысловую перспективу («бездну»). Говоря, однако, о смысловых и аксиологических константах «русского текста», не следует ограничиваться постулированием ценностей свободы, любви и ответственности, бытийности и персонологичности, поскольку вся трагическая история XX столетия говорит о наличии иной, не идеальной – не «логосной» стороны русской ментальности, которая, естественно, не могла быть представлена в культурологических дискурсах идентичности начала XX столетия. В самой «логосности» (противоположной западной рациональности) и в самом символизме, между тем, могут быть обнаружены подводные течения, в определенной мере предвосхищающие грядущие катастрофы. Сама его понятийная нерасчлененность становится основанием антиномизма и трагедийности, поскольку символ как константа «русского текста» онтологичен и персонологичен. В частности, одной из таких «темных» констант русской культуры, на наш взгляд, является скука как экзистенциальная составляющая русской аксиосферы (именно об антиномии «скуки» и любви как основе трагедийного мироощущения говорит, к примеру, В.Ф. Эрн применительно к Г. Сковороде). Скука как сущностная характеристика «депроецированного», по Б. Хюбнеру, человека противоположна диалогизму и этике Другого, приводя, с одной стороны, к потребности «трансцендировать свое Я к Другому»1, но – с другой – и к «эстетической инструментализации мира», к «мета-физическому вакууму»2. Являясь «вторжением времени в нашу систему ценностей» 3, по словам И. Бродского, и порождая «способы душевного самоопределения русского человека»4, скука помещает человеческое существование в перспективу, конечный результат которой – смирение5, с одной стороны, и «бунташность» – с другой. Экзистенциально-символическая (амбивалентная, логически не артикулированная) природа «русской хандры» представляет собой наиболее очевидную экстраполяцию символических основ русского сознания. Антиномия соборности, любви, душевности, с одной стороны, – и скуки – с другой, определила очевидную двойственность русской истории, где высшие проявления духовности оказались сопряжены с разгулом стихии «бессмысленности и беспощадности». В конечном счете, тотальная культурная маргинализация, Хюбнер Б. Произвольность этоса и принудительность эстетики. С. 72. Там же. С. 87. 3 Бродский И.А. Похвала скуке (речь перед выпускниками Дармутского колледжа в июне 1989 года) // Знамя. 1996. № 4. 4 Исупов К.Г. Хандра // Космос русской культуры (в печати). 5 Бродский И.А. Указ. соч. 1 2 20 столь очевидная для России конца XX – начала XXI века, также имела своим истоком не что иное, как экзистенциальный опыт скуки (примеры из художественной литературы от Пушкина до Чехова и Платонова не требуют пересказа). Разумеется, в задачи этой статьи не может входить даже поверхностный абрис «русского текста» русской культуры (русской «картины мира»). Однако приведенные соображения позволяют сделать ряд предварительных выводов. Во-первых, «картина мира» современной (русской) культуры («русский текст») выстраивается как локус пересечения двух координатных осей – аксиологических констант и когнитивно-семиотических моделей. И если аксиологические константы русской культуры в той или иной мере сведены в некоторую систему (представляющую собой результат деконструкции текстов), то семиотические модели не только не описаны, но и не осознаны как таковые. При этом сама непроясненность семиотики культуры приводит к весьма показательному результату: аксиологические константы рассматриваются не как результат моделирования в результате семиотизации аутентичного (до-семиотического, по определению) опыта, а как некая изначально присущая русской культуре данность, порождая иллюзии и парадоксы реальной русской истории. Такая «онтологизация» виртуального становится результатом бинарности знака, «задержавшегося» в русской ментальности средневекового «реализма». Во-вторых, обнаруживается весьма примечательная если не зависимость, то корреляция двух важнейших «осей» картины миры (или, в нашем понимании, семиозиса): собственно семиотической и аксиологической. В частности, символистски («онтологически» и «персонологически») ориентированная аксиология в силу амбивалентности и логической не семантизированности символа приводит к биполярности семиотических единиц. С одной стороны, это затянувшееся преобладание «бинарных» знаков (не предполагающих этики «Другого» и пропозициональной логики нарратива), с другой – «вторичная» символика квадриальных («континуальных») знаков, включенных в «сверх»-логику гипер- и интертекстов. В.А. Сулимов* Языковая картина мира и проблема языка описания В осмыслении первоочередных задач гуманитарного знания все более существенное место занимает проблема языка описания. Эта проблема, первоначально обозначенная в области вычислительной техники и информатики, оказывается актуальной для всего спектра естественных и искусственных систем кодирования информации, называемых языками1. Литературный (в т.ч. – исторический и научный) текст, подверженный в эпоху постмодернистского письма логическому излому, требует * 1 Сулимов Владимир Александрович – к.ф.н., доцент кафедры культурологии КГПИ. Huth M. R. A., Ryan M.D. Logic in Computer Science: Modelling and Reasoning about Systems. Cambridge, 2002. 21 специальной интерпретационной деятельности адресата, направленной на уточнение смысла любого высказывания в тексте, что соответствует в информатике процедуре верификации высказываний, выполненных на языке описания1. Естественно, что язык описания находится в отношениях взаимной корреляции с языковой картиной мира, существующей в сознании участников текстовой деятельности (автора и читателя) до начала и модифицирующейся в процессе этой деятельности. Языковая картина мира (ЯКМ) – один из наиболее часто моделируемых объектов современного философского и лингвистического знания. Более того, в связи с развитием в 90-е годы в отечественной лингвистике (особенно – русистике) собственно когнитивных и когнитивно ориентированных исследований понятие языковой картины мира стало базовым, претендующим на фундаментальные лингвофилософские позиции. В отличие от других лингвистических объектов ЯКМ обладает способностью не только фиксировать и/или моделировать описываемый языком мир, но и задавать правила существования такого мира, отражаясь, проявляясь и модифицируясь в целом ряде лингвистических и экстралингвистических научных идеологий. Это тем более важно, когда речь идет о национально ориентированной теории ЯКМ, задающей параметры социолингвистического обоснования национального типа ментальности или по-другому – границ ментальности (русской или английской, китайской или арабской, «западной» или «восточной»). В определении и обосновании языковой картины мира (ЯКМ) наблюдается ряд подходов: логико-когнитивный подход (Ю.С. Степанов), рассматривающий ЯКМ как систему смыслов культуры (концептов), раскрывающихся в широкой системе экстралингвистических знаний; лексико-семантический подход (Ю.Д. Апресян), постулирующий ЯКМ в виде семантических рядов глагольных лексем, объединенных экстралингвистической системой целеполагания (модальноинтенциональными оттенками); лексико-когнитивный подход (А. Вежбицка, А.Д. Шмелев и др.), определяющий ЯКМ в аспекте системы лексически закрепленных «идей» национального сознания, отраженных именной лексикой; символическая теория ЯКМ (Г. Гачев), опирающаяся на идею языка как кода реализации символической образности; тезаурусная теория ЯКМ, показывающая динамику появления смысла из набора лексических кодов2 и ряд других3. Все эти исследования основываются на постгумбольдтианском понимании языкового значения (языковой функции), которое было выражено, в частности, в философской идее ноосферы В.И. Вернадского и связанных с ней лингвофилософских конструктах 1 Кларк Э.М., Грамберг О., Пелед Д. Верификация моделей программ. М., 2004. Караулов Ю.М. Способы существования элементарных единиц знания в обыденном языковом сознании // Язык и действительность / Сборник научных трудов памяти В.Г. Гака. М., 2007. С. 53-61. 3 Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. 1995. № 1; Степанов Ю.С. Константы русской культуры. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997; Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира: Сб. ст. М., 2005; Серебрянская Л.А. Национальные образы культуры (Версия Георгия Гачева) // Интернетресурс: София: Рукописный журнал Общества ревнителей русской философии. Вып. 6. 2003. 2 22 концептосферы Д.С. Лихачева и семиосферы Ю.М. Лотмана. Указанное направление философско-антропологического анализа мира предполагает присутствие некоторых предварительных допущений: (1) наличие объективного мира, длящегося во времени вне индивидуального сознания, каузированного естественными причинами (причинами бытия некоторой физической Вселенной); (2) наличие семантического аспекта существования объективного мира, присущего этому миру как одного из конституирующих признаков; (3) наличие информационного канала и правил понимания мира через призму мыслительной деятельности человека (когнитивную призму); (4) возможности обнаружения «отражений» этой естественно-искусственной реальности (семантической или фактуальной) в текстах культуры (в частности – литературных текстах). При этом концептосфера понимается в терминах Семантической Вселенной – пространства означенных смыслов, действующих в данном информационном поле директивно (облигаторно, регулятивно и т.п.). Семиосфера же трактуется как более свободное знаковое пространство, обладающее сложной асимметричной природой, структурируемое наблюдателем в зависимости от задач моделирования фрагмента культурной реальности в индивидуальном сознании1. Это моделирование, ориентированное под «цель исследования», демонстрирует, как правило, симметричную картину, построенную по схеме «фрагмент реальности – фрагмент текста – выявляемые наблюдателем смыслы», что недостаточно, на наш взгляд, учитывает некоторые фундаментальные свойства системы «смысл – текст» (системы текстопорождения / текстовосприятия). Прежде всего, это относится к проблеме асимметрической референтности или нереферентности слова (или даже целого высказывания), которая неустранима при словарном подходе к фиксации (и существованию) значения. Правило референтности имеет такое большое количество условий и уточнений, что легко превращается в парадокс обоснования, описанный У.В.О. Куайном в его работе «Онтологическая относительность» (1968): «Мы, кажется, поставили себя в весьма абсурдное положение, в котором отсутствует какое-либо различие – межлингвистическое и внутрилингвистическое, объективное и субъективное – между ссылками на кроликов или ссылками на части кролика или его попаданием в поле зрения, между ссылками на формулы или ссылками на их гёделевские номера. Конечно же, это абсурдно, ибо отсюда следует, что нет разницы между кроликом и каждой его частью или его присутствием в поле зрения и нет разницы между формулой и ее гёделевским номером. Референция кажется теперь бессмысленной не только при радикальном переводе, но и при общении на родном языке»2. «Падение референциальной соотнесенности» хорошо ощущается в текстах современной русской прозы, построенной на парадоксальности постмодернистского представления реальности как системы переменных, Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992; Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: Антология / Под ред. В.П. Нерознака. М., 1997. 2 Куайн У.В.О. Онтологическая относительность // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада: Учебная хрестоматия / Составление перевод, примечания, комментарии А.А. Печенкина. М., 1996. С. 54-172. 1 23 значение которых меняется в ходе решения интеллектуальной задачи. Вместе с тем русские литературные тексты прошлых эпох также подвергаются переосмыслению в рамках постнеклассической картины мира, характерной для современного культурного (и языкового) сознания. Текстовая реальность независимо от порождающей ее культурноисторической парадигмы предстает в форме логической игры парадоксального означивания, приобретающей вид случайных суждений, построенных на базе бесконечно вариативного словаря понятий. Подобная логико-лингвистическая игра возникла еще в первой трети XX века в результате слома классической картины мира и постепенного перехода от линейной логики (логики последовательности) к нелинейной логике (логике параллельных миров), реализующей способность интеллектуально развитого индивидуального сознания многократно (и неоднозначно) моделировать мир на основе набора «переменных констант», зависящих (как минимум) от (а) системы пресуппозиций знания, (б) апперципируемых целей моделирования, (в) позиции наблюдателя, свободно перемещающейся в ходе коммуникативного акта и часто замаскированной под адресата, адресанта, независимого текстового субъекта-комментатора или значимое его отсутствие. Начатый Н.В. Гоголем путь от наррации к текстовой манипуляции был успешно продолжен в русской литературе А.П. Чеховым, М.А. Булгаковым, Ю. Олешей, а затем – в конце XXI века А. Кабаковым, В. Пелевиным, М. Веллером, Ю. Сорокиным и многими другими уже в виде новой «культурной волны» (либо – подобно Сергею Минаеву и Андрею Орлову – в виде волны «контркультуры»). Логические основания этой логико-лингвистической игры миро- и текстотворения (восходящей, конечно, исторически и идеологически к эпохе Возрождения, но вполне реализовавшейся в России только в XX – начале ΧΧΙ века), были обоснованы в рамках Львовско-Варшавской школы неформальной логики в первой половине XX века. Это обоснование сводилось к формулированию принципов неоднозначной логики и семантики высказывания (суждения) как результате актуального смыслопорождения: «...не только некоторые, но все суждения, которые мы принимаем и которые образуют картину мира, не определяются однозначно данными опыта, но зависят от выбора понятийного аппарата, с помощью которого мы интерпретируем эти данные. При этом мы можем выбирать тот или иной понятийный аппарат, изменяя тем самым всю картину мира»1. Подвижность логической картины мира имеет своим следствием подвижность кода – языка моделирования мира. Эта подвижность, изменчивость оказывается иногда настолько серьезной, что можно говорить вообще о смене языка описания (при неизменности «материального носителя» – набора слов и высказываний/суждений): «...можно очень легко перейти от одного языка к другому (в нашем понимании), не выходя за рамки данного «языка» (в обычном понимании). Для этого должно всего лишь измениться значение, которое связывается со словом, причем часто мы даже не осознаем этого изменения. Это случается и в повседневной жизни, но еще чаще – в процессах развития наук»2. 1 2 Ajdukiewicz К. Das Weltbild und die Begriffsapparatur // Erkenntnis. 1934. Bd. 4. S. 259. Ibid. S. 261. 24 Существует онтологическая (и гносеологическая) связь между проблемой множественности языков описания и проблемой текстовой деятельности индивидуума: в ходе текстовой деятельности вырабатываются когнитивные связи, позволяющие осуществлять переходы с одного языка описания на другой. Это выглядит как отказ от учета конкретного (ситуативного) контекста в пользу широкого историкокультурного контекста, интериоризированного индивидуумом в ходе освоения текстов культуры. Такой «когнитивный поворот» в индивидуальном языковом сознании представляет собой качественное изменение культурно-антропологических характеристик, приводящее (по М. Бахтину) в онтогенезе и филогенезе к построению в индивидуальном сознании структур Другого/Иного: «По мере того как мы все более и более осваиваем использование различных речевых жанров, восприятие уже существующих интралингвистических сетей как контекста для наших будущих высказываний (а также конструирование наших собственных сетей), мы все более оказываемся способными действовать независимо в данном контексте. Такое развитие означает переход от того, чтобы получать ответ в непосредственном контексте, к получению ответа на нашу позицию в интралингвистически сконструированном контексте, к опоре на сцепление звеньев того, что уже было или может быть сказано. Другими словами, это ослабление отклика на то, что "есть", и усиление на то, что "может быть" – усиление отклика на герменевтически построенный воображаемый мир»1. «Когнитивный поворот» индивидуального сознания – это показатель движения индивидуального сознания по антропологической восходящей «кривой» от воспроизводства тождества до воспроизводства и производства смысла, который по своей онтологической природе никогда не является тождеством. Смысл утратил тождественность в ходе когнитивной эволюции – обоснования (самообоснования) языковой личности. Качественный переход от тождества (смысл и значение не различаются) – к воспроизводству смыслов (система значений требует осмысления через сравнение/сопоставление с образцом или иными значениями), а затем – к производству смыслов (трансцендентное ищет пути реализации через систему «смысл – текст») является директорией развития языковой личности. Между первой и второй, а также второй и третьей позициями лежит действительная пропасть, которая представляет собой качественный барьер, а переход через эту пропасть – сложнейшую трансформацию всего сознания (да и всего организма) человека. Эти позиции можно условно назвать уровнями когниции, понимая под этим характер и сложность логикосемиотических операций, необходимых для понимания (индивидуальной интерпретации) текста. В соответствии с уровнями когниции осуществляется не только текстовая, но и вообще коммуникативная деятельность индивидуума в семиотическом пространстве некоторого естественного языка. В этом смысле можно реинтерпретировать данные Ю.Д. Апресяна, Шоттер Д. М.М. Бахтин и Л.С. Выготский: интериоризация как «феномен границы» // Вопросы психологии. 1996. № 6. С. 107-117 1 25 выстроившего семантические (глагольные) примитивы русского языка в последовательности: воспринимать, ощущать, реагировать, действовать, хотеть, знать/считать, чувствовать, говорить1. Если привести эту последовательность в соответствие с уровнями когниции (триадой тождество или воспроизводство значения – воспроизводство смысла – производство смысла), то она примет вид трех групп семантических примитивов, доминирующих на каждом из уровней: 1 уровень – воспринимать, ощущать, реагировать (демонстрирует бытие системы значений в тексте), 2 уровень – действовать, хотеть, знать/считать (показывает систему обработки и восприятия индивидуальных смыслов в процессе текстовой деятельности) и 3 уровень – чувствовать, говорить (определяется системой выработанных и/или интериоризированных индивидуальных смыслов, использованных при построении самостоятельного высказывания или текста). Переход с одного уровня когниции на другой (здесь речь может идти о некоторой иерархии смысловоплощения в тексте) свидетельствует о качественных изменениях в ментальных приоритетах индивидуума и, соответственно, о качественных изменениях в результатах деятельности индивидуального сознания: построении и решении нового класса интеллектуальных задач. Этот феномен «восхождения» по уровням когниции может быть представлен либо в тезаурусном аспекте как некоторая подвижная «совокупность референциальных областей»2, либо в логикосинтаксическом аспекте как когнитивная мозаика «фактофиксирующих» и «интерпретативных» предложений, создающих интенциональноинтеллектуальные модели текста (в промежутке от текстов, передающих только «общее и известное», до текстов, моделирующих только «единичное и новое», где ни один текст не обладает абсолютными характеристиками сходства и новизны)3. При этом языковая картина мира, выстраивающаяся при помощи чередования фактографических предложений (высказыванийсообщений) и интерпретационных предложений (высказываний-событий)4 обладает достаточной степенью подвижности для построения любой модели ЯКМ в процессе текстовой деятельности. Важно то, что в отличие от предметной деятельности в условиях текстовой деятельности картинка «когнитивного калейдоскопа» не останавливается, а перетекает в новую картинку, заставляя языковое сознание непрерывно моделировать ЯКМ, т.е. совершать интеллектуальное усилие5. И наоборот – воспроизводство текста есть (асимметричное «замыслу») воспроизводство группы, последовательности ЯКМ, составляющих единое ассоциативное пространство данного текста. В этой же попытке нетождественного воспроизводства текста можно увидеть смысл перечитывания «любимой Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Вопросы языкознания. 1995. № 1. 2 Караулов Ю.М. Способы существования элементарных единиц знания в обыденном языковом сознании // Язык и действительность / Сборник научных трудов памяти В.Г. Гака. М., 2007. С. 55. 3 Ajdukiewicz K. Op. cit. S. 270. 4 Когнитивная дихотомия сообщение/событие или трихотомия сообщение/событие/дейксис было мной обосновано в монографии «Философия и логика русского языкового континуума» (Сыктывкар, 2006). 5 Ср. Караулов Ю.М. Способы существования…М., 2007. 1 26 книжки» (в отличие от «перевкручивания» любимой гайки) и даже переодевание, замену интерьеров, пересаживание деревьев, кустов и цветов в собственном саду. К нетождественному воспроизводству текстов (с «Иными» запрограммированными моделями ЯКМ) относятся литературные и кинематографические римейки и сиквелы, «постмодернистские» постановки (своеобразные «перепостановки») опер и театральных спектаклей и т.п. Статический (предписывающий, стандартизирующий, ограничивающий) и динамический (креативный, смыслопорождающий) аспекты ЯКМ как особой знаковой системы отражаются и в семиотических единицах этой системы, предложенных рядом авторов: культурные скрипты (А. Вежбицка), гештальты (Дж. Лакофф), когнемы (Ю.Н. Караулов). Все они имеют динамические и статические черты, отраженные в их определениях. Так, например, «гештальты – это особое глубинное содержательные единицы языка (статический аспект – В.С.). Помимо реализации в языке гештальты составляют основу восприятия человеком действительности, направляют познавательные процессы (динамический аспект – В.С.), определяют специфику и характер моторных актов»1. Гораздо более статичны и нормативны «культурные скрипты» А. Вежбицкой, но и они обладают дихотомической природой (динамическое/статическое начало): «Культурные скрипты – это общеизвестные и обычно неоспариваемые мнения о том, что хорошо и что плохо и что можно и чего нельзя (статический аспект – В.С.) – мнения, которые отражаются в языке (динамический аспект – В.С.) и поэтому представляют собой некоторые объективные факты (динамический аспект – В.С.), доступные научному изучению»2. Многоаспектной и потому даже избыточно подвижной представляется когнема, обслуживающая описание «снятого» процесса перехода смысл-текст: «структурированная в виде «фигуры знания» (динамический аспект – В.С.) правильной пентаграммы, связывающей в знако-смысло-когнитивное единство пять параметров (статический аспект – В.С.): смысл (динамический аспект – В.С.), конкретный способ оформления данного смысла (динамический аспект – В.С.), соответствующий ему знак (слово) (динамический аспект – В.С.), указание предметной области мира, к которой относятся знак и смысл (динамический аспект – В.С.), и функции данной когнемы – общую оценку ее релевантности/нерелевантности для воссоздания образа мира (динамический аспект – В.С.)»3. Очевидно, что при переходе от «хранения смыслов» к «выражению смыслов» гештальт (или скрипт, когнема) теряет свою тождественность, подчиняясь континуальным правилам текста, а дискретно воспринимаемый (и делимитируемый наблюдателем) знак превращается в континуальный, меняющий свои параметры в ходе порождения/восприятия. В таких обстоятельствах «расширяющейся коммуникации» значение слова и значение предложения не могут обладать достаточным информационным Маслова В.А. Лингвокультурология. М., 2004. С. 66. Вежбицка А. Русские культурные скрипты и их отражение в языке // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира: Сб. ст. М., 2005. С. 467. 3 Караулов Ю.М. Способы существования… С. 53. 1 2 27 объемом для обеспечения работы системы «смысл» – «текст», а в случае фразеологизации они вообще утрачивают информативность, играя роль ситуативного или социального дейксиса, фиксируя маргинальные рамки «свой-чужой» и «правильный-неправильный». Для «овеществления» смысла обязательно необходимо, как минимум, высказывание-событие или (по Айдукевичу) «интерпретативное предложение» (им может быть даже слово-высказывание), обладающее большой информационной емкостью и потому требующее дополнительных логико-смысловых критериев своего существования (дополнительных правил, данных, пресуппозиций и т.д.). Тогда становится возможной процедура осмысления: «...благодаря добавлению некоторых новых правил значения к правилам значения одного из естественных языков, обогащенные таким образом правила значения непосредственно или опосредованно (то есть в один шаг или несколько шагов) приводят к разрешению этого предложения»1. Идея этничности языкового сознания, его стандартизованной психолингвистической и социокультурной реактивности, которая теперь часто применяется к языкам и народам, обладающим развитой книжнописьменной культурой и интеллектуальной традицией, имеет на самом деле ряд ограничений. Навязывание языковых стандартов – свойство примитивной человеческой общности, к которой относятся, например, бесписьменные культуры племен, различные корпоративные и социальные субкультуры (чиновничья, уголовная, военная, отчасти – молодежная). Это свойство этничности неприменимо к такой надэтнической и наднациональной общности как русская культура, являющейся книжнописьменной по своим истокам и философско-экзистенциальной по способу существования. Речь может идти только о вторичных процессах выстраивания семиотических симулякров: переход индивидуального сознания от логических фигур сопоставления/сравнения к фигурам тождества и имитации, формирования исследователями-лингвис-тами, историками или философами условного мира (вполне пригодного для структурно-миметического моделирования) или фиксации распада индивидуального сознания, которому в этой ситуации свойственны мифологизация, бинарность знака и/или утрата связи знака с семиозисом – процессом означивания. Практически это означает невозможность информационно насыщенной коммуникации, смыслового «прочтения» современного литературного текста и уж тем более – невозможность его интерпретации. Построенное на стандартах, а не на дискурсивной практике, связанное с симулякрами ушедших форм сознания (или попытками повтора неудачных дискурсивных практик в других когнитивных и коммуникативных условиях) обучение текстовой деятельности в художественной, общественно-публицистической и научной сферах являются прямой потерей времени. Сегодня любая лингвистическая модель, построенная вне философского осмысления особенностей культурного пространства эпохи, вне когнитивной теории текста и без учета культурно-антропологической дифференциации носителей языка (и культуры), обречена быть заведомо ущербной. 1 Ajdukiewicz K. Op. cit. S. 278. 28 Таким образом, в современном культурологическом контексте ЯКМ представляет собой реализацию трех интеллектуальных возможностей (в индивидуальном и/или социальном аспекте): 1) возможность интеллектуальной оценки успешной/ошибочной перцептивной деятельности в виде моделей такой деятельности (в широком смысле – логических), позволяющих фиксировать пространственно-временные изменения состояния мира в их соотнесении с изменениями индивидуального сознания; 2) возможность построения эвристических моделей мира, создающих рамочные условия для успешной интеллектуальной деятельности индивидуума (деятельности по исследованию данного мира); 3) возможность создания (построения) новых матриц для моделирования мира в пределах интеллектуальной компетенции личности, пригодных для изменения мира в прогнозируемом направлении развития. Следует отметить, что реализация указанных возможностей на всех уровнях интеллектуальной деятельности есть творческий (креативный) процесс, определяющий (а) состояние человека в обществе или человеческого общества по отношению к когнитивным условиям его существования – обеспечению успешных трансформаций смысл – текст и текст – смысл; (б) состояние информационной платформы общественной жизни, обеспечивающей составление, сохранение и распространение текстов культуры. Можно также констатировать, что в современной постмодернистской литературе (часто – независимо от типа, рода и жанра), так же, как и постмодернистски ориентированных языках описания (информационнологи-ческих кодах) на платформе постсоветского (или постимперского) языкового сознания развивается креативное сознание переходного типа, для которого свойственны обязательное смысловое «встраивание» в некоторые исторически обусловленные ряды ментефактов, обязательная идентификация себя в национальном или ином символическом (логически непроясняемом) контексте, даже если это ведет к логическому и когнитивному парадоксу. Таково искусственно построенное пространство «современного» видения истории (или исторической картины мира), таково же и пространство современного текста, которое должно быть подвергнуто обязательной процедуре логико-смысловой верификации в ходе его восприятия. 29 В.А. Лимонов О философии истории Ф. Ницше Историческая наука во второй половине XIX века в Германии переживает значимый период своего развития. В этот период был создан ряд капитальных работы, значение которых проявилось с течением времени; к этому же времени относится и появление таких выдающихся исследователей как Альберт Ланге, Иоганн Эдуард Эрдман, Эдуард Целлер, Эдуард Тэйлор, Теодор Моммзен и др. В то же время, многие исследователи отдавали пред-почтение фактологическим трудам, не занимаясь универсальными обобщениями, что стало одним из проявлений кризиса историографии этого времени. Некоторым мыслителям представлялось, что вывести науку истории из разноголосицы ее научных методов можно путем отхода от научной истории, от всяческих «построений» в ее области. Это попытались сделать такие люди, как Шопенгауэр и Ницше. Учительную роль первого второй осознавал достаточно ясно и даже создал труд «Шопенгауэр как воспитатель» (1874). Конечно, ни Шопенгауэр, ни Ницше, ни вся философия жизни научного кризиса в историологии не разрешили и не могли разрешить: специфика методов исторического исследования их обоих интересовала менее всего. Новые пути в построении методологии истории культуры начали открывать Освальд Шпенглер и Макс Вебер, а Ницше лишь отчасти предшествовал им. Уже в трактате «О пользе и вреде истории для жизни» (1874), еще следуя немецкой традиции, Ницше придумывает свою классификацию типов исторического познания и выделяет три типа истории как науки. Вопервых, это – «монументальная» история. Этот ее вид вырастает на убеждении, что «великие моменты в борьбе единиц образуют единую цепь, что эти моменты, объединяясь в одно целое, знаменуют подъем человечества на вершину развития в ходе тысячелетий»1. Нас не должна обольщать здесь прогрессистская идея, как и идея непрерывности истории: они переживут у немецкого автора массу перетолкований2. Во-вторых, это «антикварная» история, для нее характерны смещение масштаба, сужение горизонта внимания до краеведческих мелочей, фактологическое крохоборство, собирательство, некая провинциальность и даже «затхлость». Наконец, в-третьих, история «критическая» (1, 168), плоды которой столь же необходимы, сколь и печальны. Теория познания, этика и Лимонов Владимир Андреевич - к.и.н., проректор Санкт-Петербургского инженерного и экономического университета. 1 Ф. Ницше цитируются по изданию: Ницше Ф. Сочинения / Сост., ред., вступ. статья К.А. Свасьяна. М., 1990. Т. 1-2. В тексте в скобках указывается том и страница. 2 Когда у Ницше-эллиниста речь заходит о его любимых греках, образ непрерывной цепи вновь появляется: «…Когда иудейские вольнодумцы <…> удержали знамя просвещения и духовной независимости и под жесточайшим личным гнетом защитили Европу против Азии, их усилиям мы, по меньшей мере, обязаны тем, что могло снова восторжествовать <…> немифическое объяснение мира, и что культурная цепь, которая объединяет нас теперь с просвещением греко-римской древности, осталась непорванной». Следует, по мысли Ницше, «сделать задачу и историю Европы продолжением греческой задачи и истории» (1, 448449). 30 эстетика, как и рождавшиеся философия культуры и философия жизни в эпоху Ницше были, как известно, критическими по преимуществу. Гиперкритическими эти области философского вéдения были и у базельского мыслителя. Вокруг термина «критическая история» строится во «Втором размышлении» у молодого Ницше первоначальный очерк его философии жизни. Ибо в этом типе истории «не справедливость <…> творит суд и не милость диктует приговор, но только жизнь как некая темная, влекущая ненасытно и страстно сама себя ищущая сила» (1, 178). Здесь же цитируется тот же афоризм из «Фауста», что по схожему поводу вспомнил его наставник Шопенгауэр: «Ибо все, что возникает, достойно гибели. Поэтому было бы лучше, если бы ничего не возникало» (1, 178). Ницше горячо полемизирует с традиционной возрастной хронологией. Если идти вслед за Гегелем, получается, что мы пребываем в эпохе старости и увядания. Эсхатология такого рода «заставляет всех живущих жить <…> в пятом акте трагедии», что «противится всякому полету в область неизвестного» (1, 206). По тезису Ницше, который, судя по всему, очень понравился Н.А. Бердяеву, автору прославившего его в Европе трактата «Новое Средневековье» (1923): «Мы еще живем в средние века» (контекст этого высказывания – мы все еще воспринимаем историю как «замаскированную теологию» – 1, 207). Невозможно согласиться с Гегелем в том, что мы – «последыши сильных поколений», «последыши времен» (1, 209). Ненавистный Ницше Гегель – автор, по его мнению, злейшего из видов детерминистического объяснения истории; для сочинителя «Лекций по философии истории» создан беспримерный по язвительности афоризм, который хорошо запомнили и западно-европейские, и русские гегельянцы: «Для Гегеля вершина и конечный пункт мирового процесса совпали в его берлинском существовании» (1, 210). Перед Ницше брезжила другая великая и непомерная для его сил задача: «Создать новое поколение – вот цель, которая неустанно вовлекает нас вперед» (1, 212). Нелегко сказать теперь, кто выглядел бóльшим эгоистом: Гегель для Ницше или Ницше для его наследников. Ницше был человеком, навсегда очарованным мифологемой вечного круговорота. Вряд ли для него это была научная гипотеза или идея, подлежащая логическому доказательству. Это было образом свойства самой жизни, столь же естественное, как все ее стихии, субстанции и качества. Так думали в старину греки и римляне, так думали на Древнем Востоке, а древность для Ницше заведомо «умнее» и авторитетнее всей его современности, вместе взятой. Но Ницше необходимо было заново как-то закрепить в сознании своего читателя образы круговых возвратов. Для этого им придумывается оппозиция «историческое» / «не(над)-историческое» существование (точка зрения, мирочувствие и т.д.). Жить исторически – значит ощущать грузность прошлого и сопротивляться его давящему весу. Ницше готов позавидовать животному: оно живет «неисторически» и «растворяется в настоящем», а человек «должен всячески упираться против громадной, все увеличивающейся тяжести прошлого» (1, 161). Конечно, такую позицию при 31 желании можно квалифицировать и как нигилистическую; никого так часто и так охотно не упрекали в нигилизме, как Ницше, и в этом была немалая доля правды. Однако в конце века, который так символично был ознаменован датой кончины Ницще (1900), – как столь же символично на последний год XIX в. пришлись в России смерть Вл. Соловьева, а в Англии – уход О. Уайльда, – в эти времена морального и научно-философского кризиса некоторые люди действительно физически ощутили усталость от истории, от культуры, как равно и от философии истории и философии культуры. Ницше был великим общественным диагностом своего века, а мыслители, наделенные этим роковым для них даром, не желают сохранять хорошую мину при плохой игре. Он хотел оставаться честным мыслителем и, если он и позволял себе стилистическое лукавство и чрезмерные дозы иронии, то и это шло на потребу защищаемой концепции. Человек, перенасыщенный прошлым, производит на Ницше удручающее впечатление: «Человек, который пожелал бы переживать все только исторически, был бы похож на того, кто вынужден воздерживаться от сна…» (1, 161). На этом фоне дезавуируется и историческое познание как таковое: познанное историческое явление мертво; «при некотором избытке истории жизнь разрушается и вырождается» (1, 168). Мы все испорчены историей, – говорит Ницше (1, 184), и спасти нас может впадение в темную стихию живой быстротекущей жизни, ибо только надисторическая точка зрения излечивает от «уважения к истории» (1, 166). Там, в глубинах витальности, не надо искать чего-то принципиально нового; новое производит излишнее смятение в умах, растерянность пред будущим. Надисторические люди «с полным единодушием приходят к одному выводу: прошлое и настоящее – это одно и то же, именно нечто, при всем видимом разнообразии типически одинаковое и, как постоянное повторение, непреходящих типов, представляющих собой неподвижный образ неизменной ценности и вечно одинакового значения» (1, 167). При этом Ницше, всерьез считавший себя опекуном духовного здоровья нации, тут же уточняет, противореча себе: «Историчес-кое и неисторическое одинаково необходимы для здоровья отдельного человека, народа и культуры» (1, 164). Стоит присмотреться к рассуждениям Ницше о пифагорейцах с их учением о вечном возврате, чтобы убедится, какой двойной, колеблющийся свет ложится на эти инвективы базельского ироника1. Ницше не жалел острых слов, чтобы охарактеризовать свою эпоху беспрецедентного давления массового сознания на творческую личность. «То, что было возможно однажды, могло бы снова сделаться возможным во второй раз лишь в том случае, если справедливо убеждение пифагорейцев, что при одинаковой констелляции небесных тел должны повторяться на земле одинаковые положения вещей вплоть до отдельных, незначительных мелочей; так что всякий раз, как звезды занимали бы известное положение, стоик соединялся бы с эпикурейцем для того, чтобы убить Цезаря, а при другом положении Колумб открывал бы Америку. Только в том случае, если бы земля каждый раз разыгрывала сызнова свою пьесу после пятого акта, если бы с точностью установлено было, чтобы будут возвращаться снова через определенные промежутки времени то же сплетение мотивов, тот же dues ex machine, та же катастрофа, могучий человек мог бы пожелать этой монументальной истории в ее полной иконической истинности, т.е. каждого факта в его точно установленной особенности и индивидуальности; вероятно, поэтому не прежде, чем астрономы снова превратятся в астрологов» (1, 171). См. Микушевич В. Ирония Фридриха Ницше // Логос. 1993. № 4. С. 199-203. 1 32 Он полагает, что «излишества исторического чувства» и «чрезмерного увлечения процессом в ущерб бытию и жизни» (1, 186) породило поколение эпигонов, ироников и циников (1, 218). Он мог бы добавить – и эстетов. В качестве аналогии (повтора в истории) он приводил римлянина императорского периода, который «перестал быть римлянином и среди нахлынувшего на него потока чуждых ему элементов утратил способность быть самим собой и выродился под влиянием космополитического карнавала религий, нравов, искусств; эта же участь, очевидно, ждет и современного человека» (1, 186). Ницше прекрасно знает, что именно императорский Рим при Тиберии дал средиземноморским странам и Западной Европе в целом христианство как мировую религию. Но вот с этим-то своим знанием он вступает на опасную стезю – он настойчиво развивает концепцию исторического самоубывания христианства, более того – он подвергает религию искупления и спасения, принесенную Христом, жестокой и разрушающей критике, он, по сути, обвиняет христианство в исчерпании идеалов и в исторической неудаче. Это религиозное знание «под влиянием историзирующей обработки стало равнодушным и неестественным»; так Моцарт и Бетховен «уже теперь оказываются почти засыпанными всем ученым хламом биографических работ» (1, 201). Адресат критики ясен – это так называемая историческая школа в религиоведении; но Ницше пошел дальше, он написал книгу «Антихрист. Проклятие христианству» (1895), и себя в частных письмах не прочь был титуловать Антихристом. Он провозгласил, что «антихрист и антинигилист, этот победитель Бога и Ничто – он-таки придет однажды» (2, 471). Это согласуется с утверждением, что «владыкой мира и вершителем успеха и прогресса является дьявол» (1, 230). Наконец, что осталось у современного обывателя от Ницше, кроме пресловутого «Бог умер»?1. Однако здесь надо сделать поправку на существенный стилистический и даже методический прием Ницше, придающий его текстам свойство апофатических построений. Ницше поддается «чтению-вспять», они содержат семантику «против течения», т.е. смыслы, обратные прямому пониманию их. Так в России писали порой П.Я. Чаадаев, В.В. Розанов, М.М. Бахтин2. У этих авторов есть манера утверждать положительные идеалы Во фрагменте 247-м («Круговорот человечества») «Веселой науки» мы встречаем: «Быть может, все человечество есть лишь одна ограниченная во времени фаза в развитии определенного животного вида – так что человек возник из обезьяны и снова станет обезьяной, причем нет никого, кто был бы заинтересован в странном исходе этой комедии. Как с падением римской культуры и под влиянием его важнейшей причины – распространения христианства – наступило всеобщее обезображение человека в пределах римской культуры, так с каким-либо позднейшим упадком всей земной культуры может наступить еще большее обезображение и, наконец, озверение человека, вплоть до уровня обезьяны. Именно потому, что мы можем представить себе эту перспективу, мы, быть может, в состоянии предупредить такой конец истории» (1, 371). Ср. фрагм. 341 (1, 660). 2 Примеры и их комментарий см. Исупов К.Г. Апофатика М.М. Бахтина. Тезисы к проблеме // Диалог, карнавал, хронотоп. Витебск, 1997. № 3 (20). С. 19-31. М.М. Бахтин отметил у Ницше идею возвращения: «То, что возвращается, вечно и в то же время невозвратно. Время здесь не линия, а сложная форма тела вращения. Момент вращения уловлен Ницше, но абстрактно и механически интерпретирован им» (Бахтин М.М. Из черновых тетрадей // Литературная учеба. М., 1992. № 5. С. 158). См. у Ницше образ вечного жизненного круга в связи с категорией памяти: 1, 165. 1 33 путем их отрицания, т.е. апофатически. Сказано: «Чтобы можно было воздвигнуть святыню, нужно разбить святыню» (2, 470). На уровне поведения (точнее, антиповедения1) апофатике соответствует своего рода духовное юродство, а уж этого-то у Ницше было с избытком. В этом смысле теория вечного круговорота могла работать на идею прогресса, а демонстративный антиисторизм Ницше – как раз на идею истории как поступательного движения, имеющую свою не вполне внятную телеологию. Плюсы и минусы здесь сошлись: стилистика Ницше амбивалентна. Это хорошо понимал Т. Манн, написавший о Ницше не только статьи, но и целый роман – «Доктор Фаустус» (1947). Ницше отказывает своим современникам в праве на оценку прошлого и тем более – в суде над прошлым. В сегодняшнем историческом уже нет сочетания объективности и справедливости и «ни одно поколение не имеет права считать себя судьями всех прежних эпох и поколений» (1, 197); только зодчие перспективного будущего имеют право оценивать прошлое и видеть в нем «великую силу современности» (1, 198). Ницше изобретает выражение «исторический виртуоз современности», – это человек пассивного реагирования на чужие культуры, это интеллектуальный «курильщик опиума» (1, 193). Ему в утопической социологии Ницше противостоит «разумный эгоизм отдельных людей как двигатель истории», «сильные личности» (1, 189), да и в целом цель человечества «не может лежать в конце его, а только в совершеннейших экземплярах» (1, 217). Эти «убэрменши» могут в будущем составить республику гениев (как у Шопенгауэра, в пику республике ученых Конта) (1, 217, 787). Конечный вывод Ницше, в подражание Шопенгауэру, – эстетического порядка. «Словом «неисторическое» я обозначаю искусство и способность забывать и замыкаться внутри известного ограниченного горизонта; «надисторическими» я называю силы, которые отвлекают наше внимание от процесса становления, сосредотачивая его на том, что сообщает бытию характер вечного и неизменного, именно на искусстве и религии» (1, 227). Так философия истории и философии жизни трансформируется у Ницше в эстетику вечного круговорота, а его нигилизм – в исторический эстетизм. Однако даже если не путать Ницше с ницшеанством, значение его наследие не стоит преуменьшать. В частности, сочетание дискретного и непрерывного в круговоротах Ницше помогло классику интуитивизма психологически осознать особую ритмику длительности: «В действительности не существует единого ритма длительности; можно вообразить себе различные, более медленные и более быстрые, ритмы, которые измеряли бы степень напряжения или расслабления сознаний, и этим самым фиксировали бы принадлежащие им места в ряду существ»2. Юрков С.Е. Под знаком гротеска: Антиповедение в русской культуре (XI – нач. Х вв.). СПб., 2000; Меньшикова Е. Трагический парадокс юродства, или Карнавальный гротеск Андрея Платонова // Вопросы философии. 2004. № 3. С. 111-132. 2 Бергсон А. Собр. соч. Т. 3. Материя и память / Пер. В. Базарова. СПб., 1913-1914. С. 207. 1 34 Наследие Ницше только теперь выявляет свои подлинные масштабы1; его влияние ощутимо и по сей день, даже в современной поэзии3. С.В. Красильникова* Жанровая категория «писатель» и «читатель» в памятниках севернорусской историографии XVIII-XIX веков2 Ю.М. Лотман заметил, что под влиянием Карамзина с 1780-х по 1800- е годы «произошло чудо – возник читатель как культурно значимая категория»3. В 1760-е годы XVIII века созданием «своего читателя» впервые занялись историки «первого поколения»: В.Н. Татищев, Г.-Ф. Миллер, М.В. Ло-моносов, М.М. Щербатов. Историографы писали свои обобщающие сочинения по истории России в дополнение друг друга, расширяя повествование за счет вновь найденных источников и обнаруженных сведений. Важно подчеркнуть, что монументальный жанр исторической компиляции изначально конструировался по принципу летописи. Историографы «первого поколения» привлекали к сотрудничеству, сотворчеству «образованных дилетантов» из числа читателей-«любителей истории» в русской провинции. Установить живой диалог между историографом и читателем, разрушив при этом установившуюся в литературе классицизма власть жанровых образов «писателя» и «читателя», было достаточно трудно. До середины столетия «писатель» и «читатель» бытовали в текстах как жанровые категории, их соединяла нормативность требований жанров классицизма, власть художественного метода (примером тому могут служить сатирические журналы второй половины XVIII века). Историкам, чтобы заслужить расположение читателей, предстояло продемонстрировать свою личностную позицию и тем самым вступить в коммуникацию с читателем. Во многом этому способствовало развитие журнальной историографии (термин М.П. Мохначевой) 4, формировавшей коммуникативный контекст исторического знания. Обратимся к эволюции понятийной эпистемологии, определив значение понятий «история», «историк», «историограф». В раритетном «Новом Подробную библиографию см. в кн.: Ницше: pro et contra: Антология / Сост., вступ. ст., прим. и библиогр. Ю.В. Синеокой. СПб., 2001. С. 971-1007. См. также: Миронов В.Н. Философия истории Ницше // Вопросы философии. 2005. № 11; Кантор К.М. // Вопросы философии. 1996. № 8; Анашев С. Философия истории в творчестве Ницше // Саяса. 2005. № 4. С. 32-34; Визгин В.П. Философия Ницше в сумерках нашего сегодня // Фридрих Ницше и философия в России. СПб., 1999. С. 177-207. 3 См., например, стихотворение «Повторение или Воскресение» у современного автора: Ждан Иван. Неразменное небо. М., 1990. С. 67-68. * Красильникова Светлана Валерьевна – к.ф.н., проректор по научной работе и международному сотрудничеству КГПИ. 2 Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 08-04-41401 а/С. 3 Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 276-277. 4 Мохначева М.П. В поисках «первого исторического журнала» в России: некоторые наблюдения и итоги // Отечественная культура и историческая наука XVIII-XIX веков. Брянск, 1996. С. 3-28. 1 35 словотолкователе» Н.М. Яновского (1803-1806), где отмечаются функциональные, стилевые особенности бытования иноязычных слов в русском языке, в статье «Журнал» автор не выделяет среди «ученых» журналов (Церковный, Военный, Юридический, Коммерческий, Медицинский и проч.) журнал исторический. Само понятие «журнал» Н.М. Яновский связывает исключительно с литературой как родом деятельности. История, точнее занятие историей, по Яновскому, – разновидность литературной деятельности. В свою очередь, понятие «историческое сочинение» связано у него с понятием «периодическое сочинение» в лице «писателя истории». Слова «историограф» и «историк» в этой связи употребляются как его синонимы: «Если бы кто-либо из писателей вздумал издавать в свет историческое сочинение, в котором бы наблюден был с точностью и со вкусом вышеизъясненный метод («соблюдать беспристрастие» – С.К.), то кажется, что подобное сочинение было бы из всех сочинений литературы наилучшее…»1. Яновский в данном случае высказывает общепринятое в XVIII в. мнение о сближении истории и литературы: историографы в «Предъизвесчениях», «Предуведомлениях» к своим трудам не разграничивали понятий «историк» и «писатель», разделяя общепринятое в XVIII в. представление об истории и литературе как двух равноправных сферах словесных наук. Вплоть до средины 1830-х гг. слова «историк» и «историограф» использовались, как правило, когда речь шла об античных авторах, средневековых и современных отечественных и зарубежных исследователей истории обычно называли писателями истории. Не была исключением и фигура Карамзина: несмотря на официальный титул историографа, современники чаще называли его писателем русской истории. В дань традиции сохранил принцип синонимии словоупотребления и С.М. Соловьев, в частности в названии труда «Писатели русской истории XVIII в.». Как известно, это были первые в отечественной историографии очерки о русских историках. В тексте очерков слово «историограф» Соловьев употребляет наравне с указанными в «Новом словотолкователе» Яновского синонимами: «писатель истории», «дееписатель», «бытописатель», «ученый человек». Такая синонимия встречается и в языке эпистолярного наследия М.П. Погодина и Т.Н. Грановского 1830-1850-х гг. Кроме того, в словаре В.И. Даля (2-е изд.) слово «историк» трактуется и как «писатель по истории, ученый по этой науке», и как «бытописатель, дееписатель или бытослов». Что касается слова «историограф», то данная дефиниция обозначается как «историк по званию, по должности, по обязанности, на него возложенной». Также слова «автор», «сочинитель», «писатель» определяются как синонимы. В статье «История» Яновский характеризует занятие историей и как науку, и как вид литературной деятельности, литературный труд. Это подтверждает наше утверждение о том, что литература и наука история до второй трети XIX века не успели разделить сферы творчества, поскольку не обладали еще специальными приемами и методами освещения событий, следовательно, и Яновский Н. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту, содержащий: разные в российском языке встречающиеся и иностранные речения и технические термины, значение которых не всякому известно. В 3-х частях. СПб., 1803 – 1806. Стлб. 855-858. 1 36 в сознании общества продолжали считаться единым родом занятий – истории-о-писанием в значении «искусство слога». Поэтому вполне логично, что людей, занимавшихся описанием событий в настоящем и прошлом личной и общественной жизни, чаще всего называли «писателями истории», либо «сочинителями» или авторами исторических сочинений. Между тем в смысловом контексте дефиниций историк/историограф, начиная с появления ученых трудов М.В. Ломоносова, происходят значимые изменения. Так, у Ломоносова в проекте переустройства Академии наук (1764-1765) появляется лексема историограф, который «первой должностью наблюдает собирать всякого рода исторические известия для Академической библиотеки и для своего сведения, надлежащие до деяний российских и до порученных ей и соседних народов». Таким образом, ученым представлен тип историка-историографа – историка-собирателя или библиографа. Ломоносов поясняет свою мысль: «Сочинение российской истории полной, по примеру древних степенных историков, каков был у римлян Ливий, Тацит, есть дело, не всякому историку посильное…ибо для того требуется сильное знание в философии и красноречие». И далее: «Для того довольно для ординарного академического историографа, когда он для сохранения древностей издаст в народ некоторые части простым, но порядочным штилем», поэтому необходимо «дать ему позволение входить в государственные архивы для справок в своих сочинениях, только смотреть прилежно…чтоб не был склонен в своих исторических сочинениях к шпынству и посмеянию»1. Таким образом, Ломоносов, осмысляя модус бытия историка в мире, ставит вопрос об историке как собирателе и хранителе древностей, которые в силу своей убедительности, не нуждаются в историко-крити-ческом обосновании. Проблема изучения природы «образа историка» в русской культуре Нового времени предполагает понимание морфологии этого образа как сложнейшего идеологического конструкта в контексте рецепции идей европейской исторической науки и философии. Исследование данного конструкта в единстве идеальных, нормативных, типологических смыслов и реально-эмпирического содержания требует адекватного прочтения и понимания всей системы текстов, порождающих и транслирующих эти представления, а также установления знаково-символической реальности, стоящей за данными текстами. Сложность подобной герменевтики заключается в аналитико-синтетическом изучении реальных представлений о мире отечественного историка в общественном сознании, науке и культуре Нового времени, его статусе и коммуникативных отношениях, типологически обобщаемых формулой «историк в глазах современников и последующих поколений». В этой связи проблема реконструкции «образа историка» в общерусской культуре через постижение сущностных характеристик данного конструкта в памятниках исторической прозы имеет междисциплинарный характер, существуя в предметном пространстве историографии, культурологии, гендерной истории, нарратологии и ряда других предметных дисциплин. Таким образом, выбранный нами дискурсно-аналитический 1 Ломоносов М.В. Сочинения. М.; Л., 1957. Т. 10. C. 148-149. 37 подход позволяет сосредоточить внимание на структуре историографического дискурса в исторических сочинениях севернорусских авторов XVIII в. и тем самым выявить символические значения, с помощью которых складывается «образ историка» в каждом коммуникативном событии. В свою очередь коммуникативное событие дискурса состоит из текста исторических сочинений, дискурсивной практики, посредством которой воспринимается и интерпретируется текст, и социальной практики. Так, в дискурс-анализе исторических жанров XVIII-XIX вв. как коммуникативных событий необходимо исследовать коллективную (индивидуальную) идентичность авторов исторических сочинений на Европейском Северо-Востоке (взгляд на себя, как на историка) через определение узловой точки, знака, вокруг которых организована идентификация. Этой точкой и знаком является слово «история/историк/историограф». Время после реформ Петра I явилось периодом становления науки в России. Печатные труды по русской истории В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Г.Ф. Миллера и других ученых способствовали развитию исторической мысли в провинции, что в свою очередь содействовало отражению исторической тематики в литературе рассматриваемого периода. Необходимо отметить сближение и взаимообогащение историописания (историографии) и литературы, поскольку формирование русской художественной литературы в XVIII в. шло параллельно с развитием исторических знаний эпохи. Историография XVIII века, по мнению А.Н. Робинсона, вырастала из старых жанровых традиций летописей и хроник1. Тем не менее, этот новый жанр существенно отличается от средневековых жанров отказом историографа от продолжения погодной летописи или пополнения хронографических очерков на основе переработок предшествующих сводов с добавлением к ним текущих событий, а также его стремлением писать «историю» заново в виде компилятивной, содержащей программное предисловие, поучительно-литературной книги. Такую идейную и структурную трансформацию хронографии в историографию А.Н. Робинсон отмечает для славянской, в частности, русской историографии в один из самых продуктивных периодов развития историографического жанра в конце XVII-XVIII вв., ознаменованного трудами Ф. Грибоедова, А. Лызлова, Т. Каменевич-Рвовского, Д. Ростовского, А. Манкиева, достигающего высокого взлета в трудах В. Татищева, М. Ломоносова, М. Щербатова - до последнего «историографа» – Н. Карамзина. Сложный процесс преобразования в переходный период жанра летописи и хроники, по мнению исследователя, приводил к возобладанию в них литературнопублицистических черт. Однако к завершению переходного периода историография начинает тяготеть к научной, «рациональной» истории. В этой связи попытка специального рассмотрения специфики исторических сочинений на Европейском Севере в Новое время как Робинсон А.Н. О преобразовании традиционных жанров как факторе восточно-европейского литературного процесса в переходный период (XVI-XVIII вв.) // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1969. Т. 28. Вып. 5. С. 408-414. 1 38 знаковых комплексов, сюжетно-повествовательных высказываний (дискурсов), а также в качестве вида историографического письма остается актуальной. На наш взгляд, исторические произведения, созданные в XVIII-XIX веках на Севере, представляют образец нарративного повествования, поскольку сочетают в себе два события, без которых не может быть наррации: событие рассказывания некоторой истории (фабулы) и событие самого рассказывания (дискурс по поводу этой истории). Интересно проследить, как постепенно в сочинениях провинциальных историков происходит переход от донарративных структур повествования (летопись) к коммуникативному событию рассказывания истории, поскольку, как утверждает Рикер, «событийная история может быть только историейрассказом»1. Наиболее репрезентативными в этом отношении являются городовые летописцы XVIII в. (Вологодский Летописец И. Слободского, Устюжский летописец Льва Вологдина, Вычегодско-Вымский летописец) и исторические очерки севернорусских городов. Эти исторические сочинения представляют собой комплекс жанров: летописей, исторических повестей, сказаний, грамот, дневниковых записей и др. Таким образом, можно констатировать следование авторов-историографов эстетическим канонам жанра летописи. В жанровом отношении рассматриваемые нами произведения являются своеобразными антологиями исторических материалов, где автор выступает в роли их компилятора и редактора. К такому решению приводит нас сходство авторского образа с традиционным образом летописца, который выступал в качестве «списателя» существовавших уже до него письменных источников и фактов истории. Исторические сочинения нового времени, как и летописи, были вызваны стремлением историографа осознать собственную историю. Однако авторы-историографы воссоздавали прошлое в свете новых исторических представлений, в которых наметилось уже движение к критической проверке источников. Поэтому целесообразно говорить не только о проблеме сохранения и нарушения жанрового канона русских летописей, но и о проблеме авторской индивидуальности, напрямую связанной с новым осмыслением категорий «писатель» и «читатель». В анализируемых текстах авторская индивидуальность проявляется в использовании интертекстуальных построений как сознательного авторскоредакторского приема; в возрастающей роли авторской инициативы, в том числе в подборе литературных источников; в склонности к словесным «экспериментам» в сочетании с данью средневековым традициям и упрочением жанровых канонов. Формирование интертекста в данном случае представляется явлением двояким: с одной стороны, оно направлено на поддержание канона, является декламацией авторского обращения к «устойчивым» в жанровом плане литературным структурам, а с другой – утверждается как прием авторско-редакторской работы и свидетельствует об индивидуализации писательского труда в рамках сложившегося жанра и стиля, поскольку становятся более разнообразными тексты-источннки, их традиционный 1 Рикер П. Время и рассказ. М.; СПб., 2000. Т. 1. С. 208-209. 39 состав пополняется и отличается большим многообразием. Выявление интертекстуальности произведения, таким образом, сводится к обнаружению в рамках одного произведения «следов» работы других авторов. В силу «коллективного» творческого начала словесности Древней Руси, как известно, ни один текст не был чужд идее «соприсутствия» в нем в более или менее узнаваемых формах «чужого слова» – текстов предшествующей и «окружающей» словесности – и представлял собой своеобразную мозаику «цитат», явных или скрытых. В то же время интертекстуальные пересечения, обнаруживаемые в городовых летописцах и исторических очерках в Новое время на Русском Севере, становятся своеобразными маркерами определенных новаций жанра. За иллюстрацией обратимся к анализу Летописца Великого Устюга Льва Вологдина1 – типичному образцу многослойного компилятивного исторического «текста-мозаики» начала Нового времени. Апеллируя к разным устным и письменным источникам (отмечаются не только обращения к тексту Устюжской и Вологодской летописи, Новому Российскому летописцу М.В. Ломоносова, но и библейские реминисценции, тексты молитв), Лев Вологдин продолжает традицию заимствования, доводит концепцию подражания образцам до ее логического завершения, возводит интертекст в прием редакторско-авторской работы. В данном случае мы имеем дело с проблемой интертекстуальности как одним из важных текстообразующих факторов, когда автор-историограф следует «букве» образцов, обращаясь с ними как с материалом для словесных построений и предоставляет на суд читателя умелое воплощение «напластований» более ранних текстов. К подобному приему прибегнут и авторы севернорусских исторических очерков: А. Соскин, М. Мясников, Н. Суворов, В. Попов и др. Обращение к цитации библейских текстов вызвано большей частью стремлением подтвердить святость описываемых «топосов». В качестве свидетельства и напоминания о том, что за каждым из них стоит божественное событие Священной истории, в подтверждение правильности христианских постулатов, указывающих как на незабвенность самой веры, так и на сакральность истории, авторы историографы в целом придают всему описываемому в исторических компиляциях вневременной характер. В данном случае интертекстуальные схождения проявляются как своеобразные апелляции к канону, а проблема интертекстуальности напрямую связывается со стремлением историографов выйти в мир уже созданных сочинений, снять грань между «своими» и «чужими» текстами. Так, например, в тексте Устюжского летописца Льва Вологдина встречаются библейские реминисценции без указания на авторство источника. Обращаясь к дискурсам священной истории, когда «всякое бытие вещей деятельное и творительное благоизволил Бог писанием утвердити от времен боговитца и святаго пророка Моисея», автор призывает читателя извлечь из прочитанного нравственный урок, подчеркивая вневременный смысл священной истории и соединяя тем самым прошлое и настоящее: «Да прочитающе древняя, зрим аки настоящая, и от того поучаемся, и Текст летописца цитируется по изданию: ПСРЛ (Устюжское и Вологодское летописание XVI-XVIII вв.). Л., 1982. Т. 37. С. 17-159. 1 40 наказуемся творити тая, яже суть и богу благоприятна и ко спасению благопотребна» (с. 128). Такого рода нтертекстуальные проявления настолько узнаваемы, что и без атрибутирования легко соотносятся с заимствованным текстом. Встречаем также и интертекстуальные отсылки к исходным источникам; так, к этому приему обращается А. Соскин в «Истории о городе Соли Вычегодской» (1789)1, проводя параллель между библейскими событиями исчезновения Содома и Гоморры и событиями сольвычегодской истории – исчезновением древних городов Чернигова и Выбора. В то же время интертекстуальные пересечения, обнаруживаемые в историографических памятниках XVIII-XIX веков на Севере, становятся своеобразными «маркерами» определенных новаций жанра; состав их, литературные источники-образцы, к которым обращались книжники, функциональная наполненность, безусловно, стали более разнообразны. Ориентация на публицистичность повествования с одной стороны, и на беллетризацию повествования с другой, привела к доминированию тенденции описания местной истории города или края в непосредственной связи с современными событиями в жизни автора-историографа. Авторы исторических севернорусских очерков XIX в. все чаще отказываются от летописной традиции повествования, используя при этом тексты «чужих» авторов, в том числе фольклорных легенд и преданий, ассимилируя их в известном автору контексте местной истории. Естественно, складывается и новая внутрижанровая типология историографии: городовые летописцы XVIII века, исторический очерк XIX века, жанры исторической беллетристики. В историко-беллетристических рассказах Н. Непеина, И. Муромцева, А. Михайлова, развернувших факты из исторических преданий «о панах», «о Смуте», «о христианизации края» в яркие эпизоды новеллистического повествования, прослеживается явное тяготение к сознательному литературному вымыслу, создающему иллюзию воспроизведения подлинной исторической действительности. Итак, можно заключить, что рост личностного начала в провинциальных культурных центрах России и формирование «историописателя» и читателя как жанровых категорий начинается с развития исторических знаний на местах. Провинциальные авторы отзываются на призыв первых историков о «воспомоществовании» в собирании исторических сведений и обращаются к изучению национальной истории. Будучи читателями провинциальных журналов – губернских и епархиальных ведомостей – провинциальные авторы активно участвуют в реализации программ этих изданий «по части истории». Уже при первом знакомстве с неофициальной частью Вологодских, Вятских и Архангельских губернских ведомостей полностью исчезает стереотип представлений о некоей вторичности исторических материалов и невежестве провинциальных авторов. Так, И.К. Степановский, автор-составитель сборника «Вологодская старина» (Вологда, 1990) указывает в списке «Ученые и писатели, Соскин А.И. История города Соли Вычегодской / Отв. ред. А.А. Амосов; Сост. А.Н. Власов. Сыктывкар, 1997. 1 41 Летописцы, историки и археологи» 43 представителя местной творческой интеллигенции. Вот список наиболее известных из них: писатель Ф.А. Арсеньев, вологодский помещик, официальный редактор «Библиотеки для чтения» при О.И. Сенковском П.Г. Волков, сотрудник Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева А.Е. Мерцалов, состоявший в переписке с М.И. Семевским, П.А. Гайдебуровым (редактором «Недели») П.К. Симони, Э.Г. Фальк, председатель Вологодской духовной семинарии, член-учредитель Общества любителей древностей П.И. Савваитов, а также членкорреспондент Императорского Русского археологического общества, членсотрудник Императорского географического общества, награжденный бронзовой медалью за труды по Этнографическому отделению, член Московского археологического общества, член-корреспондент Московского общества любителей древней письменности, инициатор издания «Вологодских епархиальных ведомостей» Н.И. Суворов. В указатель «Сотрудники повременных изданий» Степановский также включил 37 имен, среди которых были преподаватели духовной семинарии, священники Н. Кедровский, Е. Кичин, А. Малевинский, Н. Румовский, В.К. Лебедев, учителя гимназии Н. Протопов, М. Михайлов и другие. Можно утверждать, что для основной массы творческой интеллигенции в провинции причастность к разработке истории своей малой родины в форме печатных публикаций давала право считаться «писателем истории». М.П. Мохначева выделяет четкий критерий идентификации провинциальных авторов с профессией историографа. Это – «вклад в развитие исторического знания, в «истории-о-писание в любой форме и в любом жанре повествования»1. Естественна при этом обратимость категорий автор-читатель. Если такой читатель «записывался в историки», то это, как правило, подтверждало профессиональный статус корреспондента. Процесс вовлечения личности в наукотворчество, превращение читателя в автора-писателя «по части истории» началось с провинциальных историков «второго поколения». Желание провинциальных авторов получить и представить аудитории определенным образом осмысленное историческое прошлое своего края, не страшась при этом нарушить жанровую, стилевую регламентацию, несомненно, свидетельствует о возросшем чувстве национальной идентичности. На страницах своих предисловий историки «второго поколения», вышедшие из провинциальной среды читателей-«любителей истории», уверенно заявляли о своем отношении к прошлому, подчеркивая его связь с настоящим. Способность вспоминать и идентифицировать себя с собственным историческим прошлым придает их существованию смысл, цель и ценность. Отсюда, вероятно, отношение к тексту как к авторской собственности и признаки авторского самолюбия. Собственно историографическая позиция автора при этом является рамочной конструкцией, определяющей позицию «мета» в данных текстах. Например, Алексей Соскин в Предисловии к «Истории о городе Соли Вычегодской» рассказывает читателям о том, что рассматривает составление данного 1 Мохначева М.П. Журналистика и историографическая традиция в России 30-70-х гг. XIX в. М., 1999. С. 38. 42 исторического описания как свой гражданский долг и ставит перед собой главную задачу: «...коль много возжелах тот град описать, в котором я родился и воспитан, толь много одолжен желать и снискать его славу, яко верному согражданину и сыну отечества» (с. 13). Таким образом, повествователь, движимый любовью к родине, осознанием своего гражданского долга пишет свое сочинение «в незабвенную память своим согражданам», с тем, чтобы «вдохновить» современников и потомков славой города «произсшедшей в мимошедшия лета от божия промысла и от светлых икон и от знаменитых и памяти достойных человек» (с. 13), внушить им чувство гордости за свою родину и соотечественников, «которых памяти и дела ни самая древность могла закрыть», прославленных «воздвигнутыми великолепными храмами, посвященному Богу, особливо делами, полезными отечеству и потомству» (с. 14). Итак, автор является активным участником исторического процесса, осознающим его ход. Очевидно, что интерес Соскина к современной действительности подвигает его на исследование фактов минувшего. Исторические события прошлого входят в его жизнь и откликаются на его интересы. Представляется, что именно эта позиция является смысловой матрицей, кодом, просвечивающим сквозь нарративную структуру всего комплекса севернорусских памятников провинциальной историографии Нового времени. В этом метатексте заложен результат «чтения» предшествующей культуры в поисках Первоисточника – Книги как символа первичности. Напомним, что во всей иудео-христианской традиции Слово первично, а Бог – непосредственный автор Первокниги. Можно констатировать, что в русской культуре существует корневая потребность в символической первопричине. Стремление к первоистокам в культуре, по мысли М. Ямпольского, «в полной мере насыщается лишь мифом, органически мыслящим в категориях первичности»1. Именно эта потребность элиминирует читателя, превращая результат чтения предшествующих текстов в механизм функционирования культуры. В историографическом дискурсе севернорусских авторов стремление к открытию первоистоков, первичных исторических событий идет параллельно с изображением современной авторам реальности. Таким образом, повествования об исторических событиях в дискурсе провинциальных историографов обеспечивают исторический смысл контекста жизни и служат базисом для переживания себя творцом, активным участником современности. И.Н. Котылева* Роль рода купцов Строгановых в развитии почитания св. Стефана Пермского в XVI-XVII в. ( к постановке проблемы) 1 * Ямпольский М.Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М., 1993. С. 140. Котылева Ирина Юрьевна – к.и.н., директор Национального музея РК. 43 Тема миссионерского подвига св. Стефана Пермского и созданной им пермской азбуки была предметом научного рассмотрения, начиная с XVIII в. Широкий круг авторов посвятил свои исследования различным аспектам наследия первого пермского епископа. В то же время история формирования и развития почитания «святителя пермян» как единого комплекса, включающего развитие житийной литературы, иконографии, храмостроительства, форм народного и официального почитания, остается малоисследованной. Пионерской работой в этом плане является работа Г.Н. Чагина «Почитание Стефана Пермского в Перми Великой в XV-XVII в.»1. Несмотря на то, что Стефан Пермский был официально причислен Русской православной церковью к лику святых только решением Стоглавого собора, его и до этого ставили в одном ряду с уже канонизированными святыми, такими как Леонтий Ростовский и Варлаам Хутынский. Канонизация пермского святителя в 1549 г. не столько подтверждала его святость, сколько определяла политику по упрочнению его культа. В этой связи знаковым является появление житийного рассказа о Стефане по прозвищу Храп в «Лицевом летописном своде», созданном по заказу Ивана Грозного. Исторические свидетельства о систематическом почитании «зырянского апостола» относятся к концу XVI – началу XVII вв. Именно в это время для храма Спаса-на-Бору была создана житийная икона Стефана Пермского2 (по преданию, первый образ святителя был написан Епифанием Премудрым в начале XV века и находился на раке святого), которая на протяжении последующих столетий была одной из святынь храма. Вероятно, изначально данная икона предназначалась для придела, созданного в честь епископа пермского. Первоосновным центром развития почитания «зырянского апостола» при последователях Стефана Пермского в XV-XVI вв. являлась Усть-Вымь на р. Вычегда (ныне село Усть-Вымь, районный центр Республики Коми), ставшая в XIV в. христианским центром земли Перми вычегодской (Перми малой). Особенности развития культа почитания первого епископа пермского в первоначальный период во многом сопрягались с политикой последователей Стефана, что красноречиво подтверждает создание по велению Пермского епископа Филофея в 1472 г. Пахомием Сербом акафиста «Служба во святых отца нашего Стефана епископа Пермского иж тех аплскы крестившего новаго чудотворца». В документах XIX в., ссылающихся на церковные документы более раннего времени, обращается внимание на тот факт, что в 1610 г. в Усть-Выми появляется икона последователей Стефана Пермского, епископов Герасима, Питирима и Ионы, также канонизированных решением стоглавого собора. Этот факт позволяет говорить, что в начале XVII в. начинается формирование единого Чагин Г.Н. Почитание Стефана Пермского в Перми Великой в XV-XVII в. // Христианизация Коми края и ее роль в развитии государственности и культуры. Т. 1. Сыктывкар, 1996. 2 Извеков Н.Д. Соборный храм во имя Преображения Господня, что на «Бору» при Большом Кремлевском дворце в Москве. М., 1913. 1 44 культа первых епископов пермских, получившего развитие в большей степени в XIX в. Основываясь на архивных документах и публикациях XIX в., можно говорить о наличие образов св. Стефана Пермского XVII в. в Благовещенской церкви в Усть-Выми, а также в Парчегской церкви (УстьВымский район Республики Коми)1. Архивные документы показывают, что к XVII в. относился и образ Стефана Пермского, который находился в церкви Стефана Великопермского Чудотворца с. Ношуль (Сысольский район Республики Коми). Вотчинский монастырь был одним первых, основанных Стефаном Пермским на земле коми, и оставался в XVII в. одним из центров сохранения наследия «творителя зырянской азбуки» и его почитания, о чем свидетельствует житийная икона пермского святителя, созданная на рубеже XVI-XVII в. и являвшаяся святыней Вотчи вплоть до 30-х годов ХХ в. В конце XVI в. – начале XVII в. новым центром почитания Стефана Пермского становится Сольвычегодск, основной форпост купцов Строгановых на Севере Руси. Исторические описания и свидетельства XIX в. позволяют говорить о том, что в «прошедшие времена» в Сольвычегодске было несколько икон пермского святителя, а в Крестовоздвиженском приходе была деревянная церковь Святителя 2 Стефана Пермского . Одним из памятников, дошедшим до нашего времени и свидетельствующим о почитании Строгановыми пермского святителя, является икона Стефана Пермского с житием в 16-ти клеймах, происходящая из Никольской церкви сольвычегодского 3 Крестовоздвиженского монастыря . Одна из особенностей данной иконы в том, что два клейма посвящены молитвенному приветствию Сергия Радонежского и Стефана Пермского: в 13-м клейме «Поклонившись в сторону Троицкого монастыря, св. Стефан приветствует преп. Сергия Радонежского на пути в Москву»; в 14-м изображено «Ответное приветствие преп. Сергием Стефана во время трапезы в Троицком монастыре». Непосредственно по заказу Н.Г. и М.Я. Строгановых Истомой Савиным была написана икона «Богоматерь Боголюбская с предстоящими» (конец XVI – начало XVII в.)4. Примечательно, что ряд предстоящих включает в себя митрополита Алексия и «припадающих митрополитов Киприана, Филиппа и епископа Стефана Пермского». Изначально данная икона находилась в Благовещенском соборе Сольвычегодска5. Плаксина Н.Е. Иконы Стефана Пермского в храмах зырянского края (по материалам Национального архива Республики Коми) // Памяти равноапостольного Стефана: к 610-летию успения св. Стефана Пермского. Материалы расширенного заседания ученого совета национального музея Республики Коми. Сыктывкар, 2006. С. 6-11. 2 Соскин А. История города Соли-вычегодской древних и нынешних времен // Прибавление к Вологодским епархиальным ведомостям. 1882. № 13. С. 301. 3 Иконы Строгановских вотчин XVI – XVII веков. По материалам реставрационных работ ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря: альбом-каталог / Составитель М.С. Трубачева. М., 2003. С. 67-68. Икона находится в собрании Сольвычегодского историко-художественного музея заповедника. 4 Антонова В.И., Мнева Н.Б. Каталог древнерусской живописи (ГТГ). М., 1963. Т. II. С. 311-312; Рыбаков А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли вологодской XIII – XVIII вв. М., 1995. 5 В настоящее время находится в собрании Государственной Третьяковской галереи. 1 45 Роспись в апсиде Благовещенского храма является еще одним зримым свидетельством осмысления в начале XVII в. образа Стефана Пермского как одного из значимых деятелей и мыслителей православной церкви XIV в. Собор расписывался по велению Никиты Григорьевича Строганова в 1600 г. иконниками Федором Савиным и Степаном Арефьевым1. В росписи апсиды Стефан Пермский предстает в одном ряду с Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоустом, митрополитом Киприаном, Леонтием Ростовским и другими почитаемыми русской православной церковью святыми, предстоящими перед образом Богоматери. Одной из святынь Благовещенского храма в Сольвычегодске стал так называемый саккос Стефана Пермского (уже во второй половине ХХ в. реставраторы определили, что саккос изготовлен в XVII в.). Представляя памятники Русского Севера, Н. Макаренко в своем труде «Искусство Древней Руси у Соли Вычегодской», изданном в начале ХХ в., подчеркивал, что «в памятниках творческой деятельности русских мастеров, на всем широком пространстве России, история искусства не знает произведения, равного холщевому расписному саккосу, хранящемуся в ризнице Сольвычегодского собора»2. Основываясь на преданиях, имевших хождение еще в начале ХХ в., он пишет, что саккос принадлежал просветителю зырян св. Стефану Пермскому3. Макаренко дает подробное описание саккоса: «Традиционной формы саккос покрыт спереди и сзади, сверху до низу, многочисленными живописными изображениями, исполненные кистью по проклеенному холсту. Вверху у ворот, справа и слева – херувимы и «серафимы» – шестикрылые символы высших небесных стражей. На плечах, в отдельных клеймах, разделенное на две части, изображение Благовещения в хорошей старой композиции. На коротких рукавах саккоса изображена одна и та же сцена Евхаристии, в установившейся с древнейших времен композиции, где Спаситель причащает благоговейно подходящих к нему апостолов отдельно под видом хлеба и отдельно под видом вина. Спаситель за престолом, под сенью кивория обычного типа. Апостолы, по шести с каждой стороны, подходят в оживленных позах, но с сохранением древнего типа в размещении ног в одном случае и с видоизменением его в другом. И в том и другом изображении композиция компактная, размещенная на фоне палат и городской стены с зубцами. От изображения Архангела из Благовещения и Богоматери спускаются вниз два ряда отдельных изображений святителей – устроителей церкви Христовой на земле Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста; затем Николая Чудотворца, Гурия, Варсонофия, Афанасия, Кирилла и др. Центральное место, на груди носящего стихарь, занимает самая крупная, по размерам, композиция «Воскресенье Христово»… Спаситель, сходящий во ад. С боков – символы Иоанна и Матфея. Ниже этого – изображения, в четырех отдельных прямоугольниках: вход Господен в Евдокимов И. Север в истории русского искусства. Вологда, 1921. С. 71. Макаренко Н. Искусство Древней Руси у Соли Вычегодской. Петроград: Изд-во «Свободное искусство». 1918. С. 91-92. 3 Там же. С. 92. 1 2 46 Иерусалим, Преображения, Тайная Вечеря и Лобзание Иуды. Все изображения сопровождаются красивыми надписями вязью. На другой стороне, в аналогичном же симметричном расположении: Распятие – как главная и крупная картина, а ниже в четырех же картинах: Иисус пред Пилатом, Возложение тернового венца, Снятие со Креста и Положение во гроб. Подол стихаря украшен богатой орнаментальной каймой, по которой разбросаны непринужденно и смело стебли, листья и цветы того восточно-персидского стиля, который сделался родным для русских мастерских Московской Руси»1. Следует отметить, что художественная концепция саккоса, так же как техника ее исполнения, не имеет аналогов в древнерусском искусстве. Обращает на себя внимание тот факт, что «изображение Благовещения в хорошей старой композиции» является ключевым во всей композиции. Это вполне согласуется с тем фактом, что саккос был святыней Благовещенского собора. Можно говорить и о взаимосвязи композиции росписи саккоса и росписи в апсиде храма. Особое место в обеих росписях занимают изображения святителей – устроителей церкви Христовой на земле Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Вероятно, что создатели саккоса (и заказчик, и исполнитель) ориентировались на фелонь преподобного Сергия Радонежского (XIV в.), которая былой одной из святынь Троице-Сергиевой лавры2, что объясняет выбор материала для саккоса – простого холста, в отличие от целого ряда облачений, созданных в это же время в строгановских мастерских3. Закономерно и появление на саккосе изображений устроителей церкви Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, учитывая общий контекст православного искусства этого периода, так, эти святители, а также Николай Мирликийский, Афанасий и Кирилл Александрийский формируют смысловой и художественный образ епитрахили (XVI в.) из собрания Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии4. Симптоматичен и требует дальнейших исследований тот факт, что образы строителей церкви Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста нередко являлись важной составляющей убранства храмов, устраиваемых Строгановыми5. Род Строгановых сыграл определяющую роль и в объединении культов святых Стефана Пермского и Прокопия Устюжского 6. XVI в. обозначил новый этап в развитии почитания пермского святителя и устюжского юродивого. До XVI в. почитание Прокопия Устюжского в основном было распространенно в народной среде Устюга. С момента канонизации предания о Прокопии и его чудесах становятся частью письменной Там же. С. 92-94. Преподобный Сергий – Великий подвижник Земли Русской. М., 2004. С. 38-39. 3 Мнева Н.Е. Шитье XVI – XVII вв.// История русского искусства. Т.III. М., 1955. 4 Иеродиакон Иоанн (Павлихин). Памятники древнерусского шитья в собрании Церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии // Древнерусское искусство: исследования и реставрация. Сборник научных трудов. М., 2001. С. 212-214. 5 Иконы Строгановских вотчин XVI-XVII веков… 6 Подробнее см.: Котылева И.Н. Свв. Стефан Пермский и Прокопий Праведный: идея единства русской православной Церкви (XIV-XVII) // Семиозис и культура. Сыктывкар, 2008. С. 125-130. 1 2 47 культурной традиции Русского Севера. На рубеже XVI-XVII вв. происходит переплетение житийных историй Стефана Пермского и Прокопия Устюжского. В конце XVII в. (в 1668 г.) по заказу Афанасия Гусельникова для Прокопьевского собора Великого Устюга неизвестным устюжским мастером пишется житийная икона Прокопия с сорока клеймами1. Одно из клейм этой иконы посвящено пророческому дару юродивого и представляет предсказание им трехлетней отроковице Марии рождения сына Стефана, которому суждено совершить великий миссионерский подвиг. Аналогичный сюжет представлен и в одном из клейм в иконе, происходящей из Никольской церкви во Владычной слободе в Вологде (вероятно, икона была исполнена около 1669 г.)2. В то же время не следует упускать из внимания тот факт, что с 1682 г. новооткрытая Великоустюжская епархия стала одной из наследниц Великопермской епархии, оформив ее значимую часть. Совместное представление Стефана Пермского и Прокопия Устюжского было частью идеологии, обосновывающей создание новой епархии и преемственность в границах единой церкви. Происходящие в XVII в. взаимопроникновение и взаимообогащение культов двух святых являлось, на наш взгляд, частью политики экономического и культурного объединения российских земель и отражало интересы Строгановых. Культурная ценность объединения культов почитания Прокопия Устюжского и Стефана Пермского была вполне осознана в XVIII в. и получила дальнейшее развитие в Великом Устюге и Коми крае в XIX в. Развитие почитания «зырянского апостола» в Пермском крае в XVI-XVII в. определялось в первую очередь деятельностью и политикой епископов пермских, последователей Стефана. В тоже время, прослеживается, что в укрепление культа первого епископа пермского в XVI в. в Перми Великой значимую роль сыграли купцы Строгановы. М.С. Трубачева отметила, что «внимание, обращенное Иоанникием Строгановым на Великопермский край, могло быть связано с глубоким почитанием преподобного Стефана»3. Жители Перми Великой были «просвящены верой Христовой» епископами Питиримой и Ионою. В 1564 г. центр Пермской епархии перенесли из УстьВыми в г. Вологду, епархия получила название Вологодско-Пермской. Изменение центра епархии, ставшего более близким к Москве, в определенной степени оказало влияние на вовлечение населения края в социокультурные процессы, происходящие на Руси. В 1658 г. открылась Вятская епархия (в нее вошли верхнекамские земли и епископы стали называться Вятскими и Великопермскими), тем самым укрепив направленность распространения православия на восток, что в полной мере совпадало с интересами Строгановых. Значимой частью политики Строгановых было возведение храмов и создание монастырей, где чествованию святителя зырян отводилась особая роль. В этой связи значима опись 1623 г. писца М.Ф. Кайсарова Сорокатый В.М. Образы Прокопия Устюжского в иконе // Житие святого праведного Прокопия Христа ради юродивого Устюжского чудотворца. М., 2003. С. 165. 2 Там же. С. 178. 3 Иконы Строгановских вотчин XVI-XVII веков… С. 10. 1 48 (дошедшая до нашего времени только благодаря публикациям XIX в.) Пырского Преображенского монастыря, чье создание было одним из первых деяний Иоанникия Федоровича Строганова. Кайсаровым отмечается большое количество икон в иконостасе, кроме того, указывается наличие среди книг (Евангелие, Апостол, Книга Ефрема сирина, Исаака сирина, Псалтырь, Служебник) Жития Стефана Великопермского1. Судя по описанию Кайсарова в Перми Великой местами официального почитания Стефана Пермского стали Чердынь и Соликамск, основные форпосты Строгановых при освоении восточных земель 2. В Чердыни в «храме во имя Стефана Пермского Чудотворца» главной святыней была икона Стефана Великопермского. Имевшая «прикладу 3 гривны серебряные, золоченые, басмяны, да гривна серебряная белая»3. Приемником древнего Стефановского храма, видимо сгоревшего в конце XVII в., стал каменный Воскресенский собор (1750 г.), в котором Стефану Пермскому посвятили придел. Одно из преданий Чердыни, бытовавшее вплоть до конца XIX в., повествовало, что в «древние времена» святыней Чердыни была икона св. Николая, писаная Стефаном Пермским. Не вдаваясь в обсуждение правдивости данного предания, в тоже время следует признать, что само появление предания, а может и некой иконы как воплощения легенды, демонстрирует, что появление святыни, было связано с упрочением культа первого епископа и, вероятно, имеет и определенную взаимосвязь с появлением так называемого саккоса «зырянского апостола». Г.Н. Чагин особо отмечает, что по описаниям 1623 г. богатое убранство было в соборной церкви во имя Стефана Великопермского в Соликамске. По описаниям Кайсарова особо почитали жители Соликамска и образ «местного чудотворца Стефана» с житием4. Память о крестителе пермян на протяжении столетий бережно хранилась в с. Бондюга Чердынского уезда. По историческим свидетельствам, именно здесь до XIX в. на берегу Камы стоял «огромный крест», поставленный жителями на месте камня, на котором, по преданию, плавал Стефан Пермский5. Из с. Бондюга происходит и житийная икона Стефана Пермского XVII в., один из древнейших образов пермского святителя, дошедших до нас6. По письменным свидетельствам XIХ в. в церкви с. Бондюга находилась также икона Божией Матери с надписями стефановской азбукой (икона сгорела в пожаре 1807 г.)7. Развитие в XVI-XVII вв. культа почитания целого ряда русских святых, в том числе и первого епископа Пермского, было частью реализации задачи Словцов И.П. Пырский Преображенский ставропигиальный 2 класса монастырь // Пермские епархиальные ведомости. 1867. № 13. С. 214. 2 Чагин Г.С. Указ. соч. С. 283. 3 Цит. по: Чагин Г.С. Указ. соч. С. 284. 4 Чагин Г.С. Указ. соч. С. 283-284. 5 Там же. С. 288. После закрытия церкви в с. Бондюга крест перенесли в Чердынский краеведческий музей. 6 Власова О.М. Житийные иконы св. Стефана Пермского в отношении к тексту «жития» // Искусство. М., 1999. С. 185-191. 7 Чагин Г.С. Указ. соч. С. 289. 1 49 по представлению Руси как единого государства, тем самым, идеи Сергия Радонежского и Стефана Пермского обретали свое новое развитие. Очевидно, что купцы Строгановы сыграли немаловажную роль в упрочнении почитания «крестителя пермян». В определенной степени обращение Строгановых к Стефану Пермскому сопрягается с ролью, которую они сыграли в сохранении целостности Руси в смутное время. По грамоте царя Василия Шуйского, за помощь в борьбе с «тушинским вором» Никита Строганов получает право именоваться «с вич»-ем, то есть Никитой Григорьевичем (в том же году подобные грамоты получают Максим, Петр и Андрей1. В связи с упрочнением в конце XVI – начале XVII вв. культа «зырянского апостола» интересна информация, которую приводит, основываясь на более ранних документах, неизвестный автор в отношении с. Вотча: «Нельзя умолчать здесь, что жители всей Сысольской и Вычегодской земли, при воцарении на Московской Государство Самозванца Грики Отрепьева, оставались верными своему отечеству и престолу, не увлеклись лживыми увещаниями и воззваниями Тушинского вора: истинным убеждениям руководителями и порукою в правом деле были им Сольвычегодский именитый человек Никита Строганонов и Архимандрит Вятского Успенского монастыря Трифан, изгнанный в это время из Вятки и путешествовавший по Сысольской и Вычегодской стране, которым, Самозванец Гришка, пострижен (?) во иноческий чин»2. Немаловажно, что чуть раньше в данном описании 1-го Благочинного округа Усть-Сысольского уезда автор особое внимание уделяет описанию уже упоминаемой житийной иконы св. Стефана Пермского из Вотчи. Несомненно, что XVI в. обозначил новый этап в развитии почитания пермского святителя. До этого времени имя Стефана Пермского жило в текстах/книгах, хранимых в монастырях и в преданиях и легендах, бытовавших в местах, связанных с его жизнью и миссионерской деятельностью. Распространение визуальных, «зримых» образов святителя и создание храмов и приделов в его честь позволяло более активно вводить имя Стефана в российскую культуру, способствуя упрочнению его культа в самых широких слоях населения, а не только в среде образованного духовенства. При этом именно XVI-XVII вв. происходит развитие культа первого епископа пермского в связи с почитанием других святителей Перми и через переплетение с культами Прокопия Устюжского, Сергия Радонежского и «вселенских строителей церкви». Аналитическое рассмотрение памятников и документов позволяет говорить, что «именитые люди» Строгановы оказали огромное влияние на развитие культа «зырянского апостола» в своих вотчинах, в «северных пределах» Русского государства» в XVI-XVII вв. Силкин А.В. Опись сольвычегодского Благовещенского собора 1579 года как источник по истории Строгановского искусства // Древнерусское искусство: исследования и реставрация. Сборник научных трудов. М., 2001. С. 110. 2 Рукопись XIX в. НМРК. КП 9274. 1 50 А.Ю. Котылев* Прежереченый Митяй и преподобный отец наш Стефан: варианты проявления личностного начала в культуре Руси XIV века Летом 1379 года из Москвы в разных, практически противоположных, направлениях отправились два человека. Первый из них, находясь у вершины церковной власти, ехал в сопровождении русского посольства в Константинополь, чтобы утвердиться на престоле митрополита Киевского и всея Руси. Это был наместник митрополичьего престола архимандрит Михаил, любимец великого князя Владимирского и Московского Дмитрия Ивановича, которого русские монахи упорно продолжали звать Митяем. Вторым человеком был почти никому не известный пресвитер Стефан, проведший всю предшествующую жизнь над страницами книг. Получив благословление епископа Герасима Коломенского, он уходил в одиночку в неведомую Пермь крестить язычников. Сравнение судеб этих двух очень разных людей, на основании написанных о них произведений, дало повод перебрать случайности и закономерности путей утверждения личности в русской культуре в один из переходных моментов ее истории. Возможности проявления личности в культуре Руси XIV века Вторая половина XIV – первая треть XV веков, начиная с позапрошлого столетия, выделяется учеными как особый период, характеризующийся «духовным подъемом», «культурным расцветом», «становлением национального самосознания», «восстановлением международных связей», «укреплением великокняжеской власти». Именно по отношению к этому периоду Д.С. Лихачев предложил использовать термин 1 «Предвозрождение» , а ряд других видных ученых разглядели в нем истоки отечественного свободомыслия2. Представляется, что все вышеперечисленные характеристики объемлются типологическим понятием «социокультурный подъем», предполагающим синхронизацию динамики развития отдельных сфер и процессов в рамках единой социокультурной системы. Правда, ее масштаб и степень взаимосвязи пространственных подсистем современной наукой до конца не выяснены. Нет никаких оснований представлять консолидацию Владимирской Руси в XIV веке уникальным явлением. Практически в то же время сходные процессы происходят в соседних и отдаленных европейских странах. В более широком контексте политическая централизация оказывается лишь вариантом развития отдельных регионов христианского мира в условиях общего социокультурного подъема. Центром духовно-культурного движения в это время продолжает оставаться Константинополь. Процесс гибели Византийской империи оказывается важнейшим фактором культурной жизни Котылев Александр Юрьевич – канд. культурологии, доцент кафедры культурологии КГПИ. Лихачев Д.С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого (к. XIV – н. XV вв.). М., Л., 1962. С. 12. 2 Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – н. XVI вв. М.; Л., 1955; Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996. С. 97-105. * 1 51 всех европейских стран. Наряду с изменением общей конфигурации христианского мира, связанной с образованием полицентричного пространства, огромную роль сыграл последний религиозноинтеллектуальный посыл, по-разному воспринятый в разных странах. Появившиеся в этот период ростки и элитарной возрожденческой культуры (в Италии, на юге Франции, во Фландрии), и массовых протестантских движений (в Англии и Чехии), имеют в своей основе идею конца истории, выраженную во вселенском масштабе образом Страшного Суда, а в земном пространстве – гибелью Империи. Ожидание первого и переживание второго вызывало сложное взаимодействие актуальных реакций притяжения-отталкивания, в результате которых наследие великой цивилизации осмыслялось и как позитивное, что вызывало многочисленные заимствования, и как негативное, что стимулировало развитие критического мышления. Политический кризис Константинополя совпадает с кризисом его бинарного идеологического противовеса в христианском мире (возможно, его в какой-то степени провоцируя) – папского Рима. Попытки заключения унии между церквями стали не выражением единства, но свидетельством крушения равновесной системы. Кризис обоих центров и развитие эсхатологических настроений стимулировали актуализацию личностного начала, как в католической, так и в православной культуре. Многодесятилетняя отечественная установка на обретение социокультурных и психических образцов в Европе не могла не сказаться на взглядах целого ряда российских ученных, открывавших личностные проявления в древнерусской культуре только в произведениях и поступках «гуманистического» типа. На деле подобные открытия неизбежно сводились к представлению редких еретических высказываний, антисистемность которых в равной мере импонировала и марксистам, и диссидентам, и постмодернистам1. Сведение личностных проявлений к деструктивным идеям и жестам, превращает их на фоне православной социокультурной традиции в точечные всплески «свободомыслия», не оказавшие на общий ход ее развития никакого существенного влияния. Средневековая социокультурная система устойчиво тяготела к стереотипным формам выражения любых своих форм развития, даже принципиально новых, облачая их в деиндивидуализированные, формально традиционные одеяния. Не признание этого принципа мешает разглядеть в ней вообще какое-либо движение, кроме «подавления свободомыслия». Это хорошо видно на примере освещения в отечественной научной литературе спора исихастов с «гуманистами». Непоколебимая уверенность в европейской прогрессивности вторых, заставила многих специалистов не замечать личностной оригинальности первых. Между тем, достаточно познакомиться с дошедшими до нас биографическими фактами и авторскими текстами, чтобы понять, что личностный потенциал Григория Паламы и его образованных соотечественников был ничуть не меньшим, чем у Варлаама Калабрийского и его итальянских учеников Франческо Петрарки и Джованни Боккаччо. Искать основу личностного роста следует, вероятно, не в системе убеждений одной из сторон, а в самой ситуации 1 Рыбаков Б.А. Стригольники (Русские гуманисты XIV столетия). М., 1993. С. 14, 332-335. 52 культурного подъема, провоцировавшей возникновение конфликта, выпукло обозначившего личностные особенности агонистов. Столкновение, спор, привнесение в процесс культурного развития состязательных элементов, неизбежно нарушает устойчивое воспроизводство традиционных для данной системы клише и проявляет индивидуальные черты участников противоборства. Однако происходит это только в тех сферах культуры, которые по своей организации преимущественно не агональны, в которых само состязание не приняло стереотипных форм. Тогда, попытка уйти от состязательности приводит к ее активной репрезентации в качестве инородного, исключительного образования, вызывая последующие культурные фиксации в виде нетрадиционных текстов. Образы правителей Руси и сопредельных стран, созданные в древнерусской литературе XIV – XV веков, практически лишены какой-либо индивидуальности. Связано это не только с их сакральным статусом, но и с тем, что политическая борьба была неотъемлемой частью их социокультурной роли. Летописная традиция за века своего существования выработала определенный набор клише для описаний междоусобиц, вероломств, измен, сражений, побед и поражений, среди которых почти не оставалось места для рассмотрения индивидуальных проявлений. Если же за создание образа князя брался автор, привыкший к житийному канону, как в Слове о Дмитрии Донском, то правитель оказывался внешне похож на подвижника. Выяснялось, что он не жил с женой, целыми днями молился, прощал своих врагов и т.д. Просочившиеся в этот панегирик указания на то, что князь не был в чем-то силен, например, в книжном знании, воспринимаются как несомненные факты, личностные характеристики и проявления критической позиции сочинителя. Основным поприщем для личностного проявления в русской культуре XIV – XV веков становится церковная монашеская книжная традиция, которая в другие периоды своего существования обычно умело скрывала все случайные и индивидуальные отклонения под надежным панцирем сакральных цитат и общих рассуждений. Для того чтобы нарушить процесс создания отвлеченных от земной суеты и повседневных забот образов, мало было просто появиться выдающимся деятелям или произойти масштабным событиям. Все это случалось за вековую историю нередко, устойчиво перерабатываясь и обретая форму традиционных текстов, в которых обычно страсти гасились, а особенности стирались или отсеивались в силу своей космологической несущественности. Конфликтам, жизненным промахам, сомнительным поступкам как правило не находилось места в Житии достойного мужа, кроме тех случаев, когда они могли подчеркнуть подвижнический характер его жизненного пути. К нарушению литературных канонов могла привести лишь экстраординарная ситуация, нарушавшая нормальное функционирование всей церковной системы. Кроме того, в наличии должны были быть талантливые авторы, готовые к изменению этих канонов и адекватному описанию этой ситуации. Представляется, что исследуемые в этой работе личностные проявления в культуре Руси второй половины XIV века были восприняты и 53 зафиксированы благодаря сочетанию трех масштабных факторов: волны социокультурного подъема, прошедшей через весь христианский мир; политического кризиса Золотой Орды, приведшего к эмансипации и внутренней консолидации русских земель; кризиса церковной власти в русской митрополии, спровоцированного политикой князей. Столкновение разнонаправленных процессов не только создало условия для формирования выдающихся личностей, но и позволило современникам воплотить их биографии в своеобразных произведениях. Жизнеописания Митяя / Пимена и Стефана Пермского Жанр, авторство и обстоятельства создания биографических произведений непосредственно связаны со степенью личностной выделенности персонажей, хотя говорить о жесткой детерминированности не приходится. Жизнеописания архимандрита Михаила (Митяя) и епископа Пермского Стефана создавались «по горячим следам»: непосредственными современниками, авторами, довольно близко знавшими своих героев, пользовавшихся живыми рассказами тех, кто знал их еще ближе, жившими в среде, где их поступки воспринимались и обсуждались весьма неравнодушно. В отличие от позитивистской оценки такой вовлеченности историка в судьбу героя, как негативной, противоречащей «объективной позиции», здесь видится не только позитивный факт непосредственного знания, но и символ смены мировосприятия, потребовавшего вместо отстраненной выжидательности, активного, нетерпеливого, творческого соучастия. Такое отношение родилось собственно в тот период, на который пришлась большая часть жизни персонажей биографических произведений, отмеченный неустройством в управлении митрополии всея Руси. Поскольку Стефан Пермский прожил, в отличие от Митяя, до конца этого периода, то логичным представляется продолжить линию судьбы последнего жизнеописанием его непосредственного преемника – митрополита Пимена, тем более что этот исследовательский ход предуготовлен логикой мышления древнерусского летописца. Выступив последователем Митяя в борьбе за митрополичий престол, Пимен в значительной степени стал олицетворением тех же черт церковного иерарха, которые были присущи предшественнику. Не обладая, по-видимому, талантами Митяя, не имея влияния на великого князя Дмитрия, Пимен полнее успел проявить свои личностные наклонности в экономической сфере, показав, куда может завести церковь руководитель такого типа. Судьба Митяя (и первая часть жизни Пимена) изложены в традиционной по форме, но специфичной по содержанию летописной повести, варианты которой были тщательно изучены и охарактеризованы в отдельной книге Г.М. Прохоровым1. Сам этот жанр наводит на определенные размышления. По сути правил, которых придерживались православные писатели, человек вроде Митяя вообще не был достоин жизнеописания. Об этом недвусмысленно пишет Епифаний Премудрый в предисловии к житию Прохоров Г.М. Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. Л., 1978. (Далее – «Повесть»). 1 54 Стефана Пермского, повторяя достаточно распространенный агиографический штамп. «Иже преподобных мужей житие добро есть слышати или и преписати памяти ради, обаче от сего приносити успех не худ и ползу немалу послушателем и сказателем сведущим известно»1. Михаил/Митяй не был тем мужем, на чьих праведных поступках следовало бы учиться современникам и потомкам, извлекая духовную пользу, и, тем не менее, он известен нам гораздо лучше, чем большинство его современников. Подняв в русской церкви бурю, своим стремительным возвышением и кратковременным властвованием, наместник митрополита не мог привлечь к себе всеобщего внимания, но, с точки зрения православной традиции, этого было совсем недостаточно, чтобы удостоиться даже краткого жизнеописания. Коль скоро оно было все-таки создано, следует предположить, что жизнь Митяя (а следом и Пимена) использовали как пример недолжного поведения. И дело здесь не только в указаниях митрополита Киприана, желавшего снять все прошлые сомнения по поводу легитимности своего положения путем разоблачения былого соперника, но и в общем умонастроении церковников, не желавших повторения ситуации безвластия, стремившихся предостеречь светскую власть от вмешательства в дела церковного управления. Повесть написана внешне беспристрастно, автор избегает прямой хулы в адрес героя, стремясь не затронуть князя Дмитрия, но, в то же время, ясно показывает, к каким негативным последствиям привели необоснованные претензии Митяя на высокое положение, не соответствующее его внутренним качествам. Произведение, описывающее последний период жизни митрополита Пимена, принадлежит также традиционному, но совсем не биографическому жанру хожений, который на Руси XIV – XV веков как раз переживает расцвет. Примечательны обстоятельства создания этого текста, который был написан дьяком Игнатием Смольнянином по прямому указанию самого митрополита Пимена2. Отправляясь в третье, роковое для него, путешествие в Константинополь, митрополит отдает достаточно необычное для того времени указание составить подробное описание этой поездки. Вынужденный оправдываться в своих действиях перед церковным собором, он, вероятно, рассчитывает в то же время оправдаться и перед потомками. Следовательно, личностно ориентированное историческое сознание, выражавшееся в стремлении представить себя перед будущими временами, получило в исследуемый период большее развитие, чем это принято обычно считать. Следуя той же внешней «летописной» беспристрастности, что и автор Повести, спутник Пимена выступает в роли его обличителя, поскольку обстоятельства взаимоотношений митрополита с генуэзцами и византийцами характеризуют его не с самой лучшей стороны. Преподобного в священноиноках отца нашего Епифания слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископом // Святитель Стефан Пермский / Статья, текст, перевод с древнерусского, комментарии. Спб., 1995. С. 51. (Серия «Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и событиях»). (Далее – «Житие»). 2 Хожение Игнатия Смольнянина в Царьград. Пименово хожение в Царьград. Комментарии // Книга хожений. Записки русских путешественников XI – XV вв. М., 1984. С. 99-119, 403-406. (Далее – «Хожение»). 1 55 Вероятно, писатель не был горячим сторонником своего партнера. Свидетельства Повести и Хожения дополняются другими источниками: постановлениями Константинопольских соборов, житием Сергия Радонежского, посланиями митрополита Киприана. Если образы Митяя и Пимена воссоздаются на основе разных произведений, не имеющих в большинстве своем собственно биографического характера, то образ Стефана Пермского воссоздается, в первую очередь, в рамках специально предназначенного для этого жанре жития. Сам жанр уже предполагал особую отмеченность и заслуженность персонажа, снискавшего на протяжении своей жизни высшее качество по шкале ценностей средневековой культуры – святость. Жанр был сугубо традиционным, но, как и раннее упомянутые произведения, Житие выбилось из общего ряда, став одним из самых своеобразных произведений древнерусской литературы. Необычны уже обстоятельства его создания. Автор Жития, иеромонах Троицкого монастыря, основанного Сергием Радонежским, Епифаний по прозванию Премудрый, был лично знаком с персонажем своего произведения, к созданию которого он приступил сразу же после смерти Стефана. Это противоречило принятому порядку создания житий, которые могли создаваться через десятилетия, и даже столетия, после успения святого. Сам путь признания святости человека был, как правило, долгим и неторопливым, предполагая не столько прижизненные свершения, сколько посмертные чудеса. В результате жития святых становились рассказом о легендарных событиях, очень слабо связанных с историческими обстоятельствами. Епифаниевское произведение совсем другого рода. Для его автора значимость персонажа стала очевидной еще при его жизни. Такого же мнения придерживались многие другие современники святителя, воспринявшие создание данного сочинения как должное. Следуя общим законам жанра, агиограф существенно расширяет его границы. Житие вместило в себя и христианскую концепцию развития человечества, и сакральную историю отдельных народов, и геокультурный образ мира, и апологию письменной книжной культуры. Обильно цитируя Библию и сочинения различных христианских авторов, Епифаний умело отбирает и выстраивает только актуальные для каждой главы и произведения в целом фрагменты, организуя при их посредстве обоснование целого ряда не бесспорных для культуры того времени идей. В результате мы имеем своего рода теоэтноисториософский трактат, биографическая канва которого является способом организации единого текста. По существу это первая серьезная работа такого рода в отечественной культурной традиции, свидетельствующая о начале нового этапа мироосмысления1. Стиль «плетения словес», вершиной которого стало это произведение, большинством исследователей рассматривается только как эстетическое явление, отмечающее специфичный этап развития Котылев А.Ю. Язык и земля. Этнологическая концепция Стефана Пермского и Епифания Премудрого // Семиозис и культура. Вып. 3. Сыктывкар, 2007. С. 313-320; Он же. Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископом, как историческое произведение // Историческое произведение как феномен культуры. Вып. 2. Сыктывкар, 2007. С. 91-115. 1 56 древнерусской литературы. Д.С. Лихачев полагает, что агиограф более характеризует свои чувства, проповедует и учит, чем размышляет и предает факты1. В то же время, есть основания полагать, что Епифаний, заимствуя этот стиль в балканской греческой и славянской литературе, использует его на русской почве как способ построения интеллектуальных высказываний, все смыслы которых могут быть поняты сегодня лишь в результате интеллектуального же перевода и реконструкции. Сам письменный текст был для Епифания высшей формой культуры, пространством встречи человека и Бога. Изощренная и избыточная форма организации изложения мысли, кажущаяся современному человеку лишь прихотливой литературной игрой, была для агиографа средством концентрированного выращивания смысловых кустов, образующих в итоге достаточно сложное и разработанное учение. Концептуализм Епифания подводит итог развития не только древнерусской культуры, но и целому апостольскому святительскому учительскому направлению восточноправославной традиции. Автор Жития четко обозначает весь длинный ряд его представителей: апостол Павел, Василий Великий, Григорий Богослов, Константин / Кирилл Философ, Стефан Пермский. Формирование этой традиции Епифаний представляет как целостный, но прерывистый процесс, по сути своей исторический. Разрывы позволяют возобновлять его в новых пространственных и временных координатах, выдвигая на историческую арену нового деятеля, персонифицирующего очередной этап христианской культуры. Примечательной особенностью Жития является отсутствие в нем изображений конкретных чудес. Притом, что Епифаний восхищается всей миссией Стефана как грандиозным чудом, результатом несомненного вмешательства Божественного промысла, отдельные ее части не выходят за пределы системы вполне земных причинно-следственных связей. Даже в тех случаях, когда чудесное разрешение житийной ситуации напрашивается само собой, автор уклоняется от его использования. Вполне вероятно, что здесь выявилась не только позиция самого Епифания, но и взгляды Стефана Пермского, рационально отрицавшего мистическую трактовку своих действий. В отличие от анонимного создателя Повести и гораздо более активно, чем автор Хожения, Епифаний подчеркивает свое личностное присутствия в тексте Жития. Указывая на свое знакомство с персонажем, споря с оппонентами Стефана, выражая собственное отношение к событиям и идеям, он доходит до частичного самоотождествления с героем, что характерно и для других его произведений. Общей чертой жизнеописаний Митяя/Пимена и Стефана Пермского является не формальное сходство друг с другом, но отличие от других произведений аналогичных жанров. Повесть, Хожение и Житие демонстрируют мировоззренческий сдвиг произошедший в сознании авторов и той социальной группы, которую они представляли. Результатом этого перелома стало утверждение в культуре личностного начала, коснувшееся разных по жанру творений и очень отличных по 1 Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970. С. 75. 57 характеристикам исторических персонажей. Сопоставляя в своей книге образы митрополита Алексия и Митяя из сходных летописных повестей, Г.М. Прохоров показывает существенную разницу их черт. В произведении об Алексии опущены все конфликты, персонаж фактически обезличен. Однако этот житийный лик отличается от образа Стефана не меньше, чем от изображения Митяя. В то же время, между представлениями в культуре двух последних героев можно отыскать немало общего, несмотря на их нравственное и статусное противостояние. Сравнительный анализ образов Митяя/Пимена и Стефана Пермского Внешность и имя Сопоставляя образы митрополита Алексия и Митяя, Г.М. Прохоров обращает внимание на подчеркивание телесности внешности второго и полное отсутствие ее изображения у первого. На основании этого, он справедливо полагает, что таким образом автор демонстрировал бездуховность любимца князя Дмитрия, недостойного занять место митрополита. Вот как описан Митяй в повести: «…возрастом не мал, телом высок, плечист, рожаист, браду имел плоску и велику и свершену, словесен речист, глас имея доброгласен износящь; грамоте горазд, пети горазд, чести горазд, книгами говорити горазд; всеми делы поповскими изящен и по всему нарочит бе»1. Данное наблюдение можно развить при обращении к параллельным источникам. В Похвальном слове Дмитрию Донскому изображение внешности так же отсутствует, как в случае с митрополитом Алексием. Однако в Никоновской летописи до нас дошло весьма колоритное описание его облика, сильно напоминающее изображение Митяя: «Сам крепок зело и мужествен, и телом широк, и плечист, и тяжек собою зело, брадою же и власы черн, взором же дивен зело». Вероятно, наделяя Митяя представительной телесностью, внушительной наружностью, автор Повести хотел показать не только его несоответствие роли главы русской церкви, но и связь со светской властью, одним из символов которой была дородность. Выстраивая сложную конструкцию имени персонажа, летописец подчеркивает его двойственность, добавляя к официальному «архимандрит Михаил» уничижительное «прозываемому Митяй». Если первая часть отдает должное церковному сану, то вторая выражает сомнение в праве на него. Отдавая в дальнейшем предпочтение прозвищу, автор постоянно воспроизводит это сомнение, приучая к нему читателя. Обосновывая это мнение, он приводит ходивший в церковной среде рассказ о насильственном пострижении Митяя в монахи, по приказу князя Дмитрия. Характерно, что первые буквы обоих имен персонажа совпадают. Согласно русскому обычаю при постриге часто давали имя, начинающееся на ту же букву, что и крещальное. Однако полное имя героя было «Дмитрий». Вполне 1 Повесть. С. 219. 58 вероятно, что постригавший его игумен «пошутил», давая новое имя на одну букву с прозвищем, тем самым намекая на неканоничность пострига. Пимен оказывается в поле зрения автора Повести уже в сане архимандрита. Как член церковной иерархии, он обладает правом на бестелесность, которой лишается только после снятия с него сана митрополита. Этот процесс описан в постановлении Константинопольского собора. «…и дрожа, и огня испълнену, и ни же мало мощи от зыбаниа и от одръжащао его болезни, вся подвижа и съставы, семо и овамо и нося и обдержим»1. Имя Стефана, данное ему при крещении, достоверно неизвестно. Епифаний его не сообщает, что дает возможность предполагать сохранение Стефаном при крещении своего изначального имени: он мог быть крещен в честь одного святого, а подстрижен в честь другого с тем же именем. Агиограф разнообразно обыгрывает различные культурные связи и значения имени своего персонажа, создавая вокруг него сеть сакральной семантики. Внешность Стефана в Житии, согласно канонам этого жанра, не описывается. Однако, согласно церковному преданию, Епифаний создал вместе с Житием и первый иконописный образ зырянского апостола2. В пользу этого говорит устойчивость характерного изображения святителя в иконах XVI – XVIII веков, возобновленному и в культуре конца XX века. Таким образом, интерес к внешности выдающихся людей может считаться специфической чертой, порожденной особой ситуацией второй половины XIV века, связанной с интересом к личности в целом. Происхождение и образование Сходство жизненных путей Митяя и Стефана связано, прежде всего, с их происхождением (кем были родители Пимена неизвестно). Оба родились в русских поповских провинциальных семьях. Про родителей Митяя достоверных сведений не сохранилось. Отца Стефана звали Симеон, он служил в Успенском соборе города Устюга. Мать святителя звали Мария, она была дочерью устюжского кузнеца Ивана Секирина. Сведения о них сохранились благодаря житию покровителя Устюга Прокопия Праведного и городским преданиям. Юродивый Прокопий благословил трехлетнюю Марию на рождение святителя Перми, а к Симеону он обратился с рассказом чудесного явления ангела с цветущей ветвью в морозную ночь 3. Эти предания, записанные в XVI веке, свидетельствуют об укорененности истории жизни Стефана в отечественной культурной традиции. Начальное образование Митяй и Стефан получили в семьях, от своих отцов, которые были, вероятно, достаточно учеными для своего времени людьми. Во всяком случае, они не только обучили сыновей элементарной грамоте, но и внушили им тягу к знанию. Стефан уже в детские годы служит Грамота патриарха Антония // Прохоров Г.М. Повесть о Митяе... С. 227. Смоленцев Л.Н. Великий зырянин // Родники Пармы. Сыктывкар, 1993. С. 15. 3 Житие св. прав. Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца. М., 2003. С. 46-57. 1 2 59 в церкви своего отца чтецом и канонархом. Тот же путь можно предполагать и для Митяя. Далее их пути простилаются розно: Митяй становится священником, заняв, скорее всего, место отца. Вероятно, он занимался самообразованием, приобретая те знания и умения, которые произвели впечатление на князя Дмитрия. Стефан же своему отцу не наследовал. Неизвестно был ли у него старший брат, который мог бы это сделать. В любом случае, желание поступить в крупный монастырь столичного Ростова было связано с потребностью в продолжении образования, о чем сообщает Епифаний: «…яко книги многи бяху ту доволны суща ему на потребу почитания ради»1. Григорьевский Затвор был для Руси XIV века подобием университета, удовлетворяя потребность страны в образованных людях. Потребность эта была еще не очень велика, но довольно быстро возрастала. Ростовская библиотека активно и непрерывно формировалась на протяжении многих десятилетий, поскольку город не подвергался татарским нашествиям, а его князья и епископы были традиционно книголюбивы. Важной характеристикой полученного Стефаном образования была его эллинская ориентация. Обучение греческому языку в ростовском епархиальном монастыре было регулярным, поскольку даже церковные службы в одном из пределов городского собора постоянно велись на нем. По свидетельству Епифания, Стефан овладел не только письменным древнегреческим языком, но и разговорным среднегреческим. Оба героя были людьми талантливыми и использовали образование для достижения собственных целей. Однако сами цели оказались принципиально разными, что повлияло на их судьбы. Места и пути Сходство в провинциальности происхождения Митяя и Стефана уменьшается разностью мест их рождения и взросления. Не став во второй половине XIV века еще настоящей резиденцией московских правителей, Коломна уже оказалась в поле их цепкого внимания. В пользу этого говорят по меньшей мере два события, пришедшихся на эти годы, и имеющие непосредственное отношение к жизни двух персонажей данного исследования. В январе 1366 года в Коломне состоялась свадьба юного Дмитрия Ивановича, великого князя Дмитрия Ивановича, и княжны Евдокии, дочери великого князя суздальского и нижегородского Дмитрия Константиновича. По обычаю тогдашних властных отношений, свадьбой закрепили мир, отметивший конец долгой борьбы за владимирский престол, в которой зять победил тестя. Однако, не желая ущемлять достоинство побежденного, бояре организовали свадьбу в городе равноудаленном от Москвы и Суздаля. В 1380 году под Коломной боярин Чюрович-Драница, выполняя поручение великого князя Дмитрия Ивановича, сорвал с головы Пимена белый митрополичий клобук. Отсюда разжалованного митрополита повезли в ссылку, в Чухлому. В обоих случаях Коломна становится символическим обозначением границы непосредственных владений 1 Житие. С. 58. 60 московского князя, его вотчины. Крайняя точка, до которой Москва готова была поступаться своим достоинством, от которой считала вправе карать по своему усмотрению. Однако в масштабе северо-восточной Руси Коломна была одним из центральных городов. Коломенское духовенство вполне могло ощущать себя в центре событий. Митяй мог изучать в родном городе не только книжную мудрость, но и перипетии большой политики. Еще менее провинциальным был Переяславль-Залесский, традиционно считавшийся религиозной резиденцией московских князей. Именно здесь, а не во Владимире, князь Дмитрий Иванович стал собирать снемы правителей Руси, приуготовляя разгром Твери и Куликовскую битву. Пимен, будучи игуменом фактически придворного Горицкого монастыря, постоянно находился в зоне столкновения властных интересов, из которой активно бежали в этот период монахи-аскеты, основатели пустынных монастырей1. Устюг, в отличие от Коломны и Переяслава, принадлежал не Москве, а Ростовскому княжеству, но и для этого, простершегося далеко на северовосток владения (как и для всей Руси), он был городом действительно крайним, пограничным. С XII века он обозначал границу православного мира, стоя на краю неизведанных языческих земель. Здесь был вынужден остановить свой бег от цивилизации первый русский юродивый Прокопий, оставивший немецкую родину, богатый Новгород, Хутынский монастырь. Город существовал в отрыве от всех актуальных политических событий, даже слухи о них доходили в него с таким опозданием, что уже мало чем отличались от преданий старины и далеких стран. Библейские истории в сознании жителей такого места были не более древними, чем повести об основании Киева и татарском нашествии. Специфичность Устюга усиливалась также близостью новгородских владений. Фактически город находился на перекрестке культурных влияний монархического Владимира и демократического Новгорода2. Путь Митяя лежал из недалекой Коломны сразу в Москву. Сошедшись с князем Дмитрием, скорее всего, во время его бракосочетания, коломенский поп перебрался в столицу вскоре после этого события. Закрепив за своим князем Владимирский престол, Москва подтвердила свое значение теневой столицы, центра силы, оставив Владимиру лишь парадные полномочия. Символом нового статуса становится каменный кремль, хотя его уникальность обычно сильно преувеличивается: новыми крепостями примерно в те же годы обзаводятся Нижний Новгород и Тверь (в ней крепость была деревянной, но модернизированной). В Великом Новгороде каменное крепостное строительство началось значительно раньше, причем стены возводились вокруг всего города. Следствием оживления религиознокультурной и политической жизни в Москве стало строительство каменных соборов, впрочем, догнать и в этом отношении старые города она смогла еще не скоро. Дмитрий Прилуцкий, принявший постриг в том же Горицком монастыре, где позже стал игуменом Пимен, но оставляет его, чтобы основать на болоте вблизи города Николаевский монастырь, а между 1360 и 1370 годами уходит с учеником в глухие вологодские леса. 2 Котылев А.Ю. Стефановский историко-пространственный концепт в научно-образовательной системе современной российской культуры // Семиозис и культура. Вып. 2. Сыктывкар, 2006. С. 62-68. 1 61 Достигнув максимально высокого для себя положения в Москве, Митяй вынужден был для его закрепления отправиться в два другие центра власти: ордынский улус Мамая и Константинополь. Правда, властное значение этих центров быстро снижалось. В Орде продолжалась Великая замятня, а Византийские земли постепенно завоевывались турками. В каком месте Митяй встречался с правителем Орды точно неизвестно. Темник в это время контролировал всю степь от Черного моря до Волги, но возможно попрежнему тяготел к своему крымскому владению. Он обеспечил посольству безопасный проезд до моря, Митяй взамен пообещал восстановить символическое почитание ханской власти в Москве. Вероятно, было заключено и какое-то соглашение с генуэзцами, контролирующими морские пути и финансовые потоки. От Кафы путь Митяя лежал в столицу христианского мира. Константинополь все еще оставался его самым большим и известным городом, главной пространственной вехой. Согласно своему житию, Сергий Радонежский предсказал, что Митяю не видать Царьграда, и тот скончался на корабле. От Константинополя (вернее от его пригорода Галаты, где обосновались генуэзцы) умершего Митяя сменяет Пимен, вызванный из исторического небытия и стремительно возвысившийся. Из Византии Пимен стремится в Москву, но попадает в чухломскую ссылку, лишившись даже прежнего положения. Через два года новый поворот событий позволяет ему занять митрополичий престол во Владимире и, соответственно, утвердиться в Москве. Однако его положение оказывается крайне неустойчивым, в чем свидетельствуют его поездки в Константинополь, последняя из которых стала роковой для этого случайно-закономерного иерарха. Путь Стефана из родного Устюга лежит вначале в Ростов, бывший еще столицей независимого княжества, хотя уже при Иване Калите половина города отошла московским князьям. Однако как книжный и интеллектуальный центр Ростов первенствовал на северо-восточной Руси. Монастырь Григория Богослова был особожительным, то есть предполагал относительно свободное времяпрепровождение иноков, отдельное их экономическое положение. Интеллектуальным центром города и монастыря была знаменитая библиотека, в которой, вероятно, обучался и Епифаний Премудрый. Выходцем из ростовской земли был и Сергий Радонежский. Все эти деятели были людьми независимыми, сохранявшими критичность взглядов и определенную оппозиционность устанавливавшемуся на Руси новому порядку. Не смотря на это, Москва притягивала их к себе, открывая возможности для деятельности и самоутверждения. Стефан Пермский посетил за свою жизнь Москву не менее пяти раз. Первые три поездки в этот центр Руси были связаны с утверждением результатов его интеллектуальной и миссионерской деятельности, необходимым для определения его места в социокультурной системе. Каждое посещение приводило к повышению его статуса. Остальные посещения Москвы были связаны с епархиальными делами. С той же целью первый епископ Перми посещает и Великий Новгород. Новгородский архиепископ был самым независимым русским иерархом, заправлявшим не 62 только церковными, но и светскими делами. Признание Стефана новгородцами резко повысило статус и его самого, и его епархии. Главным жизненным центром для Стефана стал городок Усть-Вымь, основанный им на месте крупного языческого святилища, рядом с коми селением Йемдын, в центре расселения вычегодских коми. Символическое значение этого места подчеркнуто в Житии, где его основание уподобляется Епифанием созданию новых церкви, народа, страны, мира. Став создателем и правителем новой христианской страны, Стефан Пермский занял в социокультурной системе место, которого не имел ни один другой деятель в тогдашнем христианском мире. Его деяния предвещали географическую, политическую и религиозную экспансию европейской цивилизации, но они были облечены в гораздо более гуманные и прогрессивные формы, чем поступки большинства колонизаторов в последующие столетия. Власть и богатство Социальное положение и культурные свершения не давали Митяю никакого права на власть, что весьма четко осознавали его современники. Лишенный знатного происхождения, он не мог претендовать на нее от рождения. Церковь была в этом отношении более демократичной, но занять в ней высокий пост могли только монахи, а Митяй был белым священником. Стремительный взлет к вершинам церковной власти был связан с приязнью одного человека – великого князя Владимирского и Московского. Знакомство Митяя с князем Дмитрием произошло, вероятно, в достаточно благоприятный момент, когда достигнув по русским обычаям совершеннолетия в результате своей женитьбы, молодой правитель стал тяготиться опекой митрополита Алексия и бояр1. Именно этим объясняется, почему он делает своим духовником и печатником никому не известного попа. Оба эти звания свидетельствовали о большой близости к власти и давали независимость. Став любимцем великого князя, Митяй получил в руки средства властвовать, но мог делать это только тайно. Поскольку летописями такого рода власть в расчет почти не бралась, об этой стороне деятельности Митяя практически ничего не известно. Место «серого кардинала» его вполне удовлетворяло, с чем и было связано нежелание становиться монахом. Однако князь пытался полностью подчинить себе церковь, отделив свою половину митрополии от юго-западной ее части, и нуждался в верном человеке на митрополичьем престоле. Игнорируя волю митрополита Алексия, настроения епископов и монахов князь навязывает митрополии свою креатуру. Каково бы ни было первоначальное отношение Митяя к престолу митрополита, заняв его, он начинает активно бороться со своими противниками: митрополитом Киприаном, епископом Дионисием Суздальким, общежительным монашеством во главе с Сергием Радонежским. К властолюбию добавляется и корыстолюбие: первым делом Митяй берет под контроль сокровища патриаршей ризницы. Недовольству русских церковников, фактически отказавшихся утвердить его у власти, он 1 Прохоров Г.М. Повесть о Митяе... С. 50. 63 противопоставляет власть светскую и приглашение из Константинополя от такого же, как он сам незаконного патриарха Макария. Приняв эстафету от Митяя, Пимен проявляет те же качества, усиленные большей информированностью рассказчика и длительным периодом пребывания у власти. Добившись своего утверждения митрополитом при помощи подлога, массового подкупа, насильственного устранения соперника, Пимен уже этим зарекомендовал себя. Заняв в 1382 году митрополичий престол во Владимире, но, не пользуясь особой поддержкой великого князя, он стал укреплять свое положение финансово, обложив русских церковников непомерными податями. При этом он не спешил отдавать долги, с чем и был связан конфликт с генуэзцами во время третей поездки в Константинополь. Потерпев неудачу в попытках сохранить власть при помощи интриг, Пимен продолжает цепляться за нее до последнего момента жизни, теряя их вместе. Стефан, в отличие от Митяя и Пимена, прошел свой путь к власти постепенно и последовательно, получая каждую новую ее часть за определенные заслуги. В положенный срок он посвящался в очередной сан, поднимаясь по лествице церковной иерархии. Монашеская среда XIV столетия дает немало примеров негативного отношения подвижников к властным полномочиям. Самыми известными являются примеры из жития Сергия Радонежского, который долго отказывался от игуменства и решительно отверг попытку митрополита Алексия сделать его своим преемником. Помимо того, он не слишком был склонен считаться с каноническими правилами и церковными обычаями, если они мешали осуществлению жизненной сверхзадачи. Стефан отличается той же независимостью. Епифаний пишет, как он ставил в священнослужители неофитов из коми, еще не будучи епископом. Позднейшие исследователи видят здесь ошибку или противоречие, но, думается, агиограф хорошо знал, о чем писал. В то же время, Стефан не уклонялся от возведения в очередной сан, иначе в Житие это было бы помянуто. Пресвитером он стал по прямому указанию Митяя, на которого, вероятно, произвел впечатление. Однако в Пермь Стефан отправляется уже после отъезда Митяя из Москвы, взяв на это благословление у Герасима Коломенского, временно замещавшего митрополита. В епископы Стефана посвящает Пимен, с согласия Дмитрия Донского. Епифаний особо подчеркнул необычность этого события, поскольку святитель Перми проявил необычное бескорыстие и щепетильность, не собрав в коми крае больших богатств, и не подкупив ими московских церковников. Необычность собственно и состояла в том, что Стефана поставили за заслуги, а не за мзду. В то же время, нет оснований считать его человеком отрешенным и безынициативным. Недаром недовольные его возвышением москвичи дали ему прозвище «Храп», указывающее на упорство, настойчивость, пробивные способности. Агиограф собственно пишет, что Стефан пришел в Москву просить поставить епископа в Пермь, а не предлагать на это место себя. Однако он не мог не понимать, что другой человек вряд ли бы смог успешно продолжить его дело. После смерти святителя так и произошло: преемники не сумели сохранить наследие Стефана в полном объеме, хотя и 64 продолжили миссионерскую деятельность. Личностный характер деяний предполагал и личностную окраску власти. Власть над Коми краем была необходимым условием выполнения миссии, и получил ее святитель не от московского митрополита, но от языческого жреца, победив того в поединке. Каждый раз Стефан фактически вынуждал Москву признать свои свершения и санкционировать их продолжение, а не просто получал власть. Стремясь оградить создаваемый новый мир от вредоносных влияний со стороны, Стефан идет на то, чтобы стать не только духовным, но и светским правителем. Этого удалось достигнуть при сложной балансировке между Москвой и Новгородом, при реальной поддержке со стороны родного Устюга. Фактически Пермская епархия становится теократическим образованием, больше напоминая в этом плане Новгород, а не Владимирское великое княжество. В то же время, Стефан правил этой землей, скорее всего, единолично, хотя и используя отдельные общины для решения важных вопросов. Защищая край от нападений, поборов и голода, епископ пытался формировать новые социальные отношения, пытаясь воспитать подлинных христиан. Религиозная сфера всегда оставалась для него приоритетной, создавая основу развитию всего остального. Свершения и достижения Деяния Митяя до его вступления на митрополичий престол остались за пределами интересов или компетенции летописца. Можно только предполагать, что в качестве печатника и духовника великого князя Митяй не стоял в стороне от известных политических событий в московской жизни 1366 – 1379 годов. Вероятно, он был в какой-то степени причастен к вмешательству Москвы в тверские дела, к заманиванию князя Михаила, которого вероломно, в нарушение всех соглашений и обычаев, схватили и держали в московской темнице. Это событие осталось темным пятном на репутациях князя Дмитрия и митрополита Алексия. Оно же повлекло за собой трудную и долгую войну с Литвой. Митяй остается в тени даже после смерти Алексия. Во всяком случае, ответственность за изгнание митрополита Киприана почти полностью ложится на князя Дмитрия. Судя по его посланию, Киприан подозревает в Митяе инициатора расправы над собой, но конкретными доказательствами этого не располагает. Из-за спины великого князя Дмитрия Митяй показывается только после своего утверждения в качестве наместника митрополичьего престола. Более четкой его фигура становится после епископского собора, на котором церковные иерархи не дали своего согласия на возведение наместника в епископский сан. Столкнувшись с оппозицией, Митяй проявляет свои способности, создав сочинение, направленное против своего главного врага – Дионисия Суздальского. Сведения о нем в какой-то степени позволяют судить характер творческого мышления княжеского любимца. Для опровержения доводов противника и его обличения он создает компиляцию на основе компиляции: подборку цитат из сборника изречений античных мудрецов и отцов церкви. Таким образом, он полностью оставался в русле средневековой русской традиции, не предполагавшей создания 65 собственных размышлений, и намного отставал по интеллектуальному развитию от Киприана и Епифания. Ключ к реконструкции политических пристрастий Митяя дает рассмотрение взаимоотношений Москвы с татарами. Представляется, что политика князя Дмитрия вовсе не была столь последовательно антитатарской, как это обычно изображают. Москва колебалась и между разными центрами силы в распадающейся Орде, и между возможностями выхода из под власти ханов или ее сохранения. Символически эти колебания выразились в выборе князем Дмитрием митрополитов. Период нахождения на престоле Митяя совпал с попытками примирения с Мамаем, ключевым эпизодом которого стала выдача Митяю ярлыка, в котором он признавался митрополитом. Взамен он обещал упоминать хана в молитвах перед русскими князьями, то есть признавал власть Орды над Русью. Митрополит Киприан был приглашен в Москву сразу после Куликовской битвы, он никогда не ездил в Орду за ярлыком, и не молился за хана. Вторично изгнан он был после нашествия Тохтамыша, а вновь вернулся при вокняжении Василия Дмитриевича, проводившего политику эмансипации от Орды. Столь же отличались два претендента на русскую митрополию и по отношению к союзным татарам генуэзцам. Киприан знал опасности сближения с ними по примеру Византии, где итальянцы активно вмешивались в междоусобную борьбу и захватывали все торговые пути. Митяй же заключает с генуэзцами союз, получает от них деньги, возможно, берет на себя какие-то обязательства. Пимен остается в русле политических пристрастий своего предшественника. Он берет у итальянцев крупные суммы для подкупа участников Константинопольского собора. При его утверждении митрополитом русское посольство добивается от патриархии неожиданно больших уступок: за князем признавалось право выдвигать кандидатуру митрополита, за Владимиром – значение главного центра русской митрополии. Однако, добытые нечестными средствами, эти достижения не принесли плодов. Даже князь Дмитрий их не оценил, предпочитая им личную преданность и послушание своей воле. Сесть на престол Пимену удалось после поражения Руси от татар. Отдельные достойные деяния его правления такие, как создание Пермской епархии или возведение в архиепископы Ростовские Феодора Симоновского, не смогли перевесить его недостатков. Многие епископы были недовольны утверждением Пимена и особенностями его правления, они фактически не подчинялись ему и добивались его смещения. В ответ он активно интриговал, использовал власть, доходя до грабежа и физических расправ, как в случае с архиепископом Феодором, во время их ссоры в Кафе. В результате русская церковь пережила смутный период. Первый этап самостоятельной деятельности Стефана Пермского имел ярко выраженную интеллектуальную окраску. После многостолетнего перерыва он возобновляет в православной церкви традицию создания новых систем письменности и перевода религиозных текстов на новые языки. Стефановская азбука становится уникальным творением в отечественной культуре, но не менее замечательны методы перевода, 66 разработанные святителем. В отличие от своих ближайших предшественников, создателей славянской азбуки, он переводит на коми язык даже сакральные понятия, обозначаемые в русском греческими заимствованиями. Прекрасное знание языков и огромная творческая работа позволили Стефану за считанные годы обогатить сразу две культуры и построить основание для их соединения. Согласно Житию и преданиям Стефан освоил также иконописание. Второй этап его деяний связан с миссионерской работой, проповедью, противоборством с языческими жрецами, разрушением пермских капищ, строительством храмов и обучением неофитов. Результатом этих трудов стало обращение в христианство нескольких сотен человек в бассейне нижней и средней Вычегды. Третий этап деятельности Стефана связан с управлением Пермской епархией, расширением ее пределов, защитой от врагов, основанием монастырей и школ, продолжением борьбы с язычеством. Для этого периода жизни Стефана также характерно более активное участие в делах митрополии в качестве иерарха. Особой страницей становится его выступление против новгородских еретиков. Свершения первого Пермского епископа были высоко оценены уже его современниками. Однако время обошлось с его трудами немилосердно. Одной из основных причин, по которой его последователи не сумели развить результатов всех деяний святителя, видится их личностный характер. Стефан создал слишком необычные и сложные для своего времени вещи, далеко не все из которых могли быть использованы в культуре без его непосредственного участия. Основным его свершением стало включение в состав христианской европейской цивилизации целой страны, при сохранении культурного своеобразия населяющего ее народа. Диспуты и состязания Эпоха, в которую довелось жить героям данного исследования и авторам их жизнеописаний, была без сомнения переходной, что предполагало ее насыщенность кризисами, конфликтами, противоборствами, агональными столкновениями целых стран, народов, государств, церквей, и отдельных людей, идей, учений, направлений. Состязательными элементами оказались насыщены и жизни героев, и произведения о них. Именно в описаниях агонов, противостояний персонажей системам, силам и другим людям. Первым известным соперником Митяя был митрополит Алексий. Неизвестно, в какой степени они сталкивались лично, но в их противостоянии проявлялся очередной конфликт между светской и церковной властями, митрополитом и князем Дмитрием. Точкой зарождения личностной неприязни можно считать момент выбора князем Митяя в свои духовные отцы. Почти наверняка это было знаком обретения Дмитрием самостоятельности, окончания периода опекунской власти митрополита. Своей кульминации конфликт достиг в последние годы жизни Алексия, когда Митяй был пострижен в монахи, стал архимандритом Спасского монастыря 67 и откровенно готовился в новые митрополиты. Стареющий Алексий, в свое время активно вмешивающийся в политику, теперь пожинал плоды стирания границы между церковью и государством. Зная нелюбовь князя Дмитрия к митрополиту Киприану, утвержденному патриархией его преемником, Алексий попытался противопоставить Митяю самого авторитетного русского монаха – Сергия Радонежского. Однако эта попытка провалилась из-за упорного нежелания последнего занимать властные посты и втягиваться в политическую борьбу1. Следующим естественным противником Митяя был митрополит Киприан. Поставленный в 1375 году патриархом Филофеем Коккиносом в митрополиты Киева и Литвы, он должен был стать преемником Алексия с тем, чтобы сохранить единство русской митрополии. Киприана признал в этом качестве сам Алексий и его поддерживала значительная часть русского духовенства. Однако решающим фактором в борьбе осталась поддержка князя Дмитрия, который приказал схватить Киприана, решительно ехавшего в Москву, на дальних подступах к городу, чтобы не допустить его встречи со сторонниками и народом. После этого митрополит был обобран и так же тайно выставлен из княжества. В своих посланиях Сергию Радонежскому и Феодору Симоновскому он отлучил от церкви всех причастных своему изгнанию (Митяя персонально), но этот шаг не имел последствий. Митяй и Дмитрий обратились в Константинополь, события в котором удивительно синхронизировались с Русью. Патриарх Филофей, друг и покровитель Киприана, был смещен после очередного государственного переворота, его место занял Макарий, с готовностью утвердивший Митяя в качестве наместника и пригласивший его в Константинополь. Следующим открытым противником Митяя стал епископ Суздальский Дионисий. Человек образованный и активный, один из лидеров общежительного монашества, добившийся от Алексия воссоздания Суздальской епархии, инициатор создания и редактор Лаврентьевской летописи, формировавшей идеологию антитатарской борьбы, он не мог смириться с главенством выскочки, чуждого монашескому движению. Удобный случай для выступления представился Дионисию на соборе епископов, весной 1379 года, когда Митяй решил упрочить свое положение, воспользовавшись каноническим правилом, по которому два епископа вместе могли посвятить в сан любого достойного человека. В прямом столкновении с Дионисием Митяй потерпел поражение, поскольку не ожидал столь решительного противодействия. Даже князь Дмитрий спасовал перед обличительными речами суздальского епископа при недоброжелательном молчании остальных участников собора. Митяй попытался отыграться интеллектуально, составив и распространив направленное против Дионисия сочинение, но тот, видимо, в долгу не остался и пользовался большим успехом среди церковников, обещая отправиться в Константинополь и разоблачить Митяя перед собором. Тогда наместник прибег к привычному уже средству – княжеской власти. Дионисия взяли под стражу. 1 Борисов Н.С. Сергий Радонежский. М., 2004. С. 154-157. 68 Сергий Радонежский попал во враги к Митяю в связи со своим поручительством за суздальского епископа, хотя и раньше, скорее всего, наместник недолюбливал Маковецкого подвижника за слишком большое влияние и протекцию Алексия. Митяй был вынужден отложить борьбу против Троицкого монастыря до своего возвращения из Византии, но угрозу произнес. В ответ на нее Сергий и сделал свое известное пророчество, в соответствии с которым Митяй умирает в виду Константинополя, проиграв свое последнее состязание. Первым противником Пимена становится архимандрит Иоанн, который был игуменом одного из московских монастырей и тоже сопровождал Митяя в Византию. Противостояние между двумя архимандритами было также не только политическим, но и идейным: Иоанн был главой общежительного движения в Москве. Пимен расправляется с ним по рецепту Митяя, возглавлявший посольство боярин Кочевин-Олешинский приказал схватить Иоанна и заковать в железо, чтобы не дать ему возможности выступить на соборе1. Частично победив при помощи подкупа и интриг своего «наследственного» врага Киприана, Пимен добивается своего поставления в митрополиты всея Руси, но только в пределах ее владимирской части. Однако Киприан, при помощи своих союзников, обошел Пимена в самой Руси. В 1380 году князь Дмитрий приглашает болгарина в Москву через посредничество Феодора Симоновского, а вернувшегося на следующий год Пимена схватили и увезли в Чухлому. Через два года великий князь свалил на Киприана вину за свое поражение от Тохтамыша и приказал привезти Пимена в Москву. Новыми противниками Пимена становятся Дионисий Суздальский и Феодор Симоновский, которые пытаются добиться его смещения в Константинополе. Удается им это далеко не сразу, поскольку Пимен не собирается сдаваться, используя власть и деньги для затягивания рассмотрения своего дела. Во время второй поездки в Константинополь он даже сумел каким-то образом привлечь на свою сторону Феодора, поставив того в архиепископы Ростовские. Дионисий вроде бы добился своего поставления в митрополиты всея Руси, но был схвачен в Киеве по приказу местного князя и умер в заточении. Во время третей поездки в Византии Пимен проиграл состязание своим заимодавцам-генуэзцам, которые захватили корабль не желавшего платить свои долги митрополита и взыскали все сполна2. Отыгрался он на Феодоре Симоновском, с которым вновь поссорился, приказав схватить его, ограбить и подвергнуть пытке, но это была его последняя победа. Приказав Игнатию Смольнянину подробно описать свое последнее путешествие, он инициировал фиксацию своего конца, хотя желал обратного. Стефан Пермский не вступал в конфликт ни с кем из вышеперечисленных людей. Он сумел остаться в стороне от распри, раздиравшей русскую церковь. Епифаний сообщает, что Стефан был в хороших отношениях с ростовским епископом Арсением, коломенским епископом Герасимом, великим князем Дмитрием Ивановичем, митрополитом Пименом, митрополитом Киприаном, игуменом Сергием 1 2 Прохоров Г.М. Повесть о Митяе… С. 89-100. Хожение. С. 100, 111. 69 Радонежским. Можно предполагать, что он нашел общий язык и с наместником Митяем, и с новгородским архиепископом Алексием. Если не считать бесконфликтность жизнеописания агиографическим штампом, то следует признать, что Стефан прекрасно налаживал отношения с очень разными людьми, иногда враждебными друг другу. Подобная «неразборчивость» логично объясняется его ориентацией на цель, расположенную за пределами Руси и слабо связанную с раздиравшими страну конфликтами. Основным противником святителя была языческая культура коми, в противоборстве с которой он провел всю вторую часть жизни, а первая была занята подготовкой к этой борьбе. Первоначальное столкновение Стефана с язычниками описывается в Житии как встреча с людьми неразумными, непросвещенными, слепыми и глухими. Это их состояние символизируют идолы, которых миссионер демонстративно уничтожает. «А кумира преже обухом в лоб ударяше, ти потом топором иссечаше, а на малыя поленца, и, огнь възгнетивъ, обое сгараше огнем – и куча с куницами, и кумиръ вкупе с ними»1. Те же мотивы развиваются в позднейших народных и церковных преданиях, в одних из которых Стефан временно лишает зрения жителей Гама или Выми, сохранявших верность язычеству или угрожавших поразить миссионера стрелами, в других он побеждает колдунов-тунов, ударяя их в лоб крестом или обухом топора, и приказывая рубить на части2. Процесс разрушения языческих святилищ хорошо проявляет характер самого Стефана и его нравственные установки. Повалив идолов, он поджигал капище, после чего опускался на колени и погружался в молитву, не обращая внимания на сбегавшихся язычников, не решавшихся причинить ему вред и пораженных бессилием своих божков. Стефан сам не брал ничего из хранившихся в святилищах богатств, и запрещал что-либо брать своим помощникам. Подобное бескорыстие удивляло не только коми, но и русских современников святителя. Основным состязанием Стефана при выполнении им миссии становится спор с коми волхвом Памом-Сотником, подробно описанный в центральной части Жития, являющийся его своеобразной кульминацией. В этом эпизоде видится параллель диспутам, описанным в житии Константина / Кирилла3. Описание противоборства с Памом делится на две части. Первая, более обширная, представляет словесный диспут, в котором оба персонажа выступают носителями разных типов мудрости. Пама Епифаний изображает носителем ветхозаветного допотопного знания, что связано в Житии с авторской концепцией развития мира, распространения письменности и христианства4. Спор разворачивается практически на равных, приобретая мировоззренческий характер. Пам отстаивает традиционно родовой характер своей веры и власти, а Стефан утверждает те обновления, которые пришли в мир с христианством. В уста волхва Житие. С. 116. Му пуксьöм – Сотворение мира. Сыктывкар, 2005. С. 166, 175, 179, 185, 186. 3 Котылев А.Ю. Агональное моделирование православного мировидения в диспутах просветителей с иноверцами // Семиозис и культура. Вып. 4. Сыктывкар, 2008. С. 120-125. 4 Котылев А.Ю. Слово о житии … С. 107-115. 1 2 70 Епифаний вкладывает и описание достоинств коми народа, и критику политики Москвы, и обоснование необходимости сохранения традиций. Стефан не отвечает на заведомо верные обвинения противника, но показывает его социокультурную несостоятельность, демонстрируя приоритет христианского Слова, просвещающего мир и дарующего вечную жизнь. Диспут не приводит к победе одной из сторон, поскольку спорщики были не в состоянии уступать друг другу. Желая добиться решающего результата, Стефан решается на сакральное испытание огнем и водой. Проблема исторической возможности подобного состязания остается открытым, однако следует признать, что оно соответствовало религиозным представлениям обеих сторон, хотя Стефан видел в нем Божий суд, а Пам – колдовской поединок, подобный описанным в преданиях. Парность агона наводит на мысль о выборе каждым из участников «своей» стихии. В этом случае Стефан был должен выбрать огонь, при помощи которого он искоренял язычество, а Пам – воду, с которой во многом было связана магия коми. Кроме того, агиограф не доводит оба состязания до той границы, за которой начинается чудо, обосновывая победу миссионера нестойкостью Пама, уклонившегося в последний момент и от вхождения в горящий дом, и от проплывания подо льдом из проруби в прорубь. Состязание, таким образом, обретает психологический характер, обозначая внутреннее превосходство христианина над язычником. Проведенный анализ показывает, что Д.С. Лихачев, выстраивая свою концепцию развития личности в древнерусской литературе, недооценил сложность образов Стефана и Пама, упростил характер их взаимоотношений и, как следствие, не счел характеристики святителя Перми в житии личностными1. Победа над Памом позволила Стефану не только успешно завершить крещение населения средней Вычегды, но и получить власть над этой территорией, поскольку есть основания считать волхва вождем, отвечавшим за связи коми с русскими. На это указывает, в частности, прозвище «Сотник». Вытесняя Пама, Стефан занимал его место, так же как он строил храмы на месте разрушенных капищ, или надстраивал письменный текст над живым языком коми. Торжество святителя в состязаниях предполагало не уничтожение этнической культуры края, но преобразование, позволяющее присоединиться к цивилизованным народам. Едва приняв сан епископа, Стефан Пермский столкнулся с новым мощным врагом: новгородскими ушкуйниками. Считая северное Приуралье подвластной себе территорией, новгородцы века с XII брали с коми дань, и не были склоны от нее отказываться. Для защиты епархии Стефан первоначально воспользовался традиционной враждой Новгорода и Устюга. Своевременно вызванный отряд устюжан прогнал ватагу ушкуйников, но все знали, что на следующий год придет новгородское войско. Предупреждая это, Стефан сам отправляется в древнейший город Руси, сумев доказать новгородскому архиепископу правомерность и необходимость своих действий2. После этого новгородцы перестали вторгаться в пределы 1 2 Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси... С. 77-80. Вычегодско-Вымская (Михаило-Евтихиевская) летопись // Родники Пармы. Сыктывкар, 1989. С. 25. 71 епархии, но устюжан приходилось призывать еще не менее двух раз, чтобы защитить мирных коми от вогуличей и от вятичей. Составной частью переговоров, которые Стефан вел в Новгороде, стала его борьба с еретиками. Вероятно по просьбе самого архиепископа Алексия, он написал поучение против стригольников, которое стало единственным из созданных им литературных произведений, дошедших до наших дней1. Утверждения некоторых ученых, что Поучение написано другим автором, или что оно написано против воли архиепископа 2, не доказательны. Нарушения канонических правил не было, если Стефан не поучал новгородцев от своего имени, но написал его специально для Алексия. Считать же последнего покровителем еретиков оснований нет. Расправившись с руководителями ереси в 1375 году и будучи, вероятно, не очень грамотным, архиепископ неоднократно выражал беспокойство ее неискорененностью, только этим можно объяснить появление двух поучений в 1380-е, первое из которых привез от константинопольского патриарха епископ Дионисий Суздальский. В отличие от патриарха Стефан тщательно изучил учение стригольников, благодаря чему его произведение стало основным источником конкретных сведений о нем. Стефан точно выявляет основной пункт, по которому еретики разошлись с официальной церковью: неприятие ими таинств от нечестивых священников. Из этого центрального противоречия он выводит неприятие стригольниками таинств, справедливо указывая, что практикуемая ими исповедь земле есть возвращение к язычеству. Характеристика автором Поучения церковной иерархии очень напоминает анализ современной ему обстановки в русской митрополии. «Но мыслию и верою и исповеданием вси причащаемся к соборней апостольской церкви; а его же митрополита освятить нам патриарх, того вси чтем, яко Христосова наместника, тако же и епископа в коемъждо граде и области, и прозвитеры, яко апостоли Христови. Вам же где поставити попа по своей нечистой вере окаянной?»3. Стефан собственно защищает положение митрополита Пимена и свое собственное, указывая на нелепость смешивания индивидуальной греховности человека с сакральностью иерархии. В то же время, он не считает стригольников ни глупыми, ни порочными. Подобно Епифанию, наделяющему волхва мудростью, он характеризует их как людей книжных и чистых. Однако эти качества, по его мнению, служат соблазну. Борьбу стригольников с церковью Стефан возводит в космологический масштаб, уподобляет еретиков змею, соблазнившего Адама и Еву. Древу разумному, от которого они отведали запретного плода, он противопоставляет древо жизни, к которому людей ведет Христос. Новозаветным же аналогом еретиков Стефан считает фарисеев, переставших видеть за формальным стремлением к обрядовой чистоте и соблюдению буквы, духовную суть. В целом создается ощущение, что Стефан не слишком строго судил еретиков А сие списание от правила святых апостол и святых отець, дал владыке наугородскому Алексею Стефан владыка Перемыский на стригольники // Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – нач. XV века. М.; Л., 1955. С. 236-243. (Далее – Поучение). 2 Прохоров Г.М. Равноапостольный Стефан Пермский и его агиограф Епифаний Премудрый // Святитель Стефан Пермский... С. 26-29; Рыбаков Б.А. Стригольники... С. 7-8. 3 Поучение. С. 239. 1 72 за умствования, если бы они не привели к уходу из церкви. В последнем абзаце слышится даже упрек новгородцам, казнившим еретиков: Стефан предлагает их изгонять, как сам он поступил с Памом. В дальнейшие годы своего правления Пермский владыка был вынужден бороться уже в своей епархии с ересью двоеверия1. Прочность нижнего этажа язычества, разрушить который полностью не удалось ни в одной из крещеных стран, показала утопичность многих замыслов и надежд святителя, потерпевшего поражение на поприще преобразования человека. Кончины и упокоения Митяй скончался при обстоятельствах малоподобающих смерти церковного иерарха. Умереть в пути, на корабле, посреди водной пучины, символизирующей зыбкость человеческого существования и путь в иной мир, не достигнув своей цели, в неудовлетворенности властолюбивых помыслов, что могло быть хуже? Жизненный путь Митяя прервался в точке своей кульминации, в шаге от обретения желанного сана, в преддверии торжества над своими противниками. Пророчество Сергия Радонежского санкционировало и объяснило эту смерть вмешательством Божественного промысла. Смерть окончательно дискредитировала Митяя, отталкивая от его имени тех сторонников, которые надеялись посредством его власти и близости великому князю снискать для себя жизненные блага. Спутники постарались побыстрее избавиться от сомнительного тела. Митяя похоронили прямо в Галате, куда причалил генуэзский корабль, не сочтя нужным отвезти тело в Константинополь. Пимен также скончался ввиду византийской столицы, которую он посетил три раза, вынужденный постоянно бороться за право на власть, ускользая от символической смерти лишения сана. Во время второй поездки ему удалось избежать отстранения от митрополичьего престола благодаря заключению неожиданного и странного союза с Феодором Симоновским. К третьей поездке Пимен ощущает себя опытным политиком, он приказывает дьяку Игнатию написать Хожение, пытается избежать встречи с кредиторами (что ему не удается), старается обезвредить Феодора (что тоже не вполне удается: ростовский архиепископ быстро оправился от пыток и вовремя прибыл на собор, чтобы обвинить Пимена), рассчитывает вновь при помощи подкупов склонить на свою сторону видных византийских иерархов. Для того чтобы потянуть время, избежать прямого вызова на собор и подготовить путь для возможного бегства, Пимен обосновывается на противоположном от Константинополя берегу Босфора, который уже контролировался турками. Однако это не помешало посланцам патриарха и собора трижды передать ему вызов. По обычаю этого было достаточно, чтобы лишить митрополита сана без его непосредственного присутствия на соборе. Зная, что ситуация складывается не в его пользу, Пимен пытается избежать третьей встречи с посланцами, недостойно бежит от них, падает в нервном припадке, бьется в корчах и вскоре умирает. Похоронили его за 1 Житие. С. 190-193. 73 пределами Константинополя, у церкви на берегу моря, вероятно специально предназначенной для захоронения иерархов, отлученных от церкви. Стефан Пермский умер в Москве. Символичность этого события в значительной степени случайна, поскольку он мог с равной вероятностью умереть в любом другом месте. С той же степенью случайности Константин / Кирилл умер в Риме. Однако следует учитывать, что тело подвижника было немалой ценностью в глазах средневекового человека. И Константин и Стефан были прославлены уже при жизни, их отмеченность Богом не вызывала сомнения у многих современников, которые могли задумываться относительно места будущего упокоения святителей. И уж тем более те, от кого это зависело, не собирались расставаться с телами, коль скоро они оказались в их распоряжении. Поэтому ученикам и сподвижникам первого епископа Перми не позволили отвезти его тело в Усть-Вымь. О том, что они собирались это сделать свидетельствует Епифаний в финальной части Жития, одним из составляющих которой стал Плач пермских людей, содержащий прямые укоры Москве. «Почто же и обида си бысть от Москвы? Се ли есть правосудье ся? Имеющи у себе митрополиты, святители, а у нас был един епископъ, и того к себе взя, и ныне быхом, не имущее ни гроба епископля. … Добро же бы было нам, аще бы рака мощий твоих была у нас, в нашей стране, а въ своей епископьи, нежели на Москве, не в своем пределе. Не тако бо тебе москвичи почтут, якоже мы, ни тако ублажат. Знаем бо мы тех, иже и прозвища ти кидаху, отнидуже неции яко и Храпом тя зваху, не разумеющи силы и благодати Божиа, бываемыя в тебе и тобою» 1. Стефана Пермского похоронили на территории Московского кремля в Спасо-Преображенском храме, прозываемом Спас на Бору. Этот собор использовался в XIV веке для захоронения членов великокняжеской семьи. В основном здесь хоронили великих княжон, но за три года до Стефана здесь упокоился также сын Дмитрия Донского Иван 2. Таким образом, Стефан был приравнен в смерти к младшим членам рода Рюриковичей. Вероятно, тем самым обозначалась его роль правителя отдельной земли. Отдать распоряжение о захоронении в таком месте мог только великий князь Василий Дмитриевич, использовавший тело святителя для дальнейшей сакрализации центра власти своего рода. Известно, что митрополит Киприан в это время совершал поездку в литовскую часть своих владений. Если бы он находился в Москве, то, скорее всего, распорядился бы похоронами по другому, но и в этом случае тело Стефана вряд ли было бы отправлено в Коми край. В отличие от мест захоронения Митяя и Пимена могила Стефана никогда не забывалась, оставаясь местом поклонения даже после того, как другие захоронения в Спасе на Бору забылись. Стефан был канонизирован в 1549 году в ряду многих других отечественных святых3. Длительный срок, прошедший между началом почитания святителя и его канонизацией, Житие. С. 216, 218. Панова Т.Д. Некрополи Московского Кремля. М., 2003. С. 9, 13. 3 Шапошников В.В. Церковно-государственные отношения в России в 30-80 годы XVI века. СПб., 2006. С. 77-78. 1 2 74 объясняется тем, что до того к официальной канонизации на Руси прибегали крайне редко и проходила она в Константинополе. До смутного времени начала XVII века рака Стефана была открыта, но после разграбления могилы поляками ее убрали под спуд. В 1933 году Спас на Бору был разрушен новыми варварами, а могила пермского епископа уничтожена. Утверждение личности в религиозной культуре Руси XIV века Утверждение личности в мировой или этнонациональной социокультурной системе не является процессом линейным, однозначно прогрессистским. Нарастание личностных характеристик не распределяется равномерно и последовательно по сменяющим друг друга периодам и стилям. Значение и роль каждого из них должны быть изучены отдельно. Большинство личностных проявлений в русской культуре XIV столетия, отмеченных и зафиксированных современниками, связаны с ее религиозной сферой. Почти все исторические персонажи, чьи личностные качества стали нам известны, были монахами. Справедливым представляется мнение тех авторов, которые сочли монашеское подвижничество первой формой личностной активности в средневековой культуре1, но ситуация XIV века привносит новые черты, элементы, связи в развитие социокультурной системы2. Одним из основных факторов, определяющих особенности личностных проявлений становится религиозная смута. Вызванная попыткой светской княжеской власти поставить под свой контроль церковное управление, эта распря вылилась в столкновение иерархов, отстаивающих свой приоритет во исполнение воли монарха, или в ее преодоление. Ради справедливости следует отметить, что имелась и противоположная тенденция: подчинения светской власти церковной. При нарастании эсхатологических настроений, когда, по распространенному мнению, до конца мира оставалось не более столетия, церковные иерархи могли брать на себя светские функции. Наиболее рано и далеко по этому пути продвинулся Новгород Великий, правительство которого возглавлял архиепископ. Возможно, его примером руководствовался Стефан Пермский, организуя управление своей вновь созданной епархией. В этом же направлении сделала шаг Владимирская Русь при митрополите Алексии. Действия князя Дмитрия были отчасти реакцией на могущество этого владыки, властно усмирявшего межкняжеские усобицы. В этих условиях на исторической поверхности культуры оказались как традиционно избираемые по своему положению или свершениям персонажи, так и лица, выдвинувшиеся в результате нарушения принятых норм и канонов3. Другим конфликтом, характеризующим произошедшие в русской культуре изменения, пока не столько фиксировавшим личностные Клибанов А.И. Духовная культура... С. 74. Котылев А.Ю. Типы святости создателей российской национальной идеи (Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Епифаний Премудрый) // Музеи и краеведение. Вып. 6. Сыктывкар, 2007. С. 182-190. 3 Впрочем, в действительности правила нарушали в этих условиях практически все. Все деятели апеллировали к традиции, но нарушали ее, когда речь заходила о достижении собственной цели. 1 2 75 проявления, сколько свидетельствовавшем о возрастании личностной активности, стала борьба официальной церкви с ересями. Ересь в виде организованного движения впервые появляется на Руси во второй половине XIV века в Новгороде. Сведениям о ней мы обязаны, как это часто бывало, свидетельствам защитников ортодоксии, которые в этот период личностно более проявлены, чем сами еретики, чьи персоны остались за пределами письменной истории. Более полно охарактеризован ростовский еретикантитринитарий Маркиан, который также как и предводители стригольников был книжником, снискал себе немало сторонников и был побежден и изгнан только после организованного епископом диспута. Третьим конфликтом, впервые столь выпукло оформленным в русской культуре со времен крещения страны, стало столкновение христианства и язычества. Финно-угорские народы попали в процесс христианизации со времен князя Владимира, но при этом их представители ассимилировались, становясь русскими. Первыми распространили христианство за пределы Руси на целый народ новгородцы, крестившие в XIII веке карел. Однако это был скорее политический шаг, связанный с борьбой против католиков. Христианизация была анонимной и, вероятно, стихийной. Новгородцы не были озабочены судьбой карел как отдельного народа, им не приходило в голову создавать для них особую письменность или переводить книги на карельский язык. Концептуально к проблеме крещения другого народа впервые подошел только Стефан Пермский, возродивший в борьбе с язычеством апостольские традиции, предполагавшие величие личности миссионера, особую силу его духа. Основой своей миссии Стефан сделал интеллектуальное творчество, предполагавшее изучение культуры просвещаемого народа и ее цивилизационное и христианское преображение. Два типа личностного утверждения, рассматриваемые в данной работе, в разной степени оказались связаны с тремя этими конфликтами и лишь косвенно – с военно-политической борьбой своего времени. Социокультурный тип, персонифицированный Митяем и Пименом, может быть обозначен понятиями «временщик», «фаворит», «авантюрист», «мошенник». Этот круг образов, восходящий к архетипу трикстера, обладает рядом устойчивых качеств. Он характеризуется неудовлетворенностью субъекта своим изначальным социокультурным статусом, стремлением к преодолению сословных границ и обретению более высокого положения, при неразборчивости в средствах и нарушении действующих норм. Герой этого типа обычно обладает репрезентативной внешностью, поведенческой хитростью, умением хорошо говорить, производить благоприятное впечатление на окружающих. Актуализация личностных качеств в рамках данного типа происходит за счет противопоставления персонажа традиционным системам, эгоистического стремления обратить любую ситуацию себе во благо. Творческие акты при этом оказываются в русле эгоистических целей. Митяй и Пимен представляют несколько отличные варианты данного типа. Первый в большей степени выступает как выскочка, княжой любимец, теневой властитель, второй – как интриган, мздоимец, но, в то же время, игрушка исторических обстоятельств. 76 Второй тип личности обозначается кустом понятий «подвижник», «альтруист», «интеллектуал», «творец», «преобразователь». Он характеризуется высокой творческой активностью, поиском нетрадиционного жизненного пути, поглощенностью жизненной сверхзадачей, фанатизмом, аскетизмом и широтой культурного кругозора. Стефан Пермский, практически игнорируя церковную распрю, ярко проявился во втором и третьем конфликтах, обозначивших появление новых качеств русской культуры. Ему был присущ диалогический подход к противоборству с противной стороной. Изучая своих протагонистов и выстраивая системы аргументации, Стефан (в значительной степени посредством своего агиографа) выстраивает собственную репрезентацию православного мировоззрения, ставшую важным дополнением к идеологемам, разрабатываемым в Троицкой обители Сергия Радонежского. Личность Стефана выкристаллизовалась в культуре благодаря уникальности для Руси его деяний и свершений, ставших и символом, и путем развития страны. Крещение Перми продемонстрировало зрелость русской социокультурной системы, способной не только воспринимать и перенимать опыт более развитых стран, но и транслировать себя на новые земли. Способом этого распространения стал личностный диалог святителя с народом, который сделал под влиянием проповеди новую религию и культуру. Полноправным участником этого диалога стали и русская культура, обретающая в нем свое национальное самосознание. Заключив союз с другой своеобразной культурой, Русь начала преображаться в Россию1. Ю.С. Тренькина Историчность жития Сергия Радонежского на примере эпизода «Встреча со старцем» В изучении житийной литературы можно выделить два основных подхода: религиозно-философский и исторический. Мы в данной статье рассмотрим эпизод из жития Сергия Радонежского, который можно назвать «Встреча со старцем», применив исторический подход как наиболее, на наш взгляд, актуальный и точный при изучении житийного текста. Появление любого исторического произведения, в том числе и житийного текста, не случайно. Оно всегда обусловлено особенностями культурно-исторического процесса. Рассматривать агиографический текст только в качестве религиозного или литературного нельзя, как в равной же степени невозможно однозначно оценивать личность Сергия. С точки зрения религиозной он – святой, с точки зрения литературной – идеализированный персонаж, с точки зрения исторической – реальная личность, сыгравшая далеко не последнюю роль в историческом процессе. Котылев А.Ю. Социокультурное значение образа и деяний святителя Стефана Пермского в свете исторических аналогий // Арт. 2006. № 4. С. 105-127. Тренькина Юлия Сергеевна – студентка филологического факультета КГПИ. 1 77 Столь же реален и старец, явившийся отроку Варфоломею. На это указывают разъяснения Епифания в предисловии к житию – заметки о том, как писалась эта биография. Многое агиограф сам видел или слышал от Сергия, другие факты сообщили ему келейник Сергия, брат Стефан, старцы, помнившие рождение и жизнь Сергия до пострижения, и очевидцы его пострижения и дальнейшей жизни в монастыре. В самом житии встречаем черты, подтверждающие эти сообщения автора: он называет по имени священника, который крестил Сергия; знал он дьякона Елисея, «отецъ котораго Онисимъ, также дiаконъ, является въ числђ первыхъ иноковъ, пришедших въ пустыню к Сергiю…»1. Пользуясь такими исторически достоверными источниками, Епифаний первый принялся писать житие Сергия через год или два после кончины святого. Но писал он сначала для себя, а не для публики «памяти ради». Около двадцати лет находилось житие в свитках и тетрадях Епифания в своём первоначальном виде. Никто больше в этот период не взялся за написание жития, и Епифаний, посоветовавшись со старцами, принялся писать его «по ряду», т.е. перерабатывать и дополнять текст, уже ориентируясь на широкие массы читателей. Но привести в порядок текст, как считает В.О. Ключевский, Епифанию не вполне удалось, так как расположение отдельных глав в его труде не соответствует порядку рассказываемых событий. Это затрудняет рассмотрение жития как исторического источника2. Пахомий Логофет работал над житием Сергия в 1440 – 1459 гг. В отличие от Епифания, он писал после обретения мощей святого (1442 г.) и поэтому главное внимание уделил описанию чудес. Чтобы изучить личность, определить её роль в культурно-историческом процессе историку необходимо выяснить происхождение и развитие её духовного облика, обратиться к культурно-историческим предпосылкам её формирования. Но, в то же время, можно говорить и об обратном: о влиянии личности на историю, так называемом делании истории личностью. Находить индивидуальное в общем и общее в индивидуальном – только так возможно наиболее объективно оценить исторический процесс, наиболее чётко выстроить схему представления о роли той или иной личности в данном процессе. «Описывая культурное состояние эпохи, историк вовсе не занимается записыванием разрозненных фактов на отдельные бумажки, чтобы потом надеть их на крючок, называемый общечеловеческой ценностью»3. Образ человека возможно изобразить только через его бытие, которое вне его субъективного времени, то есть вне движения человека от прошлого через настоящее к будущему. Это предполагает истолкование его личной «живой историчности», рассматриваемой в непосредственночувственном виде, «в своей живой смысловой предметности».4 Для Руси наиболее интересный период приходится на вторую половину XIV – XV вв. В религиозной жизни – это время основания многочисленных Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988. С. 102-103. Тренькина Ю.С. Жития Сергия Радонежского и Франциска Ассизского как исторические произведения // Историческое произведение как феномен культуры. Вып. 2. Сыктывкар, 2007. С. 80-90. 3 Карсавин Л.П. Основы средневековой религиозности в XII – XIII веках. СПб., 1997. С. 28. 4 Кругликов В. А. Пространство и время «человека культуры» // Культура, человек и картина мира, М., 1987. С. 168-169. 1 2 78 монастырей в пустынных местах, далеко от жилищ. Для этой эпохи характерен интерес к религиозным сторонам жизни, тяга к отшельничеству, нищенской жизни, полной лишений и трудов. XIV век называют веком брожения умов; к этому времени относится самоосознание русскими себя как народа в истории и начало утверждения личности в отечественной культуре. Зародившиеся в этот же период ереси несли в себе отрицание того, что уже существовало. Но это брожение умов или брожение духа требовало и позитивных программ. Создание едва ли не самой значимой из них связано с личностью легендарной, известной каждому русскому человеку: игуменом Сергием Радонежским. Он явился отцом северного русского монашества, основоположником идеологемы Святой Руси и предтечей будущего движения старцев. Время возникновения Московской Руси совпадает с одной из величайших культурных катастроф – с падением Византии. Преподобный Сергий родился приблизительно за полтораста, а умер приблизительно за шестьдесят лет до окончательного падения Константинополя. Древняя Русь перенимает в данный период культуру Византии. А в преподобного Сергия, «как в воспринимающее око, собираются один фокус достижения греческого средневековья и культуры … от преподобного Сергия многообразные струи культурной влаги текут как из нового центра объединения, напаивая собой русский народ…»1. Фигура таинственного старца, встреча с которым в юности изменила жизнь Сергия, не менее значима, чем фигура самого Маковецкого подвижника. В житии и Сергий, и явившийся ему старец имеют скорее духовный облик, что характерно для агиографического жанра. Однако можно с большой долей вероятности утверждать, что действительно существовал реальный человек, который каким-то образом оказал влияние на отрока Варфоломея в один из сложных периодов его жизни. Возможно, встреча со старцем стала решающим событием в выборе жизненного пути. Преподобный Сергий сохранил его в своей памяти и делился воспоминаниями с близкими людьми. Не исключено, что уже в воспоминаниях Сергия это событие начало приобретать характер чуда. В любом случае именно таким мы находим его в передаче Епифания. Пахомий Серб окончательно меняет трактовку повествования, переводит его «с земли на небеса». Исследователи, рассматривая житие Сергия как историческое произведение, чаще всего акцентируют внимание на его политической деятельности, рассматривают роль святого в исходе Куликовской битвы (благословение князя Дмитрия), в объединении князей (Сергий скрепил своей подписью закон о престолонаследии от отца к сыну, что положило конец междоусобиям). Но, на наш взгляд, мало уделяется внимания одному из центральных эпизодов жития – «Встрече со старцем». Это наиболее яркое событие в жизни преподобного Сергия очень часто обходят стороной. В житии Сергия говорится, что когда он достиг седьмого года, родители отдали его учиться грамоте. Однако эта наука тяжело давалась мальчику. Освоить грамоту отроку Варфоломею помогла встреча с неизвестным Флоренский П. Троице-Сергиева лавра и Россия // Жизнь и житие Сергия Радонежского / Сост., посл. и комм. В.В. Колесова. М., 1991. С. 276-277. 1 79 иноком. Однажды отец послал Варфоломея разыскать коней в поле. Мальчик во время поисков вышел на поляну и увидел старца-схимника, погружённого в молитву. Варфоломей встал в ожидании, когда старец заметит его. И вот старец обратился к отроку: «Да что ищеши или что хощеши, чадо?» Варфоломей поведал ему о своём горе и попросил старца молиться, чтобы Бог даровал ему способность одолеть грамоту. После молитвы старца мальчик «начат стихословети зело добре стройне, и от того часа горазд бысть зело грамоте»1. Уходя, старец обратился к родителям мальчика: «Сын ваю имат бытии обитель Святыа Троица и многы приведет въслед себе на разум божественных заповедей»2. Пророчество старца, по всей видимости, произвело большое впечатление на Варфоломея. С этого момента в нём проснулось предчувствие предстоящего подвига, и он всей душой пристрастился к богослужению и чтению священных книг. Оставив сверстников и детские развлечения, он весь углубился в свой внутренний духовный мир, всё больше развивая и обогащая его. До настоящего времени у исследователей нет единого мнения ни о количестве различных редакций «Жития Сергия Радонежского» (две, три, семь или девять), ни об их принадлежности Епифанию Премудрому и Пахомию Логофету (Сербу). В.О. Ключевский, Б.М. Клосс, Н.С. Тихонравов, В. Яблонский, В.П. Зубов, занимались изучением разных редакций «Жития Сергия Радонежского». Так, В.О. Ключевский говорит о двух разновременных редакциях, принадлежащих Пахомию. В отличие от Епифания, Пахомий писал после «обретения мощей» Сергия Радонежского (1422 г.) и потому главное внимание обратил на чудеса, которые видел «своима очима». Описане двенадцати посмертных чудес В.О. Ключевский датирует 1438 – 1443 гг. В некоторых списках присутствует ещё описание чудес, относящихся к 1449 г., которые были приписаны после, при вторичном пересмотре жития, относящегося ко времени между 1449 и 1459 гг. 1459 годом датируется старейший известный нам список Пахомиевской редакции3. В. Яблонский также сравнивает разные редакции и пытается выяснить их принадлежность Епифанию и Пахомию. Исследователь выделяет семь редакций, обозначая их буквами и снабжая ссылками: Редакция А Б В Г Ссылка Напечатана Тихонравовым, отд. 1, с. 70 – 144 Напечатана им же, отд. 1, с. 3 – 69. Не опубликована (Видимо, близка к редакции Д) Напечатана Тихонравовым, отд. 2, с. 3 – 60 Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет. Жизнь и житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия // Жизнь и житие Сергия Радонежского / Сост., посл. и комм. В.В. Колесова. М., 1991. С. 24. 2 Там же. С. 25. 3 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988. С. 116-120. 1 80 Д Е Н Напечатана в «Великих минеяхчетьих» (сентябрь, дни 25 – 30, СПб.,1883, стлб, 1408 - 1463). Издана факсимильно литографским способом в лавре в 1853г. и архимандритом Леонидом в «Памятниках древней письменности» (СПб., 1885), а также в «Великих минеях-четьих» (указ. Том, стлб., 1436 – 1563). Помещена в Никоновской летописи, под 1392 г. (ПСРЛ, т. XI, 127 – 147). В.П. Зубов ориентируется на классификацию В. Яблонского и убедительно доказывает, что ни редакция Б, ни редакция Е не могут быть в целом приписаны Епифанию, а редакции Г и В – Д не могут характеризоваться как первая и вторая Пахомиевские редакции. И редакция Епифания, и первая редакция Пахомия дошли до нас лишь в виде «инкрустаций» в текст, являющийся в основном второй редакцией Пахомия1. При поисках Епифаниевского текста невозможно остановиться ни на одной из редакций. Исследователи выделяют лишь отдельные фрагменты жития, принадлежащие Епифанию. Существует множество списков «Жития Сергия Радонежского», но наиболее распространённой считается так называемая «вторая Пахомиевская» редакция, которая продолжала видоизменяться вплоть до XVI века. В рамках данной статьи невозможно рассмотреть все отличия редакций. Безусловно, в доработке и переработке жития принимал участие не один Пахомий. В «Житие Сергия Радонежского» вливались элементы других житий; на изменение редакций жития влияло летописание, политическая обстановка. Исследователи приводят в своих трудах подробный анализ этих редакций, полемизируют, доказывают свою точку зрения, сравнивают различные эпизоды. Мы же не ставим перед собой цель доказать принадлежность того или иного эпизода Епифанию Премудрому или Пахомию Логофету. Для того чтобы проанализировать выбранный нами эпизод «Встреча со старцем», выделим условно два типа редакций жития (I и II), в которых имеются существенные отличия в трактовке встреченного Сергием старца. При этом мы будем отчасти опираться на классификацию Б.М. Клосса. В известных нам редакциях имеются две трактовки образа старца. К первому типу мы отнесём IV Пахомиевскую и все, зависящие от неё редакции, ко второму – так называемую Пространную редакцию и другие, связанные с ней. Зубов В.П. Епифаний Премудрый и Пахомий Серб (К вопросу о редакциях «Жития Сергия Радонежского») // ТОДРЛ. Т. IX. С. 145-146. 1 81 Отметим некоторые отличия текстов. В текстах редакций I типа читаем следующее описание ухода старца из дома родителей Сергия: «И сиа рекъ отъиде в путь свой... Начаху же родители его помышляти, яко от Бога таковому посещению быти, и тако бяху, благодаряще Бога и дивяхуся о проречении старьца и о въскоре дарованной отроку грамоте» 1. В редакциях II типа находим несколько иной текст: «И сиа рекъ изиде от них. Они же провожахут его пред врата домовнаа; он же от них вънезапу невидим бысть. Они же, недоумевающе, помышляху, яко аггел посланъ бысть даровати отроку умение грамоте»2. В I типе редакций читаем: «По словеси же святого старьца, паче же по Божию откровению, начать стихословити добре же и стройне, яко дивитися святому старьцю» 3. Во II типе редакций находим иной текст: «Отрокъ приимъ благословение от старца начат стихословити зело добре и стройне и от того часа гораздъ бысть зело грамоте... Родители же его и братиа его се видевше и слышавше удивишася скорому его разуму и мудрости и прославиша Бога, давшего ему такову благодать»4. В I типе редакций в конце рассказа о посещении старца находим следующее замечание: «Сиа убо сам святый последи извествоваше»5. Это замечание отсутствует в редакциях II типа. Отмеченные разночтения позволяют сделать вывод, что в редакциях I типа старец трактуется как реальный человек. По его молитве совершается чудо, и он сам удивляется этому. После встречи с родителями Варфоломея (Сергия) он «отправляется в путь свой», а не становится невидимым, как в других редакциях жития, которые мы отнесли ко II типу. В редакциях II типа внезапное исчезновение старца и догадка родителей свидетельствуют о том, что здесь он трактуется как ангел. Логично и отсутствие здесь известия об удивлении старца результату своей молитвы: ангел, специально посланный для совершения чуда, не должен ему удивляться. Этому известию в редакциях I типа соответствует известие об удивлении родителей и братьев Сергия. Во II типе редакций старец уподобляется ангелу, а в I только сравнивается с ним. Сравнение инока или вообще человека, ведущего праведную жизнь, с ангелом традиционно для христианской литературы вообще и литературы Древней Руси в частности. Распространенной является точка зрения, что агиографический жанр развивался от более реалистичного к менее реалистичному, более сакрализованному. По классификации же Б.М. Клосса, Пространная редакция (II) принадлежит Епифанию, более реалистичная IV (I) – Пахомию. Как указывалось выше, Пахомий писал после Епифания, следовательно возникает противоречие относительно развития агиографического жанра от более реалистичного к менее реалистичному. Получается, чтобы обосновать свою трактовку, Пахомий использует ссылку на Сергия как на источник рассказа о его встрече со старцем. Но Пахомий не был лично знаком с Сергием и жил задолго после его смерти, так что не мог слышать от него об этой встрече. Можно допустить, что рассказ со ссылкой на Сергия Тихонравов Н.С. Древние жития Сергия Радонежского. М., 1916. С. 8-9. Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет. Указ. соч. С. 25. 3 Тихонравов Н.С. Указ. соч. С. 8. 4 Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет. Указ. соч. С. 24. 5 Тихонравов Н.С. Указ. соч. С. 8. 1 2 82 бытовал в монастыре во время пребывания Пахомия. Он слышал его и использовал в одной из своих редакций. Возникают вопросы: почему Пахомий не использует такую ссылку в других своих редакциях, и что побудило его идти наперекор канонам агиографического жанра? С.В. Сазонов рассматривая в своей статье интересующий нас эпизод, допускает, что Пространная редакция (которую мы отнесли ко II типу) вторична по отношению к IV редакции (которую мы отнесли к I типу). Следовательно, трактовка старца в качестве ангела вторична по отношению к его трактовке в качестве реального человека. Епифаний, в отличие от Пахомия, мог слышать рассказ о встрече со старцем от самого Сергия, так как был его современником. Когда писал Епифаний, стиль жития как жанра ещё не до конца оформился, «потому его витійство не знаетъ границъ». Житие Сергия не чуждо литературных особенностей: «неумђнье» рассказывать кратко и ясно, склонность вдаваться в исторические и символические толкования событий. Но, несмотря на это Епифаниевское житие богато фактическим материалом, оно более реалистично. Это объясняется близким знакомством автора с местом описываемых событий и живыми свидетелями жизни святого1. Со временем агиографический жанр принял более определённые и чёткие формы. Во время написания жития Пахомием Логофетом необходимым стало включение в агиографический текст сакрализованных, мистических элементов. Реалистический вариант Епифания уже не мог удовлетворить позднейшего переписчика, поэтому Пахомий внёс в житие Сергия существенные изменения. Он заменил известие об отходе старца «в путь свой» на известие об его внезапном исчезновении, ввёл догадку родителей и братьев Сергия о посещении ангела, компенсировав тем самым исключение известия об удивлении самого старца. Все вышеуказанные изменения теста жития, а в нашем случае эпизода «Встреча со старцем», вполне соответствуют эволюции агиографического жанра. Разные трактовки эпизода «Встреча со старцем» в редакциях жития I и II типов нашли своё отражение и в иконографии. С конца XVI в. в иконах и миниатюрах, посвященных житию Сергия, появляется изображение старца с нимбом и крыльями в виде ангела или прямо изображение ангела, встреченного отроком. Наиболее ранним примером подобной иконографии являются, как кажется, миниатюры лицевого жития Сергия. Напротив, на древнейших житийных иконах, относящихся к концу ХV – ХVI вв. (икона из местного ряда иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, икона первой трети XVI в. из музея им. Андрея Рублева, икона из музеев Кремля, икона из Переяславль-Залесского музея, икона Евстафия Головкина из собрания Сергиево-Посадского музея и др.) старец изображен без крыльев и нимба, как обычный человек. Видимо, протограф этих икон в данном сюжете (икона Троицкого собора) испытал воздействие Епифаниевой редакции жития Сергия. Промежуточным типом иконографии является изображение старца с нимбом (например, икона XVI в. из собрания 1 Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988. С. 102. 83 Ростовского музея). Его можно отнести как к трактовке Епифания («святый старец»), так и к трактовке позднейшего редактора (ангел)1. На рубеже XIX – XX веков иноки Троице-Сергиевой лавры называли Сергия Радонежского «небесным игуменом». На Руси не интересовались особо тонкостями учения, больший интерес был к выводам – к нравственным вопросам, связанным с введением общежительных монастырей, к внутреннему миру человека. Некоторые исследователи утверждают, что преподобный усвоил византийскую практику исихи – то, что Нил Сорский, самый его верный последователь, позднее назвал «умной молитвой»2. На наш взгляд, Сергий ушёл от чистого исихазма, он не остался на всю жизнь один в пустыне, он сам стал живым примером. Своей деятельностью он поднимал упавший дух народа, пробудил в народе доверие к самому себе, к своим силам. С его именем связано становление и развитие нового этического идеала и, следовательно, нового мировидения: изменялось отношение к окружающему миру, внутреннему и внешнему человеку, к смерти. Сергий относится к тем редким людям, которые выполнили свою земную миссию до конца. Его образ не остался неизменным, меняя свои черты вместе с изменениями социокультурной системы. Своеобразие первоначальной, сакрально-рационалистической трактовки образа святого связано как со взглядами ее создателя Епифания Премудрого, так и с личностью самого Сергия Радонежского, с характером их взаимоотношений, с влиянием уникальной культурной ситуации, сложившейся в начальный период формирования российской нации. Сазонов С.В. Встреча со старцем в «Житии Сергия Радонежского» // http: //www. pravoslavie. ru См., напр.: Борисов Н.С. Сергий Радонежский. М., 2004. С. 63-64, 161-162; Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 2000. С. 97. 1 2 84 В.И. Гончарова* Автобиография Максимилиана I Габсбурга как отражение культуры XVI века Максимилиан I Габсбург (1459-1519 гг.) всю жизнь в качестве принца и в качестве императора (1493-1519 гг.) интересовался литературными и историческими трудами. В этом на него наверняка повлияла атмосфера бургундского двора, который впервые поразил его своим великолепием во время встречи в Трире (1473) его отца императора Фридриха III с Карлом Смелым герцогом Бургундским. На этой встрече речь впервые зашла о браке Максимилиана с наследницей Карла Марией. Брак этот был осуществлен в 1477 г., вскоре после гибели Карла Смелого. Юному Максимилиану пришлось защищать наследство своей жены от притязаний французского короля Людовика XI. Именно в это время в течение нескольких лет он жил в Нидерландах (части герцогства Бургундии, доставшейся Марии в наследство). Максимилиан всегда восхищался своим тестем и стремился подражать ему во всем, прежде всего в воинской славе, и одновременно в области покровительства искусствам, в том числе и в деле создания книг по самым разным областям знаний и их последующей богатой иллюстрации. Ведущие источники связаны с творчеством самого Максимилиана, поскольку написаны либо его рукой, либо под его диктовку, либо – как минимум – по его приказу. Автобиографией Максимилиана считается сочетание нескольких трудов: «Fragmente einer lateinischen Autobiographie»1, «Weisskunig» («Белый король»), «Theuerdank» («Благомысл»)2, «Freydal»3. Впрочем, в стремлении запечатлеть собственные res gestae нет ничего нового. Это типично средневековая черта. Максимилиан полностью принадлежал своему времени, он с детства развивал в себе качества искусного воина, много времени уделяя военным тренировкам. Довольно распространенная характеристика Максимилиана I приводится в работе А.Н. Немилова: «За Максимилианом утвердилось мнение отважного воина. Он любил называть себя «последним рыцарем»»4. Например, составленная первой латинская автобиография посвящена конкретным эпизодам истории борьбы Максимилиана в Нидерландах в 1477-1492 гг. Эта конкретность отличает ее от трех последующих книг, в Гончарова Вера Ивановна – к.и.н., доцент кафедры истории древнего мира и средних веков СыктГУ. Fragmente einer lateinischen Autobiographie Kaiser Maximilians I. In: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Bd.VI. Wien,1887. S. 421-446. 2 Maximilian I. Der Weiß Kunig. Eine Erzehlung von den Tahten Kaiser Maximilian des Ersten. Von Marx Treißsaurwein auf dessen Angeben zusammangetragen, nebst den von Hannsen Burgmair dazu verfertigten Holzschnitten. Herausgegeben aus dem Manuscripte der kaiserl. königl. Hofbibliothek. Wien, 1775. Faksimiledruck und Reproduktion: Leipzig, 1985 (далее ссылки только на это издание: WK. S…); Der Weisskunig. Nach den Dictaten und eigenhändigen aufzeichnungen Kaiser Maximilians I. Hg. von Alwin Schultz. In: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Bd. VI. Hft. I. Wien, 1887. S. I-XXVIII, 1- 369); Der Theuerdank. Durch photographische Hochätzung hergestellte Facsimile-Reproduction nach der ersten Auflage vom Jahre 1517. Hg. von S. Laschitzer. in: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlung des Allerhöchsten Kaiserhauses. Bd. VIII. Leipzig, 1887. 3 Freydal, hrsg. Von Quirin v. Leitner (Wien 1880/82) XXXVI Anm. 6. Цит. по: Fichtenau Heinrich. Der junge Maximilian (1459 – 1482). Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 1959. 4 Немилов А.Н. Немецкие гуманисты XV века. Л., 1979. С. 131. * 1 85 которых Максимилиан выступает уже под псевдонимами1. Иными словами они приближаются к художественным произведениям. Во всех трех случаях он является заглавным героем, жизни и подвигам которого посвящено все пространство книги. По форме они напоминают традиционные для средневековья res gestae. Когда к деяниям (или подвигам) добавляются еще обстоятельства жизни главного героя, то происходит апелляция к житийной литературе. Наиболее полным повествованием (т.е. предельно близким к житию) можно считать «Weisskunig», содержащий описание жизни героя, начиная с помолвки его родителей в 1450 г., и далее с момента его рождения до октября 1513 года. Иллюстрации к нему доведены как минимум до 1515 года (изображено русское посольство 1515 года, о котором в тексте речи уже не идет). После этого повествование обрывается. Конкретных событий, объясняющих прекращение работы над «Weisskunig», нами не выявлено, но было много сопутствующих обстоятельств, которые помешали продолжению работы (болезни императора, подготовка Венского конгресса 1515 года, сложности внутренней и внешней политики, безденежье). Возможно, создавая свою автобиографию, Максимилиан вдохновлялся примером императора Карла IV, оставившего свое жизнеописание, но совершенно точно известно, что его стимулировали комментарии Юлия Цезаря (австрийский издатель «Weisskunig» Альвин Шульц в своих комментариях к публикации автобиографии Максимилиана приводит цитату из его записной книжки 1502 года «dem ersten Röm. Keyser Cajo Julio Dictatori löblich nachähmend» – «первому римскому императору Каю Юлию диктатору почтительно подражающий»)2. Мемуарные писания были в тот период в большой моде: мемуары оставили бургундский гофмаршал Оливье де ла Марш3, советник Людовика XI Филипп де Коммин запечатлел свои деяния по-французски, Вильворт фон Шаумбург отобразил свои военные походы по-немецки. Отличием, неким гуманистическим отзвуком в литературных трудах Максимилиана было то, что он сам руководит созданием своих произведений. До этого правители редко контролировали то, что будет написано об их правлении современниками, и в очень немногих случаях заказывали создание соответствующих мемуаров или Хроник. В переводе с немецкого Weiss означает белый, слово Kunig – король, и таким образом первое значение – «Белый король» –лежит на поверхности. Кроме этого слово Weise означает также мудрый, и второй смысл названия – «Мудрый король». Максимилиан в тексте именуется «jung weiß Kunig» – «молодой белый король». Помимо этих переводов следует Герман Висфлекер, например, называет «Weisskunig», «Teuerdank», «Freydal» трилогией, отделяя их таким образом от латинской автобиографии (См.: Wiesfleсker H. Maximilian I. Die Fundamente des habsburger Weltreiches. Wien, München, 1991. S. 326.) 2 Der Weißkunig. Nach den Dictaten und eigenhändigen aufzeichnungen Kaiser Maximilians I. Hg. von Alwin Schultz. In: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Bd. VI. Hft. I. Wien, 1887. S. IX. 3 См. напр.: Хачатурян Н.А. Бургундский двор и его властные функции в трактате Оливье де ля Марша // Двор монарха в средневековой Европе: явление, модель, среда / Под. ред. Н.А. Хачатурян. Вып. 1. М.; СПб., 2001. С. 121-136. 1 86 отметить и еще одно значение термина Weise – «волхв». В религиозном контексте «волхв» – это один из тех мудрецов, которые пришли поклониться младенцу Христу. В этом случае «Weisskunig» значит «Король-волхв», и вся жизнь героя подчинена идее поклонения Христу. Этим образом волхва объясняется пристальное внимание в романе к воспитанию и образованию Максимилиана: будущий король-волхв должен быть истинным мудрецом и познать основы всех наук1. Одновременно, если исходить из наличия геральдических цветов, то Максимилиан избрал себе для обозначения цвет, который соответствует «геральдическому металлу» каковых всего два – золото и серебро, при этом традиционно золото обозначается желтым цветом, а серебро – белым. Таким образом «Weisskunig» – это еще и серебряный король. При этом он стоит особняком и выше остальных королей, которые обозначены через геральдические и негеральдические цвета, животных и предметы. Но выше него в романе нет уже никого, так как золотого (желтого) короля в тексте нет. Таким образом, Белый король проявляет одновременно свое превосходство над остальными королями, и, до известной степени, смирение, поскольку не присваивает себе обозначение высшего – золотого короля. Если рассматривать кандидатуру этого гипотетического «золотого короля», то мы углубляемся еще дальше в семантику значений, на этот раз астрологическо-алхимических. Серебро является металлом, который в алхимических представлениях соответствует Луне, точно также, как золото соответствует Солнцу, медь – Венере, а свинец – Сатурну. Получается, что «Weisskunig» – это еще и «Лунный король». И нельзя сказать, что Максимилиан не отдавал себе в этом отчета – он, как и его отец, прекрасно разбирался в астрологии и алхимии, верил в магию и предсказания, поэтому сознательно или нет он доводил линию всех возможных значений термина «Weisskunig» до логического конца. Для него это обозначение было ответом на устоявшееся еще со времен борьбы пап и императоров в XI веке отождествление двух политических сил, которые правят в Европе – папы и императора с Солнцем и Луной. Идея многочисленных теологов, которые трактовали эту тему, сводилась к тому, что папа – это Солнце, а император – это Луна, и как Луна светит отраженным светом Солнца, так и император имеет власть только как передоверенную от папы. Кандидат в «Золотые (или хотя бы желтые) короли» в романе – это папа римский. Но он обозначен как «Король трех корон», что по-своему справедливо, так как папская тиара состоит из трех венцов, вдетых один в другой. Но личность «короля трех корон» никак не соотносится в романе с Белым королем, это просто один из действующих персонажей. Ни желтого, ни золотого короля в романе нет, белый (серебряный, лунный) король оказывается выше других королей по положению, определенному ему библейским, геральдическим, астрологическим, алхимическим значениями его символа. Максимилиан не был готов присвоить себе наивысшее обозначение, как это сделал полтора века спустя Людовик XIV, поощрявший именование своей персоны лестным Гончарова В.И. Автобиография Максимилиана: пересечение культурных парадигм Средневековья и Возрождения // Межкультурный диалог в историческом контексте. М., 2003. С. 36. 1 87 для себя титулом «Король-Солнце». В его пору вопрос об «отраженном свете», которым светят светские правители, уже не стоял. В этом отношении присвоение Габсбургами Ордена Золотого Руна (которое произошло не без борьбы со стороны членов этого типично бургундского ордена) соответствует все тому же стремлению покорить золото и Солнце. Одновременно здесь проявляется и высшая ипостась Лунного божества, поскольку это Христос (умирающий и воскресающий бог), и Белый (серебряный, лунный) король, Король-волхв становится правителем в высоком, харизматическом смысле, как высшая ипостась короля. Здесь нет никакого преувеличения. Известно, что Максимилиан не страдал заниженной самооценкой. «Кроме Иисуса Христа, никто не страдал в этом мире так, как Я», – говорил иногда Максимилиан1. Этими словами он хотел подчеркнуть своё собственное величие и славу своего дома. Остальные реальные исторические личности спрятаны в «Weisskunig» под легко расшифровываемыми псевдонимами (Синий король, король Горностая или король Трех корон). Если подходить к «Weisskunig» с точки зрения человека, знающего Библию, то обнаруживаются многочисленные аллюзии, связанные с образом Христа. Взять хотя бы описание истории его детства: в романе описаны рождение и крещение главного героя. Немецкий филолог Йозеф Штробль отмечает, что Максимилиан I использовал в своем произведении рассказ Евангелия о рождении Христа. Этот автор считает, что описание крещения Максимилиана является параллелью рассказу о крещении Иисуса2. Затем повествование сразу переходит к обучению главного героя, то есть события романа сразу переносятся в то время, когда ему уже примерно лет 7-8. Он начинает обучаться грамоте, Священному писанию, семи свободным искусствам. Это в точности тот же временной промежуток, когда юный Христос уже говорил с учителями в храме и поражал всех своей ученостью. Максимилиан не стремится столь буквально следовать своему прототипу – он не поучает ученых мужей, но неизменно быстро выучивает любую новую информацию, и затем поражает ученых мужей в окружении своего отца своими знаниями. Далее следует почти евангельская цитата: «И все вокруг поражались…». Вообще, в источнике из 222 глав более 30 занимают те, которые описывают освоение Максимилианом тех или иных дисциплин, навыков, физических упражнений. Интересен тот факт, что все науки осваиваются Максимилианом в кратчайшие сроки, вызывая удивление и восхищение придворных. В отличие от Христа, про обучение которого ничего не говорится в Евангелиях, в «Weisskunig» подробно расписана программа обучения юного принца. Вряд ли она была выполнена полностью и вряд ли Максимилиан действительно столь быстро усваивал все науки. Здесь мы, очевидно, имеем дело со своеобразной, в чем-то средневековой, в чем-то возрожденческой программой обучения, придуманной Максимилианом, как раз в тот период, когда подрастали его собственные внуки Карл и 1 2 Wiesflecker H. Kaiser Maximilian I. Bd. I. Wien, 1971. S. 78. Strobl J. Studien über die litterarischen Tätigkeit Kaiser Maximilian I. Berlin, 1913. S. 35. 88 Фердинанд, и он, конечно, задумывался о программе их обучения и воспитания. Возможно, такая манера строить текст биографии навеяна житийной литературой: особые обстоятельства рождения и крещения, благочестивые родители, духовное образование и т.д. Отец зовется «Die Alt Weiss Kunig», а мать – «junge kunigin», т.е. по статусу она ближе к своему сыну, который зовется «Jung Weiss Kunig». Опять возникает тот же мотив – мать, которая одновременно и жена (как Христос и Мария, которая отождествляется с церковью и в качестве таковой является любимой женой Христовой). Жену Максимилиана зовут Мария (Бургундская). Здесь всплывает библейское имя Мария, пожалуй, единственное женское имя (за исключением имени Марфа), которое упоминается в Евангелиях. И эта Мария становится женой Максимилиана. Если вспомнить широко известную иконографию того времени, Мария очень часто изображалась сидящей на троне рядом с Христом, который в ипостаси Бога-отца является ее мужем, а в ипостаси Христа – ее сыном. Этот условный евангельский схематизм приводит к тому, что в тексте совершенно не упоминается вторая жена Максимилиана Бланка Мария Сфорца, которая, в отличие от Марии Бургундской, стала императрицей, но в качестве таковой всегда пребывала в забвении у своего мужа, поэтому, в отличие от Марии, не оставила ему детей. В связи с именем Бланка в «Weisskunig» могла бы снова возникнуть тема белизны, поскольку Бланка Мария – это Белая Мария. Но Белый король о ней совершенно не вспоминает. Еще одна аллюзия возникает в связи с тем, что своего отца Максимилиан именует в тексте «старый белый король», а себя «юный (или молодой) белый король». Подобное противопоставление вызывает аналогии с антитезой Ветхого (Старого) и Нового заветов. Сходство с Ветхим заветом усиливается, если рассмотреть колонтитулы всего тома, где на левой (от читателя) странице везде указано «Die Alt Weiss Kunig», а на правой – «Erster Theil». Подразумевается, что должна быть еще как минимум вторая часть, которая бы называлась «Die Jung Weiss Kunig», и вместе они составляли бы единство чрезвычайно напоминающее Ветхий (I часть Библии) и Новый завет (II часть Библии). Это сопоставление лучше ощущается в иностранных языках, например, в немецком: «Alte Testament» и «Neue Testament». Правда, данный колонтитул охватывает весь объем текста, большая часть которого посвящена уже деяниям «юного белого короля» Продолжая библейские (а точнее, евангельские аналогии) следует отметить инициализацию через брак, которую проходит повзрослевший Юный Белый король. С некоторой натяжкой «Weisskunig» может считаться источником личного происхождения, а, следовательно, отражающим личное восприятие Максимилианом культурной ситуации, связанной в первую очередь с его правлением, то есть это система власти, это отношение внутри этой власти, это вассальные отношения господства и подчинения. Но вместе с тем, это 89 произведение не было закончено Максимилианом. Работа над его автобиографией была свернута после 1513 года и окончательно прервана в связи со смертью Максимилиана (12.01.1519). Только в 1526 г. внук Максимилиана Фердинанд (будущий император Фердинанд I) поручил секретарю своего деда Марксу Трайцзаурвайну дальнейшую работу над текстом и редактирование рукописи. Эти работы были прерваны в следующем же году в связи со смертью секретаря. Рукопись была забыта до 1665 года, когда оригинал ее был обнаружен в замке Амброс близ Инсбрука. Подготовка к изданию заняла более 100 лет, первое печатное издание вышло только в 1775 г. с обширными комментариями. Возможно, текст тоже подвергся определенной редакции. В любом случае следует учитывать, что в произведение были внесены изменения, характеризующие менталитет правителей существенно более позднего времени1. В некоторых случаях эти новые акценты можно выявить, но в большинстве случаев они составляют проблему для исследователя. «Freydal» трудно хронологически привязать к биографии Максимилиана: текст посвящен описанию 64 турниров, в которых принимает участие главный герой. С одной стороны, «Freydal» можно рассматривать как предысторию «Teuerdank»: сначала герой побеждает на разнообразных турнирах, а потом едет добывать себе невесту. Но возможна и другая последовательность. Но среди легендарных турниров (из которых состоит большая часть повествования) встречаются описания, поразительно совпадающие с известными в истории фактами (например, турнир 1495 г.). Турниры заканчиваются костюмированными карнавалами, как это было принято по бургундской моде, которой старался следовать Максимилиан. Данный роман ценится специалистами за подробное описание одежды, вооружения, распорядка турниров и прочих чрезвычайно важных деталей, которые так важны для историков занимающихся повседневностью. Одновременно создается поэтическое произведение «Teuerdank», которое можно условно считать вставкой в основную биографию. Действие в этом источнике приобретает все более ритуализированный характер: поскольку это все-таки «житие» светского человека, который не предполагает принимать духовный сан, поэтому вместо постепенного ухода от земных благ он проходит ритуал инициации рыцаря, который обязан спасти и защитить благородную девицу, а потом на ней жениться. Углубляется мифологичность и за счет окружения: в «Teuerdank» даже спутники главного героя – вымышленные персонажи, являющиеся аллюзией дьявола, то есть устраивающие главному герою различные испытания и искушения. Несколько раз он находится на волосок от смерти, но успешно преодолевает все испытания. Биография Максимилиана (имеются в виду все четыре указанных произведения Максимилиана) разворачивается как средневековый рыцарский эпос, где принимается во внимание все: благородство происхождения, разносторонность воспитания, победы на турнирах и участие в настоящих рыцарских приключениях (авантюрах, как их принято было тогда называть). Этой стороной своего жизнеописания Максимилиан 1 Strobl J. Op. cit. 90 вписывается в культуру своей эпохи. В описании рыцарских эпосов ничего принципиально нового нет, и одновременно именно на рубеже XV-XVI веков наблюдается волна особого интереса к созданию рыцарских романов, многие старые сюжеты осмысливаются на новом уровне (например, «Неистовый Роланд» Ариосто или «Смерть короля Артура» Томаса Мэлори). Вторая идея, которая прослеживается в автобиографических сочинениях, – это создание образа просвещенного государя (на этом ставится особый акцент в «Weisskunig»), что, конечно, выводит нас за рамки средневековья, приближая к трудам гуманистов. Создание целой серии биографических сочинений было принципиально новым явлением, характерным для начала XVI в. Не в последнюю очередь это связано с явлением «информационной революции», которую переживала Европа в связи с изобретением книгопечатания. Огромная потребность в книгах по разным отраслям знаний привела к тому, что в проектах по созданию и изданию книг стали участвовать даже монархи. Максимилиана можно, пожалуй, назвать родоначальником этой тенденции, так как в его записных книжках сохранилось более двух десятков названий книг, которые он планировал написать сам или поручить это своим придворным гуманистам1. В записной книжке Максимилиана за 1502 год зафиксирован устный приказ Марксу Трайцзауервайну (Marx Treitzsauerwein von Ehrentreitz) 1502 года отметить книги, которые Максимилиан хотел написать самостоятельно. Это «Grab» (Гробница), «Ehrenporten» (Триумфальные врата), «Weisskunig», «Tewrdank», «Freytal», «Tryumphwagen» (Триумфальная колесница), «Stamcronik» (Хроника рода), «der Stam» (Генеалогия), «Artalerey» (Артиллерия), «die siben Lustgarten» (семь веселых садов), «Wappenpuech» (Гербовник), «Stalpuech» (Книга о стали), «Plattnerey» (Выплавка металлов), «Jegerey» (Охота), «Valknerey» (Разведение соколов), «Kucherey» (Кулинария), «Kellerey» (Виноделие), «Wischerey» (Рыбоводство), «Gartnerey» (Садоводство), «Paumeisterey» (Строительство)2. Интерес Максимилиана к горному делу и выплавке металлов нашел свое выражение в списке обучающих книг. Он планировал создать лично или поручить кому-либо сочинить произведения под названием «Stalpuech» («Книга о стали»), «Plattnerey» («Выплавка металлов»). Этот аспект деятельности Максимилиана в области ремесленного производства нашел отражение в «Weisskunig». Речь идет о состоянии дел в горнодобывающей промышленности. Отдельная глава посвящена тому, как молодой Белый король знакомится с шахтами. Повествование строится по обычному (для подобных глав) плану: молодой Белый король осваивает искусство добычи полезных ископаемых, быстро овладевает всеми необходимыми умениями и навыками, удивляя своими способностями всех окружающих и превосходя в этом деле всех других мастеров. Однако и такое схематизированное изложение дает нам ценную информацию. Судя по данным источника, в 1 Der Weisskunig. Nach den Dictaten und eigenhändigen aufzeichnungen Kaiser Maximilians I. Hg. von Alwin Schultz. In: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Bd. VI. Hft. I. Wien, 1887. S. IX. 2 Висфлекер утверждает, что в записных книжках Максимилиана фигурировало 38 названий книг, запланированных для написания и издания. См.: Wiesfleсker H. Maximilian I. Die Fundamente… S. 330. 91 горных разработках Германии добывались золото, серебро, свинец, железо, медь1. На добычу полезных ископаемых была установлена государственная монополия, которая приносила государственной казне большие доходы. Так, «шахта в Тироле приносит ежегодно доход сто пятьдесят тысяч гульденов»2. Такое нетипичное для истинного рыцаря внимание к некоторым видам ремесленного производства можно объяснить тем, что горное дело и металлургия были тесно связаны с военным делом и производством огнестрельного оружия, т.е. теми видами деятельности, которыми так интересовался Максимилиан. Порядок в перечислении говорит о том, что на первое место он ставил все же исторические труды, связанные с прославлением собственных деяний, после чего идет прославление рода и генеалогические изыскания, и только потом учебники по конкретным наукам. Артиллерия идет впереди «семи веселых садов» (возможно, учебник по семи свободным искусствам), после этого Гербовник, затем по убывающей, очевидно по степени важности знаний для истинного рыцаря. «Grab» предположительно связана с его идеей воздвигнуть себе гробницу, что и было воплощено в кенотафе в Инсбруке. Это вторая попытка, помимо автобиографии, претендовать на бессмертие и даже оперировать понятием «вечность». После чего предполагалось создать «Врата славы», посвященные всем достижениям Максимилиана. После этого в записных книжках указаны три автобиографических произведения. Однако в этом списке учебников отсутствуют какие-либо упоминания об изучении иностранных языков. Сам Максимилиан пишет в «Weisskunig», что начал изучать языки только после женитьбы на бургундской принцессе Марии. Изучение иностранных языков не относится к основному комплексу обучения (в детском и юношеском возрасте). Автор романа придерживается средневековых представлений об образовании, в котором главным и основным считалось обучение латинскому языку, а он уже становился базой для изучения всех остальных наук. Задача обучения иностранным языкам нигде не ставилась, считалось, что человек сам при необходимости выучит языки, необходимые ему для общения. Первый (по порядку перечисления в романе) иностранный язык Юный белый король учит, разговаривая со своей женой. Это был французский язык (впрочем, некоторые авторы предпочитают называть его бургундским). Одновременно Мария учится немецкому (S. 117). После этого один за другим следует описание обучения фламандскому (S. 118), английскому (S. 119), испанскому (S. 120), итальянскому («Welsch»: S. 121). При этом в главе об изучении «вельшского» языка проведено небольшое филологическое исследование, выделяющее группу «латинских языков», в которую входят итальянский и испанский. Несомненно, этот пассаж является вставкой секретаря (работавшего по заданию императора), который позволил себе высказаться по вопросу, интересовавшему его как интеллектуала и гуманиста. Исходя из текста «Weisskunig», можно сделать вывод, что будущий император полагал необходимым для себя как человека современного и 1 2 WK. S. 82. Ibid. S. 82. 92 образованного знание иностранных языков (вероятно, это наследственность от матери, которая в мгновение изучила немецкий язык)1. Максимилиан знал шесть языков: испанский, итальянский, французский, фламандский, латинский, английский. Единственный язык, который Максимилиан выучил еще в детстве, был латинский. Исходя из хронологии и последовательности расположения информации в источнике, полагаем, что остальные языки он изучил, будучи уже женатым. Существует легенда, где упоминается о беседе Максимилиана с военными людьми, которая велась на семи языках 2. Одновременно этот эпизод можно рассматривать как аллюзию Духова дня, когда дух Святой сошел на апостолов, и они заговорили на всех языках, чтобы проповедовать слово Божие в разных землях разным народам. Список произведений, намеченных к созданию Максимилианом, как бы разделяется на две части: произведения из первой половины были выполнены или хотя бы начаты, что позволяет нам судить о сути замысла. Произведения из второй половины не были созданы. Но все вместе, независимо от уровня законченности, позволяет судить о масштабе высказанной Максимилианом идеи. Неизвестно, пытались ли его внуки Карл и Фердинанд продолжить его труды или хотя бы поручить кому-либо их продолжить. Реальное выполнение этой программы началось с создания автобиографии Максимилиана. Названные 4 книги как раз и являлись частью этого грандиозного плана. В духе эпохи издания предполагалось обильно иллюстрировать гравюрами, единственно возможным тогда для печатных изданий способом. Их создали знаменитые художники и гравюристы того времени Ханс Бургмайр, Леонард Бек, Ханс Шойфелайн и Ханс Шпрингинкле, которые участвовали и в других художественных проектах Максимилиана I. «Гравюры принадлежат к тому лучшему, что было создано в немецкой графике эпохи Возрождения»3. Сам Максимилиан наблюдал за процессом выполнения гравюр и направлял его в нужное русло. В издании «Weisskunig» 1985 года содержится 201 гравюра. Как правило, это гравюры «в лист» (№№ 1-193), они имеют собственную сквозную нумерацию, отдельную от печатного текста. Можно сказать, что «Weisskunig» наполовину состоит из иллюстраций. Самые ценные гравюры на дереве к «Weisskunig» принадлежат книжному иллюстратору Хансу Бургмайру (1473 – 1531 гг.). Он был учеником своего отца Томаса Бургмайра (1444 –1532 гг.) и Мартина Шонгауэра (1425/30 – 1491 гг.). Ханс Бургмайр превосходно владел искусством оформления внутреннего пространства, человеческой фигуры, умел отражать на картинах человеческие фигуры в действии, старался избегать повторений в изображении событий, важные подробности передавал Wiesflecker H. Kaiser Maximilian I. Bd. I. Wien, 1971. S. 76. Гончарова В.И. Максимилиан I Габсбург: фигура ренессансного государя // Человек XVI столетия. М., 2000. С. 23. 3 Володарский В.М. Политическая этика немецких гуманистов // Культура возрождения и власть. М.,1999. С. 157. 1 2 93 особенной величиной. Гравюры Ханса Бургмайра легко отличить от работ других художников. На его гравюрах присутствуют инициалы «HG». Большее количество гравюр, представленных в романе, принадлежит художнику Леонарду Беку. Он работал исключительно для императора, выполняя только его заказы. Однако от Ханса Бургмайра его отличает большая скромность в изобретательности. На некоторых его картинах отсутствует изобразительная живость, в частности это доказывают невыразительные лица. Максимилиан был личным покровителем великого немецкого живописца Альбрехта Дюрера (работавшего также в жанре гравюры). Некоторое время Дюрер исполнял заказы императора, касающиеся как иллюстрирования так и не созданных книг, так и эскизов к строящейся в Иннсбруке гробницы. Дюрер создавал работы, связанные именно с памятниками, задуманными Максимилианом, такими как «Триумфальная арка», «Триумфальное шествие». Но к работе над «Weisskunig» были привлечены только его ученики Ханс Шойфелайн и Ханс Шпрингинкле. Ханс Шойфелайн как деятель искусства умел выразительно передавать на картинах жест и мимику людей, его картины отличаются живостью, в частности в изображении битв и сцен охоты. Что касается Ханса Шпрингинкле, то о его участии в художественных предприятиях Максимилиана I известно мало. В целом по заказам Максимилиана работало много разных художников, они менялись. Кого-то он приглашал для разовых работ, кое-кто работал постоянно. Одно дело – произведения, в которых император самовыражается как личность, другое дело – произведения, в которых он предстает как монарх. В литературных произведениях, инициированных Максимилианом, в большей степени выражена его личность – как рыцаря, представителя рода Габсбургов и интеллектуала XVI столетия. Оставляя после себя написанную историю, Максимилиан руководствовался не только сохранением знаний и представлений о себе. Следует учитывать, что в то время книга являлась атрибутом людей, наделённых пророческим даром, получивших божественное откровение или прославившихся своей учёностью. Закрытая же книга символизировала тайну божественного Откровения. С книгами в руках изображали пророков, евангелистов, апостолов, отцов церкви. Человек (и монарх в том числе) в разной степени может соответствовать типу политического, правового и религиозного сознания той эпохи и национальных особенностей той страны, в которой он родился, вырос и воспитывался. В «Weisskunig» главной остается идея, подчеркивающая, что Максимилиан – родоначальник династии. С другой стороны эта автобиография предполагает рассмотрение политических проблем, а совсем не частных впечатлений, как это обычно бывает с мемуарами. Биография превращается в художественное произведение, образы которого традиционны для восприятия времен Максимилиана, когда, например, цветовые характеристики использовались для обозначения статусной значимости того или иного лица. 94 Особое внимание привлекает тот факт, что в «Weisskunig» особое внимание уделено производству огнестрельных орудий, например, подробно описывается литьё пушек. Особо подчеркивается, что эти пушки не были похожи ни качеством, ни технологией изготовления на те, которые изготовляли в других странах. Каждая из них была отдельным произведением искусства. Из всех воинских искусств он собирался пропагандировать именно артиллерийское дело. Это было шагом вперед, свидетельствовало о воинском таланте, или, по крайней мере, о незаурядных воинских способностях. Артиллерия была шагом вперед по сравнению с другими воинскими искусствами. Первое, что изучает Максимилиан по военному делу – это артиллерия. В главе XLIX, которая называется «Как юный белый король был искусен с артиллерией», используется специальная военная (а точнее – артиллерийская) терминология, что свидетельствует о том, что Максимилиан («юный белый король») был хорошо осведомлен обо всех достижениях и нововведениях в сфере развития огнестрельного оружия. Речь идет о крайней заинтересованности Максимилиана именно в этом виде военного искусства: «И такую любовь, и симпатию он имел в своей юности, и она осталась в его сердце»1. Чтобы быть хорошо осведомленным и не полагаться на знания и умения других, он все делает сам, во всем участвует, сам наблюдает за литьем пушек и придумывает новые приемы пристрелки орудия. Максимилиан лично придумал более усовершенствованное орудие «и дает ей свое название» Kortanen, оно обладало большей мощностью, к тому же было оснащено колесами, что давало возможность в случае необходимости намного быстрее передвигаться к театру военных действий. Ядра к пушкам были как железные, так и каменные. Максимилиан старается усовершенствовать ядра (так же как и пушки), и даже дать своим изобретениям собственные имена, например, изобретенный им «другой новый усиленный снаряд» был назван «соловьем» («Nachtigaln») или «певицей» («Singerin») за то, что «пел жестокую песню, и эта песня не была в почете»2. Потребность давать неодушевленным предметам собственные имена была обусловлена формой мышления средневекового человека, который старался обособлять каждую идею, оформлять ее как сущность, всякому отдельному качеству приписывалась самостоятельность. Можно увидеть, что к литью пушек автор относится как к искусству. В главе неоднократно говорится о сохранении тайны по поводу усовершенствований Белого короля: «король сам делал это искусство тайной», «по некоторым причинам он это новое искусство не разрешал опубликовывать»3. Именно с этого момента в тексте начинается вставка, написанная от первого лица, скорее всего, секретарем Марксом Трайцзаурвайном, поскольку о Максимилиане говорится по-прежнему в третьем лице («если он сам не хотел, чтобы я это делал»4, то есть написал об усовершенствованиях в артиллерийском деле). Тем не менее, наш неизвестный информатор выдает 1 WK. S. 99. Ibid. 3 WK. S. 100. 4 Ibid. 2 95 некоторые тайны своего господина (например, размышления Максимилиана о возможности стрелять из пушек дробью и некоторые другие), после чего добавляет: «я о его новой артиллерии не написал и сотую часть» 1. Можно предположить, что он просто утаивает информацию о технических изобретениях, чтобы их не использовали враги. Однако в тексте появляется фраза: «все это он делал в тихом молчании из-за боязни к богу и к блаженству его души»2, то есть в душе Максимилиана боролись стремление к дальнейшим усовершенствованиям в артиллерии с осознанием того, что он занят богопротивным делом. Максимилиан разрывался между стремлением усовершенствовать оружие, дающее огромные преимущества во время военных действий, и собственной совестью, которую он старался успокоить сохранением своих открытий в тайне. Именно поэтому в конце главы вставлена фраза: «и во всех своих войнах он имел чувство справедливости, знания воинственности, справедливости и милосердия»3. Вполне возможно, что это замечание вставлено не самим Максимилианом, а кем-то из позднейших редакторов и комментаторов. Но в этом эпизоде проявляется истинная сущность Максимилиана как новатора и полководца нового времени. В данном случае потребности государственной политики вступают в противоречие с рыцарской этикой императора, потому что ведение войны с помощью пушек несопоставимо с понятием войны как рыцарского турнира. Император стоит перед дилеммой – отливать пушки и использовать их как преимущество в военных действиях или оставаться рыцарем. При этом он явно склоняется в пользу государственного интереса. Основную часть своего времени король проводил в военных сражениях. В источнике весьма отчетливо выражена заинтересованность Максимилиана I в успешном осуществлении внешней политики. В третьей части произведения, самой объёмной по содержанию, выявляются взаимоотношения «юного белого короля» с правителями соседних государств. Однако эти взаимоотношения складывались в основном драматически: из 166 глав третьей части 136 посвящены описанию сражений4. В «Weisskunig» ярко сформулирована концепция войны, которая представлена в качестве системного элемента существования императора и его двора. «Юный Белый король» довольно часто сам участвовал в сражениях: «Среди них [войска] скакал юный Белый король и приводил [их] в движение удвоенными подталкиваниями»5. Но если он не участвовал в сражении, и в результате битва была проиграна, то в этом случае неудача всегда объяснялась отсутствием короля: «Как только юный Белый король остался на месте, разбил их враг»6. 1 Ibid. Ibid. 3 Ibid. 4 См, напр.: WK. Главы: CL (S. 140-141), LXXXVI (S. 174-176), XCIII (S. 136), XCIV (S. 137), XCVIII (S. 141), XCIX (S. 142), C (S. 143). 5 WK. S. 138 6 Ibid. S. 135. 2 96 «Weisskunig» пронизан духом рыцарства. Наряду с королём рыцари играли главную роль в этом произведении: ведь именно они выступали в качестве основной военной силы в войске короля. Сам король представлен в источнике как рыцарь, который в молодости осваивал воинское искусство, научился фехтовать конно и пеше. Кроме того, король сам обучал воинскому искусству своих воинов: «Этот король по большей части участвовал в больших войнах и в них хотел давать обучение» 1. Дельбрюк Г. в своей работе ссылается на рассказ самого Максимилиана о том, как он, прибыв в Нидерланды в качестве мужа Марии Бургундской сразу начал реформу войска, и, в частности, велел изготовить длинные пики и обучал своих ландскнехтов владению этим оружием2. В дальнейшем его реформы способствовали первой победе бургундцев над французами в битве при Гиннегате. В «Weisskunig» можно найти описание многочисленных штурмов и сражений. Среди военных операций осада и штурм городов занимали значительное место, в отличие от полевых сражений. Города, как возможные объекты штурмов, были всегда хорошо укреплены: их не всегда удавалось взять с первой попытки. Белый король при осаде крепостных стен города Утрехт (герцогство Гельдерн, 1483 год) предпринимает два штурма3. По «Weisskunig» можно проследить описание многих баталий. Основным и решающим фактором битвы на открытом пространстве являлась конница, которая дополнялась пехотой. Полевые сражения заканчивались, как правило, отступлением одной из сторон. Добычей в таких сражениях были материальные ценности, а также пленные, за которых позднее можно было получить выкуп. Так, в «Weisskunig» содержится замечание: «Юный Белый король великолепно со своим войском обратил в бегство врага, убил также много вооружённых, они также взяли у них пеших пленных»4. В данном случае источник отражает традиционные для того времени нормы ведения военных действий, которые предусматривали вознаграждение победителям за счет побежденной стороны. Действия Белого короля подвергаются осуждению только в том случае, когда он не проявляет милосердия к пленным. И это осуждение просматривается в иллюстрациях, а не в тексте. Например, гравюра № 75 посвящена победе войск Максимилиана над французами в 1484 году. Император применяет к противникам самые варварские способы казни (повешение, колесование). На иллюстрациях № 90 и № 91 изображена расправа над жителями фламандского города Гента (1482 г.). Помимо самой сцены казни на заднем плане (на холме за стенами города) изображена «Голгофа» – три креста с одним распятым в центре, а также виселица и колесо. Таким образом, художник выражает свое истинное отношение к происходящему, и это отношение отрицательное. 1 Ibid. S. 89. Дельбрюк Г. История военного искусства. Т. 4. СПб., 2001. С. 11. 3 WK. S. 137. Глава XCIV «Как молодой Белый король завоевал город, который расположен на территории яблочно-серого союза» (то есть Гельдерна). 4 WK. S. 138. 2 97 Только в пяти главах речь идёт о переговорах Белого короля с другими правителями. Больше всего переговоров Белый король ведёт с английским и французским королями. Однако это не означает, что в политике Максимилиана I дипломатические контакты не играли никакой роли. Император поддерживал постоянные контакты со многими странами, главным образом потому, что нуждался в союзниках. Для решения внешнеполитических задач король пользовался услугами посланников, которых отправлял в другие страны с важными дипломатическими миссиями. Выбор посланника зависел от важности дипломатической миссии и от того почтения, которое следовало выразить адресату1. Вообще послы при дворах занимали высокое положение. Их ценили и уважали. Одна из глав «Weisskunig» рассказывает, как молодой Белый король принял посла c письмом, посланного «молодой белой королевой» (Марией Бургундской) и оказал ему соответствующие почести: предложил послу ночлег и «проявил по отношению к нему большую честь»2. Но условия существования послов были типично средневековые. Австрийский исследователь Герман Висфлекер нарисовал по этому поводу удручающую картину: дипломатические представительства вынуждены были следовать за вечно кочующим двором императора и «часто чувствовали себя прямо-таки как бродяги или нищие…», им угрожали погодные катаклизмы, военные действия и эпидемии3. Несомненно, много времени король уделял делам управления государством. В этом ему помогал также специальный придворный штат. Однако источник не говорит нам ничего о каких-либо направлениях внутренней политики Максимилиана I. Изложение этого вопроса ограничивается сообщением о том, что старый Белый король [Фридрих III] «знакомит сына с секретарским делом, делом канцлера», чтобы будущий король «посредством этого мог разузнать основы правления»4. Однако придворная канцелярия существовала и выполняла важные функции управления страной. Она также являлась центром государственной пропаганды и культуры. Так, при дворе составлялись литературные произведения. Главой придворной канцелярии во время правления Максимилиана являлся мудрый и дальновидный сановник Матфей Ланг 5. Несмотря на все его усилия по стабилизации положения в стране, правление Максимилиана характеризуется постоянным отсутствием в казне денег. Экономика империи была изнурена постоянными войнами. Но эти факты, конечно, не нашли отражения в пропагандистском романе, повествующем только о заслугах Белого короля. По объему информации рассуждения о политике в «Weisskunig» существенно меньше, чем рассуждения о военных действиях. На самом деле проблемы государственного устройства, проведения внутренних реформ империи занимали Максимилиана в гораздо большей степени, чем это отражено в романе. Свой образ в романе он создает вопреки той 1 Wiesfleсker H. Kaiser Maximilian I. Bd. IV. Wien, 1981. S. 482. WK. S. 119. 3 Wiesfleсker H. Kaiser Maximilian I. Bd. IV. Wien, 1981. S. 497. 4 WK. S. 71. 5 Wiesfleсker H. Kaiser Maximilian I. Bd. V. Wien, 1981. S. 635. 2 98 деятельности, которой он занимается на самом деле. Рыцарь не может посвятить себя канцелярским делам. Менталитет Максимилиана питается тем образом монарха, который сложился в Средневековье Из всего вышесказанного следует, что именно войны в этот период становится делом обыденным. Она является фоном, на котором вырисовываются события этого времени. Несомненно, это накладывает отпечаток и на личные качества самого короля, в котором ценятся, прежде всего, качества искусного воина, реформатора армии. В это время пользуется авторитетом лишь тот король, который имеет сильную армию. Дипломатические способности и все другие качества короля имеют второстепенное значение или ценятся меньше. В целом, война является существенной частью повседневного придворного быта, жизни императора и его придворных. Обычным времяпрепровождением королевского двора были рыцарские игры. Молодой Белый король любил их устраивать, и сам принимал в них участие: «И когда он находился в военном безмолвии, то занимался он при своём дворе всеми рыцарскими играми с большой радостью»1. Кроме этого «его королевский двор с рыцарскими играми по всему миру так был известен, что многих королей, князей, господ, графов и рыцарей привлекал двор юного Белого короля»2. И как во время военного сражения король побеждает врага, так и на всех рыцарских играх одерживает победу. «Скоро этот юный Белый король по своей сообразительности усвоит основные правила рыцарских игр и также будет упражняться. И на ринге в трудных рыцарских играх одержит и оставит вследствие этого себе победу»3. Излюбленным, но в значительной степени ритуальным занятием короля являлась охота, которая выступает как эквивалент войны. Охота поэтому была в то время одним из основных занятий молодых дворян, её использовали также для военных тренировок. Если король не воевал, то он охотился, приобретая умения и навыки, необходимые для военной деятельности. «Weisskunig» позволяет подробно проследить особенности королевской охоты (например, глава LX: «Как юный Белый король имел такое страстное желание охотиться на оленей, серн, горных коз, кабанов и медведей»)4. Чтобы это ритуализированное действо соответствовало рыцарскому статусу его участников, в качестве объектов охоты выбираются крупные звери. И в главах с описаниями охотничьих забав императора зверей убивают сотнями. «Он охотился с большой любовью и имел особое желание охотиться»5. Наряду с качествами искусного воина, полководца, реформатора армии, дипломата, король был также неплохим охотником: «Этот молодой Белый король имел в охоте по сравнению с другими королями особый королевский нрав, и в охоте очень искусен и мастеровой, … он также неутомим в охоте»6. Потому обучение охоте Максимилиан вносит в тот раздел своей биографии, где описывается приобретение им 1 WK. S. 95. Ibid. 3 Ibid. 4 Ibid. S. 87. 5 Ibid. S. 88. 6 Ibid. S. 87. 2 99 самых разнообразных знаний и умений. Это школа выносливости, ловкости, терпения, возведённая в степень науки, усваиваемой с детства. Любопытно, что для охоты применяются уже не лук и стрелы, а огнестрельное оружие, некие ручные ружья («Handbuchsen»). Максимилиан не только сам охотился, но и учил охотиться других, «делал много хороших охотников»1. Особую страсть испытывал король к соколам: «Так имел молодой Белый король склонность к соколам» 2. Самые лучшие охотничьи соколы привозились с Кипра, из Польши и России 3. В программу написания и издания Максимилианом обучающих произведений входит несколько книг, посвященных мастерству охоты: «Jegerey» («Охота»), «Valknerey» (очевидно «Falknerey» – «Разведение соколов»). Максимилиан считал необходимым для себя нести просвещение в рыцарскую среду, обучать молодых дворян не только военному делу, но и изящному досугу. Соответственно, имела место охота с соколами, излюбленное занятие многих правителей, не только Максимилиана. Одновременно и сюда вкрадывается веяние религиозное: в тексте говорится, что «забавы» в охоте, безмерное уничтожение диких животных – это «грех, земной порок». Это в какой-то мере было ограничением жестокости на охоте. Но возможно здесь присутствовал и хозяйственный интерес (сохранение популяции)4. Но возможно также, что это замечание является позднейшей вставкой, внесенной комментаторами в XVI или в XVIII веке с целью представить императора радетелем лесного и охотничьего хозяйства. Австрийский исследователь Висфлекер говорит о том, что император надиктовывал некую «Тайную охотничью книгу» своим секретарям, один из которых должен был постоянно находиться поблизости, чтобы «записывать важные вещи, которые встречались в природе или приходили на ум. Он доверял «Тайной охотничьей книге» свой богатый охотничий опыт, которому должны были учиться его внуки»5. С охотой связано и рыболовство. «Weisskunig» в соответствующей главе «Как юный Белый король с радостью ловил рыбу» повествует об очередном увлечении короля и придворных. В тексте подчеркивается: «Он (король – Г.В.) имел также в ровной стране значительное количество больших озёр и рыбных мест»6. Один из задуманных им учебников должен был называться «Wischerey» («Fischerey» – «Рыбоводство» или «Рыбная ловля»). При всей многоплановости сочинений Максимилиана достаточно четко прослеживаются основные стержни, вокруг которых группируется информация. Так все автобиографии Максимилиана имеют одну общую идею – подготовка рыцаря к борьбе с неверными. Крупнейший исследователь максимилиановской эпохи Герман Висфлекер высказал мысль, что во всех автобиографиях прослеживается идея организации 1 Ibid. Ibid. 3 Wiesfleсker H. Kaiser Maximilian I. Bd. IV. Wien. 1981. S. 400. 4 WK. S. 88. 5 Wiesfleсker H. Kaiser Maximilian I. Bd. IV. Wien, 1981. S. 400. 6 WK. S. 91. 2 100 крестового похода против турок. В этом случае мы должны признать, что идея организации нового крестового похода являлась idée fix императора. Однако Максимилиан находился не просто на перепутье средних веков и нового времени. Его правление пришлось на смену информационных эпох – переход от допечатного времени к времени работающего печатного станка, что совершенно изменило скорость появления и обращения информации, увеличило количество грамотных людей, которое продолжало возрастать с каждым годом, изменилась сущность воздействия печатного слова на людей. В такое время пускать на самотек дело освещения (в нужном ракурсе) истории династии, собственной жизни и правления было никак нельзя. Поэтому среди многочисленных дел императора существовал еще проект создания особых исторических и обучающих книг, многие из которых он планировал написать сам. Однако в плане реального воплощения своих проектов он остается целиком в средневековье. Взятые им образцы являются отражением средневекового сознания, его системы ценностей и стереотипов. Так, его многочисленные автобиографии не называют именно Максимилиана в качестве главного действующего лица – каждый раз читателю предлагается отождествить главного героя – будь то Белый король, Благомысл или Фрейдаль – с императором. В историю он вошел как покровитель наук, искусств, друг гуманистов, создатель литературных произведений. В этом контексте приобщенность к литературным трудам античности и средневековья расценивалась как составная часть высшего уровня качества жизни, к которому так тянулся Максимилиан. Но со временем по видимому этого оказывалось недостаточно, и возможность самому создавать литературные произведения означала возможность создавать альтернативный мифический образ мира, который больше напоминает Вселенную. А подобная деятельность уже сродни божественной. Однако его способ восприятия реальности апеллирует больше к Средневековью, поскольку его восприятие мира мифологизировано, с гораздо большей опорой на религиозные ценности, чем на гуманистические. Ю.Ю. Изотова* Средневековье и «старый порядок» в типологической концепции Н.И. Кареева Российский исследователь Н.И. Кареев известен в научной среде больше как историк-«всеобщник», теоретик, внесший большой вклад в развитие теории истории. Научное наследие Кареева в области социологии и философии истории давно вызывает интерес отечественных исследователей1. Решая задачи создания синтезной картины всемирной Изотова Юлия Юрьевна – аспирант кафедры истории древнего мира и средних веков СыктГУ. См. напр.: Золотарев В.П. Историческая концепция Н.И. Кареева: содержание и эволюция. Л., 1988; Мягков Г.П. «Русская историческая школа». Методологические и идейно-политические позиции. Казань, 1988; Синютин Н.В. Типологический метод Н.И. Кареева // Вестник Санкт-Петербургского университета. 1997. Сер. 6. Философия. Политология. Социология. Вып. 4; Парфенов О.Г. Филимонов В.А. Типологический * 1 101 истории, Н.И. Кареев постоянно обращался к изучению эпохи средневековья. Эта сторона научных интересов Николая Ивановича также не обойдена вниманием отечественных исследователей1. Средневековье рассматривается им с типологической точки зрения в работах «Поместье-государство и сословная монархия средних веков»2, «Абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков. Общая характеристика бюрократического государства и сословного общества «старого порядка»3. Обе упомянутые работы входят в общую серию «Типологических курсов по истории государственного быта». Типологический метод был разработан Кареевым для решения проблемы соотношения всеобщего и индивидуального в истории. Выработка обобщающего метода преследовала как научные цели – преодолеть разрыв между социологией и историей и на основе синтеза создать картину всеобщей истории, так и конкретные образовательные цели. Как писал сам Кареев, «долговременное внимание, уделенное вопросу о взаимных отношениях между социологией и историей, и потребности академического преподавания истории с социологическим, если не прямо экономическим уклоном на экономическом отделении Петербургского политехнического института, навели меня на мысль о, так сказать, среднем между историей и социологией направлении преподавания истории в виде изучения не единичных обществ (идиографически) и не общества вообще (номологически), а известных исторических типов»4. Как известно, в результате в 1903 – 1908 гг. вышли «пять томиков» «Типологических курсов по истории государственного быта», «из которых каждый был бы посвящен отдельному типу государственного устройства»5. Апробация теоретических построений в преподавательской практике, как школьной, так и университетской, разработка учебных книг обобщающего характера, в которых отражены общеисторические концепции, была характерной чертой историографии того периода, как и методологические дискуссии в печати и тесная связь с зарубежными университетами. Создавая собственную концепцию истории Западной Европы, Н.И. Кареев выделял в ней, прежде всего, эволюцию политических форм: метод Н.И. Кареева в свете современных исследователей по теории истории // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. М., 2001. Вып. 4; Золотарев В.П. Общая теория истории в понимании Н.И. Кареева // Новая и новейшая история. 2003. № 2. 1 См. напр.: Фролова И.И. Значение исследований Н.И. Кареева для разработки истории французского крестьянства в эпоху феодализма // Средние века. М., 1955. Вып. VII; Могильницкий Б.Г. О методе русской либеральной медиевистики (сер. 70-х XIX – начало 1900 г.) // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1967. Вып. 5. Т. 193. Сер. История; он же. Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX – начала 900-х годов. Томск, 1969; Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. М., 1974; Мягков Г.П., Суприянович А.Г. Проблема «главных основ средневековой истории» в изображении Н.И. Кареева // Ученые записки Казанского университета. Т. 134. Проблемы отечественной и зарубежной истории и историографии. Казань, 1998. 2 Кареев Н.И. Поместье-государство и сословная монархия средних веков. Очерк развития социального строя и политических учреждений в Западной Европе в средние века. СПб., 1906. 3 Кареев Н.И. Абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков. Общая характеристика бюрократического государства и сословного общества «старого порядка». СПб., 1908. 4 Кареев Н.И. Основы русской социологии. СПб., 1996. С. 80. 5 Кареев Н.И. Абсолютная монархия … С. 3. 102 «Типологическое направление явилось ни чем иным, как применением к историческим временам сравнительного изучения, которому принадлежит такое важное место в генетической социологии, изучающей генезис и ранние ступени эволюции социального быта человечества, именно быта государственного: теперь эта точка зрения была применена к изучению государственной жизни в ее главных исторических типах»1. В хронологических рамках истории средних веков Кареев выделял три политических формы, но все они связаны с процессом эволюции феодализма как главного основания средневековой истории. «В тысячелетний период истории Запада, известный под названием средних веков, там господствовали иные политические формы, сначала так называемое варварское королевство, потом феодализм, возникший из разложения варварского королевства и давший начало своеобразной форме феодальной монархии, и, наконец, монархия сословная, к концу средних веков начавшая уступать место абсолютизму»2. Медиевисты конца XIX – начала XX вв. придавали этому термину или политическое, или экономическое значение. Например учитель Кареева В.И. Герье «разделял восходящее к Ф. Гизо понимание феодализма как особым образом организованной иерархии сословий; он видел в нем вассально бенефициальную систему, связанную и с поземельными отношениями, и с политической организацией общества»3. Для Д.М. Петрушевского «феодализм в плане социологическом лишь идеально-типический образ, не совпадающий с конкретной действительностью, но помогающий ее осознанию. Материал для конструирования этого образа историк ищет в сфере политической и определяет феодализм как систему политически соподчиненных государственных в той или иной мере, тяглых сословий»4. Что касается взглядов Кареева на сущность феодализма, то его определение мы находим в работе «Поместье-государство». По замечанию Е.В. Гутновой – это «редкое в буржуазной историографии определение феодализма, в основании которого лежат отношения собственности» 5. По мнениию Кареева основой феодальной системы являлось «обладание крупной земельной собственностью, сообщавшее владельцу права государственной власти и ставившее в юридическую зависимость от него самого народную массу, которая вела самостоятельное хозяйство на мелких участках»6. В то же время Кареева критиковали за эклектизм в его трактовке феодализма. Однако, у Кареева «в постановках вопроса об «основах» средневековой истории речь идет о структурировании феномена «феодализм», а не о разных феодализмах, как это было Кареев Н.И. Основы русской социологии... С. 81. Кареев Н.И. Абсолютная монархия ... С. 4. 3 Кирсанова Е.С. Проблема генезиса западноевропейского феодализма в лекционном курсе В.И. Герье (1870/71 г.) // Средние века. 1982. Вып. 45. С. 197-198. 4 Черепнин Л.В. К вопросу о сравнительно-историческом методе изучения русского и западноевропейского феодализма в отечественной историографии // Средние века. 1969. Вып. 32. 5 Гутнова Е.В. Указ. соч. С. 322. 6 Кареев Н.И. Поместье-государство… С. 53. 1 2 103 воспринято критиками»1. Его понимание феодализма основано на синтезе политической организации и социально-экономического быта. Характеризуя феодализм, Кареев рассуждал о власти, а власть – категория политическая: «страна, где устанавливался феодализм, распадалась на множество мелких владений,…везде владельцы пользовались правами, которые принадлежат обыкновенно государям. Эти владения в одно и то же время были и как бы настоящими государствами, и как бы простыми поместьями. Власть феодального владельца была властью государя помещика или помещика-государя»2. Вторым элементом, отличающим средневековое государство, являлась его договорная основа. Договор как способ регулирования отношений использовался не только в период сословно-представительной монархии. «Феодальные владельцы заключали между собой договоры» 3, позже с появлением сословного представительства «договор заключался между государством в лице его представителя – короля – и обществом в лице представительства составляющих его сословий»4. Особенностью средневекового государства (будь то феодальное поместье-государство или сословно представительная монархия) как политического типа были особые отношения средневекового государства и общества. Они складывались так, что, не смотря на сословность общества, единый глава делится властью с общественными силами. Характеристику западноевропейского абсолютизма Кареев начинает с рассмотрения того, что представляет собой «старый порядок». О том, что является сущностью «старого порядка» можно узнать уже из названия томика – «Бюрократическое государство и сословное общество». С точки зрения хронологической последовательности – это продолжение «Поместья-государства», но с точки зрения типологических категорий «Бюрократическое государство и сословное общество» следует поставить в ближайшую связь с «Монархиями древнего Востока и Греко-римского мира», «потому что и в Европе XVI – XVIII веков, и в древности мы в сущности имеем дело с одною и тою же при всех ее разновидностях политическою формою»5. Как указывает сам автор, отличие «старого порядка» от средних веков именно в политической организации. Сословный строй «может существовать при разных политических формах. Сословное общество мы находим не только при бюрократическом государстве абсолютной монархии, но и при средневековых представительных («сословнопредставительных») учреждениях, и при полном развитии феодализма» 6. «Кареев одним из первых отечественных историков исследовал феномен Мягков Г.П. Суприянович А.Г. Указ. соч. Кареев Н.И. Учебная книга истории средних веков. СПб., 1900. С. 56. 3 Там же. С. 56. 4 Дунаева Ю.В. «Государство» и «общество» в исторической концепции Н.И. Кареева // Николай Иванович Кареев: человек, ученый, общественный деятель. Материалы Первой Всероссийской научно-теоретической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Н.И. Кареева. Сыктывкар, 5–6 декабря 2000 г. Сыктывкар, 2002. С. 58. 5 Кареев Н.И. Абсолютная монархия…С. 2. 6 Там же. С. 2. 1 2 104 абсолютизма как определенной политической формы. В его концепции абсолютизм предстает в качестве самодовлеющей политической формы, стремящейся к максимальному расширению сферы государственной власти»1. Кроме того, абсолютизм «старого порядка» был, по мнению Кареева, «возвратом к той неограниченной монархии, которую представляла собой Римская империя»2. Рассматривая средневековые политические формы, Н.И. Кареев больше внимания уделяет динамике перехода от феодального государства к сословно-представительной монархии. Е.В. Гутнова критиковала эклектизм воззрений Кареева его теоретических построений по поводу средневекового государства и абсолютной монархии «старого порядка»: «оставаясь в теории сторонником надклассовости государства, Кареев при конкретном рассмотрении сословной и абсолютной монархии нередко отмечал их классовые функции» – институты сословного представительства защищали интересы класса феодалов. Но если рассматривать только отношения государство – общество, в том, на что указывала Гутнова, нет противоречия – при переходе от одной политической формы к другой с эволюцией феодализма проявлялся «антифеодальный характер королевской власти» и ее «опора на народ» есть проявления процесса централизации власти. Давая характеристику «старому порядку», автор сам отмечал, что в ней «употребляя термины контовской социологии,…господствует статическая точка зрения, примененная к общему consensus'у общественных явлений»3. Что же по мнению Кареева является критерием при сопоставлении двух политических форм – средневековой и «старого порядка»? Рассуждения его построены следующим образом: «Каковы бы ни были сословные и классовые отношения в обществе, последнее или принимает участие в делах государства, или, наоборот, в этих делах участия не принимает»4. В первом случае единый глава делится властью с общественными силами, во втором – общественные силы исключаются из участия в политической жизни, власть сосредоточена в одном лице, «единственными представителями и проводниками этой власти в жизнь общества являются слуги верховного носителя власти – чиновничество»5. Различия и сходства между политическими типами основаны на отношениях государства и общества. На основании этого Кареев указывает на то, что деспотии древнего Востока, эллинистические царства, Римская империя и Византия с параллельными образованиями царства Сасанидов, Халифата, Турецкой империи и новой Персии с одной стороны и абсолютная монархия европейского Запада с Россией XVI – XIX вв. с другой, «могут быть названы явлениями одного и того же политического порядка» 6. И объединяет их «большее или меньшее устранение общественных сил от Дунаева Ю.В. Указ. соч. С. 58. Кареев Н.И. Абсолютная монархия… С. 4. 3 Там же. С. 6. 4 Там же. С. 4. 5 Там же. С. 3. 6 Там же. С. 4. 1 2 105 дел правления, соединение неограниченной власти в лице главы государства, управление государством исключительно при помощи государевых слуг»1. Кроме выявления главного отличия Кареев разрабатывал и вопрос преемственности политических типов. «Исходя из логической посылки, что схожие причины порождают схожие следствия, Н.И. Кареев считает возможным повторение одних и тех же явлений в государствах, принадлежащих к одному и тому же социологическому типу, и даже в государствах разных типов, если в них происходят аналогичные процессы»2. Как было указано выше, по мнению Кареева «эпоха абсолютной монархии на Европейском Западе была как бы возвращением к политическим формам императорского Рима»3. Однако Кареев отмечал и тот факт, что, поскольку эпоха абсолютизма на Западе хронологически далека от Римской империи, «старый порядок» как особый исторический тип, родственный типу древних монархий, обладает отличиями4. В предисловии к «Абсолютной монархии» Н.И. Кареев отмечал: «Во всех пяти курсах я держался одной основной идеи – рассмотреть каждый политический тип, иллюстрируя общие положения частными примерами из истории разных государств, освещая историю учреждений историей идей и ставя это в необходимую связь с историей экономического быта и классовых отношений»5. Специфика этого исторического этапа обусловлена, во-первых, тем, что «социальная сторона «старого порядка», то есть дворянские привилегии, приниженное положение средневековых классов, бесправность и даже крепостное состояние крестьянской массы имеет более древнее происхождение, нежели сторона политическая, т.е. королевский абсолютизм, бюрократическая централизация и полицейская опека или подчинение церкви государству»6. Особенности социальной структуры средневековья сказались на социальном устройстве «старого порядка». Исторический процесс мыслился Кареевым «как результат параллельного и равнозначного взаимодействия многих факторов – экономического, политического, биологического, идейного, психологического и т.п., не отводя ни одному из них теоретического приоритета»7. Поэтому он обращается к средневековому миросозерцанию «освещая историю учреждений историей идей»8. Чтобы показать, как складывалась политическая традиция абсолютизма в общественной мысли, Кареев указывает на то, что идея об абсолютной власти была сохранена именно в эпоху средневековья. Он отмечает существование двух «литературных традиций», в которых «политические традиции римского Там же. Парфенов О.Г. Филимонов В.А. Указ. соч. С. 228. 3 Кареев Н.И. Абсолютная монархия... С. 4. 4 Там же. С. 7. 5 Там же. С. 4. 6 Там же. С. 6. 7 Парфенов О.Г. Филимонов В.А. Указ. соч. С. 226. 8 Кареев Н.И. Абсолютная монархия... С. 4. 1 2 106 абсолютизма продолжали жить в тогдашней ученой литературе путем непосредственных заимствований из древних книг»1 – схоластической и юридической, основанной на рецепции римского права. Таким образом, социальная стратификация и развитие общественной мысли – точки соприкосновения двух политических типов: средневекового и «старого порядка». Сопоставление Средневековья и «старого порядка» как особых политических типов Н.И. Кареев строил на выявлении особых черт, присущих, прежде всего, их политической организации. Средневековое государство, будь то феодальное поместье-государство или сословно-представительная монархия, как политический тип было связано особыми отношениями со средневековым обществом. Они были основаны на возможности участия сословий во власти и договорной организации. Абсолютизм как феномен представлен в качестве самодовлеющей политической формы, в которой общественные силы исключаются из участия в политической жизни. Именно этот фактор, по мнению Н.И. Кареева свидетельствует о возврате к той неограниченной монархии, которую представляла собой Римская империя. Нахождение общих черт у политических типов, существовавших в разное историческое время, свидетельствовало о единстве мирового исторического процесса. Кареев подчеркивал, что переход от феодальной и представительной монархии средних веков к абсолютизму происходил эволюционным путем. С этим связана с одной стороны преемственность средневековья и эпохи «старого порядка», проявившаяся в двух аспектах – социальной стратификации и развитии общественной мысли. С другой стороны этим обусловлено отличие «старого порядка» как политического типа от монархий Греко-римского мира. Оценка им средневекового политического типа основана на классической идее прогресса, согласно которой средние века не обладали самоценностью, а являлись лишь подготовительным этапом для перехода к более прогрессивной эпохе нового времени. Л.М. Макарова* Миф Лени Рифеншталь Лени Рифеншталь прожила очень долгую (1902-2003 гг. – почти сто два года) и активную жизнь, в течение которой сменила много занятий. Вначале она увлекалась танцами и проявила себя как очень перспективная балерина. Затем, в результате изменившихся жизненных обстоятельств, наступила очередь кино, в котором она была вначале достаточно заметной актрисой, позднее режиссером, а в конце жизни интересовалась (и занималась) подводным плаванием и съемкой. Это было органичным дополнением ее постоянного интереса преимущественно к экстремальным Там же. С. 19. Макарова Любовь Михайловна – д.и.н., проф. кафедры истории зарубежных стран в новое и новейшее время СыктГУ. 1 * 107 видам спорта – альпинизму, горным лыжам. В силу такого оригинального самовыражения она постоянно привлекала внимание окружения. Но отношение общественности к ней было далеко не однозначным, поскольку определялось не только оценкой ее общей одаренности, но и сознанием связанной с этим ответственности. Снятый ею в период нацизма (1934) документальный фильм «Триумф воли», вошел в список запрещенных антинацистской цензурой как безусловно пропагандистский, в связи с чем после второй мировой войны (почти до конца жизни) Л. Рифеншталь была объектом постоянной критики, временами переходившей в травлю. Однако ее собственной позиции такое отношение не изменило, своей вины Рифеншталь так никогда и не признала. В мемуарах она подчеркнуто разделяет две области, искусство и политику, утверждая, что ее всегда интересовало только первое, и таким образом каждый раз косвенно повторяя вызов, брошенный еще в 40-е гг. Поэтому ее творчество, чем бы она ни занималась, вызывало, в первую очередь у деятелей искусства, вполне заслуженные похвалы, и одновременно оказывалось постоянным напоминанием о ее вине. Историография (в основном это работы по истории кино), содержащая сведения о Л. Рифеншталь, с большей или меньшей степенью детализации касается именно этой проблемы – соотношения искусства и политики в художественном творчестве. Известные специалисты по истории кино – Р. Мэнвелл и Г. Френкель1, Р. Губерн2, Е. Теплиц3 и Ж. Садуль4 в своих работах упоминали фильмы Рифеншталь, поскольку они были безусловно значимым явлением. Р. Мэнвелл и Г. Френкель в первую очередь закономерно отмечали колоссальный пропагандистский эффект фильма «Триумф воли», несопоставимого в этом своем качестве с другой нацистской продукцией, а потому предназначавшегося для демонстрации в том числе и за пределами Германии. «Триумф воли», по их сведениям, входил в число тех 96 фильмов, появившихся в период 1933-1945 гг., которые создавались по приказу и при финансировании государства 5. В 1935 г. фильм был представлен на венецианском кинофестивале и награжден Золотой медалью6. Р. Губерн, существенно более повехностный в некоторых оценках, приводит достаточно распространенный в литературе, хотя и недоказуемый тезис о Рифеншталь как личном друге Гитлера, работавшем по заказам последнего. Якобы именно по этой причине фильм «Триумф воли», в котором библейские сцены чередовались с языческими, стал прославлением нацистского режима. Несмотря на некоторую сумбурность и слабую логичность аргументации, Р. Губерн правомерно отметил явное тяготение нацистской идеологии к гностицизму, выйдя, таким образом, за рамки чисто популистских рассуждений. Его внимание привлек и второй 1 Manvell R., Fraenkel H. The German cinema (1895-1960). L., 1971; Manvell R. Film and the second world war. South Brunswick and New York, 1974. P. 54-57. 2 Gubern R. Historia del cine. V.1-2. Barcelona, 1969. 3 Теплиц Е. История киноискусства. М., 1973. 4 Sadoul G. Histoire générale du cinéma. T. 6. Le cinéma pendant la guerre. P., 1954. 5 Manvell R., Fraenkel H. Op. cit. P. 78, 82. 6 Manvell R. Op. cit. P. 54-57. 108 фильм Рифеншталь – «Олимпия», об олимпийских играх 1936 г., проводившихся в Германии. В нем Губерн акцентирует внимание не только на содержательной стороне пропаганды, гораздо менее здесь значительной, но и подчеркивает бесспорные художественные достижения фильма – внимание к деталям, скрупулезную точность показа действующих лиц, включая их мельчайшие мимические движения. По его мнению, в фильме отражен триумф человеческого тела1. Такой была цель и самой Рифеншталь, обусловившая впоследствии ее погруженность в мир примитивных культур эскимосов и нуба 2. Максимальное внимание к телесности было характерным не только для фильмов о спорте, но и для ориентированной на войну нацистской идеологии3. Но, в отличие от нацистов, Рифеншталь был чужд расизм, напротив, она считала, что подлинная красота сохранилась только у примитивных народов, считавшихся официальной пропагандой «недочеловеками». Е. Теплиц и Ж. Садуль придерживались в своих работах марксистской ориентации, уделяя внимание монополизации киноиндустрии при нацизме и однозначно осуждая творчество Рифеншталь. Ж. Садуль, отметив, что наибольшей пропагандистской направленностью отличалось при нацизме документальное кино, тем не менее о Рифеншталь упоминает только в связи с ее неоконченным художественным фильмом «Долина», оставляя в стороне анализ ее достижений в области документалистики4. З. Кракауэр, специалист по психологии кино, отдавая должное мастерству Рифеншталь, в то же время проводит параллель между ранними фильмами с ее участием, из так называемого «горного цикла»5, и «Триумфом воли», усиливая ее вину за счет распространения взглядов Рифеншталь на более ранний период творчества6. Анализ содержащихся в современной зарубежной историографии оценок творчества Рифеншталь, как безусловно пронацистского, приводит В. Колязин в Приложении к ее Мемуарам. Он же обращает внимание на вполне толерантное к ней отношение в современной России7. Сама Рифеншталь считала, что наиболее справедливую точку зрения на ее жизнь и творчество высказывает Ш. Форд8, чья работа носит 1 Gubern R. Op.cit. P. 466-468. Нуба – одно из племен южного Судана. 3 Подробнее см.: Макарова Л.М. Идеология нацизма. Сыктывкар, 2005. С. 131-140. 4 Sadoul G. Histoire générale du cinema... P. 30. Отзыв Садуля об этом фильме весьма пренебрежительный. По его мнению, танцует и играет Рифеншталь одинаково посредственно. 5 «Горный фильм» – последний этап немого кино, фильмы-эксперименты, с выявлением максимальных в тот период возможностей как кинокамеры, возможностей монтажа, так и актерской игры. Они включают не только горные пейзажи, но и съемки экстремальных ситуаций, выполняемые в условиях отсутствия дублеров или возможностей хотя бы страховки актера в период съемки. Рифеншталь Л. Мемуары / Пер. с нем. М., 2006. С. 75-76. Справедливости ради следует отметить, что «горный фильм» одобрялся нацистами, и многие его достижения применены в фильме «Триумф воли». 6 Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино. От Калигари до Гитлера. М.,1977. С. 265-266. Эту точку зрения разделяют также Р. Мэнвелл и Г. Френкель. См.: Manvell R., Fraenkel H. The German cinema (1895-1960). P.7. 7 Колязин В. Лени Рифеншталь, не раскаявшаяся и не прощенная // Рифеншталь Л. Указ. соч. С. 637-638, 641. 8 Ford Ch. Histoire populaire du cinema. Tours, 1955. См. Рифеншталь Л. Указ. соч. С. 594. Ш. Форд – французский историк кино и журналист. Рифеншталь ссылается на написанную им ее биографию. 2 109 популярный характер, позволяя весьма поверхностно трактовать вопрос о связи искусства и политики. Особо можно отметить специальную биографическую работу О. Салкелд, написанную с подчеркнуто феминистических позиций и представленную как попытку автора выяснить, какую роль сыграло женское начало в судьбе Рифеншталь1. Для Салкелд характерно стремление обелить свою героиню, в том числе при помощи максимальной эмоционализации изложения и беллетристичности повествования. Роднит ее с мемуарами Рифеншталь еще и способ изложения, который обычно называют «женским», для него характерна чрезмерная детализация при пересказе малозначительных эпизодов и в связи с этим огромное количество действующих лиц. Политические события в ее работе, как в мемуарах Рифеншталь, приобретают характер межличностных взаимоотношений, часто интриг. Доминирует в этой книге именно проблема творчества в период нацизма, остальным обстоятельствам жизни Рифеншталь уделено существенно меньше внимания. Отечественная история киноискусства демонстрирует практически полярный разброс мнений. В исследовании В. Колодяжной и И. Трутко представлена непримиримая позиция осуждения Л. Рифеншталь 2. Авторы относят к пропаганде нацизма также фильм «Голубой свет», снятый в 1931 г. и продолживший «горный цикл». Но тяготение к иррациональности было свойственно в целом германскому искусству межвоенного периода и не являлось непосредственным проявлением профашистских тенденций. Способ интерпретации гор в этом фильме привлек внимание нацистов скорее как художественный, чем идеологический прием. Однако с течением времени ситуация изменилась настолько, что одиозный фильм Рифеншталь уже далеко не всегда наталкивался в России на решительное и однозначное осуждение. В специально посвященном проблематике фашизма номере журнала «Искусство кино»3 приведены и альтернативные мнения. В 2001 г. на российском фестивале «Послание к человеку» Л. Рифеншталь получила приз «Золотой кентавр» с пояснением «За неоценимый вклад в развитие мирового кинематографа». Приз вручался в Санкт-Петербурге 21 июня, в памятную годовщину начала Отечественной войны, что делало гротескной всю ситуацию. Помимо этого, визит Рифеншталь широко освещался в прессе, которая демонстрировала максимальную к ней благожелательность. В Санкт-Петербурге фильм «Триумф воли» готовы были демонстрировать на большом экране, полностью пренебрегая общественным мнением4. Учитывая столкновения мнений относительно художественного уровня творчества Рифеншталь, ее одаренности, можно считать, что запечатленная в ее творчестве, а позднее закрепленная в ее же мемуарах Салкелд О. Лени Рифеншталь. М., 2007. С. 6. Колодяжная В., Трутко И. История зарубежного кино. М., 1970. Т. 2. С. 268-269. 3 Искусство кино. 1994. № 10. В этом номере поставлен и положительно решен вопрос о вине Л. Рифеншталь. 4 В одной из петербургских газет появилась статья ветерана Великой Отечественной войны, протестовавшего против показа фильма «Триумф воли» в центральном кинотеатре города. В конечном итоге показан был только фильм «Олимпия». См.: Ковалов О. Нетерпимость // Искусство кино. 2008. № 8. С. 85. 1 2 110 картина культурной истории середины ХХ в. до сегодняшнего дня остается полем непримиримой враждебности двух противоположных взглядов на нацизм. Безусловно, для создания такого устойчивого впечатления необходим значительный талант. В нацистской Германии выпускались сотни пропагандистских фильмов, большинство из них не вышли за пределы своего времени. Мемуары, русский перевод которых появился в 2006 г., Л. Рифеншталь начала писать, по ее собственным словам, в 1982 г. В 1987 г. они были закончены и тогда же появилось их немецкое издание1. Доминанта мемуаров – творчество, вначале балетное, а затем кино, и его восприятие2. Главное для Рифеншталь – это эмоциональная и двигательная активность, действие, которому она отдает явное предпочтение, демонстрируя одержимость профессией, стремление во что бы то ни стало вернуться в киноиндустрию. Остальное – ее внешность, популярность, умения – оказывается на втором плане, как закономерный результат прилагаемых усилий. Ее мемуары – по существу художественное произведение, в основе которого лежат реальные события. Мемуары построены по принципу сценария, четко структурированы, подразделяются на четыре тематических раздела: «Танец и фильм», «Во время войны», «Послевоенное время», «Африка». Единого критерия здесь нет, два раздела обозначены по хронологическому принципу и два – тематически, по объему они далеко не равнозначны. Войне и послевоенному периоду отводится в ее повествовании существенно меньше места, чем другим разделам, возможно, по причине неизбежности тогда упоминаний о политике. В мемуарах содержатся сведения по истории кино как искусства, литературе, информация о деятелях кино и балета в Германии первой половины ХХ в. Много материалов о ее собственном опыте в кино периода «горного цикла». Внимание уделяется и собственно организации процесса, взаимоотношениям режиссера и киностудии. Каждый раздел включает как непосредственные действия, так и диалог, действие словесное, удерживающее внимание читателя больше, чем обычная мемуарная описательность. В итоге получается не восприятие содержащейся в мемуарах информации в целом, а цепь реакций читателя на поступки и характеры действующих лиц (при описании, например, разного рода мошенничеств, с которыми Рифеншталь пришлось столкнуться). Видит она при этом только себя, поэтому просто возмущается человеческой неблагодарностью и коварством. Личностное отношение доверительно, поэтому она не может разглядеть явного мошенничества ни в какой области. Она с обманчивым простодушием рассказывает в мемуарах, как поступает по отношению к ней окружение, как против нее выступали люди, действительно запятнавшие себя сотрудничеством с нацизмом, и у читателя возникает впечатление неправомерности подобных поступков. Мошенничество по отношению к ней частных лиц и ее обвинения в 1 2 Рифеншталь Л. Указ. соч. С. 631-632. Там же. С. 78. 111 сотрудничестве с нацизмом выглядят при этом равнозначными. Повествование ориентировано на достижение сопереживания читателя и, в конечном счете, разделение ответственности за счет одобрения действий Рифеншталь. Сама она предстает в этих ситуациях случайной жертвой несправедливости окружения. Для женского восприятия жизни характерно стремление опереться на сочувствие и поддержку извне. Она максимально, в отличие от большинства мемуаристов, сохраняющих дистанцию, приближает себя к читателю, стремится превратить его в единомышленника. Эта особенность повествования Рифеншталь придает колоссальный пропагандистский заряд ее творчеству. Отнюдь не случаен колоссальный пропагандистский эффект «Триумфа воли»1. В ее воспоминаниях, как это присуще большинству мемуаров, не особенно тщательно отражено время, юность и другие возрастные характеристики практически отсутствуют. Такая временная стертость не предполагает динамики отношения к реальности, не подразумевает «взросления», жизненного опыта в привычном понимании развития человека, формирования ответственности. Доминирует статика, хотя и упоминается, что прошли годы. Вместе с тем это типично женское восприятие реальности, в основном только через настоящее время. События прошлого, рассказанные с такой позиции, приобретают существенно большую эмоциональную окраску. Вместе с тем, этот по видимости простой способ повествования в мемуарах становится методом изложения, удобным для того, чтобы избежать оценок. Нацистский период в особый раздел не выделен, поскольку, по представлениям Рифеншталь, определяющей в жизни оказывается не политика. Иногда, правда, она упоминает о «железной руке режима», но только в связи с какими-либо непредвиденными сложностями. Однако применительно к жизни в целом 12-летний период нацистского господства (1933-1945) остался для нее очень ярким воспоминанием, временем триумфа, создания самых значительных фильмов, особенно если учесть, что дальнейшая ее деятельность на этом поприще целенаправленно блокировалась. В мемуарах она подробно рассматривает, например, технические проблемы, возникавшие при съемках ее главных фильмов, «Триумф воли» и «Олимпия», попутно искренне недоумевая, за что ее бойкотируют, если получились хорошие фильмы. Через весь текст проходит бесконечная обида на отвергнувший ее мир. В подобных рассуждениях всегда на первом плане остается ее творчество. Повествуя о своих фильмах, она приводит в целом положительную реакцию на них аудитории разных стран, аплодисменты, встречающие появление на экране Гитлера. Это служит для нее оправданием, критерием не только ее собственной неспособности в свое время адекватно оценить режим, но и преследующего ее сейчас общества. Она не раз упоминает о собственной негативной реакции на единственное увиденное собственными глазами убийство людей в период войны с Польшей, что привело ее к отказу стать фронтовым корреспондентом, и 1 Там же. С. 499. 112 высказывает обиду на журналистов, которые именно эти кадры впоследствии привлекли для доказательства ее осведомленности о концлагерях. Но документальное творчество Рифеншталь, чтобы быть востребованным, должно было получить одобрение властей. Чисто поженски она не видит (или не желает видеть) зависимости собственного творчества от власти и, следовательно, от действий этой власти. Такая избирательная невнимательность была характерной в период войны для многих немцев, помогая избежать укоров совести, не воспринимаемое переставало существовать. Однако, если ее фильм несопоставим с другими, то и воздействие его должно быть много сильнее обычной ремесленной поделки. В данном случае ориентиром является оценка лидерами нацизма ее заслуг – награды, премии. Официальная власть, вопреки идеологически навязываемой концепции гендерных ролей поручила женщине снимать пропагандистскую документалистику. Впрочем, официальный идеолог нацизма А. Розенберг достаточно места в своих работах уделял вопросу государственного использования личной одаренности не только мужчин, но и женщин1. Характеристика нацизма в ее книге отсутствует, отношение к нему Рифеншталь не формулирует, ее мышление очень конкретно, и для нее существуют только люди, а не явления. Поэтому политика в ее мемуарах представлена как корыстные столкновения групп или отдельных людей. Число этих людей огромно, некоторым из них она искренне признательна, другими откровенно недовольна, но старается никого не осуждать, следуя принципу «не судите, да не судимы будете». На всем протяжении мемуаров она не устает это повторять, говорить о своей ориентированности на личностное отношение. Трудно сказать, сколько практического обоснования в подобной позиции. В частности, напряженные отношения с министром пропаганды Й. Геббельсом в мемуарах подаются как неудачное увлечение министра и его месть. Такая интерпретация сводит проблему нацизма и ответственности за него до уровня малозначительных личностных конфликтов. Упоминает она также о чисто человеческом сочувствии Гитлеру в конце 1932 г.2. Возможно, это имело место, но не могло объяснить всей ситуации. Она не могла не видеть отъезда из Германии деятелей культуры, и этот факт отражен в мемуарах. Тем не менее она хотела остаться и работать именно там, не отдавая себе отчета в возможных последствиях. Конечно она не была единственной, число оставшихся в Германии деятелей культуры составляло 42 тысячи человек3. Суд ее оправдал4, но, поскольку раскаяния не последовало, общественное мнение осталось непреклонным. Необходимо учесть и то, что у художников, творивших в период диктатуры, последующая творческая судьба зависит и от того, как этот режим записан в матрице памяти поколений, и от их собственной последующей позиции. Проблема преодоления нацизма была достаточно 1 Rosenberg A. Der Mythus des 20. Jahrhunderts: Eine Wertung der seelisch-geistigen Gestaltenkämpfe unserer Zeit. München, 1934. S. 305. 2 Рифеншталь Л. Указ.соч. С. 126-127, 141, 147. 3 Manvell R., Fraenkel H. Op. cit. P. 70-71. 4 Ibid. P. 328-329. 113 острой во второй половине ХХ в., и это обрекало на преследования тех, кто был им одобрен, но не признал своих заблуждений. Талант и его судьба составляют особую тему в германской истории. В данном случае можно соотнести судьбу Рифеншаль с судьбой Л. Тренкера, Г.-В. Пабста, В. Крауса, Ф. Харлана – тех наиболее значительных деятелей кино, которые также сотрудничали с режимом1. Пабст, в частности, работал вместе с Рифеншталь над фильмом «Долина»2. Но всех их от Рифеншталь отличает покаяние – уважение к общественному мнению, признание его решающей роли. Отмеченные обстоятельства накладывают отпечаток на оценки со стороны Рифеншталь окружавшего ее мира, суждения о людях, с которыми ей доводилось встречаться или сотрудничать. Женщин в ее повествовании существенно меньше, чем мужчин, при ее роде занятий это вполне объяснимо. Определяющими оказываются два фактора, которые пронизывают мемуары и позволяют говорить о единстве восприятия и одновременно его противоречивости. С одной стороны, это чисто женское представление о мире, в котором безусловной опорой являются мужчины. Такая установка характерна для Рифеншталь на протяжении всей ее жизни, вне зависимости от уровня ее собственной иногда поразительной несгибаемости. Вторая же сторона – ее тяготение к чисто мужскому времяпрепровождению – экстремальным видам спорта, поездкам в страну, охваченную войной или мятежом. На первый взгляд, эти две стороны взаимно противоречат друг другу, но они также помогают Рифеншталь построить в мемуарах единую картину мира, в каждом конкретном случае избирая, временами бессознательно, именно тот ракурс, который дает максимальную возможность манипулировать словами и поступками, переключать внимание читателя. Только в одном случае этот способ оказывается неадекватным – в отношении к политике. В мемуарах, как бы в подтверждение этого, Рифеншталь рассматривает историю своей жизни с позиции анализа межличностных отношений, преимущественно гендерных, отказываясь учитывать иные обстоятельства, в частности, политические взгляды окружения. Единственный случай – встреча с французским рабочими, чьей реакции она не поняла (во время визита в страну с рекламой собственного фильма ее встретили протестным пением «Интернационала»). В отношениях ее с людьми практически всегда преобладают эмоциональные оценки, что влияет на восприятие этих людей читателем и соответственно при повествовании может создать искаженную картину реальности. Иногда эти особенности отмечает она сама, например, впечатление от А. Шпеера после его тюремного заключения. Встретившись с Шпеером, Рифеншталь поражается его самообладанию, внутренней силе 3. Ф. Харлан, в частности, был режиссером одного из наиболее одиозных антисемитских фильмов «Еврей Зюсс», прямого призыва к уничтожению евреев. В 1949 г. он был осужден по обвинению в преступлениях против человечества, но после отбытия наказания (в общественном мнении равносильного раскаянию) смог работать по специальности. См.: Sadoul G. Op. cit. P. 21; Колодяжная В., Трутко И. Указ. соч. С. 268; Теплиц Е. Указ. соч. С. 136. 2 Рифеншталь Л. Указ.соч. С. 262. 3 Рифеншталь Л. Указ. соч. С. 502. 1 114 Она рассматривает этот эпизод в наиболее близком ей гендерном ключе, но для внимательного читателя на первый план выдвигается прежняя проблема восприятия ответственности. Она забывает добавить, что Шпеер был единственным из осужденных Нюрнбергским трибуналом нацистских преступников, кто признал свою вину. У нее самой кратковременное заключение, воспринятое как высшая несправедливость, сопровождалось истерической реакцией, она дословно «билась головой о стену» 1. Такая позиция могла бы принести результаты, если бы проблема ответственности Рифеншталь была немного иной, касалась бы менее злободневного сюжета, затрагивавшего интересы меньшего количества людей. В ее окружении встречались люди с различным отношением к нацизму, зачастую они руководствовались и конъюнктурными интересами, стремлением уйти от ответственности в послевоенный период. Нападки на Рифеншталь должны были служить самооправданием. Непосредственность восприятия реальности иногда роднит ее с представителями примитивных культур – эскимосами, нуба. Разумеется, Рифеншталь от них достаточно дистанцирована, при всей теплоте отношений равными себе она их не считает, называет «мои нуба», относится покровительственно, хотя и одновременно восхищается, Она знакомит их с достижениями цивилизации, а впоследствии сожалеет об их явной деградации в новых условиях существования. И для них тоже характерно эмоциональное восприятие, иными возможностями они не располагают, а потому и не могут органично войти в изменившийся мир. Виртуальный мир, в котором она существует, мало отражает реальное положение дел. Достаточно оценить список нереализованных проектов или иных дел – например, строительства дома в местах расселения народа нуба2. Ее мир частично мифологизирован, в нем нет жестких причинноследственных связей. Двойной интерес представляет ситуация Л. Рифеншталь с точки зрения не только ее собственной судьбы, но и судьбы женщин в ее фильмах3. Главная цель Л. Рифеншталь, насколько можно судить как по ее художественному, так и по документальным фильмам, заключалась в показе максимального единения человека и природы, что само по себе предполагает повышенное внимание именно к биологической сущности человека. На первый план в «Олимпии» выступает невербальный «язык тела», проявляющийся в выверенности движений спортсменов, ставящих новые рекорды или просто марширующих во время парада4. Это наглядно проявилось у Рифеншталь в сцене гимнастических упражнений, которые выполняют заполнившие весь стадион женщины, максимально включенные Там же. С. 294. Там же. С. 498. Эта мечта приобрела масштабность в период крайних финансовых сложностей Л. Рифеншталь. 3 Много материала на эту тему предоставляет документальный фильм «Замечательная и ужасная жизнь Лени Рифеншталь», снятый Р. Мюллером в 1993 г. 4 Особенно наглядно это продемонстрировано при помощи скрупулезной детализации кадров переноса тела через планку в сценах прыжков с шестом. 1 2 115 в коллективное действие, как в гипнотический транс 1. Подчинение человека оказывалось не только пространственным, но и временным (правильнее было бы сказать – вневременным). Новая визуальная интерпретация телесности приводила к тому, что тело, которое обычно переживается человеком как принадлежащее ему, оказывалось в гораздо большей степени атрибутом внешнего мира. Моделирование «арийского» человека осуществлялось прежде всего через физическую подготовку, которая демонстрировалась во время бесконечных парадных шествий, тогда социальное тело не должно было выделяться из других тел, но одновременно это может быть и единство с природой. Главная цель, насколько можно судить по ее документальным фильмам, заключалась в показе максимального единения человека и природы, что само по себе предполагает повышенное внимание именно к биологической сущности человека. Такой подход характерен и для ее актерской работы: Юнта из фильма «Голубой свет» 1932 г. (одновременно первого режиссерского опыта) – существо абсолютно дикое, отрешенное от прозаического мира, принадлежащее мистическому пространству гор и в итоге погибающее в горах. Но одновременно Юнта – женщина, слабая и потому нуждающаяся в мужской опеке и защите. В воспоминаниях и высказываниях Рифеншталь сопоставляет свой опыт вначале актрисы, по ее утверждению, вполне независимого существа (и это понятно, поскольку она не выходит здесь за отведенные женщине границы), затем женщины-режиссера. В мемуарах она, не объясняя причин, упоминает о противостоянии съемочной группы ее режиссерским требованиям и даже о бойкоте, с которыми она столкнулась в 1934 г., при съемках фильма «Триумф воли»2. Она страдает от деспотической режиссуры Г.-В. Пабста при съемках «Долины»3. Но в интервью 2001 г. она уже оценивает свою профессиональную карьеру с феминистской точки зрения, как проникновение в мужской мир, и описывает все протесты против ее позиции как агрессивную реакцию со стороны этого мира4. В мемуарах Л. Рифеншталь происходит столкновение коллективной памяти о прошлом бесчисленных жертв нацизма и мифологизированного мира, созданного Л. Рифеншталь. Этот мир имеет четко выраженный приоритет – творческое начало, в любых его проявлениях, с одним условием – апелляцией к миру красоты, будь это красота человеческого тела, заснеженных горных вершин или подводного мира. Рифеншталь обращается не к реальному, достаточно политизированному миру, где эти ценности занимают не очень значительное место, а к созданному ее творческой фантазией, виртуальному. Такое обращение может иметь успех Эту черту нацизма Л. Рифеншталь демонстрирует в фильме «Триумф воли» о Нюрнбергском партийном съезде НСДАП 1934 г. Стандартизированные, облаченные в униформу людские массы перемещаются в шествиях на протяжении всего фильма. В мемуарах она даже сетует на монотонность бесконечно марширующих колонн и на неизбежную скуку монтажа подобного рода кадров (см.: Рифеншталь Л. Указ. соч. С. 91). На экраны фильм вышел в следующем, 1935 г. 2 См.: Рифеншталь Л. «Триумф воли» // Искусство кино. 1994. № 10. С. 83. 3 Рифеншталь Л. Мемуары… С. 262. 4 Рифеншталь Л. Вплоть до одержимости // Искусство кино. 2001. № 8. С. 88-89. 1 116 только в условиях политически достаточно нейтральной тематики. Талантливо сделанный пропагандистский фильм обладает значительной эффективностью, сравнительно с творением посредственностей, и общественность, несмотря на прошедшие годы, осталась непримиримой именно к творчеству Рифеншталь. Однако эта перестановка акцентов, нежелание учитывать реальность, неумение взглянуть на память пережитого глазами других, при определенных обстоятельствах могут иметь достаточно тяжелые последствия, и Рифеншталь расплачивалась за это всю жизнь. В ее творчестве произошел отрыв эстетики от этики, что в значительной степени было характерным для культуры Германии в первой половине ХХ века и облегчило распространение идей нацизма. В.А. Семенов, Д.А. Несанелис* Литературный этюд (рыт пукалöм) Питирима Сорокина в этнологическом контексте Анализируемый текст является первой попыткой П.А. Сорокина переложить этнографические наблюдения на литературный язык. Очерк был опубликован в «Архангельских губернских ведомостях» (1910, № 2003) под дополнительным названием «Рассказ из жизни северной деревни». Очерк П.А. Сорокина достаточно полно описывает осенне-зимние коми посиделки, хотя из текста видно явное удаление от традиционной обрядовости. В этом контексте само обозначение «посиделки» является условным, что вытекает из комментариев самого автора. Так он утверждает, что посиделки устраивались в домах, хозяева которых слыли хорошими рассказчиками и были пожилого возраста. Репертуар их выступлений якобы содержал волшебные сказки, былички, охотничьи рассказы. Полный текст с комментариями был переиздан нами в журнале «Живая старина» (4/20, 1998). Наиболее историчным можно отметить фрагмент рассказчика под именем «Лав Вась», описывающий события на о. Шойнаты в окрестностях с. Сторожевск (ныне Корткеросский р-н), во время которых была принесена в жертву девушка. Уже во второй половине двадцатого века «подлинность» рассказа подтвердили раскопки К.С. Королева в урочище Джуджыд яг на западном берегу о. Шойнаты. Здесь было выявлено средневековое святилище, а также и средневековый могильник. Характерно, что этот район в традиционных коми представлениях связан с легендарной чудью, что требует дополнительного расследования. В коми легендах и преданиях предки коми выступают под этнонимом «чудь», который в тоже время распространен от Алтая до Прибалтики. При этом, например, в Архангельской области легендарная «чудь» воспринимается как враждебная русскому населению. В коми культурной традиции «чудь» выступает как нехристианизированное население достефановской эпохи. Существуют предания, согласно которым «чудь» мстит коми христианам за то, что они якобы отказались от языческой Семенов Виктор Анатольевич – д.и.н., проф. кафедры источниковедения, археологии и этнографии СыктГУ; Несанелис Дмитрий Александрович – д.и.н., проф. Поморского государственного университета. * 117 религии. В контексте археологии примечательно, что существует ряд преданий по которым «чудь» при появлении Стефана Пермского ушла в землю и сожгла себя. В свое время достаточно обоснованную типологию коми преданий о чуди предложил Ю.Г. Рочев. Так он выделил следующие сюжеты: «чудь, которая погребла сама себя», чудь «убегающая», чудь «воинственная»1. В первом цикле преданий чудь жила в землянках с крышей на четырех столбах и погребла себя при христианизации. Информаторы ссылаются на находки различной утвари, якобы обнаруженной когда-то на местах мифического обитания чуди. Во втором цикле преданий чудь спасается от христианизации, передвигаясь на Север, однако по пути теряя утварь и частично погибая. Характерно, что на Вашке, где были отмечены подобные предания, известен и средневековый могильник2. В народном представлении именно с убегающей чудью связаны многочисленные гидронимы и топонимы на территории обитания современных коми. В этом контексте особенно показательны обозначения отдельных локусов. По сведениям Ю.Г. Рочева, в окрестностях с. Пезмог (р. Вычегда) была известна дорога под названием «Важ йоз туй (дорога древних людей). По этому пути древние люди уходили в сторону другого коми селения Важкурья3. Примечательно, что на этом пути в урочище Шойна яг (лес мертвых) был исследован средневековый могильник, который местное население связывает с захоронениями легендарной чуди. В последние годы в этом локусе также обнаружены и древности, датирующиеся эпохой мезолита и неолита4. Сюжеты, связанные с «воинственной чудью», отмечаются в районах на периферии расселения коми и возможно связаны с более поздней фольклорной традицией. Тем более, что, например, в районе с. Сторожевск (р. Вычегда), где были отмечены подобные былички, исследован средневековый могильник в урочище Шойнаты (озеро мертвых), относящийся к культуре Перми Вычегодской, носители которой были предками коми5. Подобный разброс о характере и принадлежности легендарной чуди отмечается и современными фольклористами6. «Здесь в горе жили, старые египетские тропы видны, а кто жил – не знаем. Эти древние люди, черные люди, как чудь, люди боялись. Они ходили египетскими тропами. Чудь пропала. Начался голодный год, и все так погибли или мигрировали. Говорили же, настал голодный год, вырыли ямы и столбы подрубили и сами себя там погребли. <…> Своя нация у них какая-то, свои люди» (д. Кошки, р. Вымь). Рочев Ю.Г. Национальная специфика коми преданий о чуди // Научные доклады. Вып. 124. Сыктывкар, 1985. 2 Савельева Э.А. Пермь Вычегодская. М., 1971. С. 15. 3 Рочев Ю.Г. Национальная специфика…С. 9. 4 Королев К.С. Пезмогский могильник // Древние памятники Северного Приуралья / МАЕСВ. Вып. 8. Сыктывкар, 1980. 5 Королев К.С. Раннесредневековый могильник Шойнаты 1 // Древние памятники Северного Приуралья / МАЕСВ. Вып. 8. Сыктывкар, 1980. 6 Анкундинова М.А., Филиппова В.В. Историческая память в устных преданиях коми. Сыктывкар, 2005. 1 118 «Чудские эти здесь повсюду попадаются. Чудские могилы попадаются. Их в православную веру обращали, а они могилу выкопали и прячутся. Потолок сделали и туда и прятались. Сами себя туда и придавили. Теперь в таких местах раскапывают, и попадаются ножи и старинные деньги. <…> Они были местные и коми. Не поддались православной вере» (д. Удор, р. Вымь). «Чудь она тоже коми была, из Пермской области в основном. <…> Коми и пермяки они ничем не отличаются. Они тоже по-коми говорят.» (с. М. Аныб, р. Вычегда). Несомненно, что большая часть фольклорных материалов связана с археологической Вымской культурой и скрывающейся за ней Пермью Вычегодской. Характерно, что средневековое население Европейского Северо-Востока впервые появляется в «Степенной книге» под именем «пермь», которая в более позднее время ряд исследователей связывали с легендарными «биармийцами». Не останавливаясь на критике подобных гипотез следует отметить, что этноним «пермь» по отношению к предкам коми (зырян) просуществовал достаточно долго. Он отмечен в Житии Стефана Пермского, в ряде новгородских летописей более поздних источниках с различным племенным расширением: «Пермь вилегодская», «лузская пермца» и т.п. В «Повести временных лет» среди других народов отмечен и этноним «чудь». «В Афетове же части сидят Русь. Чудь и вся языцы. Меря, Мурома, Весь, Мордва, Заволочьская Чудь, Пермь, Печера, Ямь, Угра»1. В народной традиции средневековые могильники, зачастую расположенные в окрестностях современных деревень, обозначаются как «чудь гу» (чудские ямы). Иногда происходит переименование в русском контексте. Так одна из коми деревень получила название по расположенному рядом Вадьягскому могильнику – «Гу черт» (чёртовы ямы). Для прояснения этой проблемы следует обратится к материалам топонимии и гидронимии. Так, среди гидронимов в этом ряду следует отметить: р. Чудью, о. Чудинты и т.п. Среди топонимов можно указать на существование микролокусов. Так в верховьях р. Вычегда расположено урочище «Чудин чурк» (чудской холм), рядом с которым обнаружено поселение раннежелезного века и современное кладбище. В бассейне р. Сысола отмечены ряд урочищ с названиями «чудской городок». Характерно, что эти псевдо городки не содержат археологического материала и, вероятно, были связаны с какими-то культовыми местами дохристианского населения Европейского Северо-Востока. В то же время ряд средневековых городищ, связанных с «чудской» проблематикой несомненно связаны с культурой Перми Вычегодской. Так средневековое Пожегское городище, открытое еще в 20-х годах ХХ в. А.С. Сидоровым и исследованное в наше время Э.А. Савельевой и М.В. Кленовым, связано и с преданиями о «чуди». Ю.Г. Рочевым опубликована быличка, согласно которой на этом месте известна глубокая яма, в которой «чудь» спрятала свое золото2. 1 2 Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку / ПСРЛ. Т. 1. М., 1962. Стб. 4. Рочев Ю.Г. Коми легенды и предания. Сыктывкар, 1984. 119 Материалы погребального обряда Перми Вычегодской (XI-XIV вв.) позволяет пролить свет и на загадочное самосожжение «чуди». Именно для этого периода было характерно трупосожжение. После христианизации края возобладало трупоположение, но память о предшествующих обрядах осталась. Показательно, что многие мифологические представления средневековой «Перми» продолжали как в сознании, так и в ритуальной практике коми (зырян). Э.А. Савельевой было отмечено воспоминание жителей п. Божьюдор, согласно которому еще в 30-е г. ХХ в. население соседних вымских деревень приходили поминать своих предков на «чудские ямы», расположенные в 4-х км. На месте этих мифических ям Э.А. Савельевой был исследован крупнейший на Европейском Северо-Востоке средневековый могильник1. Подобная связь обнаруживается и в комипермяцкой культурной традиции. Так, по сведениям Л.С. Грибовой, комипермяцкие колдуны проводили наиболее значимые гадания на топоре на средневековых («чудских») могильниках. Связь с архаичными мировоззренческими установками сохранилась и в традиционной культуре коми. Это представление о Севере, как стране «мертвых», а именно в направлении Север-Юг были ориентированы и могильники, а в последующем и кладбища2. При гадании использовались различные колющие и режущие предметы, аналоги которых широко представлены в могильниках. Таким образом сопоставление «чудской» мифологии, топонимии и гидронимии с археологическими реалиями позволяет выявить один из механизмов сохранения межпоколенной связи через сакрализацию территории обитания. Характерно, что на Нижней Вычегде, в настоящее время заселенной русскими, также отмечены предания о «чуди». При этом ряд микротопонимов носит название «могильный бор». В одном из таких локусов на р. Лена в Архангельской области Э.А. Савельевой был исследован средневековый могильник3. В других районах Архангельской области, значительно удаленных от Коми края, «чудь ассоциируется с образом «разбойников»4. В целом не вполне прозрачна и сама этимология термина «чудь». М. Фасмер этимологизирует «чудь» как «народ», осторожно сближая его с понятием «чужие»5. На наш взгляд, этим термином обозначались на Русском Севере различные финно-угорские народы в процессе колонизации и христианизации северных территорий. Савельева Э.А. Пермь Вычегодская…С. 15. Семенов В.А. Традиционная семейная обрядность народов Европейского Севера: к реконструкции мифопоэтических представлений коми (зырян). СПб., 1992. 3 Савельева Э.А. Пермь Вычегодская…С. 16. 4 Дранникова Р.В. Мифология Кенозерья // Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты народов Европейского Севера. Архангельск, 2006. С. 116. 5 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 4. М., 1987. С. 378 (ст. «чудь»), С. 379 (ст. «чужой»). 1 2 120 Арно Сурво* Финское наследие Г.В.Ф. Гегель присутствовал на авторитетном диспуте, где два физиолога сравнивали преимущества обезьян и свиней: «Один объявил себя сторонником филантропизма, рядом с собой имел велеречивого и могучего телом патрона по имени Пиппель и высказал известный физиологический тезис о том, что из всех животных у свиней наибольшее сходство с людьми со стороны органов пищеварения и прочих внутренностей. Другой провозгласил себя сторонником гуманизма, всячески принижал сходство со стороны органов пищеварения и, напротив того, возвышал обезьян ввиду их ужимок, человеческого облика, манер, способности к подражанию и т.д. Патрон Пиппель все хотел пустить в ход и совсем другие вещи, даже юридические – о правах человека, конституции и т.п. Но председательствующий, который на сем торжественном акте как бы играл роль судьбы, на все такое смотрел как на emballage [пустую оболочку] и отклонение, не давал по-настоящему говорить о них и все время держался того, что речь идет исключительно о преимуществе обоих названных видов. Один сверхумник, сидевший в углу и больше бормотавший себе под нос, спросил председательствующего и тут, как мне показалось, попал в точку: не хочет ли он сказать так, что когда этого самого Пиппеля затронут и он загорится – он готов, как известно, постоять своими штанами и камзолом, – что аристократы этим воспользуются и Пиппелю при этом достанется роль шута, что да и совершится, черт возьми, ныне и присно. Всем им перебежал тут дорогу историк Цшокке с воплем, что бернцам все же ответили из Цюриха, по крайней мере на словах, но что имеется еще много других соображений – и часть их еще выйдет в скором времени наружу, – на которые пока нет ответа; испанская инквизиция, португальская, монахи и бесконечно много всего испанского и португальского поднимет оружие в его защиту и т.п.»1 В этот момент повествователь проснулся и с тяжёлыми мыслями отправился читать курс права в Нюрнбергской гимназии, директором которой он тогда был. Наступало время просвещенческой масскультуры, основанной на конвейерном производстве готовых представлений2. Описывая сон в письме своему другу Ф.И. Нитхаммеру, мюнхенскому советнику по школьным и церковным делам, Г.В.Ф. Гегель, помыслил будущее, точно уловив перспективу в образе «перебежавшего всем дорогу историка Цшокке». Иоганн Генрих Даниил Цшокке (1771-1848) особенно известен своей общественно-политической деятельностью. После учёбы во франкфуртском университете, первых литературных опытов и странствий, он занимал Арно Сурво – доктор философии, научный сотрудник института культурологических исследований кафедры фольклористики Университета г. Хельсинки. 1 Гегель Г.В.Ф. Письма: Гегель – Нитхаммеру, Нюрнберг, 6 января 1814 г. / Пер. Ц.Г. Арзаканьяна и А.В. Михайлова // Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. В двух томах. Т. 2 / Сост., общ. ред. А.В. Гулыги. М., 1971. С. 339-340. 2 «Уже не говорят «изящные науки», но еще говорят: «помысли себе дом с двумя деревьями рядом» и т.д., вместо того чтобы «представь себе»» (Гегель Г.В.Ф. Афоризмы / Пер. В.А. Рубина // Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет… С. 547. * 121 различные высокие посты, будучи депутатом Гельветической республики в Аарау, начальником департамента по школьному образованию, правительственным комиссаром, и в итоге – одним из основателей Швейцарского государства. После выхода в отставку писатель заведовал лесным и горным делом в кантоне Аарау. Там же он основал масонскую ложу и лично разработал её устав1. Мировоззрение Г. Цшокке нашло отражение в повести «Das Goldmacherdorf»2 (в русскоязычном переводе: «Делатели золота»). Русскоязычный перевод текста несколько адаптирован, имена героев изменены, что обеспечивало легкость восприятия читательской аудиторией пропагандировавшихся писателем идеологем. Главный герой повести Данила (в оригинале Osvald) после семнадцатилетнего отсутствия возвращается с войны в родную деревню и вместо некогда имевшей место идиллии видит разруху и полное падение нравов. Потерпев неудачу в попытках изменить ситуацию, он лишь нажил себе множество врагов, и, прежде всего, среди деревенских старшин, понявших, какая угроза появилась для их трактирного бизнеса. Одним из немногих сторонников Данилы стал мельник, на дочери которой он женится. Данила соглашается бесплатно работать учителем, получая возможность влиять на происходящее через своих воспитанников. Селяне находят объяснение странному поведению главного героя в колдовстве, подозревая, что он обладает секретом делания золота, и, наверняка, расправились бы с ним, но Данилу неожиданно посещает «сын короля». Агрессия окружения сменяется страхом и уважением. Односельчане просят научить их ремеслу делания золота. Данила берёт с избранных им адептов клятву в течение семи лет следовать определённым правилам, проявляя усердие в работе и сдержанность в повседневной жизни. Лишь по прошествии семилетнего срока Данила объясняет причины своего обогащения: «Спасибо нашему старому школьному учителю, покойному отцу моему, что научил он меня многому полезному и между прочим межеванию. Потому что, когда я пошёл в солдаты, то это знание, при честном поведении, отличило меня перед товарищами. Строго исполнял я свою службу и был произведён в офицеры. Раз в сражении, увидя наследного принца, окружённого неприятелем, навёл я быстро на них свой отряд и спас принца от смерти. Вот отчего у меня этот шрам на лбу и этот орден на груди, а при отставке, по случаю заключения мира, дали мне пенсию на всю жизнь; проезжая наши края, наследный принц не забыл меня и посетил сам, как вы помните»3. Г. Цшокке оказал определённое влияние и на русскую литературу4, и на широкие читательские массы. Если Л.Н. Толстой стал «зеркалом русской 1 Ort W. Der modernen Schweiz entgegen. Heinrich Zschokke prägt den Aargau. Baden: Hier und jetzt, 2002; Karkama P. Kullan tekemisen aakkoset. Heinrich Zschokken Goldmacherdorf ja sen suomennos // Kansanomainen ajatelu (professori Satu Apon 60-vuotisjuhlajulkaisu) / Toim. Eija Stark ja Laura Stark. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1106). S. 291. 2 Zschokke H. Das Goldmacherdorf. Aarau: Sauerländer, 1817. 3 [Цшокке Г.] Делатели золота. Народная повесть Цшокке. Издание второе. М.: Издание Общества распространения полезных книг, в Университетской типографии (Катков и Кº), на Страстном бульваре, 1866. C. 204-205. 4 См., напр.: Тургенев А.И. Хроника русского // Тургенев А.И. Хроника русского. Дневники (1825-1826 гг.) / Изд. подг. М.И. Гиллельсон. М.-Л.: «Наука», 1964. (Серия «Литературные памятники»); Белинский В.Г. Русская литература в 1844 году // Белинский В.Г. Собрание сочинений в трех томах. Т. II / Под общ. ред. 122 революции», то Г. Цшокке можно считать одним из персонажей зазеркалья. Начиная с 1862 г., повесть многократно издавалась по-русски «Обществом распространения полезной книги». В более поздних и параллельных публикациях других издательств подзаголовок имеет отстранённое звучание «Быль из жизни немецких крестьян»1. В изданиях же «Общества» она обозначена как «Народная повесть Цшокке». Определение «народная» усиливало метаязыковое значение текста для российского общественнополити-ческого пространства, где только что было упразднено крепостное право, и деревня переживала коренной перелом2. В период с 1862-го по 1909-й гг. «Делатели золота» издавались более полутора десятков раз3. В серии «Издания Общества Финской Литературы», основанной «Обществом» в 1834 г. в качестве фундамента будущей культуры и финского литературного языка, эпос «Калевала» стоит вторым номером. Начинает серию повесть Г. Цшокке4. «Калевала» 1835 года вышла в 500 экземплярах, чего хватило для распространения вплоть до 1849 года, когда появился окончательный вариант эпоса. Первое финноязычное издание цшоккеского «Kultala» (букв. «Золотово», совр. «рай», «эльдорадо») вышло в количестве двух с половиной тысяч экземпляров. Тираж не задержался на полках книжных лавок. В последние десятилетия XIX в. повесть была включена в школьный курс обучения5. Текст имел важное значение в формировании дискурсивной действительности Финляндии XIX века, когда представления о финнах и Финляндии подвергались очередной внутрикультурной перекодировке. В «стадном» дискурсе философа и просветителя Й.В. Снелльмана была использована форма диалогов между «Другом Соотечественника» и «Матти нашенским», в которых в снисходительном и полушутливом тоне один объяснял другому – говоря словами советского классика – «что такое хорошо и что такое плохо». Ф.М. Головешченко, ред. С.П. Бычкова. М.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1948; Белинский В.Г. Повести Марьи Жуковой. Суд сердца. Самопожертвование. Падающая звезда. Мои курские знакомцы // Белинский В.Г. Собрание сочинений. В 9-ти томах. Т. 3. Статьи, рецензии и заметки. Февраль 1840 – февраль 1841 / Подг. текста В.Э. Бограда. М.: «Художественная литература», 1976; Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М.: Изд-во АН СССР, 1954. C. 336-337; Толстой. Л.Н. Исповедь. В чём моя вера? Л.: «Художественная литература», Ленинградское отделение, 1991; Горький А.M. По Союзу Советов // Горький А.M. Собр. соч. в 30 т. Т. 17 (Рассказы, очерки, воспоминания). М.: Художественная литература, 1952. 1 Цшокке Г. Делатели золота. Быль из жизни немецких крестьян. Передел. из рассказа Цшокке. М.: Тип. т-ва И.Д. Сытина, издания 1894-ого, 1899-ого и 1904-ого годов; И.Д. Сытин и Кº, издания 1887-ого и 1891-ого годов. 2 Творчеству Г. Цшокке посвящено исследование Р.Ш. Шаймуратовой, с которым не было возможности ознакомиться (Шаймуратова Р.Ш. Эволюция художественной прозы Генриха Цшокке. Автореф. дис. на соиск. учён. степени канд. филол. наук. М.: Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина, 1975). 3 В «Генеральном алфавитном каталоге книг на русском языке (1725-1998)» приводятся данные о 12 изданиях «Общества распространения полезных книг», среди которых отсутствуют сведения о пятом издании. Номер издания не всегда был указан, и, возможно, изданий было одиннадцать. Сведения о публикациях разных издательств см.: Российская национальная библиотека: Генеральный алфавитный каталог книг на русском языке (1725 - 1998). (<http://www.nlr.ru/e-case3/sc2.php/web_gak/lc/120384/43#pict >). 4 Zschokke H. Kultala: hyödyllinen ja huwittawa historia, yhteiselle kansalle luettavaksi annettu / Suom. C.N. Keckman. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1834. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1). 5 Karkama P. Kullan tekemisen aakkoset; Sulkunen I. Kultala, Keckman ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura // Zschokke H. Kultala: hyödyllinen ja huvittava historia, yhteiselle kansalle luettavaksi annettu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. (Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita). 123 Долгое время население Финляндии не подозревало о кипевших вокруг него дискурсивных баталиях. Реальной снелльмановской аудиторией являлись представители высших сословий. К ним просветитель обращался со скептическими и критическими высказываниями по поводу общественного устройства и будущего нации. Народная же среда была для Снелльмана идеальной аудиторией, которой он высказывал авторитетное мнение посредством газетных публикаций, нередко проводя аналогии между человеком и животным миром. Лишь с доминированием в школьном образовании топелианских и снелльмановских конструкций наметилась обратная связь во взаимоотношениях между элитой и народом1. До реформы школьного образования грамотность большей части финляндского населения означала способность читать при минимальном умении писать. В финском, как и в других языках Северных стран, грамотность делится на две информационные сферы: lukutaito ’умение читать’ и kirjoitustaito ’умение писать’2. Ещё в начале XIX столетия рядовые прихожане даже не имели возможности самостоятельно читать Библию, которая, как правило, была только у церковных служащих. Появлению полноценной грамотности способствовали пиетистские просветители и Санкт-Петербургское Библейское общество, занимавшееся 3 распространением Библии . В 1835 г., сразу после прочтения повести Г. Цшокке, пиетист Й. Лагус (1798–1857) планирует, а в 1836 или 1836 годах – пишет ответ-продолжение «Kultala. Hyödyttäväinen ja Huvittavainen Historia Jälkimmäinen osa» («Золотово. Полезная и Занимательная История Вторая часть»), где нашли отражение культурные и культовые противоречия финляндской действительности. Логикой описываемых событий Й. Лагус даёт понять, что мироустройство, основанное на человеческом естестве и стремлении к обогащению, ведёт к духовной гибели4. Повествование начинается с описания общества материальной выгоды и благоденствия, 1 Rantanen P. Suolatut säkeet. Suomen ja suomalaisten diskursiivinen muotoutuminen 1600-luvulta Topeliukseen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 690). 2 Peltonen M. Matala katse: kirjoituksia mentaliteettien historiasta. Helsinki: Hanki ja jää, 1992. S. 93; Rantanen P. Suolatut säkeet. S. 58-60. 3 Клинге М. Имперская Финляндия / Пер. с финск. И. Соломеща, В. Мусаева и А. Рупасова. СПб.: Изд. дом «Коло», 2005. C. 68-69. 4 Текст был обнаружен в архивах Й. Лагуса в 1934 г. Назревание конфликта присутствует в самой повести Г. Цшокке: «Иные чванились, рядили своих дочерей не по-крестьянски, сами носили тонкое сукно и во всём хотели важничать. Другие принимались было за карты, за вино в трактире, но это возбуждало негодование в честных людях и они заговорили: «Если мы опять возьмёмся за старое, то вернёмся к старому». <…> Тогда вышло строгое положение от мира: в нём была запрещена всякая роскошь в одежде и каждому возрасту предписано своё одеяние, а за карты и всякую игру в деньги, за пьянство, ссоры и всякий разврат наложен всем миром денежный штраф. От того и вышло, что каждый боялся преступать положенный порядок, и что если и приходила кому охота делать чтонибудь бесчестное и несправедливое, то боязнь стыда и наказания останавливали его. Каждый год прочитывали перед миром это положение, и должны были слушать его старые и малые, мужчины и женщины, даже дети. Если находили нужным объяснения и дополнения, они давались тут же, и по прочтении его старшина спрашивал всякий раз: «Хотите ли вы исполнять этот закон? В нём основание нашего богатства, согласия и чести». Старые и малые громко и внятно отвечали все вместе: «Хотим» [Цшокке Г.] Делатели золота... С. 199-200. 124 сконструированного щвейцарским писателем1. Деревенская молодёжь, испытывая равнодушие к морализаторству учителя (в финском варианте: Toivonen ’Надеждин’), перенимает сословные привычки соседних селений 2. В итоге Тойвонен под впечатлением от встречи с «пробудившимися» верующими приходит к покаянию. Жизнь сообщества преображается: селяне трудятся с ещё бóльшим усердием, скромны в одежде и быте, но, в отличие от персонажей цшоккеского сюжета, первостепенное значение придают вопросам веры3. «Потом мы обедаем в столовой коммуны, за два блюда – вкусный борщ и жареное мясо – с нас взяли по 16 копеек с человека. – Вода скверная у нас, – говорит Лозницкий в тон глуховатому гулу электромотора механической мастерской, где изготовляют бороны для крестьян, чинят сельскохозяйственные машины. Постукивают молотки в кузнице. Где-то близко хрюкают свиньи, коммуной налажен «беконный завод». На дворе, в квадрате низеньких и длинных хат, шумно совещается группа детей школьного возраста – все такие хорошие, крепкие ребята, загоревшие на солнце. Они уже рассказали мне о разнообразии своей жизни, похвастались немножко знанием хозяйства коммуны, участием в её работе. И один из них, указывая на хаты жестом хозяина, совершенно серьёзно сказал: – Мы их перестроим! А другой, усмехаясь, сообщил: – Эта – конюшней была, а вот в ней люди живут, и не узнаете, что конюшня. Несколько часов в маленьком новом государстве похожи на сон. Мне вспомнилась старинная книжка затравленного мещанами, умершего в 1848 году революционера и атеиста Иоганна Цшокке «Делатели золота», я её прочитал, когда мне было лет пятнадцать, и, прочитав, тоже несколько дней жил, как во сне. Когда оглядываешься назад – видишь, как поразительно далеко ушла жизнь от прошлого и как она всё быстрей идёт в будущее. Лозницкий кажется мне человеком давно знакомым, – лет сорок тому назад, на бесконечных, запутанных дорогах России, я встречал людей, похожих на него. Это были люди, оторвавшие себя от земли, от семьи, от нищенского хозяйства, бесплодно истощавшего их силы, это были упрямые искатели несокрушимо прочной правды, люди, гонимые мечтой о ней из конца в конец страны, из Вологды в Закавказье, из Смоленска в Сибирь. Были эти люди сумрачные, недоверчивые, не очень зрячие, иногда – озлобленные бесплодностью своих поисков, нередко – буйные, оттого, что потеряли все свои надежды «дойти до правды». Вероятно, они уже погибли за эти четыре десятка лет, износились, распылились на путях своих. Не жалко – бесполезные люди. На место их жизнь выдвигает вот таких, как Лозницкий, людей, которые нашли правду, овладели ей, бережно, как любимое дитя, растят её, вкрепляют её в расшатанную жизнь, – строят правду так же, как предки их строили посады и крепости в лесных дебрях, среди полудиких племён. Лозницкий – из тех еретиков, каким был коммунист Ян Гус, сожжённый на костре, разница только та, что Лозницкий и подобные ему сами разжигают костёр, на котором должно сгореть всё, что накоплено веками кошмарной жизни в душах рабов земли. <…> Я не против фантастики сказок, они – тоже хорошее, добротное человеческое творчество, и, как мы видим, многими из них предугадана действительность, многими предугаданы и те изумительные подвиги бесстрашия, самоотречения ради рабочего классового дела, о которых рассказывают книги, посвящённые описанию классовой войны 18-21 годов. Нет, я не против героической фантастики старых сказок, я – за создание новых, таких, которые должны перевоспитать человека из подневольного чернорабочего или равнодушного мастерового в свободного и активного художника, создающего новую культуру. На пути к созданию культуры лежит болото личного благополучия. Заметно, что некоторые отцы уже погружаются в это болото, добровольно идут в плен мещанства, против которого так беззаветно, героически боролись. Те отцы, которые понимают всю опасность такого отступления от завоёванных позиций, должны хорошо помнить о своей ответственности пред детьми, если они не желают, чтоб вновь повторилась скучная мещанская драма разлада «отцов и детей», чтоб не возникла трагедия новой гражданской распри» (Горький А. M. По Союзу Советов // Горький A.M. Собр. соч. в 30 т. Т. 17 (Рассказы, очерки, воспоминания). М.: Художественная литература, 1952). 2 В бытовых вопросах пиетисты придерживались различных мнений, имевших семиотический характер и опосредованно затрагивавших сферу духовного. Просветитель Й. Лагус считал, например, курение приемлемым, но отрицал курение сигар, так как в этом проявлялось вредное для простого народа подражание господскому образу жизни (Lämsä K. Jonas Lagus (1798-1857) kasvattajana ja opettajana? – «En siksi, että olisin opettajanne…» Oulu: Oulun yliopiston kirjapaino, 2001. S. 132). 3 Lämsä K. Jonas Lagus... S. 127-128. 1 125 Сочинение Й. Лагуса было реакцией на конфликт между сторонниками национального и духовного пробуждения. Обе стороны критически относились к сословным границам и предрассудкам, считали чрезвычайно важным развитие финского языка и искали обоснование своим идеям в наследии прошлого. Однако 1830-е годы ознаменовались расколом, основанным на различном понимании духовности и методов просвещения. В 1828 г. Э. Лённрот был крайне разочарован посещением собрания «пробудившихся», так как те отказались исполнять древние калевальские руны и осудили его собирательскую работу как пустячное занятие. Пиетизм стал также получать распространение у среднего сословия и в университетской среде, что ещё больше усугубило отрицательное отношение к нему либерально настроенных просветителей, делавших основную ставку на ту же аудиторию1. Финноязычный перевод повести Г. Цшокке озаглавлен как «Kultala: hyödyllinen ja huwittawa historia, yhteiselle kansalle luettavaksi annettu» ’Золотово: полезная и занимательная история, общему/единому народу для прочтения данная’. На момент издания текста в 1834 г. литературный финский язык был в стадии становления, и поэтому в подзаголовке повести использовано слово yhteinen, видимо, воспринимавшееся в значении ’единый’, но в современном финском означающее ’общий’. Представление общий (для кого?) народ отражал точку зрения адресантов текста, использовавших его в качестве средства формирования однородной аудитории, народа, которого не существовало как единого. Панфинская экспансия в Карелию на рубеже XIX-XX веков была оформлена прежде всего в виде культурно-религиозной работы2, безуспешные попытки реализации результатов которой были предприняты во время приграничных конфликтов первых лет финляндской независимости и в ходе Великой Отечественной войны. Использование религиозной и других форм просвещения в идеологической экспансии на территории России требует отдельного рассмотрения в контекстах развития религиозных движений в Финляндии. В последнее время стали появляться адекватные исследования, касающиеся этого аспекта3. Дискредитация пиетизма сторонниками либеральной модели просвещения на рубеже XIXXX веков сменилась его использованием в русофобской и антиправославной деятельности. Секуляризованная финляндская элита, напуганная пиетистким вызовом, перенацелила энергию религиозносемиотической «периферии» на традиционно православные территории. 1 Ibid. S. 120-121. См.: Шурупова Е.Е. Проблема «панфинской пропаганды» в православной Карелии в конце XIX – начале XX в. (по материалам Архангельских губернских ведомостей) // Православие в Карелии. Материалы 2-й международной научной конференции, посвящённой 775-летию крещения карелов / Отв. ред. В.М. Пивоев. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2003. C. 150-156. 3 См, напр.: Lämsä K. Jonas Lagus; Huhta I. «Täällä on oikea Suomenkansa». Körttiläisyyden julkisuuskuva 18801918. [«Hier steht das wahre finnische Volk». Das Öffentlichkeitsbild einer finnischen Erweckungsbewegung 18801918.] Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, 2001. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia, 186); Kristinusko Suomessa. Karjalan teologisen seuran, Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran ja Joensuun yliopiston symposiumissa marraskuussa 2005 pidetyt esitelmät / Toim. A. Laitinen. Helsinki: Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, 2006. (Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja, 249; Vuosikirja 2006). 2 126 П. Каркама отмечает, что для традиционно-реалистичного литературного персонажа характерен внутренний монолог, раскрывающий его противоречия и переживания, и поэтому выглядит странным почти полное отсутствие «внутренней» речи у главного героя «Kultala». Исследователь проводит прямые аналогии между утопией и историческими примерами тоталитарного общественного устройства1. Перенесение на действительность симулятивной цшоккеской модели провоцировало конструирование искусственной «внутренней речи». Нереализованный просвещенческий потенциал трансформировался и намеренно направлялся на новую аудиторию, в «интересах» которой было то освобождаться от русского ига, то строить «красную» Великую Финляндию под националистическим руководством коммунистов, то играть роль язычников и атеистов, спасаемых миссионерами. Сегодня переиздана повесть Г. Цшокке2, идеологемы которой исследователи соотносят с современностью, появилось «продолжение» эпоса «Калевала»3, причём, уже в откровенно религиозной трактовке, и, наконец, пиетистская традиция обретает последователей в российской лютеранской среде4. Положение напоминает ситуацию двухсотлетней давности, вплоть до буквального совпадения на уровне текстов. Принципиальное отличие в том, что произошло смещение коммуникативных акцентов в пользу «восточной» аудитории, трансформирующейся в адресанта культурно-религиозной идеи просвещения. Системный кризис либерально-просветительского проекта сопровождается актуализацией отторгнутых символов финского наследия. 1 Karkama P. Kullan tekemisen aakkoset... S. 270. Zschokke H. Kultala: hyödyllinen ja huvittava historia, yhteiselle kansalle luettavaksi annettu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. (Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita). 3 Laaksonen P. Lukijalle // Suur-Synty Kiesus. Apokryfi korpikansan Survon Arvon kertomana. Tampere: Kuvitar, 2006, s. 12. 4 См., напр.: Состоялся Генеральный Синод Евангелическо-Лютеранской церкви Аугсбургского исповедания // Religare.ru. 30.6.2008. < http://www.religare.ru/2_55723.html >. 2 127 ПРИЛОЖЕНИЕ А.А. Павлов* «Достопамятные деяния и изречения» Валерия Максима о плебейском трибунате и трибунах Труд Валерия Максима, жившего в эпоху двух первых Августов, изданный в начале 30-х гг. н.э. – «Достопамятные деяния и изречения» – не вошел в «золотой» фонд римской классики, а поэтому мало знаком современному читателю: полные его переводы на западноевропейские языки стали появляться лишь недавно1, хотя как в античности, так и в средние века он был весьма популярен2. Трудно однозначно определить жанр труда, как и назвать его автора историком3. Жанр, в котором он работает, – это своего рода дидактическая моральная энциклопедия, круг которой ограничен миром исторического человека в его отношениях с общиной и богами, однако цель ее не столько познакомить с примерами порока и добродетели, сколько наставить в последней. Свои примеры автор черпает главным образом из римской республиканской истории, а поэтому в основе его воззрений о морали несомненно лежат представления республиканской эпохи, вполне Павлов Андрей Альбертович – доцент кафедры истории древнего мира и средних веков СыктГУ, секретарь Сыктывкарского отделения РОИИ и Коми регионального отделения Центра изучения римского права. 1 И при этом практически одновременно, что говорит об изменении отношения в европейском сознании к самой парадигматике «классического – не классического». См.: Valerius Maximus. Facta et dicta memorabilia. Denkwürdige Taten und Worte / U. Blank-Sangmeister. Stuttgart, 1991; Valère Maxime. Faits et dits mémorables / R. Combès. V. 1-2. Paris, 1995-1997; Valerius Maximus. Memorable Doings and Sayings / Ed. By D.R. Shackleton Bailey. Cambridge, Mass. and London, 2000. V. 1-2. Остающийся до сих пор единственным полный русский перевод труда, который сегодня скорей можно назвать популярным, чем научным, был сделан И. Алексеевым в конце XVIII в., и на сегодняшний день несомненно устарел (Валерия Максима Изречений и дел достопамятных книг девять. Ч. 1-2. СПб., 1772). Наиболее полным современным переводом является перевод С.Ю. Трохачева, включающий первые пять книг труда (Валерий Максим. Достопамятные деяния и изречения. СПб., 2007). 2 Труд Валерия Максима был известен и широко использовался авторами I-II вв. н.э. Ссылается на него Плиний Старший (ок. 23-79 гг. н.э.) в VII книге своей «Естественной истории», повествующей о человеке, и в XXXIII – о металлах (Plin. NH. I); Плутарх (до 50 – после 120 гг. н.э.) – в рассказе о смерти Порции, жены Брута (Brut. 53); Авл Геллий (II в. н.э.) – повествуя о передаче Гн. Долабеллой дела женщины из Смирны, убившей своего мужа и сына, на рассмотрение Ареопага (Gell. XII. 7. 8). Труд Валерия сохранился в десятках средневековых копий, кроме того, известны и две эпитомы его труда, написанные Юлием Паридом (IV в.) и Януарием Непотианом (VI в.). 3 Валерию Максиму чужд принцип историзма. Республиканская история, поступательное движение которой для анналистов определялось ежегодной сменой магистратов и их деяниями, эпонимным их списком (фастами), календарной обрядностью, исчерпала себя. Для автора эпохи принципата изменилось не только течение времени – оно, по сути, остановилось, но и субъект истории. Если главным ее субъектом для предшествующих историков был римский народ, то для Валерия Максима, как и для ряда биографов этой поры, им стал отдельный человек. Однако, в отличие от последних, его биографические exempla (примеры), которыми пестрит его труд, – не цель, а только средство, где деяния того или иного персонажа являются лишь примерами добродетели и порока, а сам труд становится через них моральным наставлением в оных. Вопрос о кризисе нравов поднимался в римской историографии уже II-I вв. до н.э., однако автор впервые создал жанр морального наставления, но не философский (ибо всего его философствования хватает лишь на краткие моральные заключения после примеров), а сугубо прагматический, чисто римский, построенный на систематизации конкретных исторических примеров, что делали до него, прежде всего, антиквары и грамматики. Правда грамматика его не интересует вовсе, антикварность же ему действительно не чужда: он приводит ряд антикварных примеров, сообщая о некоторых римских институтах, обычаях и нравах. Если же взглянуть на источники, которыми он пользовался, то в их числе мы найдем римских и греческих историков (М. Порций Катон, Валерий Анциат, Целий Антипатр, Азиний Поллион, Тит Ливий, Геродот), антикваров (М. Терренций Варрон), философов (Платон, Аристотель), юристов (Кв. Муций Сцевола). * 128 созвучные с идеей «восстановления Республики» и «старых добрых нравов» Августа. Структурно труд состоит из девяти книг, разбитых на параграфы (всего 94), посвященные тем или иным моральным категориям, каждый из которых, в свою очередь, включает различное количество примеров из внутренней (римской), а также внешней (греческой и азиатской) истории1. Хотя книги не имеют титулов, каждая из них содержит параграфы, объединенные определенным тематическим единством, что проявляется и в единстве лексическом: так например первая книга посвящена представлениям о должном в божественной сфере, вторая объединена институциональным принципом (семья, война, магистратура) и т.д.2 Валерий Максим, чаще других авторов антикварно-грамматического и энциклопедического направлений, труды которых были непосредственно связаны с собиранием и систематизацией разного рода exempla, прибегал к примерам, дающим нам представление о плебейских трибунах и трибунате, которые встречаются в каждой из девяти его книг. Трибуны у Валерия Максима появляются в 34 (из 94) самых разнообразных по характеру параграфах (в 64 примерах)3, что несомненно накладывает отпечаток и на сам характер информации, где она вторична по отношению к характеристике личности персонажа примера. Трибунат как институт никогда практически не становится ни предметом специального анализа Валерия, ни специального примера, ибо для автора важен прежде всего человек, деяниями которого, должным или недолжным его поведением, творится сама история. Валерий в своих примерах упоминает 51 трибуна различных периодов Республики. Первым в его списке трибунов находится Спурий Кассий (486 г.4), последние, упоминаемые автором трибуны, занимали должность в 44 г. (Табл. 2). Именно эти даты задают хронологические рамки информации, которую предоставляет нам Валерий о трибунате; они не выходят за пределы Республики, что характерно для всей антикварно-грамматической Так, например, шестая книга включает восемь параграфов: «О целомудрии», «О слишком вольных деяниях и изречениях»; «О строгости»; «О слишком суровых деяниях и изречениях»; «О правосудии»; «О верности в публичной сфере»; «О верности жен мужьям своим»; «О верности рабов»; «О перемене нравов или участи». Первый («О целомудрии») содержит 13 внутренних и 3 внешних примера, второй – 12 и 3 соответственно, и т.д. Число тех и других сильно варьируется в зависимости от тематики. 2 Подобная очередность четко указывает на приоритет в римском сознании божественного над профанным и публичного над частным. 3 I. 4 («Об ауспициях»), 7 («О сновидениях»); II. 2 («О древних институтах»), 7 («О военном деле»), 8 («О праве триумфа»), 9 («О цензорском замечании»); III. 1 («О природном характере»), 2 («О храбрости»), 7 («Об уверенности в себе»), 8 («О постоянстве»); IV. 1 («Об умеренности»), 7 («О дружбе»); V. 2 («О благодарности»), 3 («О неблагодарности»), 4 («О любви по отношению к родителям, братьям и отечеству»), 7 («О любви и нежности родителей к детям»), 8 («О суровости отцов в отношении детей»); VI. 1 («О целомудрии»), 2 («О слишком вольно сказанном или сделанном»), 3 («О суровости»), 5 («О правосудии»), 8 («О верности слуг к господам своим»); VII. 2 («О делах и изречениях мудрых»), 6 («О необходимости»); VIII. 1 («О бесчестных лицах, которые судом были освобождены или осуждены»), 5 («О свидетелях»), 6 («О тех, кто карая других, карали себя»); IX. 1 («О роскоши и похоти»), 4 («Об алчности»), 5 («О гордости и властолюбии»), 7 («О насилии и мятеже»), 9 («Об ошибке»), 10 («О мщении»), 15 («О тех, кто ложно в чужие семьи входили»). Чаще всего трибуны фигурируют в параграфах «О правосудии» (5 раз) и «О бесчестных лицах, которые судом были освобождены или осуждены» (6), что указывает на важную роль трибунов в сфере судопроизводства. 4 Здесь и далее все даты до н.э. 1 129 историографии1. Абсолютное большинство упоминаемых им трибунов относятся к II-I вв. до н.э., однако он сообщает и о ряде трибунов V-III вв. (в силу значительной опоры на анналистическую традицию и, в частности, Ливия). Важную информацию может дать и лексика Валерия. Он приводит достаточно широкий круг терминов, связанных с трибунатом, хотя, в силу характера примеров, его терминология не всегда технична (Табл. 1). Предоставляемая автором информация позволяет нам представить общий характер института, его права и полномочия, рассмотреть взаимоотношения с другими важными составными элементами римской конституции (сенатом, народом, магистратурами), соотнести деятельность трибунов различного времени, дабы попытаться выявить возможную трансформацию института, а также определить и отношение самого Валерия к трибунату и отдельным его представителям. Не имея возможности подробно останавливаться здесь на всех этих проблемах, остановимся лишь на основных. Трибунская коллегия Численность. Валерий дважды говорит о численном составе коллегии. Впервые о состоящей из десяти человек коллегии он сообщает в VI. 3. 2, в примере, относящемся очевидно к 486 г. Согласно его информации, плебейский трибун Публий Муций сжег девять своих коллег, выступавших на стороне патрициев, заживо. Его традиция не находит подтверждения у более ранних авторов, которые относили увеличение числа трибунов до десяти либо к 457 г. (Liv. III. 30. 7; Dionys. X. 30), либо к 449 (Diod. XII. 25), однако вновь появляется позднее у Диона Кассия (frg. 22. 1) и его эпитоматора Зонары (VI. 17. 7)2. Опираясь на нее, некоторые современные исследователи считают число десять изначальным, находя здесь греческое влияние3. В примере IX. 7. 3, относящемся к 100 г., он вновь сообщает о десятиместной коллегии, говоря об избрании девяти трибунов и о последовавшей затем борьбе за десятое место между двумя кандидатами, закончившейся убийством соперника Сатурнина – Нуммия. Итерация. Повествуя об умеренности консула 460 г. Л. Квинкция Цинцинната4, отказавшегося от повторного занятия должности (IV. 1. 4), Валерий дает понять, что в это время трибуны могли переизбираться неоднократно, а также позволяет заметить, что поведение трибунов (их намерение переизбираться), традиция коррелирует с поведением консулов, стремясь упорядочить их право переизбираться в соответствии с правилами магистратуры5. Сожжение девяти трибунов (см. выше; VI. 3. 2) Валерий См. напр.: «Аттические ночи» Авла Гелия о плебейском трибунате и трибунах / Пер. с лат., вступительная статья и комментарии А.А. Павлова. Сыктывкар, 2007. С. 9-13. 2 Дион Кассий относит увеличение до 10 к 471 г., случай с сожжением помещается в промежутке времени между 471 и 458 гг. и не связывается с именем Сп. Кассия. Сожжение, говорит Дион Кассий, было произведено решением народа ( 3 См.: Fabbrini F. Tribuni plebis // NNDI. Torino, 1973. XIX. P. 786. 4 Ср.: Liv. III. 21. 5 Первое законодательное ограничение итерации связывается обычно с плебисцитом Генуция 342 г., который запрещал занимать одну и ту же должность в течение 10 лет (Liv. VII. 42. 2). О регламентации итерации в это 1 130 также связывает со спором вокруг переизбрания в трибунат, что говорит о том, что сенат стремился упорядочить повторное занятие трибуната уже в начале его истории, однако достаточно безуспешно1. Социальный состав. Кое-какие сведения дает Валерий и о социальном составе трибунов, который не был однородным. Дважды он сообщает о трибунах из числа всадников (VI. 5. 2; V. 7. 2), причем для совершенно разного времени (423 и 44 гг. соответственно), приводит примеры известных и состоятельных плебейских трибунов: Лициния Столона (376-367 гг.), подвергнутого суду за нарушение собственного закона о земельном максимуме (VIII. 6. 3), а также Гн. Домиция Агенобарба (104 г.), ставшего впоследствии консулом, цензором и великим понтификом (VI. 5. 5). Вместе с тем, он неоднократно обращается к фигуре Эквиция, выходца из Фирма Пиценского, выдававшего себя за сына Т. Гракха, добившегося гражданства и избранного в трибуны в 100 г. благодаря неистовству толпы (III. 2. 18; 8. 6; IX. 7. 1; 15. 1). Социальный состав коллегий очевидно всегда был достаточно пестрым, хотя значительная часть трибунов происходила из зажиточного слоя (всадников) плебса; но и при этом высших должностей добивались немногие из трибунов2. Коллегиальность. Несмотря на то, что коллегия могла совещаться по тому или иному поводу (IV. 1. 8; VII. 6. 1), однако это не означает, что действительность ее решения (decretum) зависела от того, принималось ли оно большинством или единогласно3. Ряд примеров Валерия разного времени позволяет говорить, что как для позитивного акта (e.g.: rogatio), так и негативного (intercessio) всегда достаточно действия одного трибуна 4, в противном случае трибунская коллегия утратила бы всякую 5 дееспособность . Но Валерий говорит и о возможности преодолеть коллегиальную интерцессию: именно так, преодолев интерцессию коллег, принял закон трибун 90 г. Кв. Варий Гибрида (VIII. 6. 4). В силу краткости сообщения мы не знаем как именно было это сделано, однако такая возможность, как известно, была открыта прецедентом Т. Гракха 133 г., который впервые сместил, опираясь на народ, коллегу М. Октавия, препятствовавшего проведению аграрного законодательства (Plut. Ti. Grach. 10-12). Полномочия и функции трибунов время см..: Hölkeskamp K.-J. DIE ENSTEHUNG DER NOBILITÄT: Studien zur sozialen und politischen Geschichte der Römischen Republick im 4 jhdt. v. Chr. Stuttgart, 1987. S. 62-90. 1 Дион Кассий, повествуя об этом событии, добавляет, что для патрициев было запрещено занимать магистратуру дважды, тогда как плебеи занимали трибунат и дважды и трижды и большее число раз, что вело к желанию некоторых патрициев переходить в плебейское сословие (Frg. 22. 2). 2 Halperin J.-L. Tribunat de la plèbe et haute plèbe (493-218 av. J.-C.) // RD. 1984/62. P. 161-181. 3 При том, что декреты действительно могли приниматься таким образом. 4 В частности он, как ряд других источников, сообщает об интерцессии плебейского трибуна Тиберия Гракха-отца в 187 г., воспрепятствовавшего своим декретом отправке П. Сципиона Африканского в тюрьму (IV. 1. 8). 5 Вместе с тем, трибун, более любого другого должностного лица связанный с повседневной политической практикой, не мог, несомненно, не прислушиваться к мнению коллег, хотя, в случае его поддержки со стороны народа, мог вступать в оппозицию с остальными ее членами. Трибунские рогации (законодательные, судебные) и интерцессии всегда были предметом политического торга и зависели от общественного мнения, в силу чего трибун мог отказаться от их реализации по воле народа. 131 Чаще всего трибуны встречаются у Валерия Максима в связи с законодательной1, но особенно судебной2 деятельностью, а также внесудебной защитой3. Трибунское законодательство. Валерий сообщает о 13 законах IV – I вв., принятых (или отвергнутых) плебейскими трибунами, начиная от законов Лициния Столона 367 г. (VIII. 6. 3) до закона 62 г. (II. 8. 1) о триумфе, причем половина из этого числа приходится на период 100 – 90 гг. Информация о всех законах IV-II вв. имеет параллели у Ливия, чего нельзя сказать о законах I в. Валерий никогда не использует термин plebiscitum, всегда – lex (это касается и законов IV в.). Законодательная деятельность трибунов выступает для него по сути одной из их нормативных функций, однако когда она стала таковой (изначально или в процессе эволюции) он не сообщает. Трибунские законы регулируют отношения в различных сферах, однако можно выделить и основные направления трибунского законодательства. Это прежде всего аграрные законы, четырежды встречающиеся у Валерия (VIII. 6. 3; V. 4. 5; III. 8. 4; VIII. 1. damn. 3) на протяжении IV – I вв., которые как правило встречают сопротивление со стороны сената. Трибальное трибунское собрание неразрывно связано и с решением вопроса о гражданстве. Компетенция в этой сфере также относится к IV в. (IX. 10. 1). Трибы под руководством трибунов неизменно решают вопросы о включении в гражданство как целых общин (IX. 10. 1; III. 1. 2), так и отдельных лиц (V. 2. 7); они же принимают решение и в случае публичного освобождения рабов (с целью пополнения войска), а значит и о предоставлении им гражданства и включении их в трибы (VII. 6. 1). Важную роль они играют и в так называемом сумптуарном законодательстве (IX. 1. 3; II. 9. 5), однако оно не было сферой сугубо трибунской4. Валерий сообщает и о законодательной регламентации порядка назначения триумфов и действий триумфаторов (II. 8. 1), подчинявшей полководцев более мелочному контролю со стороны сената. Отголоски сословного противостояния патрициев и плебеев слышны у Валерия только в его информации о законе Лициния Столона (о допуске плебеев к консулату), однако аграрное законодательство всякий раз сопряжено с противостоянием трибунов и сената. Инициатива здесь всегда исходит от трибунов. Другие же законы либо инициируются самим сенатом (как в случае с освобождением рабов), либо принимаются в согласии с ним. В двойственной модели Валерия «трибунат-власть (сенат)» не может быть и никаких иных законов помимо про- или антисенатских. Приводимые Валерием примеры позволяют говорить о том, что трибуны могли в позднереспубликанскую эпоху проводить законы и в случае несогласия со стороны сената5, и даже в случае коллегиальной интерцессии (VIII. 6. 4). Трибунское судопроизводство. У Валерия имеется информация о 18 судах, в которых принимают участие плебейские трибуны как в качестве См.: II. 8. 1, 9. 5; III. 1. 2; 8. 4; V. 2. 7; 4. 5; VII. 6. 1; VIII. 1. damn. 3; 6. 3; 6. 4; IX. 1. 3; IX. 10. 1. См.: III. 7. 1; 7. 8; V. 3. 2; 4. 3; 4. 5; VI. 1. 7; 1. 11; 5. 3; 5. 5; VII. 2. 6; VIII. 1. abs.2; 1. abs.3; 1. abs.6; 1. dam. 3, 5, 6. 3 IV. 1. 8; VI. 1. 7; 1. 10; 3. 4; 5. 4; VIII. 1. abs. 3. 4 См. напр.: Gell. II. 24; Macr. Sat. III. 19. 5 Речь прежде всего о позднереспубликанском законодательстве братьев Т. и Г. Гракхов, Апулея Сатурнина и Ливия Друза. 1 2 132 обвинителей, так и в качестве обвиняемых, которые относятся к V-I вв. Имеющиеся случаи распределяются во времени достаточно равномерно. Некоторое числовое превалирование приходится, как и в случае с законодательством, на I в.1 Большинство трибунских процессов направлены против эксмагистратов (консулов: VI. 5. 2; 5. 5; IV. 1. 8; III. 7. 8; диктаторов: V. 3. 2; 4. 3; цензоров: VII. 2. 6; VI. 5. 3; преторов: VIII. 1. abs. 2), а обвинения связаны с порядком отправления ими своих должностей; в некоторых случаях речь идет о вызове в суд непосредственно во время должностного срока (консулов: VIII. 1. abs. 6; ночных триумвиров: VIII. 1. damn. 5-6). Основанием для суда могло служить и поведение аристократа, выходящее за пределы аристократического этоса (V. 4. 3), в том числе в области половой морали (stuprum), и подпадающее под понятие уголовнонаказуемого деяния (VI. 1. 11). За аналогичное преступление мог быть подвергнут суду и сам трибун (VI. 1. 7), несмотря на свою неприкосновенность, однако не со стороны коллег, а обладающим компетенцией в соответствующей сфере курульным эдилом. Вместе с тем, мы ничего не слышим о судах над трибунами за отправление должности (как и о заключении под стражу), ни во время ее, ни после, что говорит о безответственности трибунов за отправление должности 2. Это может объясняться как их неприкосновенностью (sacrosanctitas), так и негативным характером властных полномочий (отвечать может только лицо, отдающее «приказ», но не «запрет»), а также зависимостью их действий (и в законодательной, и в судебной сфере) от плебса (народа), в связи с чем ответственность за решение оказывается на последнем. Лишь цензоры, после того как оставившие должность трибуны (tribunicii) стали включаться в состав сената (в конце II в.), могли на основании своей nota исключить трибуна из списка сенаторов. Основным же средством препятствования действиям трибуна могла быть только коллегиальная интерцессия, чем зачастую пользовался сам сенат. Как и другие авторы, Валерий не описывает ход процесса под руководством трибунов, однако ряд характерных моментов могут быть выведены из представленных случаев. Инициатива обвинения, исходившая от трибунов, базировалась либо на инициативе плебса (народа), поскольку трибуны выступали рупором общественного мнения, либо на прошениях частных лиц, права которых были нарушены (V. 4. 3). Трибуны назначали день для явки обвиняемого на суд народа (Валерий использует здесь техническое выражение diem ad populum dicere – III. 7. 1; V. 4. 3; VI. 1. 11). Местом проведения суда (в том числе над самими трибунами) всегда называются форум и ростры (III. 7. 1; 7. 8; 8. 6; V. 3. 2; VI. 1. 7; VIII. 1. abs. 2). Чаще речь идет о предварительной сходке (contio), на которой обсуждается дело (III. 8. 6; VI. 5. 2; VIII. 1. abs. 2; 1. damn. 3), происходит его расследование (quaestio: III. 7. 1; VI. 7. 1), а не о решающем собрании, на V в. – 1 (VI. 5. 2); IV в. – 4 (V. 3. 2; 4. 3; VI. 1. 11; 3. 1); III в. – 3 (VI. 1. 7; VIII. 1. damn. 6; VII. 2. 6); II в. – 4 (III. 7. 1; IV. 1. 8; V. 3. 2; VI. 5. 3; VIII. 1. abs. 2); I в. – 6 (III. 7. 8; 8. 6; VIII. 1. abs. 3; 1. damn. 5-6; 5. 4). 2 Наказание (как и осуждение) трибуна могло исходить только от коллег трибуна, а по сути от плебса (VI. 3. 2), за неисполнение его обязанностей по отношению к плебсу. См.: Herzog E. Geschichte und System der Römischen Staatsverfassung. Leipzig, 1891. Bd. II. S. 1149-1150. 1 133 котором происходит голосование (comitia)1, причем состав contio он определяет как populus (III. 7. 1; 7. 8; 8. 6; IV. 1. 8; VIII. 1. damn. 5)2. На подобной сходке могли присутствовать все сословия (сенат, всадники, плебс), что дает возможность Валерию называть ее состав populus (III. 7. 1; 184 г.). Единственный раз он прямо связывает суд с собранием центурий (VI. 5. 3) в процессе об эксцензорах, которым грозило изгнание за строгость при исполнении должности. Однако и здесь речь возможно идет о сходке, а использованное автором выражение («primae classis permultae centuriae») указывает лишь на мнение определенного слоя (первого класса). Собрание возглавлялось трибуном, который играл роль обвинителя, отчасти сопоставимую с ролью истца в гражданском процессе: фактически трибун являлся субъективным выражением коллективного истца – плебса (народа). Обвиняемый, в свою очередь, произносил речи в свою защиту, высказывал мнение о деле, а также мог поносить трибуна, пытаться влиять на собравшихся словом и поведением (III. 7. 8). Свои мнения высказывали и собравшиеся. Сходка должна была классифицировать проступок и определить меру наказания (штраф или смертная казнь), которая будет вынесена на голосование решающего собрания. Однако сходка же могла отказаться от дальнейшего преследования и побудить трибуна прекратить дело (III. 7. 8; VI. 5. 2-3; VIII. 1 abs. 2). Обвиняемый, в отношении которого было вынесено определение сходки, мог уйти в добровольное изгнание, не дожидаясь решающего голосования (V. 3. 2; VI. 1. 11), в силу чего иногда его могли до голосования содержать в тюрьме (V. 3. 2). В архаическое время в случае тяжкого уголовного деяния обвиняемый лишался жизни (VI. 3. 1), впоследствии казнь могла заменяться на изгнание (VI. 5. 3). Добровольный уход обвиняемого не всегда завершал преследование. Валерий сообщает и о возможности вынесения решения собранием после добровольного ухода, более того, даже в случае смерти, последовавшей после ухода (V. 3. 2; VI. 1. 11), причем как в случае имущественной ответственности, так и уголовной. В ряде случаев автор характеризует исход дела кратким выражением – «обвинен». Во всех этих случаях речь очевидно идет о смертной казни (VI. 1. 7; 11; VIII. 1. damn. 5-6), что становится ясным из некоторых его высказываний3. Какие собрания принимали при этом решение неясно, хотя обычно признается, что штрафная компетенция была у триб, а Термин comitia фигурирует у него только в связи с избирательными собраниями (III. 8. 3). Лишь однажды Валерий говорит о решении плебса (VI. 1. 11). Ср.: Gell. XIII. 16. 1-2; XV. 27. Важно отметить также, что именно народ он считает судьями, принимающими решение, в публичном процессе (VIII. 1. abs. 6), тогда как в процессе о величии он отделяет судейство от народа (VIII. 5. 4). 3 VIII. 1. abs. 2: «Кому было уготовано погибнуть, спасен собранием»; VIII. 1. damn. 6: «Также погиб ночной триумвир Публий Виллий, обвиненный в народном собрании плебейским трибуном Публием Аквилием, за то, что нерадиво осматривал караулы» (в VIII. 1. damn. 5 речь шла также об осуждении ночных триумвиров). К какому времени относятся данные случаи достоверно сказать нельзя. Последний возможно к 210 г. Современные авторы сходятся на том, что к концу II в. смертная казнь являлась исключительной мерой наказания, нормой же было «лишение воды и огня», т.е. изгнание из Рима. См.: Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. С. 171; Mommsen Th. Römisches Strafrecht. Leipzig, 1899. S. 201. Это же подтверждается Цицероном, который выступая в 63 г. с речью в защиту Рабирия (Pro Rab. Perd. III. 10), говорил: «<…> И в самом деле, чего я могу желать сильнее, чем в консульство свое удалить палача с форума и крест с поля? Но эта заслуга, квириты, принадлежит прежде всего нашим предкам, которые, изгнав царей, не оставили в свободном народе и следа царской жестокости, затем – многим, храбрым мужам, по воле которых ваша свобода не внушает страха жестокостью казней, а ограждена милосердием законов». 1 2 134 карать смертной казнью могли лишь центурии1. Порядок публичного процесса, осуществляемого трибунами, вероятно мало отличался от других, которые вели имевшие на то полномочия магистраты. Главным его отличием было несомненно то, что обвинение трибунов направлялось против эксмагистратов, как и магистратов находящихся в должности, выражая идею контроля народа над властью. Защита граждан. Основным средством прямой защиты граждан была трибунская интерцессия (intercessio), покоящаяся на праве помощи – ius auxilii (VI. 1. 7; 5. 4), осуществляемая в ответ на призыв (appellatio) к трибуну нуждающегося в ней лица. Валерий неоднократно сообщает об апелляции к трибунам (IV. 1. 8; VI. 1. 10; 3. 4; 5. 2; 5. 4), главным образом в связи с судопроизводством. Могли апеллировать к помощи трибунской коллегии и сами трибуны (VI. 1. 7). Трибуны могли как оказать помощь обращающемуся, так и отказать в ней (VI. 1. 7; 1. 10; ср.: IV. 1. 8; VI. 3. 4; 5. 2; 5. 4), исходя из принципа справедливости (VI. 5. 4) и мнения народа (VIII. 1. abs. 3). Вмешательство трибуна могло проиcходить и без апелляции (VIII. 1. abs. 3). Трибун (либо коллегия) издавал специальный декрет, который мог фиксироваться письменно (IV. 1. 8). Валерий сообщает не только об интерцессии при судопроизводстве, но и при принятии законов2. Он никогда не указывает на право помощи как на сословнообусловленное правомочие, рассматривая его чисто инструментально и прямо не сообщая об эволюции этого права. Однако о наличии ее можно предполагать в частности из отношений с сенатом. Первоначально трибуны очевидно контролировали сенатские постановления (decreta patrum) не посредством наложения veto, а тем, что не ставили (как то делали в случае согласия) литеру С на тексте декрета (II. 2. 7), подтверждающую одобрение трибунов. Собственно институт интерцессии против сенатских постановлений видимо оформился позже. Возможность ее предполагается в казусе, относящемся к 270 г. (II. 7. 15), когда трибун М. Фульвий Флакк выразил свое несогласие с решением сената подвергнуть казни солдат, но воспрепятствовать решению не смог. Протест трибуна (Валерий использует здесь глагол denuntiare – заявлять протест), очевидно не перерос в собственно интерцессию. Наиболее ранний казус (и единственный) в рамках раннереспубликанского времени, где Валерий обсуждает возможность вмешательства трибунов в деятельность своего коллеги, относится к 422 г. (VI. 5. 2). Он сообщает, что четыре трибуна выразили свое несогласие с действиями коллеги, вызвавшего на суд эксконсула Г. Семпрония Атратина не посредством интерцессии, но одев скорбные одежды. Случаи реального вмешательства трибунов относятся у Валерия ко II-I вв. (e.g.: IV. 1. 8), но и в это время действенность интерцессии зависела прежде всего от воли народа (VIII. 6. 4). Взаимоотношения трибунов с другими магистратами При этом вопрос о включении в состав триб и исключении из них находился, как отмечалось выше, в руках триб, а учитывая ставшей нормой практику замены смертной казни на изгнание это должно было означать и компетентность триб в уголовном производстве. О трибунском судопроизводстве см. напр.: Giovanini A. Volkstribunat und Volksgericht // Chiron. 1983/13. S. 545-566. 2 В VIII. 6. 4. Валерий прямо сообщает об интерцессии против законопроекта, предложенного трибуном 90 г. Кв. Варием; о том же можно предполагать и в случаях II. 9. 5 и IX. 1. 3. 1 135 В силу характера труда Валерий практически не касается системы магистратур1, но сообщает немало интересной информации об отдельных магистратурах и их взаимоотношениях друг с другом. Из словоупотребления Валерия нельзя однозначно ответить на вопрос, относит ли он трибунов к магистратам или нет, хотя однажды использует в отношении их термин magistratus (VI. 3. 2)2. О склонности автора к такому пониманию говорит также то, что Валерий связывает их избрание с populus (см. ниже)3, как и их руководство избранием магистратов в трибутных комициях (VII. 6. 1; IX. 10. 1). В то же время ряд других фактов скорее вступают в противоречие с таким пониманием. Так в II. 2. 7 трибуны скорее противопоставлены остальным магистратам (прежде всего консулам): они допускают возможность магистратам пользоваться серебряной посудой и кольцами (хотя имеют возможность не соглашаться с декретами сената). Кроме того, можно вспомнить то, что в раннее время они не могли входить в сенат (idem), но могли судить магистратов, ассоциировались не только с populus, но и plebs, обладали sacrosanctitas, имели ius praensionis в отношении консулов и т.д. (см. ниже). Гораздо более насыщенную информацию дают случаи конкретных взаимоотношений трибунов с другими (экс)магистратами (основная доля этих примеров относится к судебной практике), здесь мы имеем дело с диктаторами (II. 7. 8; V. 7. 2), консулами (III. 2. 18; 7. 3; 8. 3; IV. 1. 4; VI. 2. 3; 5. 2; VIII. 1. abs. 3; 1. abs. 6; IX. 1. 8; IX. 5. 2), проконсулами (VI. 2. 3); цензорами (II. 9. 5; VI. 5. 3; VII. 2. 6), преторами (III. 2. 18; IX. 7. 4), курульными (VI. 1. 7) и плебейскими эдилами (I. 4. 3 Nep.), триумвирами по уголовным делам (VI. 1. 10), ночными триумвирами (VIII. 1. damn. 5-6), триумвирами по выкупу рабов (VII. 6. 1), а также великим понтификом (IV. 7. 1) и весталками (V. 4. 6). Отрывочность и неполнота примеров несомненно не позволяет составить полную картину такого рода взаимоотношений, но все же их круг у Валерия гораздо шире, чем у других антикваров, грамматиков и энциклопедистов. Наибольшее число примеров связано с отношениями между трибунами и консулами, в противовес империю которых, согласно некоторых античных авторов, они и были созданы4. Валерий сообщает о процессе против эксконсула в 422 г. (VI. 5. 2), а также о процессе над находящимся в должности консулом 58 г., за обиды, нанесенные союзникам (VIII. 1. abs. 6). Примечательно, что и в том и в другом случае процессы были прекращены по воле собрания. Однако трибуны могли не только обвинять консулов, но и Термин magistratus встречается у Валерия 17 раз в 16 примерах 7 книг (II. 2. 2; 2. 7; 8. 5; III. 2. 7; IV. 1. 1; 3. 10; VI. 2. 10; 3. 2; 4. ext. 5; VII. 3. 8; 7. 6; VIII. 1. abs. 2; 15. 6, 8, 10; IX. 10. 1). Дважды он использует системообразующее определение magistratus populi Romani (VII. 3. 8; VIII. 1. abs. 2), один раз в отношении плебейского эдила (!), другой – проконсула провинции Азия. Также он упоминает о курульных должностях (III. 2. 7; VIII. 15. 8); называет власть консула и проконсула – summum imperium (IV. 1. 1; VI. 2. 10; VIII. 15. 8), а также указывает на возможность обладания равным империем – parum imperium (VIII. 15. 8). 2 «Idem sibi licere [tam] P. Mucius tribunus pl. quod senatui et populo Romano credidit, qui omnes collegas suos, <qui> duce Sp. Cassio id egerant ut magistratibus non subrogatis communis libertas in dubium uocaretur, uiuos cremauit». Гипотетически они могут предполагаться в числе прочих и во фразе: «<…> consules et ceteri magistratus et uniuersus senatus populusque Romanus <…>» (VIII. 15. 10). 3 Валерий отмечает также, что трибуны имели maiestas publica (VI. 5. 4). 4 E.g.: Cic. Resp. II. 58. 1 136 защищать их1. Не раз (138, 67 и 131 гг.) Валерий сообщает о приводе трибуном консула на сходку (III. 7. 3; 8. 3; проконсула – VI. 2. 3), где тот побуждался высказать свое мнение по тому или иному обсуждаемому сходкой вопросу: о покупке хлеба, о кандидатуре будущего консула (!), об отношении к убийству Т. Гракха. Консулы участвуют в сходках, созванных трибунами, и без их приглашения (IX. 5. 2). Трибуны не только могли инициировать процессы против консулов, но и обладали коэрцитивной властью против них. Так трибун 91 г. Л. Друз за то, что консул прервал его выступление на сходке, отправил его в тюрьму (idem)2. Трибуны могли просить консулов созвать сенат (III. 7. 3), ибо нормальным способом его созыва был очевидно именно такой (см. ниже). Дважды (325 и 44 гг.) в примерах Валерия трибуны выступают против диктаторов (II. 7. 8; V. 7. 2), в том числе против Цезаря, сдерживая их власть, но только посредством организации негативного общественного мнения. Ни о каких иных действиях против них (судебного, коэрцитивного характера или интерцессии) он не упоминает, что может говорить об отсутствии таких полномочий у трибунов3. Что касается отношений с цензорами, то последние могли исключать трибунов, как и других лиц, из списка сената (II. 9. 5), посредством наложения замечания (nota). Трибуны, в свою очередь, могли инициировать процессы против эксцензоров (VI. 5. 3; VII. 2. 6). Однако сенат стремился препятствовать этому, дабы вывести цензоров из-под юрисдикции трибунов4. Контроль трибунов за цензурой (с их функцииями cura morum, lectio senatus и др.) фактически поставил бы под их контроль и сам сенат, что тот допустить не мог. Гораздо проще, вероятно, трибунам удавалось контролировать деятельность низших магистратов. Валерий говорит об избрании собраниями под руководством трибунов триумвиров для освобождения рабов в 215 г., а также о двух случаях осуждения трибунами ночных триумвиров (VIII. 1. damn. 5-6) за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Сами плебейские трибуны могли быть привлечены к суду курульными эдилами (VI. 1. 7), если основанием служили гражданские правоотношения, а не должностная деятельность. Важным является и сообщение Валерия о том, что приказ сбросить тела убитых гракханцев в Тибр (132 г.) отдал плебейский эдил Лукреций (I. 4. 3 Nep.). Примечательно, что плебейский эдил фигурирует у Валерия как магистрат римского народа (VII. 3. 8). Все это подчеркивает утрату в этот период сословного характера двух должностей. Плебейский эдил здесь выступает на стороне сената. Так в VIII. 1. abs. 3 трибун 54 г. Лелий способствовал прекращению процесса над эксконсулом 58 г. А. Габинием (однако какую должность занимал обвинитель Г. Меммий и связано ли было обвинение с деятельностью Габиния в качестве консула неясно). 2 Дионисий Галикарнасский сообщает, что трибуны получили право наказывать любого, кто прерывал их выступление, еще в 492 г. (Dionys. VII. 16. 4; 17. 4-6). 3 О взаимоотношениях трибунов и диктаторов см. напр.: Дементьева В.В. Магистратура диктатора в ранней Римской республике (V-III вв. до н.э.). Ярославль, 1996. С. 87-102. 4 О взаимоотношениях цензуры и трибуната см.: Мельничук Я.В. Ответственность цензоров перед civitas в середине V – середине II в. до н.э. // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 2002. № 1 (9). С. 113-125. 1 137 Валерий делает и краткие замечания об отношениях трибунов с понтификами (IV. 7. 1) и весталками (V. 4. 6). Характер этих двух примеров говорит об отсутствии у трибунов инструментальных средств против лиц, облеченных жреческим саном. Характер устоявшихся отношений претерпел в условиях кризиса I в. некоторые трансформации. Валерий сообщает нам о случаях смыкания трибунов с другими должностными лицами (III. 2. 18) или кругами (кредиторами; IX. 7. 4) исходя из личных и групповых амбиций. Взаимоотношения с сенатом Говоря о древних временах («veteribus senatus consultis») Валерий замечает, что трибуны не входили в сенат (II. 2. 7), располагаясь перед его дверями1. Единственный раз он сообщает о вхождении трибуна в сенат уже в 97 г., говоря об исключении Дурония из его состава (II. 9. 5). Плебейские трибуны (tribunicii) получили право быть включенными в список сената в соответствии с плебисцитом Атиния (Gell. XIV. 8), дата которого неизвестна2, но созывать его могли и до того (idem)3. Валерий же в III. 7. 3, говоря о трибуне 138 г. Г. Куриации, дает понять, что трибун от имени сходки требует от консула созвать сенат для решения вопроса о покупке зерна. Этот факт говорит о том, что созыв сената трибуном не стал нормой и в это время, и подкрепляет правильность приводимого Варроном порядка лиц, имеющих право созывать сенат4. Несомненно отношения трибунов с сенатом варьировались во времени, зависели от складывающейся внутри- и внешнеполитической обстановки, как и способности трибунов организовать массированное давление плебса, используя свое ius contionis. В раннее время, задача трибунов Сенат в раннее время обычно собирался в Гостилиевой курии, созданной еще царем Гостилием (Cic. Rep. II. 17. 31), однако что она собой представляла сказать сложно. Речь о дверях может идти прежде всего в тех случаях, когда сенат собирался в каком-то из храмов (первоначально в храме Юпитера на Капитолии; освящен в 509 г.). Однако храмом (templum) называлось любое освященное авгурами место, и только в нем сенат и мог принимать свои решения (Gell. XIV. 7. 7). Фест сообщает нам об устройстве такого templum (Fest. s.v. Minora templa. P. 146L): «Небольшие храмы создаются посредством авгурий, когда некое место огораживается либо досками, либо завесами (чтобы не осталось открытым ни одного широкого прохода), и произносятся определенные торжественные слова. Поэтому храм есть место сколь освященное, столь и огороженное, открытое в одной части, оно имело углы, скрепленные с землей». 2 Разброс мнений современных авторов весьма велик. Так по мнению Ланге (Lange L. Römische Altertümer. Berlin, 1879. II. S. 173) он был принят между 216-209 гг., Бартошек же относит его к 102 г. (Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения. М., 1989. С. 184). 3 Дионисий Галикарнасский говорит о возможности трибунов входить и выступать в сенате повествуя о Кориолане, т.е. в 491 г. (Dionys. VII. 2), у Ливия подобный пример появляется в 462 г. в связи с деятельностью трибуна Терентилия Гарсы (Liv. III. 9). Впервые о созыве трибуном сената Дионисий сообщает в 445 в связи с деятельностью трибуна Канулея (X. 31. 1-2; 32. 1), Ливий же только в 216 г. (Liv. XXII. 61. 7). Виллемс связывал возникновение данного права с законами Публилия Филона 339 г. (Виллемс П. Римское государственное право. Киев, 1888. Ч. 1. С. 218. Прим. 1). 4 Список Варрона приводит Авл Гелий (Gell. XIV. 7. 4): диктатор, консулы, преторы, плебейские трибуны, интеррекс и префект города. К ним он прибавляет также военных трибунов с консульской властью, децемвиров для написания законов и триумвиров для устроения государства (XIV. 7. 5), замечая при этом, что преимущество созыва было у лица, стоящего в списке первым (XIV. 7. 4). Примечательно, что все они, за исключением трибунов, магистраты с империем. Сомнение может вызывать только фигура praetor urbanus. Некоторые авторы склонны наделять империем и эту должность. См.: Лукьянец А.В. Изучение римской должности praefectus urbi в зарубежном антиковедении XIX века // Tabularium. Труды по антиковедению и медиевистике. Москва, 2003. Том. 1. С. 76-84. 1 138 контролировать решения сената, исходящая из защиты плебса, выходит на первый план (II. 2. 7). Однако Валерий все же не говорит здесь о возможности интерцессии против решений сената. Трибун 270 г. М. Фульвий Флакк не смог воспрепятствовать и решению сената казнить солдат, ведших «несправедливую» войну против Регия (II. 7. 15). Напротив, сенат в 204 г. своим декретом смог воспрепятствовать трибунам учинить процесс против цензоров (VII. 2. 6), стремясь вывести цензуру из-под юрисдикции трибунов, что не вызвало негативной реакции со стороны трибунов и дело было закрыто. Валерий сообщает и о договоренностях сената и коллегии трибунов в области законодательства, относящихся к этому времени: cенат использовал трибунов и возглавляемые ими собрания по трибам для проведения своих законопроектов (VII. 6. 1). Примеры Валерия, относящиеся к периоду Средней Республики, соответствуют характеристике трибуната этого периода, как института, действующего в соответствии с интересами большинства сенатской аристократии и стоящего на страже status quo установившейся системы власти1. Противостояние между сенатом и трибунатом связывается у Валерия с эпохой поздней Республики и именами таких мятежных трибунов как братья Тиберий (133) и Гай Гракхи (123/2), Л. Апулей Сатурнин (100) и Ливий Друз (91). Валерий в этом противостоянии занимает явную просенатскую позицию. Он оправдывает убийство мятежных трибунов, хотя и косвенно дает понять, что оно было незаконным2. Во всех этих случаях недовольство сената было вызвано аграрным законодательством трибунов, которое, несмотря на негативное мнение сената, было проведено трибунами, а сенат не имел законных средств и влияния, чтобы воспрепятствовать им. Валерий, следуя общей традиции, повествующей об упадке нравов после Пунических войн и разгроме Македонии (IX. 1. 3), не связывает этот процесс все же с трибунатом. Наряду с примерами мятежей, он приводит и случаи контроля трибунов со стороны сената посредством цензоров (II. 9. 5), а также принятия трибунами законов, направленных на усиление контроля сената над полководцами (II. 8. 1). Взаимоотношения с плебсом (народом) Масса примеров Валерия подтверждает основополагающую мысль Полибия, что трибунат неразрывно связан с народом (demos) и отражает его интересы, причем в противовес сенату (Polyb. VI. 16. 4). Однако простота и схематизм построения великого грека входят в противоречие с восприятием понятия «народ» (populus) в латинской историографии3, и эти противоречия находят отражение и в труде Валерия. 1 Bleicken J. Das römische Volkstribunat: Versuch einer Analyse seiner politischen Funktion in republikanischer Zeit // Chiron. 1981/11. S. 87 u. folg.; Fabbrini F. Tribunus plebis // NNDI. 1973. XIX. P. 800-804; Margadant G.F. El tribunado de la plebe: un gigante sin descendencia // Index. 1977/7. P. 181-186. 2 Так он говорит об отказе консулов 132 и 122 гг. возглавить подавление мятежей, возглавляемых трибунами. Он сообщает и о том, что подавившие их лица, повинные в убийстве (без суда) римских граждан, вынуждены были впоследствии оставить Рим, хотя порой и под благовидными предлогами (IV. 7. 1; V. 3. 2). 3 См. напр.: Павлов А.А. Плебейский трибунат в системе смешанной конституции Полибия и Цицерона // IVS ANTIQVVM. Древнее право. М., 2004. № 1 (13). С. 19-28. 139 В отличие от предшествующей исторической традиции (Ливий), которая связывала происхождение трибуната с плебсом (plebs), Валерий при выборе понятий (plebs/populus) чаще отдает предпочтение не plebs, а именно populus. В его лексике мы можем встретить различные смысловые наслоения в трактовке этих понятий. С одной стороны, в IV. 4. 2, говоря о Менении Агриппе (494 г.), Валерий склонен исходить из схемы, закрепленной впоследствии в юридической традиции, трактующей понятие populus как совокупность плебса и патрициев (сената)1. В III. 7. 1, в связи с процессом против П. Сципиона Африканского в 184 г., структура скорее соответствует позднереспубликанскому сословному делению: сенат (сенаторы), всадники, плебс. В то же время, сообщая о мятеже Сатурнина (100 г.), он противопоставляет народ и сенат (III. 2. 18). Подобная подмена может быть связана с трансформацией понятия плебс в ходе формирования римской гражданской общины, с утратой плебсом сословных различий по завершении сословной борьбы. Однако необходимо заметить, что на практике Валерий ассоциирует трибунов с populus, начиная с первого упоминаемого им трибуна Кассия 486 г. (V. 8. 2) и до последнего – трибуна 44 г. Г. Гельвия Цинны (IX. 9. 1)2. Деятельность трибуна часто ассоциируется со сходкой, состав которой он именует populus (III. 8. 3; 8. 6). Это же касается и избрания трибунов. В случае избрания Сатурнина (IX. 7. 3) и Эквиция (IX. 7. 1) в 100 г. избирающее собрание также названо populus. То же словоупотребление и в отношении трибунского судопроизводства, где populus фигурирует не только в составе технического выражения diem ad populum dicere (III. 7. 1; V. 4. 3; VI. 1. 11), но и при указании автора на состав собрания, при том, что в большинстве случаев у Валерия речь идет не о собрании, принимающем решение, а о сходке (III. 7. 1; 7. 3; 8. 6). Термин plebs, помимо случая с Менением Агриппой (IV. 4. 2), появляется в архаическое время в пассаже о контроле трибунов за декретами сената (II. 2. 7), где он также оппонирует сенату и магистратам. В этом же контексте он появляется в VIII. 6. 3, где Валерий сообщает о допуске плебса к консулату в соответствии с законом Лициния Столона. Решением плебса названо решение суда под руководством трибуна Коминия (VI. 1. 11), датировка трибуната которого сомнительна (313?). Остальные случаи относятся уже к Гракханскому времени. В III. 2. 17 Т. Гракху (133 г.) приписывается стремление передать (забрав у сената) все дела плебсу3, под чем явно понимается собрание под руководством плебейского трибуна. В III. 7. 3 плебсом названа сходка в оппозицию консулу Сципиону Назике (138 г.), то же и в VI. 2. 3 по отношению к проконсулу П. Сципиону Эмилиану4. 1 E.g.: Gai. I. 3. Аналогично этому деятельность трибунов ассоциируется с populus в рассказе о противостоянии диктатору Папирию в 325 г. (II. 7. 8), о деяниях Т. Гракха в 133 г. (III. 2. 17), о мятеже Сатурнина в 100 г. (III. 2. 18) и др. 3 Который тут же соотносится с народом и оба понятия противопоставляются сенату. 4 Сципион был консулом 134 г. Событие вероятно относится к 132 г., когда Сципион вернулся из Нуманции и справил триумф (Eutr. IV. 19; App. Ib. 97-98). Очевидно Сципион обладал проконсульским империем, хотя авторы не сообщают об этом. 2 140 Из приведенных случаев видно, что термин plebs чаще употребляется Валерием в рамках архаического периода, более поздние случаи концентрируются в небольшом промежутке времени Гракханской эпохи. Все случаи его использования связаны с оппозицией понятия либо сенату, либо магистратуре, вместе с чем в оппозиции к сенату и магистратуре оказывается и сам трибунат. Он не использует термин patricii, однако контекстуально с этим понятием у него совпадает senatus, а также magistratus (patricii). Оппозиция плебс-сенат в классическое время трансформируется в народ-сенат, либо сенат-всадники-плебс, отражая трансформации, произошедшие в связи с lex Hortensia 287 г. и сложением сословного деления позднереспубликанского времени. И в первом (plebssenatus), и во втором (populus-senatus) контекстах трибунат являет собой оппозицию сенату и магистратской власти, что, впрочем, не означало на практике невозможности успешной кооперации действий с сенатом. Tribunicia potestas Автор рассматривает конфликт архаической эпохи как оппозицию сената и плебса, составляющих в совокупности народ (IV. 4. 2)1. В связи с чем главным назначением трибуната он видит заботу о плебсе (ius auxilii) и сдерживание власти магистратов (intercessio), что тесно переплетается также с контролем над деятельностью сената (II. 2. 7). Валерий единственный замечает, что в архаическое время трибуны не участвовали в заседаниях сената, однако, сидя у его дверей, контролировали постановления сената. В отмеченном пассаже трибуны оказываются интегральной частью системы в качестве средства контроля и сдерживания власти по отношению к плебсу, хотя фигурируют скорее не в качестве магистратов, а представителей плебса. Цель такого симбиоза – достижение согласия (сoncordia) внутри populus, т.е. между сенатом и плебсом (которая была нарушена в частности в период первой сецессии и восстановлена благодаря деятельности Менения Агриппы; IV. 4. 2). В другом месте (IV. 1. ext. 8) Валерий сравнивает трибунов с эфорами в Спарте по их функциональному назначению: как те были противопоставлены власти царя, так трибуны – консульскому империю. Автор не задается вопросом, в каком соотношении находится эта функция к предыдущей (т.е. контролю власти в целом) – для него это суть однопорядковые функции. Валерий определяет их власть как potestas (tribunicia), аналогично власти магистратов, которых именует potestates, и противопоставляя ее лишь власти консула и, в более широком плане, магистратам cum imperio. В отличие от остальных potestates власть трибуна священна и неприкосновенна (potestas sacrosancta; VI. 1. 7; 5. 4). Валерий не касается ее происхождения и характера. Оба примера словоупотребления относятся «А теперь давайте подумаем, насколько великим человеком был Менений Агриппа, которого сенат (senatus) и плебс (plebs) выбрали для установления между ними мира. Именно ему подобало стать судьей общественного благосостояния. А ведь если бы народ (populus) не собрал по секстанту с человека, ему не хватило бы на похороны, достойные его чести. Но община, разделенная гибельным раздором, предпочла вверить себя рукам Агриппы, когда убедилась, что они хоть и бедны, зато чисты. Пока он был жив, ему нечем было подкрепить свой ценз, а после смерти он стал самым знатным представителем римского согласия (concordia) вплоть до наших дней». 1 141 к концу III – первой половине II в. В обоих случаях трибуны ясно осознают ее особый характер, тщетно пытаясь, обладая ей, укрыться от судебного преследования. Но неприкосновенность не защищает трибуна в случае частных правонарушений (idem), не выводит их за пределы правового поля (и в том и в другом случае трибунская коллегия не вступилась за коллегу), и связана несомненно не с лицом, а должностью. Неприкосновенность должна использоваться для отправления должностных полномочий и с этой целью и была предоставлена, позволяя, прежде всего, противостоять магистратам с империем. Вопрос о трибунской неприкосновенности, однако, никогда не возникает в примерах активного противостояния трибунов и сената, заканчивающихся убийством трибунов (Т. и Г. Гракхи, Апулей Сатурнин, Ливий Друз)1. Во всех этих случаях сенат квалифицировал их действия как мятеж (seditio) против государства, превращая трибуна в государственного преступника, что делало возможным его убийство. Однако и в этом случае, что примечательно, трибун не подвергался суду: ни один магистрат не обладал такой компетенцией. Наряду с sacrosancta, Валерий трижды использует в качестве характеристики власти трибуна нехарактерное для других авторов и нетехничное определение amplissima (широчайшая), в примерах, относящихся к 143 (V. 4. 6) и 100 г. (III. 8. 6; IX. 15. 1), чем подчеркивает, прежде всего, не столько ее верховную сущность2, для этого он, как и другие авторы, использует прилагательное summus (в отношении консульского imperium, а не трибунской potestas), сколько широту и объем полномочий, особенно ставший очевидным в эпоху кризиса Республики. Табл. 1. Трибунат у Валерия Максима термин Tribunus pl., tribunus, tribunatus potestas tribunicia potestas [tr.] fax tribunicia manus tribunorum collegium tribunorum auxilium tribunicium место II. 2. 7 (bis); 7. 8; 7. 15; 8. 1; 9. 5; III. 1. 2; 2. 18 (bis); 7. 1 (ter); 7. 3; 8. 4; 8. 6; IV. 1. 4 (bis); 1.ext.8; 7. 3; V. 2. 7; 3. 2 (bis); 4. 3 (bis); 4. 5; 4.6; 7. 2; 8. 2; VI. 1. 7; 1. 10 (bis); 1. 11; 2. 3; 3. 2 (bis); 5. 2; 5. 3; 5. 5; VII. 2. 6 (bis); 6. 1; VIII.1.abs.2; 1. abs. 3; 1. damn. 5; 1. damn. 6; 6. 4 (bis); IX. 1. 8; 5. 2 (ter); 7. 3; 7. 4; 9. 1; 10. 1 I. 4. 3 (Nep) bis; 7. 6; III. 2. 17; VI. 5. 4; IX. 1. 8; 7. 1; 15. 1 II. 7. 8; III. 8. 6; V. 4. 6; XI. 15. 1 (amplissima); VI. 5. 4; 1. 7 (sacrosancta). III. 8. 3 III. 8. 3 кол-во 55 IV. 1. 8; VI. 1. 7; 3. 4; 5. 4; II. 7. 8; VI. 1. 7; 5. 4 4 3 6+2* 6 1 1 См. указанные в связи с данными именами параграфы в Табл. 2. С.Ю. Трохачев переводит «potestas amplissima» всегда как «высшая власть». Именно такой ее оценки для периода III в. – начала I в. он придерживается и в своей вводной статье к переводу (см.: Трохачев С.Ю. Валерий Максим и его история в поучительных анекдотах // Максим Валерий. Достопамятные деяния и изречения. СПб., 2007. С. 12). Однако следует заметить, что Валерий тот же термин использует однажды и в отношении власти консула (III. 8. 3). 1 2 142 iustitia tribunicia VI. 5. 4 furor tribunicius VI. 5. 7 actio tribunicia VIII.1.abs.2. viator tribunicius IX. 1. 8 subsellium (tr.) I. 4. 2 (Par.); 4. 3 (Nep) decretum (tr.) IV. 1. 8 intercessio (tr.) VIII. 6. 4 * Из эпитомы Паризия и Непотиана несохранившейся части Валерия Максима. 1 1 1 1 2* 1 1 Табл. 2. Трибуны у Валерия Максима имя год место, параграф Sp. Cassius 486 P. Mucius L. Hortensius L. Apuleius С. Licinius Stolo M. Flavius Cominius M. Fulvius Flaccus C. Flaminius 485 422 391 367 V. 8. 2 («De severitate patrum in liberos»); VI. 3. 1; 3. 2 («De severitate») VI. 3. 2 («De severitate») VI. 5. 2 («De iustitia») V. 3. 2 («De ingratis») VIII. 6. 3 («Quique in aliis vindicarant ipsi commiserunt») IX. 10. 1 («De ultione») VI. 1. 11 («De pudititia») II. 7. 15 («De disciplina militari») P. Aquilius 210? Cn. Baebius стат-ка имени тр-та 2 1 1 1 1 1 1 1** 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 204 V. 4. 5 («De pietate erga parentes et fraters et patriam»), начальник конницы (221; I. 1. 5 «De religione servata»); консул (217; I. 6. 6 «De prodigiis») VIII. 1. d. 6 («Infames rei quibus de causis absolute aut damnati sint») VII. 2. 6 («Sapienter dicta aut facta») domus Brutorum [T.(P.) et M. Iunii Bruti] Ti. Sempronius Gracchus 195 IX. 1. 3 («De luxuria et libidine») 1 187 187 184 168 3 4 1 1 1 1 1 Petilii duo M. Naevius P. Popilius (=P. Rutilius Rufus) IV. 1. 8 («De moderatione»); VI. 5. 3 («De iustitia») [цензор]; VII. 6. 1 («De necessitate») [консул] III. 7. 1 («De fiducia sui») III. 7. 1 («De fiducia sui») VI. 5. 3 («De iustitia») L. Aurelius Cotta C. Scantinius Capitolinus L. Scribonius Libo C. Curiatius Ti. Semproni- 154 VI. 5. 4 («De iustitia») 2 2 149? VI. 1. 7 («De pudicitia») 2 1 149 VIII. 1. a. 2 («Infames rei quibus de causis absolute aut damnati sint») III. 7. 3 («De fidutia sui») I. 4. 2 (Par); 1 1 1 1* 1 ** 323 313 270 228 138 133 Трибунат лица указан, но без маркировки лица как tribunus. 143 1 1 1 1 1 1 1 1 us Gracchus C. Publilius Carbo C. Sempronius Gracchus 1 2 131 123/122 Cn. Domitius Agenobarbus L. Equitius (design.) 104 L. Appuleius Saturninus 100 100 P. Furius 100 Sex. Titius 99 C. Apuleius Decianus Q. Calidius M. Duronius L. Antistius Reginus M. Livius Drusus Q. Varius Se- 98 98 97 95 91 90 4. 3 (Nep) («De auspicio»); I. 7. 6 («De somniis»); II. 8. 7 («De iure triumphandi»); III. 2. 17 («De fortitudine»); 8. 6 («De constantia»); V. 3. 2 («De ingratis»); VI. 2. 3 («Libere dicta aut facta»); 3. 1 («De severitate»); 7. 1 («De fide uxorum erga virgos») [mater Gracchorum]; VII. 2. 6 («Sapienter dicta aut facta»); IX. 7. 1-2 («De vi et seditione»); 15. 1 («De his qui infimo loco nati mendacio se clarissimus families inserere conati sunt») VI. 2. 3 («Libere dicta aut facta») I. 7. 6. («De somniis»); III. 8. 6 («De Constantia»); IV. 7. 2 («De amititia»); V. 3. 2 («De ingratis»); VI. 3. 1 («De severitate»); 8. 3 («De fide servorum»); VIII. 10. 1 («Quantum momentum sit in pronuntiatione et apto motu corporis»); IX. 4. 3 («De avaritia»); 5. e. 4 («De superbia et inpotentia»); 12. 6 («De mortibus non vulgaribus») VI. 5. 5 («De iustitia») 1* 1 1 2 1 1 1 1 1pl 1 2 1 2t1 1t 1tf2 1 1 1 2 1 2+1pl. 1 1 2 1 1t 1 1 1 2 1 III. 2. 18 («De fortitudine»); 8. 6 («De constantia»); IX. 7. 1 («De vi et seditione»); 15. 1 («De his qui infimo loco nati mendacio se clarissimis families inserere conati sunt »). III. 2. 18 («De fortitudine»); 8. 4 («De constancia»); VI. 3. 1 («De severitate»); VIII. 1. d. 2; 1. d. 3 («Infames rei quibus de causis absolute aut damnati sint»); 6. 2 («Qui quae in aliis vindicarant ipsi commiserunt»); IX. 7. 1; 3 «De vi et seditione» VIII. 1. d. 2 («Infames rei quibus de causis absolute aut damnati sint») VIII. 1. d. 3 («Infames rei quibus de causis absolute aut damnati sint») VIII. 1. d.2 («Infames rei quibus de causis absolute aut damnati sint») V. 2. 7 («De gratis») II. 9. 5 («De censoria nota») IV. 7. 3 («De amititia») 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 III. 1. 2 («De indole»); IX. 5. 2 («De superbia et impotentia») III. 7. 8 («De fiducia sui»); VIII. 6. 4 («Qui 2 1 1 1 1 T – tribunatus. Tf – tribunicia fax. 144 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 verus Hybrida Sucronensis L. Cassius P. Sulpicius Refus M. Iunius Brutus C. Cornelius M. Porcius Cato Uticensis1 L. Marius P. Clodius Pulcher 1 89 88 quae in aliis vindicarant ipsi commiserunt»); IX. 2. 2 («De crudelitate») IX. 7. 4 («De vi et seditione») VI. 5. 7 («De iustitia») 1 1 1 1 83 VI. 2. 8 («Libere dicta aut facta») 1 67 62 VIII. 5. 4 («De testibus») II. 8. 1 («De iure triumphandi») 1 1 62 58 1 1 1 1 44 II. 8. 1 («De iure triumphandi») III. 5. 3 («Qui a parentibus claris degeneraverunt»); IV. 2. 5 («Qui ex inimicitiis iuncti sunt amititia aut necessitudine»); VIII. 1. a. 6 («Infames rei quibus de causis absolute aut damnati sint»); 5. 5 («De testibus»); IX. 1. 7 («De luxuria et libidine») IV. 2. 6 («Qui ex inimicitiis iuncti sunt amititia aut necessitudine») VIII. 1. a. 3 («Infames rei quibus de causis absolute aut damnati sint») IV. 2. 7 («Qui ex inimicitiis iuncti sunt amititia aut necessitudine») V. 3. 4 («De incratis»); IV. 2. 7 («Qui ex inimicitiis iuncti sunt amititia aut necessitudine») V. 7. 2 («De parentum amore et indulgentia in liberos») V. 7. 2 («De parentum amore et indulgentia in liberos») IX. 9. 1 («De errore») ? II. 8. 1 («De iure triumphandi») L. Caninius Gallus D. Laelius 56 Q. Pompeius Rufus M. Caelius Rufus 52 L. Caesetius 44 C. Epidius Marullus C. Helvius Cinna L. Marcius 44 54 52 1 2? 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 М. Порций Катон Утический вне трибуната рассматривается Валерием в целом ряде примеров. 145 2 1 1tf Достопамятные деяния и изречения Валерий Максим* Книга I 4. Об ауспициях 2 (Par). Тиберий Гракх1, когда готовился совершить государственный переворот, обратился дома на рассвете к ауспициям, которые оказались для него весьма неблагоприятными. Выходя из дому, он зашиб дверью ногу так, что вывихнул себе палец. Затем три ворона, встретив его карканьем, уронили перед ним часть отбитой черепицы. Презрев все эти предзнаменования, а еще и сбитый с ног на Капитолии великим понтификом Сципионом Назикой, он погиб от удара обломком трибунской скамейки. 3 (Nep). Тиберий Гракх, намеревающийся захватить трибунат, вопросил дома пуллария и тот запретил ему вступать в открытое сражение. Но упорно намеревающийся осуществить задуманное, выйдя за порог, он вслед затем так ударил ногу, что вывихнул себе палец. После три ворона налетели на него с карканьем и, разодравшись, сбросили черепицу перед его ногами. А когда он совещался на Капитолии, то и там получил схожие знамения. Итак, во зло употребив трибунат, он был убит Сципионом Назикой. Сначала он получил удар обломком скамьи, затем был добит палкой. Тело его, вместе с теми, что были убиты подобно ему, Лукреций, плебейский эдил, приказал сбросить в Тибр без погребения2. 7. О сновидениях 6. Гай же Гракх3 совершенно отчетливо ощутил во сне весь ужас приближающейся гибели. Ведь во сне он увидел своего брата Тиберия, говорящего, что ему никак не избежать его судьбы, и что он погибнет также как и он сам. Об этом многие слышали от самого Гракха еще до его трибуната, заняв который, он закончил жизнь подобно брату. Целий же, надежный римский историк, пишет, что об этом он слышал сам своими ушами, когда еще Гракх был жив. Книга II 2. О древних институтах 7. О том также напомнить должно, что плебейским трибунам не позволялось входить в курию. Расположившись на своих скамьях перед дверьми, они внимательнейшим образом исследовали постановления Перевод сделан по изданию: Valerius Maximus. Factorum et dictorum memorabilium libri novem. Iulii Paridis et Ianuarii Nepotiani Epitomis adiectis / Rec. C. Halm. Lipsiae: In aed. B.G. Teubneri, 1865. 1 Известный плебейский трибун 133 г., проведший закон о перераспределении общественной земли и избрании для этого специальной коллегии триумвиров. Здесь и далее все даты до новой эры. 2 Ливий (Per. 58) сообщает: «Когда же Гракх пожелал сделаться трибуном вторично, то был убит на Капитолии оптиматами во главе с Публием Корнелием Назикой: его забили обломками скамеек и вместе с другими убитыми в том же мятеже, непогребенного бросили в реку». Ср.: Plut. Tib. Gracch. 19. См. ниже: III. 2. 17. 3 Плебейский трибун 123/2 гг., брат Тиберия Гракха. * 146 отцов, чтобы, если какое из них не было одобряемо ими, не могло иметь силу. Поэтому на древние постановления сената обычно ставилась буква «С», и знак этот означал, что оно одобрено и трибунами. Они, хотя неусыпно пеклись о выгоде плебса и были заняты сдерживанием властей, однако позволяли им пользоваться предоставленными публично серебряными вазами и золотыми кольцами, чтобы использованием такого рода вещей власть магистратов была бы более почетна. 7. О военном деле 8. Того же рода и следующий пример. Диктатор Папирий, когда против его приказа начальник конницы Квинт Фабий Руллиан вывел войско на битву, не посмотрев ни на его храбрость, ни на успех, ни на знатность, приказал приготовить розги и раздеть его, хотя тот и вернулся в лагерь, обратив самнитов в бегство. О, удивительное зрелище! И вот Руллиан, начальник конницы и врагов победитель, скинув доспехи и одежду, подставил свое тело розгам ликторов, чтобы кровью ран полученных не только в сражении, но еще и от ударов узловатых розог, окропить заслуги тех побед, которых добился он блистательнейшим образом. Но мольбами своими войско дало Фабию возможность бежать в город, где он напрасно слезно просил у сената помощи: ведь Папирий и здесь ничуть не меньше настаивал на своем наказании. В силу чего отец его, прежде диктатор и трижды консул, вынужден был вынести дело на рассмотрение народа и просить помощи плебейских трибунов, умоляя за сына. Но даже и таким образом он не смог укротить суровость Папирия. Впрочем, поскольку его просили все граждане и сами плебейские трибуны, он заявил, уступая не Фабию, но народу и трибунской власти, что не станет наказывать его1. 15. <…> Но так как не раз сенат суровым образом добивался военной дисциплины, не знаю, особым ли был тот, когда солдат, которые посредством несправедливой войны заняли Регий и избрали предводителем по своему желанию Марка Цезия, писца полководца Юбеллия, в связи с его смертью, заключили в темницу; и хотя плебейский трибун Марк Фульвий Флакк2 обратился к сенату, чтобы он не наказывал римских граждан против обычая предков, тем не менее, сенат исполнил свое намерение. Впрочем, чтобы оно было сопряжено с меньшим негодованием, сенат приказал ежедневно сечь прутьями и казнить по пятьдесят человек, и запретил погребать их тела и оплакивать смерть. 8. О праве триумфа 1. Некоторые полководцы требовали предоставить им триумфы за незначительные сражения. Дабы воспрепятствовать таковым, законом было установлено предоставлять триумф только тем, кто уничтожил пять тысяч Папирий был диктатором в 325 г. Подробно этот же рассказ передает Ливий (VIII. 30 sq.), имена трибунов у которого также не названы. 2 Плебейский трибун 270, консул 264 и начальник конницы 246 гг. (Niccolini G. Fasti dei tribuni della plebe. Milano, 1934. P. 85). Ср. Oros. IV. 3. 5; Liv. Per. 15; Zonar. VIII. 6. 14. 1 147 неприятелей в одном сражении: ведь предки полагали, что не число, но слава триумфов доставит больше чести нашему городу. Впрочем, чтобы столь славный закон не был предан забвению стремлением получить лавровый венок, он был подкреплен поддержкой другого закона, который внесли плебейские трибуны Луций Марий и Марк Катон 1: он угрожал наказанием тем полководцам, которые решат сообщить сенату письменно неверное число либо убитых в сражении врагов, либо потерь римских граждан, и повелевал им, как только они войдут в город, поклясться перед городскими квесторами в том, что и то, и другое число, предоставленное ими ранее сенату, истинно. 9. О цензорском замечании 5. Цензоры же Марк Антоний и Луций Флакк исключили Дурония 2 из сената за то, что он, будучи плебейским трибуном, отозвал закон, изданный с целью сокращения расходов на пиры. Замечательная причина для цензорского замечания; и сколь ведь бесстыдно тогда Дуроний взобрался на ростры, чтобы сказать следующее: «Узда накинута на вас, квириты, которую никоим образом сносить не должно. Связаны и стеснены вы горестными оковами рабства: ведь изданный закон приказывает, чтобы вы были экономны. Поэтому мы намерены отменить решение, рожденное завистью суровой древности: ведь в чем тогда свобода, если состоянием нельзя воспользоваться по своему желанию?» Книга III 1. О природном характере 2. Свой характер Марк Катон проявил уже в отрочестве: ибо когда он воспитывался в доме Марка Друза3, его дяди по матери, и к тому – плебейскому трибуну – пришли латины, чтобы просить о гражданстве, то к нему обратился Квинт Поппедий, глава латинов, гостеприимец Друза, чтобы он поддержал его товарищей перед дядей; однако неизменным выражением своего лица тот ответствовал, что не станет этого делать. Впоследствии неоднократно к тому побуждаемый, он не изменил своего решения4. <…> 2. О храбрости Плебейские трибуны 62 г. (Niccolini G. Op. cit. P. 273). Плебейский трибун 97 г. (Niccolini G. Op. cit. P. 210). 3 М. Ливий Друз – плебейский трибун 91 г. Марк Порций Катон Утический – будущий трибун 62 г., противник Цезаря, покончивший с собой в 46 г. 4 Liv. Per. 71: «Плебейский трибун Марк Ливий Друз, чтобы собрать больше сил для поддержания дела сената, возбуждает союзников и италийские племена надеждою на римское гражданство. С их помощью он насильно проводит законы о земле, о хлебных раздачах и, наконец, о судах – чтобы сенаторы и всадники в них заседали поровну. Но так как он не сумел добиться для союзников обещанного гражданства, то италики в негодовании стали думать об отложении от римского народа. Рассказывается об их сходках, заговорах и речах вождей на советах. За это сенат начинает ненавидеть Ливия как виновника союзнического восстания, и он оказывается убит в своем доме, неизвестно кем». 1 2 148 17. Также храбрость гражданская должна воспитываться трудами военными, поскольку, явленная на форуме или в лагере, она заслуживает одной и той же похвалы. Когда Тиберий Гракх, будучи трибуном, чрезмерными щедротами добившись благосклонности народа и ущемив государство, часто повторял (и открыто добивался этого), что должно, уничтожив сенат, передать все дела плебсу. Созванные консулом Муцием Сцеволой в храме Верности, отцы-сенаторы размышляли, что должно предпринять в трудных обстоятельствах. Так как все полагали, что консул должен с помощью оружия защитить государство, Сцевола заявил, что ничего не будет делать силой. На что Сципион Назика заявил: «Так как консул намерен следовать установленному правопорядку, а это приведет к тому, что Римская империя погибнет вместе со всеми законами, то я, человек частный, сам предлагаю себя в исполнители вашей воли». Затем он обернул левую руку частью тоги и вознеся правую, провозгласил: «Кто желает, чтобы государство процветало, пусть следуют за мной», и этим гласом закончив с промедлением добрых граждан, Гракха с преступной шайкой подверг такому наказанию, которого они заслуживали1. 18. Подобным образом, когда плебейский трибун Сатурнин, претор Главция и избранный, но еще не вступивший в должность, плебейский трибун Эквиций2 разожгли в нашем государстве череду мятежей, и никто не решился противостоять возмущенному народу, Марк Эмилий Скавр первым побудил Гая Мария, отправлявшего консулат в шестой раз, защитить силой свободу и законы, и тотчас приказал принести оружие ему самому. После того как оно было принесено, он обрядил тело, изможденное глубокой старостью и почти истлевшее, и опершись на копье, встал перед дверьми курии и сделал так, из последних своих незначительных жизненных сил, чтобы государство не погибло: ведь присутствием своего духа он побудил сенат и всадническое сословие наказать мятежников. 7. Об уверенности в себе 1. Когда Публий и Гней Сципионы были разбиты в Испании пунийцами вместе с большей частью войска и все народы этой провинции стали искать дружбы с карфагенянами, никто из наших вождей не смел отправиться туда для исправления дел, лишь Публий Сципион, двадцати четырех лет отроду, пообещал поехать в Испанию. Этой уверенностью в себе он вселил в римский народ некоторую надежду на победу и процветание. Она же оказалась полезна и в самой Испании: ибо когда он осадил стены Бадия, пришедшим к его трибуналу он приказал явиться для разбора дела на следующий день в то здание, которое находилось внутри городских стен; и вскоре взяв город и установив кресло, в том месте и в то время, что ранее назначил, он рассудил их. И ничего этой веры в себя нет благороднее, этого предсказания надежнее, этой быстроты эффективнее и, наконец, этого достоинства достойнее. 1 2 Аналогичный рассказ мы встречаем у Плутарха (Tib. Gracch. 19). Плебейские трибуны 100 г. Луций Апулей Сатурнин был трибуном также в 103 г. 149 И не менее смел и благополучен его переход в Африку, в которую он переправил из Сицилии свое войско, хотя сенат запрещал это, потому что, если бы он верил больше совету отцов-сенаторов, чем себе в своем деле, то не было бы конца второй Пунической войне. Равной той была вера в себя, когда после того как он прибыл в Африку, были пойманы в лагере и приведены к нему лазутчики Ганнибала. Он не стал ни казнить, ни расспрашивать их о замыслах или о войсках пунийцев, но приказал провести вокруг всех своих манипул, а затем спросив, достаточно ли они рассмотрели то, что им было приказано осмотреть, и снабдив едой, и повозками, отослал их невредимыми. Этой полной мужества верой в себя он сокрушил не столько оружие, сколько дух неприятеля. Но пора перейти к фактам его великой в себя веры в делах домашних. Когда Луций Сципион был вызван в курию для отчета о четырех миллионах сестерциев из казны Антиоха, Публий Сципион разорвал на части книгу, принесенную им, в которой содержались приходы и расходы, и которая могла изобличить ложность обвинения со стороны врагов, негодуя, что сомневаются в том, что делалось им, когда он был его легатом. Именно поэтому он высказался следующим образом: «Я, будучи помощником власти другого, не даю потому, отцы-сенаторы, отчет эрарию вашему в четырех миллионах, что при своем руководстве и под своими ауспициями я внес в казну более двухсот миллионов сестерциев; и я не думаю, что это должно быть достаточной причиной озлобления, чтобы производить расследование о моей невиновности, ибо когда я подчинил всю Африку вашей власти, ничто из нее, что назвал бы своим, не вывез, помимо прозвища. Следовательно, ни во мне пунийские, ни в брате моем азиатские сокровища алчности породить не могли, но оба из нас скорее стали богаты завистью, чем деньгами». Весь сенат подтвердил столь последовательную защиту Сципиона, как тот факт, что, когда было необходимо взять из эрария деньги, необходимые для общественной пользы, а квесторы, поскольку казалось, что это противоречит закону, открывать его не желали, Публий Сципион, будучи частным лицом, потребовал ключи и, открыв эрарий, сделал так, что закон уступил пользе. Эту уверенность в себе дало ему сознание того, что все законы должны быть им соблюдены. Не поленюсь из раза в раз сообщать я о его деяниях, ведь и он не уставал совершать доблести аналогичного рода. Ему плебейский трибун Марк Невий1 или, как говорят другие, двое Петилиев, назначили день для явки в суд перед народом. В назначенный день придя на форум с огромной толпой, он взобрался на ростры и, возложив на свою голову триумфальный венок, сказал: «Квириты, я в этот день принудил беснующийся безмерно Карфаген принять наши законы: поэтому было бы справедливо, чтобы вы пошли со мной на Капитолий и возблагодарили за то богов». За его словами воспоследовало замечательнейшее и равно известное событие, ибо и весь сенат, и все всадническое сословие, как и весь плебс, возымели стремление Трибунат М. Невия относится к 184 г., трибунат Петилиев к 187 г. Ср. Gell. IV. 18. 3. О процессах против Сципионов см.: Бобровникова Т.А. Судебные процессы Сципионов (опыт исторической реконструкции) // Древнее право. 2001. № 1(8). С. 66-74. 1 150 идти с ним в храм Юпитера Благого Величайшего. Случилось так, что плебейский трибун вел дело перед народом, но без народа; покинутый, он остался на площади наедине с превеликим осмеянием его навета. Дабы избежать позора, и он воспоследовал на Капитолий, превратившись из обвинителя Сципиона в почитателя. 3. Прежде чем обратиться к какой-либо другой части памятных примеров, желал бы я того или нет, должен я еще остановиться на семейном имени Сципионов: ибо кто может пропустить здесь уверенного в себе Назику, автора известнейшего выражения. Когда вздорожал хлеб, плебейский трибун Гай Куриаций1, приведя на сходку консулов, потребовал, чтобы они рассмотрели вопрос о покупке зерна и отправке в курию послов для решения этой проблемы. Дабы воспрепятствовать этому мало полезному предприятию, Назика начал говорить в совершенно ином духе. А когда плебс попытался помешать ему, заявил: «Молчите, прошу, квириты! Я ведь больше, чем вы, понимаю, что спасет государство». Услышав это, все полным почтения молчанием больше уважения оказали его власти, чем заботе о своей пище. 8. Схожа с ним и судьба Марка Скавра: та же долгая и крепкая старость, тот же дух. Когда он был обвинен с ростр в том, что получил деньги от царя Митридата за измену государству, то повел свою защиту так: «Это несправедливо, квириты, что я жил среди одних, а перед другими должен давать отчет в своей жизни, но однако я осмелюсь спросить вас, большая часть из которых не могла знать о моих почестях и деяниях. Варий Север Сукрон говорит, что Эмилий Скавр, подкупленный царем, предал власть римского народа. Эмилий Скавр отрицает свою вину. Кому из двух вы верите?» Восхищенный такой защитой народ нескончаемым криком освободил Вария от этого безумнейшего дела2. 8. О постоянстве 3. Из следующего рассказа будет ясно, как Гай Пизон3 прекрасно и твердо отправлял консулат в неспокойном для государства положении. Народ, дав похитить свою благосклонность посулам мятежнейшего человека Марка Паликана, затеял допустить на консульских комициях совершеннейшее бесчестие, желая предоставить широчайшую власть тому, кто своими ужасными действиями скорее заслуживал отборной казни, чем какой-либо должности. Не недоставало возмущенной толпе бешеного трибунского пламени, которое сопровождало ее безрассудство, разжигая его своими действиями вновь, чуть ослабевало оно и затухало. В таком плачевном и равно постыдном положении государства, Пизон, вознесенный на ростры только что не руками трибунов, когда окружили его со всех сторон и спрашивали, намерен ли он предложить кандидатуру Палликана на голосование народа для избрания в консулы, прежде всего сказал, что не думал, что государство впало в такое помрачение, чтобы следовать этому Плебейский трибун 138 г. Ср.: Liv. Per. 55; Cic. Leg. III. 20. Ср.: VI. 5. 5. Марк Эмилий Скавр – консул 115 г., принцепс сената (ср.: III. 2. 18). Варий Север Сукрон – плебейский трибун 90 г. См.: App. B.C. I. 37; Cic. Brut. 110-116; 304. 3 Консул 67 г. 1 2 151 бесчестью. Затем, когда они стали все более настойчиво требовать ответа на вопрос: «Будет ли его кандидатура внесена в список для голосования?», – он ответил: «Я не внесу». И этим столь кратким ответом Пизон лишил его консулата прежде, чем он получил его. Пизон пренебрег многими устрашающими обстоятельствами, но не пожелал отступить по своей воле от достойной непреклонности. 4. Метелл же Нумидийский посредством такой же настойчивости также навлек на себя несоответствующее ни величию рода, ни его нравам, несчастье: ведь когда он понял, куда ведут пагубные намерения плебейского трибуна Сатурнина1 и каким злом для государства, если им не воспрепятствовать, они прорвутся наружу, он предпочел уйти в изгнание, чем согласиться на его закон. Можно ли назвать того, кто был бы постояннее этого мужа, который, чтобы не изменять своему мнению, предпочел быть свободным от мнения отечества, в котором обладал высшей степенью достоинства? 6. Какое женщине дело до народной сходки? Если следовать отцовскому обычаю, то никакого. Но где внутреннее спокойствие смято волнами мятежей, там расшатывается и власть древнего обычая, и более значимым становится то, что побуждено насилием, чем то, что предписано благопристойностью. Тебя Семпрония, сестра Тиберия и Гая Гракха, жена Сципиона Эмилиана, удостою я почтенным вниманием за то, что будучи плебейским трибуном введена в народное собрание, ты, в момент крайнего потрясения, не запятнала величие своего рода, а вовсе не для того, чтобы впутанную непристойно в злонамеренные дела мужчин, разоблачить своим злобным рассказом. Ты принуждена была встать на то место, где обычно приходят в замешательство и первые из граждан. Тебе угрожала, поглядывая свысока, высочайшая власть, весь форум, шумящий криком невежественного многолюдства, домогался с крайним старанием, чтобы ты Эквиция, который ложно домогался права Семпрониева рода, признала за сына своего брата Тиберия. Ты, однако, я не знаю из какого мрака вытащенное чудовище, достойной проклятия наглостью стремившееся узурпировать чужое родство, отвергла2. Книга IV 1. Об умеренности 4. А как действовал консул Луций Квинкций Цинциннат! Когда отцысенаторы предложили вновь оставить его в этой должности не только из-за славных дел его, но также потому, что народ затеял избрать на ближайший год тех же трибунов, из чего ни того, ни другого не могло быть по праву, он расстроил и то и другое, умерив одновременно пыл сената и побудив трибунов следовать примеру своей скромности. Он стал единственной Сатурнин в 100 г. принял ряд законов и в том числе аграрный. Ливий (Per. 69) пишет: «…силою он (Сатурнин – А.П.) провел закон о земле, а Метелла Нумидийского, отказавшегося присягнуть этому закону, привлек к суду, но тот, хотя и добрые граждане и встали на его защиту, не пожелал быть причиною раздора и удалился в добровольное изгнание на Родос…». Ср.: App. B.C. I. 31. 2 Событие относится к 100 г. Ср.: Val. Max. IX. 7. 2. 1 152 причиной того, что достойнейшее сословие и весь народ были удержаны от несправедливых действий1. 8. Сколь удивительным образом проявил себя также Тиберий Гракх! Ведь будучи плебейским трибуном, хотя он и с явным недружелюбием относился к Сципионам Африканскому и Азиатскому, когда Азиатский не смог уплатить присужденной суммы и консул приказал отвести его в тюрьму, а тот апеллировал к коллегии трибунов, и никто из них не пожелал вмешаться, Гракх отделился от коллег и составил декрет. И никто не сомневался, что в тексте он воспользуется в адрес Азиатского выражениями, окрашенными гневом. Но тот сначала поклялся, что не мирился со Сципионами, а после зачитал постановление следующего содержания: так как Луций Корнелий Сципион заключил в тюрьму вождей врагов, проведенных в день триумфа перед колесницею, то представляется неприличным и чуждым величию римского народа вести туда же и его самого, а поэтому он не потерпит, чтобы это произошло. Тогда охотно римский народ признал, что обманулся в своем мнении о Гракхе и одарил его поступок должной славой2. Внешние примеры 8. Также мы приведем здесь свидетельство умеренности спартанского царя Феопомпа. Когда он впервые установил, чтобы в Лакедемоне были созданы эфоры (что впредь были противопоставлены власти царя, также как в Риме консульскому империю были противопоставлены плебейские трибуны3), и жена спросила его, неужели он желает оставить сыновьям меньшую власть, он на это ответил: «Пусть меньшую, но зато более продолжительную». Таким образом Феопомп, ограничив законными оковами царскую власть (чем надолго удержал ее от произвола), подвиг тем собственных граждан к благосклонности. 7. О дружбе 1. Считалось, что Тиберий Гракх был врагом отечества, и поделом, ведь власть свою он ставил над его благом. Но то, какую однако крепость дружбы даже в этом превратном деле он имел со стороны Гая Блоссия из Кум, заслуживает того, чтобы рассмотреть. Объявленный врагом, приговоренный к смерти, лишенный чести быть погребенным, он все же не утратил уважения Блоссия. Ибо когда сенат во время консульства Рупилия и Лената постановил, чтобы те, кто составил заговор вместе с Гракхом, были наказаны в соответствии с обычаем предков, и к Лелию, к чьему совету консулы прибегали обычно, пришел Блоссий, прося за себя, и воспользовался для своего оправдания дружбой с Гракхом, тот спросил: 460 г. Ср.: Liv. III. 21. Речь идет о Тиберии Семпронии Гракхе, трибуне 187 г., отце знаменитых трибунов Тиберии и Гае Гракхов. Аналогичный рассказ передан Авлом Геллием (Gell. VI. 19; XII. 8. 1, 4). Однако инициатором процесса и отправки Сципиона в тюрьму у Геллия выступает плебейский трибун Гай Минуций Авгурин. 3 Сопоставляет трибунат с эфоратом и Цицерон (Leg. III. 15-17). См.: Павлов А.А. Плебейский трибунат в системе смешанной конституции Полибия и Цицерона // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 2004. № 13. С. 1939. 1 2 153 «Что, если бы тебе Гракх приказал подложить факелы под храм Юпитера Благого Величайшего, разве бы ты не последовал его желанию ради этой дружбы, которую тут поминаешь?» На это Блоссий ответил: «Никогда Гракх не приказал бы такого». Но и этого мало. Он отважился защищать его нравы, осужденные единодушием всего сената. Однако то, что воспоследовало, было и гораздо отважнее и опаснее: придавленный ведь настойчивым вопросом Лелия, он сохранил не меньшую толику решимости и ответил, что готов был бы сделать даже это, если бы Гракх лишь кивнул головой. Кто бы стал считать его преступником, если бы он промолчал? И кто не назвал бы его разумным, если бы он отвечал лишь в соответствии с необходимостью, обусловленной моментом. Но Блоссий ни почетным молчанием, ни мудрой речью не пожелал сохранить свою жизнь, чтобы ни в какой части не поступиться памятью их несчастной дружбы1. 2. В той же семье встречаются примеры не менее крепкой своим постоянством дружбы. Когда планы Гая Гракха были уже нарушены и само выступление провалилось, когда весь его заговор повсюду выкорчевывался и он лишен был всякой помощи, только два друга Помпоний и Леторий закрыли его своими телами от враждебных летящий со всех сторон копий. Помпоний, чтобы Гаю было легче скрыться, удерживал у Тригеминских ворот достаточно длительное время следующую по пятам толпу, завязав ожесточеннейшее сражение, и не смог выбраться живым, но изнуренный многочисленными ранами, дал пройти им через себя, я думаю, лишь после своей кончины. Леторий же встал у Сублицийского моста и со всею пылкостью своего характера охранял его, пока Гракх не перебрался на другую сторону, и сломленный наконец силою превосходящей толпы, пронзив себя мечом, бросился в воды Тибра, и как на этом мосту Гораций Коклес показал любовь ко всей родине, так он добровольной гибелью явил уважение личной дружбе2. И сколь славными воинами могли стать Гракхи, если бы пожелали последовать по стопам своего отца или деда по матери! <…> 3. Луций же Регин, если бы публичной нормой оценивалась должная честность, заслужил бы поношения потомков, если бы оценивалась она залогом верной дружбы, должен был бы занять наилучшее место среди похвальных примеров. Ведь будучи плебейским трибуном 3, он освободил помещенного под стражу Цепиона, памятуя о старинной и тесной дружбе, вина которого, как считалось, состояла в том, что наше войско потерпело поражение от кимвров и тевтонов4, и был до такой степени не удовлетворен преследованием друга, что даже стал сотоварищем в его бегстве. Дружба, велико и необоримо твое могущество! Когда с одной стороны – накладывает руку государство, с другой – рука дружбы тащит его за собой, и первая, поскольку неприкосновенна, хочет судить, а вторая, хотя и нежной властью, налагает изгнание, он предпочел почету должности наказание. 132 г. См.: Plut. Tib. et Gai. Gracch. 20sq.; Cic. Senect. 37. 121 г. Ср.: Vell. II. 6. 6; Plut. Tib. et Gai. Gracch. 36-37; Val. Max. III. 2. 1. 3 95 г. 4 Квинт Сервилий Цепион потерпел поражение от кимвров и тевтонов, будучи консулом в 105 г. 1 2 154 Книга V 2. О благодарности 7. Метел же Пий, очевидно завоевавший свое прозвище скорее слезами (по причине упрямой любви к изгнанному отцу), а не как другие победами, не поколебался, будучи консулом, просить народ за Квинта Калидия, кандидата в преторы, потому что, будучи плебейским трибуном, тот внес закон, по которому его отец был восстановлен в правах гражданства1. Поэтому он всегда говорил о нем как патроне его дома и семьи. И этим он не нарушил ничего в системе управления, что едва ли подлежало сомнению, ибо не низкой, но благодарной душой весьма низкого человека подкрепил он исключительное достоинство великой услугой. 3. О неблагодарности 2. За этой ошибкой несправедливо забытого факта следует пример соответствующего раскаяния нашего государства. Фурий Камилл, сил римлян и величайшее приращение, и вернейшая защита, в городе, процветание которого сам установил и счастье которого упрочил, собственную невредимость охранить не смог: ведь представ перед судом, он был отправлен в изгнание плебейским трибуном Луцием Апулеем (благодаря тяжелым, и я бы также сказал, бесстыдным обвинениям) как расхититель вейентской добычи2; причем все это в то время, когда лишившись славного юного сына он скорее заслуживал утешений, чем усугубления несчастий. Но непомнящая великих заслуг такого мужа родина, соединила осуждение отца с похоронами сына. Говорят, что плебейский трибун доискивался 15 тысяч ассов, которые не попали в казну (ибо такой штраф был назначен) – недостойная сумма, из-за которой народ римский такого достойного полководца лишился! Прежняя жалоба еще трепещет, а уж следующая восстает. Сципион Африканский Старший не только разбитое и разрушенное сражениями Пунической войны государство восстановил, но и его (уже обескровленного и почти умирающего) господство над Карфагеном. Его великие деяния назвав бесчестными, граждане сделали его жителем безвестной деревни да безлюдного болота. Удрученный тяжестью своего добровольного изгнания, он отошел к праотцам не успокоенный, но приказав написать на своем могильном камне: «Неблагодарная отчизна, не иметь тебе и моих костей» 3. Что этой нужды недостойнее, этого примера несправедливее, этой мести 80 г. Калидий был трибуном в 98 г. 391 г. Liv. V. 32. 8: «Плебейский трибун Луций Апулей вызвал его в суд из-за вейской добычи, и как раз в это время он потерял юного сына. Пригласив домой своих земляков и клиентов, в большинстве своем плебеев, Камилл стал расспрашивать об их настроениях, и они ответили, что вскладчину готовы внести любую сумму, к какой бы его ни приговорили, но освободить его от суда они не могут. И тогда он удалился в изгнание, моля бессмертных богов, чтобы неблагодарный город, которым он был безвинно обижен, как можно скорее пожалел о нем. Камилл был заочно приговорен к уплате пятнадцати тысяч тяжелых ассов». Ср.: Plin. NH. XXXIV. 13; Diod. XIV. 117. 6. 3 Об изгнании Сципиона см.: Liv. XXXVIII. 53 sq. Ср.: Val. Max. III. 7. 1; IV. 1. 8. 1 2 155 умереннее? Он отказал в пепле своих останков городу, которому не дал обратиться в прах. Таким образом, неблагодарный город Рим испытал лишь эту единственную месть Сципиона, более значительную, клянусь Геркулесом, чем жестокость Кориолана1: ведь тот сковал отчизну страхом, а этот умеренностью. Он никогда не жаловался на свою судьбу – таково постоянство истинного благочестия – разве только после смерти. Претерпевшим столькое, полагаю, слова эти должны были быть его брату утешением2. Ему разгром царя Антиоха и Азия, присоединенная властью римского народа, и величайший триумф послужили поводом стать обвиняемым по делу о казнокрадстве и быть отправленным в тюрьму. Впоследствии ничем не уступал в доблести деду Сципион Африканский Младший, но и он под конец жизни не стал его счастливее: ведь после того, как он изъял из природы вещей два города (Нуманцию и Карфаген), угрожавшие римскому господству, дома нашел своего убийцу, но не нашел на форуме своей смерти мстителя3. Кто не знает, что Сципион Назика добился столько же славы дома, сколько оба Сципиона Африканских на войне. Он не допустил удушения государства, взятого за горло смертоносной рукой Тиберия Гракха. Но и он удалился в Пергам под предлогом отправления посольства из-за несправедливой оценки гражданами его заслуг, где и провел остаток жизни и умер4, без какого-либо печали о своей неблагодарной отчизне. К тому же имени я обращаюсь вновь, не исчерпав все жалобы Корнелиева рода: и Публий Лентул5, известнейший и более всех любящий свое государство гражданин, хотя он воспрепятствовал преступным усилиям Гая Гракха и обратил в бегство, получив при этом множество ранений, в благочестивом и храбром сражении на Авентине его отряд, получил за то сражение, которым он сохранил законы, мир и свободу в прежнем виде, ту награду, что закончил жизнь не в нашем городе. Сраженный недоброжелательством и завистливой враждебностью, он потребовал от сената назначения свободным легатом и созыва собрания, на котором воззвал к бессмертным богам, чтобы позволили они никогда не возвращаться к неблагодарному народу, после чего отбыл в Сицилию, и там твердо придерживался своего обета вплоть до смерти. Вот пять кряду Корнелиев и столько же известнейших примеров неблагодарности отчизны. Их уход все же был добровольным. Агала же, когда будучи начальником конницы убил домогающегося царской власти Спурия Мелия, заплатил за сохранение свободы граждан своим изгнанием6. 4. О любви по отношении к родителям, братьям и отечеству Согласно Ливия (II. 35. 2), Гай Марций Кориолан был подвергнут суду трибунами в 491 г. после его призывов уничтожить власть трибунов. Несмотря на неоднократное обращение к фигуре Кориолана Валерий никогда не упоминает его в связи с трибунатом. См. также: Plut. C. Marc. 12-21. 2 То есть Луцию. Ср.: III. 7. 1; IV. 1. 8. 3 Сципион Африканский Младший был найден мертвым (129 г.) в собственном доме (Liv. Per. 59). 4 132 г. См. о нем выше: I. 4. 2 (Par.); III. 2. 17. 5 Консул 162 г. См.: Cic. Catil. IV. 13. 6 439 г. См.: Liv. IV. 13; Cic. Senect. 56 sq. 1 156 3. Об этих столь славных примерах римское гражданство услышало, а этот увидело собственными глазами. Плебейский трибун Помпоний Луцию Манлию Торквату назначил день для явки на суд народа1. За то, что он, побужденный хорошим случаем для завершения войны, превысил законный срок нахождения в должности и что юного одаренного способностями сына, обременяя сельскими трудами, удалил от занятий публичных. После того как молодой Манлий узнал об этом, тотчас устремился в город и с первыми лучами солнца направился в дом Помпония. Полагая, что он пришел к нему, дабы пожаловаться на преступления отца, который обращался с ним скорее сурово, чем справедливо, Помпоний приказал всем покинуть комнату, чтобы без свидетелей тот свободнее сформулировал заявление. Получив удобный случай, следуя своему плану, юноша, обнажил меч, что принес с собой под одеждой, и заставил трибуна поклясться, принуждая угрозами и устрашением, отказаться от обвинения его отца, и тем добился того, чтобы Торквату не пришлось защищать себя в суде. Благочестие, которое выказывается в отношении мягких родителей, достойно похвалы. Но благочестие Манлия, который, имея сурового отца, пришел ему на помощь, когда тому угрожала опасность, достойно ее того более, потому как к почитанию отца своего он не был побужден помимо природной любви ни отцовской лаской, ни нежностью. 5. Столь же сильным был авторитет отца и для Гая Фламиния2: ибо когда он, будучи плебейским трибуном, несмотря на нежелание и сопротивление сената, предложил закон о разделении (поголовно) галльской земли, яростно сопротивляющийся его угрозам и уговорам, и не удержанный даже войском, собранным против него на случай, если он будет упорствовать на своем предложении, после того как на него, зачитывающего с ростр закон, наложил руку отец и спустил с ростр, подчиняя своей властью власть публичную, он не был осужден ни единым упреком покинутой им сходки. 6. Велики примеры подобного мужского благочестия, но я не знаю, не более ли важен и мужественен поступок, что совершен девственной весталкой Клавдией. Она, когда увидела, что ее отца во время триумфа плебейский трибун насильно стаскивает с колесницы, поспешно встав между ними, охладила высшую власть, неприязнью разгоряченную 3. Итак, отец-триумфатор направился в Капитолий, а дочь – в храм Весты, и нельзя решить, кто из двух больше заслужил похвалы, тот, кому союзником была победа, или та, кому – благочестие. 7. О любви и нежности родителей к детям 2. Отцовский жребий римского всадника Цезетия не столь блистателен, но столь же великодушен. Он, когда Цезарь, тогда уже всех врагов внешних и внутренних победитель, приказал ему отречься от своего сына, за то, что 362 г. Ср.: Cic. Off. III. 112; Liv. VII. 4-5. Очевидно трибун 232 г. Об аграрном законе Фламиния см.: Polyb. II. 21; Varr. RR. I. 2. 7; Cic. Acad. prior. II. 13; Brut. 57; Invent. II. 52; Senect. 11; Leg. III. 20; Liv. XXI. 63. 2. 3 143 г. 1 2 157 тот, будучи плебейским трибуном, вместе со своим коллегой Маруллом, возбуждал ненависть к нему, как к домогающемуся царской власти 1, отважился ответить следующим образом: «Ты, Цезарь, скорее лишишь меня всех моих сыновей, чем одного из них я удалю своим распоряжением». У него было помимо него два высокоодаренных сына, которым Цезарь любезно обещал предоставить повышение по службе. Хотя безопасность этого отца была гарантирована исключительной мягкостью божественного принцепса, кто усомнится, что это смелое деяние выше человеческого гения уже тем, что он не подчинился тому, кому подчинился весь мир? 8. О суровости отцов в отношении детей 2. Следуя его примеру, Кассий, сына своего, который, будучи плебейским трибуном, первым предложил аграрный закон, и многими другими делами, угодными народу, вселил в души людей любовь к себе, после того как он сложил с себя власть, созвав совет сородичей и друзей и обвинив в стремлении к царской власти, осудил дома и, секши прутьями, приказал убить и посвятил его пекулий Церере2. Книга VI 1. О целомудрии 7. Вот еще пример известного имени и памятного деяния. Курульный эдил Марк Клавдий Марцелл3 назначил день для явки на суд народа плебейскому трибуну Гаю Скантинию Капитолину за то, что тот склонил своего сына к разврату, и несмотря на то, что он решительно утверждал, что не может быть принужден явиться, потому что имеет священную и неприкосновенную власть, и слезно молил о трибунской помощи (но вся коллегия трибунов в ней отказала), тем не менее расследование дела о целомудрии состоялось. Итак, вызванный в качестве ответчика, Скантиний был обвинен на основе единственного свидетельства соблазненного. Известно, что юноша, приведенный к рострам, упорно молчал, потупив взор в землю, но этим стыдливым молчанием он убедил большинство в виновности Скантиния. 10. И нет в том ничего удивительного, что это все отцы-сенаторы сообща рассматривали. Гай Песценний, триумвир по уголовным делам, выслужившего наивысшее военное жалованье и по достоинству четырежды награжденного полководцами-императорами почестью быть центурионом примипилов Гая Корнелия, за то, что со свободнорожденным юношей имел Трибуны 44 г. Ливий (Per. 116) сообщает о них: «…народных трибунов Эпидия Марула и Цезетия Флава он лишил должности за то, что они сеяли ненависть к нему, уверяя будто он ищет царской власти». 2 485 г. Ср.: Liv. II. 41 sq. См. ниже: VI. 3. 1. 3 Речь идет очевидно о М. Клавдии Марцелле, не раз занимавшем во время Второй Пунической войны консулат (222, 214, 210, 208 гг.) и претуру (216 г.). Фигура трибуна Г. Скантиния Капитолина неопределенна. См.: Niccolini G. Op. cit. P. 129-131. 1 158 развратную связь, взял под стражу. Тот апеллировал к плебейским трибунам и заявил (не отрицая при этом сам факт преступления), что готов предоставить поручительство в том, что этот юноша открыто и не таясь промышлял своим телом, однако те воспрепятствовать триумвиру не пожелали. Так что Корнелий вынужден был умереть в карцере: ведь не думали плебейские трибуны, что наше государство должно позволять храбрым мужам стяжать домашние утехи внешними опасностями. 11. Ниже приводится равно ужасный исход наказания похотливого центуриона и военного трибуна Марка Летория Мерга. Плебейский трибун Коминий1 назначил ему день явки в суд народа, обвиняя в домогательстве в отношении к подчиненному солдату. Леторий не стерпел огласки своего дела и прежде времени суда сам наказал себя сначала бегством, а затем и смертью. Выйдя за грани естества, он, волею судьбы, уже мертвый был признан виновным в порочном преступлении решением всего плебса. Военные знаки, священные орлы, и вернейший страж римского империя – суровая дисциплина лагерей, все пошло прахом, ибо тот, кто достоинства должен был быть примером, оказался благочестия осквернителем. 2. О слишком вольно сказанном или сделанном 3. <…> Плебейский трибун Гней Карбон 2, мятежнейший защитник недавно успокоенного Гракханского мятежа и пылкий возжигатель начинающихся зол гражданских, Публия Африканского, возвращающегося с развалин Нуманции в лучах великой славы, почти от самых ворот провел к рострам, чтобы спросить о смерти Тиберия Гракха, сестра которого была за ним замужем, дабы могуществом великого мужа придать уже начинающемуся возмущению больший размах, потому что он не сомневался, что в силу столь близкого родства тот скажет в память об убитом сородиче что-либо вызывающее сострадание. А тот ответил, что, по его мнению, убийство Гракха справедливо. Когда же, в ответ на это, собрание, подстрекаемое трибунским бешенством, злобно зашумело, он воскликнул: «Молчите, которым Италия приходится мачехой», – а после, как возник в народе ропот, добавил: «Не добьетесь, чтобы я опасался свободных, которых привел связанными!». Весь народ был вновь одним унизительно задавлен мужем – каково почтение доблести! – и замолчал. Недавняя его победа нумантинская и отца македонская, и разбитого Карфагена дедовская добыча, и связанные веревкою шеи двух царей, Сифака и Персея, проведенных перед колесницами триумфаторов, сковали уста всех тогда на площади. И не от страха родилось то молчание, а оттого, что благодеянием Эмилиева и Корнелиева рода многие опасности были Дата трибуната неопределенна. Дж. Никколини допускает возможность его трибуната в 313 г. (Niccolini G. Op. cit. P. 390). 2 Гай Папирий Карбон – плебейский трибун 131 г. Ливий (Per. 59) пишет: «Плебейский трибун Карбон вносит предложение, чтобы разрешалось переизбирать плебейских трибунов столько раз, сколько угодно; но на это предложение возразил суровой речью Публий Африканский, упомянувши, что убийство Тиберия Гракха представляется ему справедливым». Ср.: Cic. Orat. II. 170; Mil. 8; Off. II. 43; Vell. II. 4. 4; Auct. De vir. ill. 58. 8; Plut. Ti. Gracch. 21. 1 159 отведены от города и Италии, а плебс римский ради свободы Сципиона сам свободой пожертвовал. 3. О суровости 1. Откуда Марк Манлий изгнал галлов, оттуда сам был низвергнут; потому что нечестиво замыслил уничтожить ту свободу, что сам храбро защищал. Его справедливому наказанию предшествовало, без сомнения, следующее предварение: «Манлием ты был для нас, когда вел низложенных сенонцев: после же как начал ты меняться, ты стал одним из сенонцев». В память вечную о его казни был установлен знак: законом ведь из-за него было запрещено жить кому-либо из патрициев в крепости, т.е. в Капитолии, потому что там был его дом, где теперь мы видим храм Юноны Монеты1. Равное негодование гражданства прорвалось наружу против Спурия Кассия2, которому больше причинило вреда одно подозрение в стремлении к владычеству, чем помогли три великолепных консулата и два замечательнейших триумфа: ведь сенат и римский народ не довольствуясь его казнью, после нее разобрали и его дом, чтобы также был он наказан гибелью пенатов. На его месте возведен храм Земли. Таким образом, что прежде было жилищем властолюбивого человека, теперь является памятником религиозной строгости. То же отечество наказало аналогичным исходом дерзкое начинание Спурия Мелия3. Территория же его дома, чтобы справедливость наказания была лучше известна потомкам, получила наименование Эквимелия. Сколь, следовательно, имели предки присущей их душам ненависти против врагов свободы, засвидетельствовано руинами стен и крыш домов, в которых те жили. По той же причине после убийства мятежнейших из граждан Марка Флакка4 и Луция Сатурнина дома их были срыты до самого основания. Впрочем место, на котором был дом Флакка, хотя в течение длительного времени оставалось пустующим, было украшено Квинтом Катуллом доспехами разбитых кимвров. Славны были в нашем государстве и высшее благородство, и великие чаяния Тиберия и Гая Гракхов. Но поскольку они вознамерились разрушить неизменность положения государства, то и трупы их выброшены без погребения и в высшей почести, подобающей человеку, было отказано детям Гракха и внукам Сципиона Африканского. Поэтому и близкие их сотоварищи, чтобы никто не пожелал быть другом врагам государства, были сброшены с робура. Согласно Ливия, М. Манлий Капитолийский был осужден плебейскими трибунами в 384 г. до н.э. за стремление к царской власти и сброшен с тарпейской скалы (Liv. VI. 20. 12). Он также говорит и о предложении, внесенном к народу, о запрете патрициям жить на Капитолии, однако о том кто его внес и в какое собрание не сообщает. См. также: Plut. R.Q. 91. 2 Согласно Ливия, консул 486 г., обвиненный в стремлении к царской власти и убитый собственным отцом (Liv. II. 41. 10). Сам Валерий в другом месте называет его плебейским трибуном (V. 8. 2). 3 Убит в 439 г. за стремление к царской власти начальником конницы Г. Сервилием Агалой (Liv. IV. 14-15). 4 М. Фульвий Флакк – консул 125 г., принявший участие в выступлении Г. Гракха и убитый вместе с ним (Plut. Gai. Gracch. 37-38). 1 160 2. Плебейский трибун Публий Муций1 полагал, что может себе позволить то же, что и сенат и народ римский; он всех своих коллег, которые по наущению Спурия Кассия сделали так, что общая свобода была поставлена под сомнение (в силу их отказа оставить свои должности по окончанию должностного срока), сжег заживо. Нет ничего конечно более решительного этой суровости: ибо один трибун осмелился своей властью сгубить девять коллег, что девять трибунов в отношении одного совершить бы содрогнулись. 4. В подражание этому примеру, консул М. Курий2, когда вдруг объявил набор и никто из юниоров не отзывался, бросил жребий среди всех триб и первой вынул из урны надпись с трибой Поллийской. Когда он приказал выкрикнуть первое имя и никто ему не ответил, он приказал продать с торгов имущество воина. Как тому об этом было объявлено, он поспешил к трибуналу консула и апеллировал к коллегии трибунов. На что Маний Курий заявил, что государству нет нужды в таком гражданине, который не желает повиноваться, и продал и его имущество, и его самого. 5. О правосудии 2. В то же самое время высшая справедливость проявилась и в действиях четырех плебейских трибунов: ибо когда Луцию Атратину3, под чьим руководством у Верругины они совместно с остальными всадниками восстановили наш строй, расстроенный вольсками, их коллега Луций Гортензий4 назначил день для рассмотрения его дела перед народом, они поклялись перед рострами, что останутся в скорбной одежде до тех пор, пока их полководец будет ответчиком: ведь славные юноши, знаки власти предержащие, не могли видеть его, одетого в тогу, в крайней опасности, того, когда он был при оружии, они защищали в бою ранами и кровью своею. Побужденное их справедливостью собрание, принудило Гортензия отказаться от дела. 3. То же видно и из того факта, что следует далее. Так как Тиберий Гракх и Гай Клавдий5 озлобили большую часть граждан вследствие слишком сурового отправления цензуры, то плебейский трибун Публий Попилий6 назначил им день для явки на суд народа, обвинив их в государственном преступлении, побуждаемый, помимо общего возмущения, также личным негодованием, поскольку они приказали его родственнику Рутилию разобрать стену, поставленную на общественной земле. На суде многие центурии первого класса открыто осуждали Клавдия, тогда как казалось, что все были готовы согласиться на оправдание Гракха. И тогда Плебейский трибун 486 г. Аналогичную версию приводят Дион Кассий (Dio. frg. 22, 1) и Зонара (Zonar. VII. 17. 7), но для 471 или несколько более позднего года. Фест сообщает о кремации девяти военных трибунов в 487 г. (Fest. P. 180L). 2 Маний Курий Дентат – известный римский полководец, консул 290, 275, 274 гг. Ливий (Per. 14) сообщает: «Курий Дентат, когда производил воинский набор, и кто-то, будучи вызван, не откликнулся, впервые устроил распродажу имущества его». 3 Гай Семпроний Атратин – консул 423 г. (Liv. IV. 37. 1). 4 Плебейский трибун 422 г. Ливий приводит аналогичный более пространный рассказ (IV. 42. 3 sq.). 5 Гай Клавдий Пульхр и Тиберий Семпроний Гракх – цензоры 169 г. 6 Очевидно Публий Рутилий Руф, трибун 168 г. (Liv. XLIII. 16). 1 161 он во всеуслышание поклялся, что если в адрес его коллеги, в равной мере с ним ответственного, будет вынесено более суровое, чем ему самому, определение, то и он вместе с ним отправится в изгнание, и этой справедливостью Гракх отвратил все возможные несчастья и от их состояний и от самой их жизни: ведь народ оправдал Клавдия, а Попилий снял с обсуждения дело Гракха. 4. Великую хвалу получила и та коллегия трибунов, которая, так как один из трибунов Луций Котта1, надеясь на священную и неприкосновенную власть, не желал и вовсе платить своим кредиторам, постановила: если он не вернет долг и не предоставит вместо себя поручителя, то в случае обращения к ним кредиторов, они окажут им помощь, считая несправедливым, чтобы частное вероломство скрывалось под предоставленным народом величием. Таким образом, трибунская справедливость Котту, укрывшегося в трибунате как в неком храме, извлекла оттуда. 5. Теперь я перейду к другому равно известному факту. Плебейский трибун Гней Домиций2 вызвал на суд народа Скавра, первого из граждан, чтобы, если удача улыбнется, осудить его, в противном же случае, самим по себе очернением столь именитого мужа достичь увеличения собственной славы. Ночью к нему явился раб Скавра, обещая дополнить его обвинение рассказом о многих и тяжелых преступлениях своего господина. Схлестнулись в душе Домиция два чувства – врага и господина, взвешивающие нечестивый донос с различных позиций. Но справедливость одержала над ненавистью верх: ведь тотчас, закрыв и свои уши, и заткнув рот доносчику, он приказал отвести его к Скавру. Тем обвинитель заставил ответчика своего не только уважать суд, но и восхвалять его, а народ тем охотнее сделал его консулом, цензором и великим понтификом как за этот поступок, так и за другие его заслуги. 7. Луций Сулла, раздраженный безграничным того трибунским бешенством, желал уже не столько остаться невредимым самому, сколько погубить Сульпиция Руфа3. Однако когда он узнал, что Сульпиция сосланного, но скрывающегося на вилле, выдал раб, он, освободив предателя, дабы не нарушать положения своего эдикта, приказал тотчас сбросить с Тарпейской скалы вместе с шапкой (символом свободы), полученной преступно; победитель надменный в иных повелениях, в этом поступил весьма справедливо. 8. О верности слуг к господам своим 3. Столь же знаменит и тот пример, что далее следует. Гай Гракх, чтобы не попасть во власть недругов, Филократу, своему рабу, позволил отрубить себе голову. Когда он отрубил ее быстрым ударом, он пронзил мечом, обагренным кровью хозяина, и свое сердце. Некоторые полагают, что его Плебейский трибун 154 (?) г. См.: Fabbrini F. Tribuni plebis // NNDI. 1973. XIX. P. 819. Гней Домиций Агенобарб – плебейский трибун 104 г. Ср.: Cic. Corn. II. frg. 5-7; Caec. Divin. 67; Verr. II. 2. 118; Deiot. 31; Leg. agr. II. 16-18; Cass. Dio. frg. 92; Vell. II. 12. 3; etc. 3 Трибун 88 г. См.: Cic. Brut. 226; 306; Har. resp. 41; 43; Amic. 2; Orat. I. 25; III. 11; Philip. VIII. 7; Cat. III. 24; Ad Her. I. 25; II. 45; IV. 31; Liv. Per. 77; etc. 1 2 162 звали Эвпором, но я об имени не спорю, только удивляюсь крепости рабской преданности. Если бы подражал его присутствию духа тот благородный юноша, то своей, а не раба услугой избег бы неминуемой казни: а теперь учинил он то, что Филократа труп выглядит куда более достойно, чем Гракха. Книга VII 2. О делах и изречениях мудрых 6. Теперь я перейду к актам сената. Когда сенат послал консулов Клавдия Нерона и Ливия Салинатора1 против Ганнибала и видя, что те сколь равны доблестью, столь и враждебны, совершенно расходясь меж собой, то в угоду высшему стремлению вернул их к благорасположению, чтобы частные разногласия не препятствовали управлять с пользой для государства, потому как если империю консула согласие не присуще, то рождается стремление больше препятствовать трудам другого, чем действовать самому. Действительно, ведь где присутствует ожесточенная ненависть, один к другому относятся непримиримее, чем два противопоставленных вражеских лагеря. Их же сенат, когда плебейский трибун Гней Бебий2 вызвал в суд пред ростры для ответа по обвинению в чрезмерно суровых действиях во время цензуры, освободил своим декретом от процесса, освободив тем самым от страха всякого суда ту должность, что должна требовать отчета, а не давать его другим. Равна ей и эта мудрость сената. Он наказал смертью плебейского трибуна Тиберия Гракха, отважившегося обнародовать аграрный закон. Также он поступил благоразумно в том, что земля, согласно закону Гракха, была распределена народу поголовно через посредство триумвиров. И так в одно и то же время он убрал и автора, и основание жесточайшего бунта. 6. О необходимости 1. Ибо поскольку неудачные сражения во время второй Пунической войны истощили ресурс римской молодежи подлежащей набору, то сенат, по совету консула Тиберия Гракха3, определил выкупать рабов за государственный счет, дабы сдержать натиск врагов, и по тому делу через плебейских трибунов было внесено к народу предложение и избраны триумвиры, которые набрали 24 тысячи рабов и обязав их присягой в том, что пока пунийцы остаются в Италии те будут ревностно и храбро нести службу, и снабдив оружием, отправили в лагерь <…>. Книга VIII 1. О бесчестных лицах, Гай Клавдий Нерон и Марк Ливий Салинатор – консулы 207 и цензоры 204 гг. (Liv. XXVII. 36. 10; XXXIX. 3. 4). 2 Трибун 204 г. Ср.: Liv. XXIX. 37. 17. 3 Тиберий Семпроний Гракх – консул 215 и 213 гг. Ливий сообщает, что были набраны 8000 рабовдобровольцев (XXII. 57. 11), которые служили под руководством Семпрония (XXIII. 32. 1; XXIV. 10. 3; etc.). 1 163 которые судом были освобождены или осуждены О тех, что были освобождены 2. Римский народ показал себя в этом случае строгим защитником целомудрия, а в следующем снисходительным скорее, чем справедливым, судьей. Когда плебейский трибун Либон1 грубо осыпал перед рострами бранью Сергия Гальбу за то, что тот, будучи претором в Испании, перебил множество лузитан, сдавшихся на веру, и это дело поддержал Марк Катон, что был уже глубоким стариком, в своей речи, которую он привел в «Началах», тогда обвиняемый, не говоря более ничего в свою защиту, маленьких своих детей и приемного сына, галла по крови, плача, стал препоручать народу. Смягченная же этим поступком сходка, почти ни единым голосом не высказалась против того, кому, по общему согласию, было уготовано погибнуть. Следовательно не справедливость, а сострадание управляло тем следствием, потому как тому, кому освобождение предоставить было нельзя в силу невиновности (ибо был повинен), оно было предоставлено с оглядкою на детей. 3. Аналогичен тому следующий случай. Казалось, что Авл Габиний 2 утратил в превеликом жару своего бесчестия уж всякую надежду, будучи подвергнут обвинителем Гаем Меммием суду народа, потому как и обвинение в полной мере изложило свои основания, и защиты средства воспринимались как достаточно слабые, да и те что судили, побужденные гневом, страстно желали его наказания. Так что посыльный и тюрьма уже маячили перед глазами, когда вдруг все это было отвращено вмешательством благосклонной фортуны: ибо сын Габиния – Сизенна, испугом подвигнутый, пал, умоляя, к ногам Меммия, стремясь там найти какое-либо средство для облегчения бури, откуда рвался наружу несчастия весь натиск. Отогнав от себя грозным взглядом, высокомерный победитель заставил его долго лежать на земле, сорвав с руки перстень. Зрелище это поспособствовало тому, что плебейский трибун Лелий3 с общего одобрения приказал освободить Габиния, чем доказал, что не должно ни чрезмерно злоупотреблять исходом счастливых обстоятельств, ни давать волю с крайней поспешностью обстоятельствам ненавистным. 6. Также Луций Пизон4, обвиненный Публием Клавдием Пульхром5 в том, что тот нанес союзникам тяжелые и несносные обиды, едва сам фортуны помощью избежал опасности несчастной погибели: ибо в то самое время, когда подавались о нем в собрании зловещие суждения, разразилась внезапная гроза и когда, пав ниц на землю, он стал целовать ноги судей, то набрал полный рот грязи. Это зрелище все собрание склонило от суровости к милосердию и кротости, потому что посчитали, что он получил уже достаточно тяжелое наказание от союзников, до того нуждой доведенный, что принужден был пасть столь смиренно и подняться столь постыдно. Луций Скрибоний Либон – трибун 149 г. См.: Cic. Ad Att. XII. 5. 3; Brut. 80; 89; Orat. I. 227; Mur. 59; Liv. Per. 49; Gell. I. 12. 17; XIII. 25 (24). 2 Консул 58 г. 3 Д. Лелий – трибун 54 г. 4 Луций Кальпурний Пизон Цезонин – консул 58 г. 5 Плебейский трибун 58 г. 1 164 О тех, что были осуждены 3. Аналогичный случай поверг и Секста Тиция1. Был он невиновен и внесением аграрного закона был угоден народу, однако за то, что держал в доме изображение Сатурнина, вся сходка своими голосами осудила его2. 5. Мы можем в кратком отступлении перейти и к тем примерам, которые в силу незначительности оснований для осуждения казались невероятными. Ночные триумвиры М. Мулвий, Гн. Лоллий и Л. Секстилий, которые поздно прибыли для тушения возникшего на Священной улице пожара, вызванные в суд народа, были осуждены плебейскими трибунами. 6. Также погиб ночной триумвир Публий Виллий, обвиненный в народном суде плебейским трибуном Публием Аквилием3 за то, что нерадиво осматривал караулы. 5. О свидетелях 4. Ну а Квинт Метел Пий, Луция и Марка Лукуллов, Квинт Гортензий и Марк Лепид Гая Корнелия4 сколько не обвиняли в оскорблении величия, столько свидетели требовали их избавления, но и те отрицали, что можно сохранить государство без наказания последнего. Эти суждения гражданства, сказать стыдно, были отринуты судейским щитом5. 6. О тех, кто карая других, карали себя 2. Гай же Марий6 стал великим и полезным для государства гражданином благодаря убийству Луция Сатурнина, который, призывая к оружию, сулил рабам вместо знамени войлочную шапку (символ свободы), но как Луций Сулла с войском в город стал рваться, то сам прибег к помощи рабов, обещая им свободу. Итак, совершив сам тот проступок, за который наказал Сатурнина, он нашел другого Мария, которым был сокрушен. 3. Действительно Гай Лициний Столон7, благодеянием которого консульская власть стала предметом устремлений плебса, законом Плебейский трибун 99 г. Cic. Pro Rab. Perd. IX. 24: «Секст Тиций тоже был осужден за то, что хранил у себя в доме изображение Луция Сатурнина; этим своим приговором римские всадники установили, что дурным гражданином, недостойным оставаться в числе граждан, является всякий, кто, храня у себя изображение мятежника и врага государства, тем самым чтит его после его смерти <…>»; IX. 25: «<…> за которое Секст Тиций, поместивший его у себя в доме, поплатился изгнанием и жизнью <…>». По мнению Цицерона, суд над Тицием происходил не перед народом, а перед специальной комиссией (quaestio perpetua). См. также: Сic. Leg. II. 6. 14. 3 Дата трибуната неизвестна, возможно 210 г. (Niccolini G. Op. cit. P. 398). 4 Плебейский трибун 67 г. Процесс, о котором идет речь, имел место в 65 г. Защитником на нем выступил Цицерон (Niccolini G. Op. cit. P. 260). 5 Судопроизводство в процессах о величии велось не в народных собраниях, а специальными постоянными комиссиями (quaestio perpetua). Первый известный закон о величии относится вероятно к 103 г. до н.э., который был принят плебейским трибуном Апулеем Сатурнином. См.: Щеголев А.В. Закон Апулея 103 г. до н.э. о величии римского народа // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 2002. № 2 (10). С. 114-120. 6 Известный римский полководец, противник Суллы, семикратный консул (107, 104-100 гг.). Ливий относит убийство Сатурнина к 100 г. (Per. 69), а сражение между Суллой и Марием к 88 г. (Per. 77). 7 Плебейский трибун 376-367 гг. до н.э., проведший ряд законов в 367 г. и нарушивший свой же закон о земельном максимуме. Ливий сообщает (VII. 16. 9): «В том же году [357] Гай Лициний Столон по иску 1 2 165 установил, что никто не может владеть более чем пятьюстами югерами земли, сам обладал тысячей и, чтобы спрятать преступление, излишнюю часть он передал сыну. По этой причине обвиненный Марком Попилием Ленатом, он первый подчинился своему закону и доказал, что не должно ничего предписывать другим, если не установил того прежде для самого себя. 4. Квинт же Варий, из-за сомнительности своего права гражданства прозванный Гибридой, будучи плебейским трибуном1, провел закон (к великому вреду для государства), несмотря на интерцессию коллег, который приказывал изыскивать тех, кто по злому умыслу принудил союзников взяться за оружие: ибо он вызвал сначала войну союзническую, а потом и гражданскую. Но как прежде он действовал скорее как вредный трибун, чем истинный гражданин, то вовлеченный в гражданскую смуту сам пал жертвой своего закона. Книга IX 1. О роскоши и похоти 3. Для города же нашего завершение Второй Пунической войны и окончательный разгром Филиппа, царя Македонии, стали залогом более развязной жизни2. В это время матроны осмелились осаждать дом Брутов 3, тех, что были готовы воспрепятствовать отмене закона Оппия 4, который женщины страстно желали упразднить, потому что он не разрешал им ни пользоваться разноцветными одеяниями, ни иметь больше половины унции золота, ни ездить в запряженной повозке по городу и в пределах тысячи шагов от него, разве что с целью жертвоприношения. И они добились того, что установление, соблюдавшееся на протяжении двадцати лет, было отменено. Ведь не предвидели мужья того времени, к какому образу жизни приведет необыкновенное рвение неуступчивой сходки и до чего дойдет дерзость – истребительница законов. Если бы они могли внимательно разглядеть последствия намерений женщин, которые изо дня в день выдумками своими множили расточительность, то воспротивились бы разрушительной роскоши в самом начале. Но что мне говорить о далеких по времени женщинах, которые и в силу слабости ума и претензий, лишенных основания, используют всякий повод для более тщательного ухода за своим внешним видом, когда я вижу, что и мужи, возвышенные и именем, и духом, мало-помалу отошли от древней умеренности прежних времен? Так что город открыт для их тяжбы. Марка Попилия Лената и на основании своего собственного закона был присужден к уплате десяти тысяч ассов, так как вместе с сыном владел тысячей югеров, а отпустив сына из-под своей власти, обманул закон». 1 См. прим. 13. 2 Вторая Пуническая война завершилась в 201 г. Македонский царь Филипп V потерпел поражение во Второй Македонской войне (200-197 гг.). 3 Т. (Р) и М. Юнии Бруты – плебейские трибуны 195 г. 4 Закон Оппия (lex Oppia) был принят в 215 г. по предложению плебейского трибуна Гая Оппия. Ср.: Liv. XXXIV. 1. 3; Tac. Ann. III. 33. 34; Oros. IV. 20. 14; Zonar. IX. 171. 166 8. Столь же постыден и этот пир, который устроил Гемелл, трибунский посыльный благородного происхождения, но позорной услужливости рабская натура, для консулов Метелла и Сципиона, и плебейских трибунов, с великим позором для гражданства: ведь в доме своем устроив публичный дом, он Мунию и Флавию, славных как отцами, так и мужьями своими, и знатного мальчика Сатурнина выставлял в нем на позорище. Позорного разврата утробы, готовые быть пьяной страсти забавой! Услада та, удостоена должна быть не славы, а наказания со стороны консулов и трибунов! 4. Об алчности 3. Впрочем более всего алчность завладела помыслами Луция Септимулея, который, хотя и был близок Гаю Гракху, не погнушался отрубить ему голову и носить ее по городу, насадив на копье, потому что консул Опимий обещал заплатить за нее золотом. Некоторые сообщают, что ради увеличения ее веса, он заполнил череп жидким свинцом 1. Пусть Гракх был мятежен и погиб (другим достойный урок), однако брошенного клиента преступная жадность не должна доходить до таких беззаконий. 5. О гордости и властолюбии 2. Также надменность проявлена плебейским трибуном Марком Друзом посредством высшего оскорбления: ведь он так мало почитал консула Луция Филиппа, что когда тот осмелился прервать его выступление на сходке, то грубо схватив за шиворот, и не через посыльного, но посредством своего клиента столь жестко стремглав бросил в тюрьму, что не мало крови у того вытекло из носа, более того, когда сенат послал к нему вестника передать, чтобы Друз прибыл в курию, тот ответил: «Почему он лучше сам не пришел в Гостилиеву курию, что рядом с рострами, т.е. ко мне?» Досадно прибавлять то, что за этим воспоследовало: трибун презрел власть сената, сенат же повиновался словам трибуна. 7. О насилии и мятеже 1. Дабы сообщить примеры жестокости и мятежа не только мирных, но и взявшихся за оружие граждан: Луция Эквиция, который себя выдавал за сына Тиберия Гракха и вопротиву законам требовал для себя трибуната вместе с Луцием Сатурнином, народ, когда Гай Марий, исполнявший консулат в пятый раз, отвел его в тюрьму, отперев тюремные засовы, понес на своих плечах, находясь в состоянии высшего возбуждения. 2. Тот же народ вознамерился закидать камнями цензора Квинта Метелла, который не желал включать в цензовый список этого якобы сына Гракха, утверждая, что у Тиберия Гракха было только три сына, из которых один умер в Сардинии во время службы, второй – в младенчестве в Пренесте, а третий, рожденный после смерти 1 О том же сообщает Плутарх (Gai. Grach. 38) и Плиний Старший (NH. XXXIII. 48). 167 отца, – в Риме и, что недолжно безвестную грязь примешивать к знаменитой семье. При всем этом неосмотрительное безрассудство распаленной толпы направилось (по бесстыдству и отважности) против консулата и цензуры, и разнузданностью всякого рода терзало своих начальников1. 3. Этот мятеж был лишь безумства полон, следующий же крови. Народ ведь Нуммия соперника Сатурнина, когда были избраны уже девять трибунов и оставались два кандидата на одно место, силой сначала загнал в частный дом, а затем, вытащив оттуда, убил, чтобы убийством гражданина безукоризненного дать возможность получить власть негоднейшему2. 4. Также невероятное возмущение кредиторов вспыхнуло против городского претора Семпрония Азеллиона; поскольку он поддерживал сторону должников, кредиторы, побужденные плебейским трибуном Луцием Кассием3, вынудили его, совершающего перед храмом Конкордии жертвоприношение, спасаться бегством от самих жертвенников за рынок, а там, скрывшегося в лавке претекстата, растерзали на части. 9. Об ошибке 1. Плебейский трибун Гай Гельвий Цинна4, возвращаясь в свой дом с похорон Гая Цезаря, был растерзан руками народа вместо Корнелия Цинны, который думал, что разгневанный народ свирепствует против него за то, что он, хотя был близок Цезарю, против него, злодейски убитого, произнес нечестивую речь перед рострами; эта ошибка привела к тому, что голову Гельвия, вместо Корнелиевой, народ, насадив на копье, носил вокруг погребального костра Цезаря; несчастная жертва своей должности и чужой ошибки! 10. О мщении 1. Плебейский трибун Марк Флавий внес на рассмотрение народа вопрос о тускуланцах; он заявил, что по их совету велитрийцы и привернаты вновь вознамерились воевать против Рима. Когда же они с женами и детьми, одевшись в скорбные одежды, пришли в Рим умолять отвратить наказание, случилось так, что все трибы приняли благоприятное для них решение, только Поллийская триба полагала, что их следует публично бичевать и казнить, а невооруженную массу прогнать под короной. По этой причине Папириева триба, в которой позже тускуланцы, принятые в гражданство, смогли получить большинство, никогда не избирала в магистраты ни одного кандидата из Поллийской трибы, чтобы не Ср. выше: III. 2. 18; 8. 6, а также IX. 15. 1. Liv. Per. 69: «Луций Аппулей Сатурнин с помощью Гая Мария силой добивается должности плебейского трибуна; соперник его Авл Ноний убит воинами. Такие же насилия продолжал он и ставши трибуном…» 3 Плебейский трибун 89 г. Ливий сообщает (Per. 74): «Так как государство страдало от долговых дел, то претор Авл Семпроний Азеллион стал править суд в пользу должников и был за это убит на форуме ростовщиками». 4 Плебейский трибун 44 г. См.: Suet. Iul. 85; Plut. Caes. 68; Brut. 20; Cass. Dio. XLIV. 50. 4; 52. 2; XLV. 6. 3; XLVI. 49. 2; XLVII. 11. 3; Zonar. X. 12. 1 2 168 предоставлять своим голосованием никакого почета тем, кто отнял у них жизнь и свободу, насколько то было в их силах1. 15. О тех, кто ложно в чужие семьи входили 1. Ибо как сам Эквиций, чудовище, явившееся из Фирма Пиценского, упомянутый выше в этой же книге2, так и его очевидный обман в присвоении себе отцом Тиберия Гракха, по вносящей путаницу ошибке толпы, были взяты под защиту широчайшей властью трибуната <…>. Валерий Максим здесь практически копирует пассаж Ливия (VIII. 37. 8-12): «В том году [323 г.] по предложению, внесенному Флавием, народ судил тускуланцев. Народный трибун Марк Флавий предложил народу наказать тускуланцев за то, что с их помощью и по их совету велитрийцы и привернаты пошли войной против римского народа. Тускуланцы с женами и детьми явились в Рим. Эти толпы в жалком рубище с униженным видом ходили по трибам и каждому они валились в ноги, так что для избавления их от казни сострадание значило больше, чем уверения в невиновности. Все трибы, кроме Поллийской, отклонили закон Флавия; эта триба считала, что взрослых мужчин надо высечь и казнить, а жен и детей по закону войны отправить под венки. Недобрая память о сторонниках столь жестокой расправы, как известно, сохранялась у тускуланцев до времени наших отцов, и соискатель должности из Поллийской трибы почти не мог рассчитывать на голоса Папириевой». 2 См.: IX. 7. 1-2. 1 169 Содержание предыдущих выпусков ВЫПУСК 1 Предисловие. Многообразие форм исторического творчества Сурво А.А., Шарапов В.Э. Псевдофиктивные тексты Семенов В.А., Максимова Л.А. Коми мир в отраженном свете меняющихся парадигм Филимонов В.А. К вопросу о способах репрезентации античной истории: опыт универсального дискурса Н.И. Кареева Мелихов М.В. «История Иудейской войны» Иосифа Флавия как один из литературных источников «Повести о взятии Царьграда турками» Ефименко В.П. Историческая личность в историческом романе (В. Бласко Ибаньес и Ф. Купер) Лабутина Т.Л. Источник в источнике: Портрет Карла II Стюарта в изображении королевского министра и просветителя маркиза Галифакса Котылева И.Н. Новый стиль: Советский календарь и историческое сознание (1918-1930 гг.) Садовникова О.А. Преемственность поколений: Воспоминания Э. К. Стэнтон и Х. С. Блэтч как источник по женскому движению в США XIX- н. XX вв. Котылев А.Ю. Титаны переходной эпохи: Сравнительно-культурологический анализ автобиографий К.Ф. Жакова и П.А. Сорокина Приложения I. Дополнения к материалам Второй международной научнопрактической конференции «Гендерная теория и историческое знание» Лабутина Т.Л. Гендерный аспект Английской революции середины ХVII в.: зарождение феминизма Фадеева И.Е. Философия трагедии и феноменология телесного Шабатура Е.А. Поиски героини: репрезентация образа «новой женщины» в визуальном пространстве Советской России 1920-х гг. II. «Аттические ночи» Авла Геллия о плебейском трибунате и трибунах (перевод, предисловие и комментарии А. А. Павлова) 170 4 7 27 34 49 61 70 77 101 108 168 168 176 185 193 ВЫПУСК 2 Предисловие: Концептуальные игры со временем в пространстве современной культуры Фадеева И.Е. Исторический семиозис как методологическая дилемма Сулимов В.А. Исторический нарратив и литературный текст: парадокс концентрации в языке описания Кучеренко Л.П. Историческая личность в «Libri ab Urbe condita» Тита Ливия (на примере Аппия Клавдия Цека) Ривчак К.В. Идеологические мотивы в «Панегирике королеве Эмме» Ходячих С.С. Гарольд II и Вильгельм Завоеватель в «Песне о битве при Гастингсе»: сравнительная характеристика Изотова Ю.Ю. «Домострой»: феномен западноевропейской средневековой культуры Гончарова В.И. Некоторые аспекты семиотической интерпретации романа Максимилиана I Габсбурга «Weisskunig» Макарова Л.М. Мемуары Ф. Фенелон как культурно-политическое свидетельство эпохи Тренькина Ю.С. Жития Сергия Радонежского и Франциска Ассизского как исторические произведения Котылев А.Ю. Слово о житии и учении святого отца нашего Стефана, бывшего в Перми епископом, как историческое произведение Котылева И.Н. Формирование иконографии «зырянского апостола» в XVII в.: к вопросу о развитии почитания св. Стефана Пермского на Руси Красильникова С.В. Исторический нарратив на Русском Севере как форма литературного творчества Семенов В.А. «Биармия» К.Ф. Жакова в историческом и мифологическом контекстах Сурво А. Нехельсинкское время Приложение 3 6 17 26 34 41 48 53 66 80 91 116 126 132 140 163 Павлов А.А. Плебейский трибунат и трибуны в «Естественной истории» Плиния Старшего Плиний Старший. Естественная история / Пер. и комм. А.А. 175 Павлова Марк Теренций Варрон, Секст Помпей Фест, Макробий об 186 институте плебейских трибунов / Пер. и комм. А.А. Павлова Котылев А.Ю. Современники, учителя, последователи и 199 легендарные противники Стефана Пермского. Персонологический справочник 171 ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ Сборник научных статей Выпуск 3 Ответственные редакторы Котылев Александр Юрьевич Павлов Андрей Альбертович Компьютерный макет А.А. Павлов, И.В. Шевелева Подписано в печать 05.11.2008. Гарнитура Arial. Печать ризографическая Формат 60х84 1/16. Тираж 120 экз. Усл. печ. л. 9,6. Уч. изд. л. 10,7. Редакционно-издательский отдел Коми государственного педагогического института 167982, Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 25 172