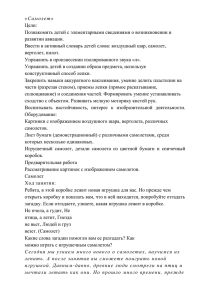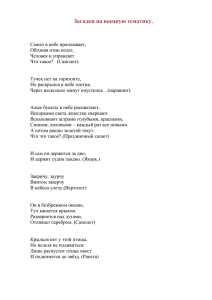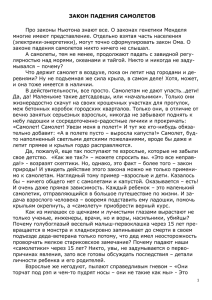За чистое небо
advertisement
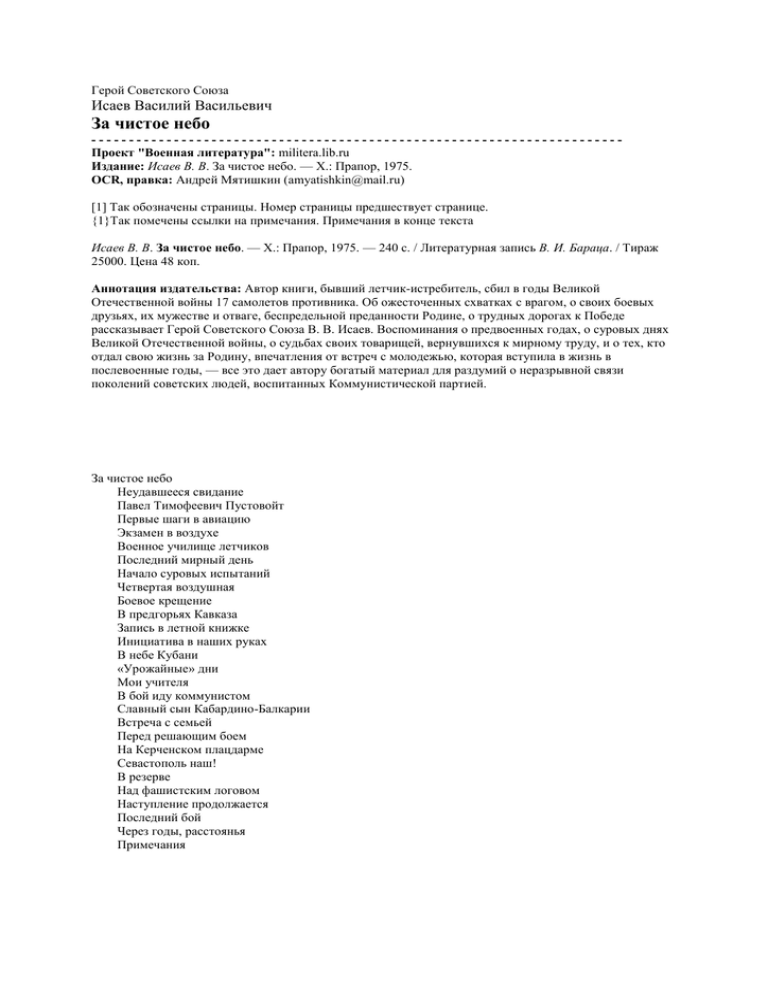
Герой Советского Союза
Исаев Василий Васильевич
За чистое небо
----------------------------------------------------------------------Проект "Военная литература": militera.lib.ru
Издание: Исаев В. В. За чистое небо. — Х.: Прапор, 1975.
OCR, правка: Андрей Мятишкин (amyatishkin@mail.ru)
[1] Так обозначены страницы. Номер страницы предшествует странице.
{1}Так помечены ссылки на примечания. Примечания в конце текста
Исаев В. В. За чистое небо. — Х.: Прапор, 1975. — 240 с. / Литературная запись В. И. Бараца. / Тираж
25000. Цена 48 коп.
Аннотация издательства: Автор книги, бывший летчик-истребитель, сбил в годы Великой
Отечественной войны 17 самолетов противника. Об ожесточенных схватках с врагом, о своих боевых
друзьях, их мужестве и отваге, беспредельной преданности Родине, о трудных дорогах к Победе
рассказывает Герой Советского Союза В. В. Исаев. Воспоминания о предвоенных годах, о суровых днях
Великой Отечественной войны, о судьбах своих товарищей, вернувшихся к мирному труду, и о тех, кто
отдал свою жизнь за Родину, впечатления от встреч с молодежью, которая вступила в жизнь в
послевоенные годы, — все это дает автору богатый материал для раздумий о неразрывной связи
поколений советских людей, воспитанных Коммунистической партией.
За чистое небо
Неудавшееся свидание
Павел Тимофеевич Пустовойт
Первые шаги в авиацию
Экзамен в воздухе
Военное училище летчиков
Последний мирный день
Начало суровых испытаний
Четвертая воздушная
Боевое крещение
В предгорьях Кавказа
Запись в летной книжке
Инициатива в наших руках
В небе Кубани
«Урожайные» дни
Мои учителя
В бой иду коммунистом
Славный сын Кабардино-Балкарии
Встреча с семьей
Перед решающим боем
На Керченском плацдарме
Севастополь наш!
В резерве
Над фашистским логовом
Наступление продолжается
Последний бой
Через годы, расстоянья
Примечания
Неудавшееся свидание
Авиацией я заболел в одиннадцать лет.
Помню погожий июньский полдень далекого 1928 года. Я ворошил на бабушкиной усадьбе душистое
луговое сено, когда в небе над замшелыми соломенными крышами крестьянских изб моего родного села
Хатмыжеска, едва не коснувшись колесами колокольни деревенской церквушки, медленно проплыл
самолет.
Это было настолько необычное, волнующее зрелище, что у меня захватило дух. Не сводя восхищенных
глаз с воздушной машины, позабыв обо всем на свете, я бросил грабли и выбежал за ворота.
Самолет сделал круг над деревней, приветственно покачал светлыми крыльями, и на бреющем полете
загудел над поросшим чахлым разнотравьем выгоном, будто приглашал нас, высыпавших на улицу
белобрысых, босоногих мальчишек, познакомиться с ним поближе.
Казалось, что летчик выбирает место для посадки. Я бежал за самолетом и сердце в груди бешено
стучало. Рубашка прилипла к взмокшей от пота спине, но я старался ни на шаг не отставать от своих
приятелей, даром что многие из них были и постарше меня, и покрепче.
Пестрая от выгоревших на солнце рубашек ватага мальчишек, бегущих к выгону, подняла на сельской
улице такую густую, непроницаемую пыль, словно по разбитой конскими копытами и колесами телег
немощенной дороге прошло многоголовое стадо.
Деревня в тот час почти обезлюдела. Сухая, знойная погода благоприятствовала сенокосу, и сельчане,
вооружившись косами, с рассветом поспешили на луга. Только у сельской лавки, в которой можно было
купить соль, спички, керосин, колесную мазь и прочий немудреный [6] крестьянский товар, дожидались
своей очереди словоохотливые старухи в длинных домотканых юбках. Повязанные, несмотря на жару,
темными шерстяными платками, они с тревогой говорили о затяжном бездождье.
Толпа мчавшихся мимо лавки простоволосых мальчишек вызвала у них недоумение. Посыпались
нелестные замечания по нашему адресу. А до безобразия тучная супруга сельского попа даже истово
перекрестилась, будто перед ее очами предстал сам сатана.
Впрочем, нам было не до старух. Главное — не опоздать к посадке самолета, который, словно
подзадоривая юных поклонников авиации, продолжал призывно гудеть над обширным, ровным выгоном.
Но нас постигло жестокое разочарование. Едва мы миновали неглубокую лощину, взбежали на косогор и
достигли края выгона, как самолет, натужно взревев мотором, вдруг круто взмыл вверх, в залитое
солнцем небо, и взял курс на Борисовку, в то время районный центр Курской области.
Проводив растерянным взглядом быстрокрылую машину, уходившую все дальше к горизонту, я едва не
заплакал, настолько горьким, обидным было мое несостоявшееся первое свидание с авиацией.
Утешила меня бабушка. Когда я вернулся с выгона, она привела меня за руку в избу, погладила коротко
остриженную голову и, поглядев на стоявшую на комоде фотографию своей покойной дочери, сказала:
— А ты не горюй, сынок. Учись, набирайся ума-разума. Жизнь твоя вся впереди. И жить тебе при нашей
рабоче-крестьянской власти. Так что полетаешь на своем веку, была бы только охота.
Впоследствии я не раз вспоминал слова своей бабушки Полины Васильевны Козловой, потомственной
русской крестьянки, потому что они оказались поистине пророческими. [7]
Детство мое было сиротским, безрадостным. Своего отца Василия Никитовича Исаева я не помню. Имя
его воскрешает в памяти заросший ветлами и сиренью старый сельский погост и скромную могилу, за
которой заботливо ухаживала бабушка.
Отцу не было и десяти лет, когда он пошел в услужение к сельским богатеям. Как и отец его, дед и
прадед, он долгие годы от зари до зари гнул спину на мироедов, поливал своим потом чужую ниву, пас
кулацкий скот, но даже в самые урожайные годы хлеба в доме хватало едва до рождества, хотя курские
черноземы издавна славились своим плодородием на всю Россию.
В начале первой мировой войны отца мобилизовали в царскую армию. Израненный и больной,
посеревший от пороховых газов, пришел он с германского фронта. Пытался заняться привычным
крестьянским трудом, но все валилось из его высохших, немощных рук.
Вскоре отец слег. И больше уже не поднялся — у него была скоротечная чахотка.
Смерть отца, беспросветная нужда, постоянные тревоги о хлебе насущном быстро подорвали силы
матери, которая и прежде не отличалась хорошим здоровьем. Так в шесть лет я и мой младший брат
Николай остались круглыми сиротами. Заботы о нашем воспитании взяли на себя дед Петр Иванович и
бабушка Полина Васильевна. Но и дед мой, не видевший на своем веку ни одного светлого дня, вскоре
сошел в могилу.
Остались мы втроем с бабушкой в маленькой обветшалой избенке. Добрую половину ее занимала печь.
В покосившихся, подслеповатых оконцах не было ни одного целого стекла. Их заменяли куски фанеры.
В крыше зияли дыры, и поздней осенью в проливные дожди из пестрого лоскутного одеяла, которым я
укрывался, можно было выкручивать воду. Но в сухую теплую погоду наша худая крыша, по моему
тогдашнему убеждению, отличалась несомненными преимуществами перед прочной [8] железной
кровлей стоявшего неподалеку пятистенного поповского дома, поскольку она позволяла мне по ночам,
уютно устроившись в постели, наблюдать звездное небо.
Улыбчивая, невысокая ростом, с крупными натруженными руками, которые ни минуты не оставались без
дела, бабушка обладала ясным умом и завидной памятью. Почти неграмотная, она знала множество
пословиц, притч, поговорок, и долгими зимними вечерами, когда за окном гудели вьюги, рассказывала
мне русские народные сказки. Из уст бабушки я услышал былины о древних богатырях Илье Муромце,
Василии Буслаеве, и благодарен ей за то, что она стала первой моей учительницей родного языка и
литературы.
Поднималась бабушка с первыми петухами. Восход солнца встречала на кулацком поле. В созревших
хлебах неумолчно стрекотали конные жатки. День-деньской, не разгибая спины, бабушка вязала в снопы
сваленную машинами озимую пшеницу. За тяжелый, изнурительный труд кулак платил жалкие гроши. С
работы бабушка приходила затемно. Болела поясница, ныли намозоленные перевяслами пальцы, не
передохнув, чуть ли не до полуночи хлопотала по хозяйству — варила в чугуне пшенный суп или
картошку.
В людях бабушка выше всего ценила трудолюбие, бескорыстие, любовь к учению. Она стремилась дать
мне образование, о котором в то далекое время не смели и мечтать крестьянские дети. Отказывая себе в
самом необходимом, перебиваясь с хлеба на воду, бабушка бережно откладывала каждую копейку и к
той поре, когда я поступил в первый класс новой сельской школы-четырехлетки, она справила мне
сапоги и кое-какую одежонку.
Сапоги, сшитые по мерке сельским сапожником из пупырчатой свиной кожи, вызывали во мне
противоречивые чувства. Было очень приятно надеть на ноги новую [9] крепкую обувь, в которой не
страшны были ни грязь, ни лужи, притягивавшие меня, словно магнит. Но в то же время мне было
неловко перед бабушкой, обутой в старые, истоптанные козловые башмаки.
Бабушка, казалось, читала мои мысли:
— Ты не беспокойся, не печалься обо мне, сынок. К зиме, пожалуй, и себе сапоги справлю.
И вот настал долгожданный, торжественный день. В начищенных до солнечного блеска сапогах, в
сшитом на вырост новом костюме из «чертовой кожи» и суконном картузике с лаковым козырьком, в
сопровождении бабушки я впервые переступил выкрашенный свежей охрой школьный порог.
Сколько я помню бабушку, она никогда не верила ни в бога, ни в черта, ни в святых угодников. Но в этот
день по христианскому обычаю она осенила меня крестным знамением и тут же стыдливо махнула
морщинистой рукой и прошептала мне какое-то напутствие.
Войдя в класс, я степенно сел за парту. С гордым видом бабушка наблюдала за мной через
приотворенную дверь. В ее серых глазах поблескивали слезы.
Перезнакомившись с мальчиками и девочками, выжидательно сидевшими за новыми партами, пожилая
учительница занялась с нами арифметикой. Она взяла в руки мел, написала на доске несколько цифр,
поставила между ними знак сложения и спросила, кто из нас сможет проделать нужные арифметические
действия.
Я подсчитал в уме, что один, два и три в сумме составят шесть, и смело поднял руку. Учительница
вызвала меня к доске. Класс смотрел на меня с немым уважением. И тут случилось непредвиденное. Не
успел я взять в руки мел и поставить за знаком равенства искомую шестерку, как где-то в небе, за
распахнутым настежь окном, послышался гул авиационного мотора. Этот звук подействовал на меня
подобно тому, как действует на бравого конника боевой сигнал горниста. Я едва устоял [10] против
соблазна немедленно выпрыгнуть в окно, чтобы вволю налюбоваться несущимся в небе самолетом. Мел
выпал из моих рук. В классе послышался смех. Мой лоб покрылся холодной испариной. Смущенный,
вконец растерявшийся, я с ужасом понял, что от волнения забыл результат сложения.
Выручила меня учительница. От ее добрых, внимательных глаз не ускользнуло, что со мной творится
что-то неладное, и она мягко сказала:
— Садись, Исаев. Вызову тебя завтра.
После недолгой паузы она улыбнулась:
— Постарайся, Исаев, в следующий раз не быть таким застенчивым, как сегодня.
Учился я неплохо. Успешно переходил из класса в класс. Моими любимыми предметами были
арифметика, география, русская литература. Я довольно бойко решал головоломные задачи с
бассейнами, в которые вода поступала по трубам разного сечения, и мог безошибочно высчитать время
встречи в пути курьерского поезда и неторопливого грузового состава, следующих навстречу друг другу
с севера на юг и с юга на север.
Впрочем, «прославился» я не на математическом поприще, а на ниве географии. В третьем классе из
невесть откуда взявшегося в нашей деревне дореволюционного альбома почтовых марок я
добросовестно переписал и заучил на память названия почти всех столиц планеты. И когда, бывало, на
школьных уроках географии завязывались споры о том, как добраться из нашего села до Перу или до
столь же экзотической Новой Зеландии, я с подчеркнуто равнодушным видом, будто речь шла о
районном центре Борисовке, перечислял столицы, которых не миновать по пути из Хатмыжеска в
далекую Лиму или Веллингтон.
Молва о моих географических познаниях распространилась по всей деревне, и именно это привело к
постыдному концу моей недолгой, дутой славы. Однажды по [11] рекомендации кого-то из сельчан
незнакомая молодая крестьянка обратилась ко мне за советом, как ей кратчайшей дорогой доехать до
Волоконовки.
Название этого довольно крупного населенного пункта я слышал не впервые. Волоконовка была
знаменита на всю округу обилием гусей и популярными среди харьковчан богатыми осенними
ярмарками. Она находилась где-то в наших краях. Более точными данными я не располагал, но не подал
виду и, вместо того, чтобы посоветовать женщине обратиться за справкой к железнодорожникам, сказал,
что ехать ей следует через Харьков.
Благодарная путница доверчиво вняла моей рекомендации. За это она поплатилась напрасно
загубленным днем, бессонной ночью в душном станционном зале и несколькими рублями, которыми ей
довелось оплатить проезд в противоположную от Волоконовки сторону и обратно.
Сгорая от стыда, я глубоко раскаивался в своем неблаговидном, пусть и непреднамеренном поступке.
Подвело меня мальчишеское легкомыслие. В конечном счете, оно обернулось ложью. За нее я был
наказан бабушкой и собственной совестью.
Горький урок, полученный в детстве, запомнился мне на всю жизнь. Спустя многие годы, будучи
инструктором военного авиационного училища, я рассказывал о нем курсантам, чтобы показать
молодежи, как жестоко может подвести себя и других человек, который, пренебрегая точным знанием
предмета, полагается на догадки, личную интуицию, тем более, если этот человек не учащийся школы
первой ступени, а летчик-истребитель.
***
Но прежде, чем обучать и воспитывать будущих авиаторов, мне предстояло немало лет проучиться. Было
это нелегко. Бабушка едва сводила концы с концами. [12]
В двадцатые годы в Хатмыжеске были лишь начальные школы, педагогических кадров не хватало.
Учителями зачастую работали неподготовленные люди, и преподавание велось на низком уровне.
Поэтому в нашей деревне, насчитывавшей около восьмисот дворов, даже сравнительно грамотных людей
было немного. Каждый, кто мог сносно читать и знал арифметику, уже слыл в Хатмыжеске
образованным человеком. У меня не было отбоя от просителей, которые не могли без посторонней
помощи прочитать или написать письмо, составить какую-либо бумагу. Часто ко мне обращались
родные красноармейцев. В иные дни я прочитывал красноармейским матерям, женам, невестам до
десятка писем, тут же писал под их взволнованную, сбивчивую диктовку ответы. И поныне не забыл я
этих бесхитростных крестьянских писем, в которых добросовестно перечислялись имена кланяющихся
адресатам родственников и, в зависимости от времени года, повествовалось то ли о видах на урожай, то
ли о ценах на рожь и пшеницу.
Как скудно нам ни жилось, бабушка и слушать не хотела о том, чтобы мое образование ограничилось
начальной школой. Чем меньше времени оставалось до ее окончания, тем чаще она повторяла
любимейшую свою поговорку: «Ученье свет, а неученье — тьма!»
Впрочем, убеждать меня в этом не было необходимости. Я и сам мечтал о среднем образовании, без него
и думать нечего было об авиации. Но теперь, когда начальная школа оставалась позади, чувство долга,
стремление облегчить жизнь бабушки, поскорее принести в дом свои первые трудовые рубли заставили
меня задуматься об устройстве на работу.
В тот день, когда мне вручили документ об окончании школы, я поделился с бабушкой своими
раздумьями. Она внимательно посмотрела мне в глаза и строго сказала: [13]
— Человек, у которого нет линии в жизни, — не человек, а пустоцвет. И ты это крепко запомни,
Василий.
Вдвоем мы вышли во двор, сели на скамейку. У межи нашей маленькой усадьбы, умытая недавним
дождем, ярко зеленела моя любимая яблоня. Нежно пахла цветущая малина. В малиннике деловито
гудели пчелы. Чуть поодаль, на сбегающей в пологую лощинку полосе влажного чернозема буйно
раскустилась картошка. Ее толстые, сочные стебли были густо усеяны фиолетовыми бутонами. Бабушка
показала на огород:
— Поможешь мне завтра прополоть грядки. А в среду собирайся в Борисовку. Отвезешь заявление в
школу-девятилетку. Ясно?
Я благодарно посмотрел на бабушку и сказал, что на каникулы каждый год буду приезжать в Хатмыжеск
помогать ей по хозяйству. Бабушка одобрительно кивнула головой.
И снова потекли школьные будни. Готовить уроки я предпочитал в библиотеке, потому что снимал угол
подешевле, без особых удобств.
Обязанности заведующего и библиотекаря совмещал седой худощавый старик с добрыми близорукими
глазами. Пенсне с цепочкой, надетое на прямой, тонкий нос, придавало ему сходство с провизором или
преподавателем латыни.
Книги были страстью этого человека. Он знал на память всего «Евгения Онегина», часами мог
декламировать Лермонтова, Тютчева, Блока и так ярко, красочно рассказывал о великом русском
путешественнике Миклухо-Маклае, что казалось, будто старик долгие годы прожил с ним в одной
хижине на Новой Гвинее.
Почтенный возраст не помешал библиотекарю (к сожалению, я не запомнил его фамилии) сохранить
юношескую любознательность. Он в равной мере интересовался проблемой загадочного Тунгусского
метеорита, архитектурой Новгородского Кремля и перспективами [14] развития самолетостроения. От
него я впервые услышал имя талантливого русского ученого Николая Егоровича Жуковского, которого
Владимир Ильич Ленин назвал отцом русской авиации.
Долгими осенними вечерами я допоздна засиживался в библиотеке, и перед ее закрытием, когда гулко
хлопала набухшая дверь за последним посетителем, подходил к решетчатому деревянному барьерчику,
отделявшему помещение для читателей от книжных полок. С внутренней стороны перегородки, за
сосновым столом сидел библиотекарь. Старый холостяк, он, как и большинство одиноких людей, редко
упускал возможность потолковать с собеседником.
Меня удивляли обширные познания старика в науке, технике, литературе, и я проникся к нему глубоким
уважением. Каждый раз я покидал библиотеку, обогащенный новыми интересными фактами из истории
авиации.
Так, я узнал однажды о замечательном изобретателе А. Ф. Можайском. Капитан Российского военноморского флота, он еще в 1881 году получил «привилегию» на самолет с плоским крылом, легким
фюзеляжем и воздушными винтами, приводимыми в движение сконструированной им же, Можайским,
компактной паровой машиной.
В другой раз библиотекарь поведал мне о первом в мире сверхтяжелом четырехмоторном воздушном
гиганте, названном Ильей Муромцем. По своим техническим данным он превосходил современные ему
воздушные корабли, и многие иностранные специалисты сомневались в самом факте его существования
до тех пор, пока в 1913 году «Илья Муромец» не побил мировых рекордов грузоподъемности, дальности
и высоты полета.
Литература об авиации в нашей провинциальной библиотеке была представлена разве что сказкой о
ковре-самолете, и легко понять мою радость, когда по просьбе библиотекаря его дальний родственник
прислал из [15] Москвы во временное пользование книгу, излагавшую важнейшие принципы расчета
самолета, методы аэродинамических исследований. Книга была издана в 1912 году. Название ее стерлось
в моей памяти, но, скорее всего, это были «Теоретические основы воздухоплавания» Н. Е. Жуковского.
В то время я заканчивал восьмой класс, изучал физику, алгебру, геометрию, однако ни в одной из глав
книги, сколько их ни перечитывал, ровно ничего не понял. Убористый текст пестрел сложными
формулами, туманными для меня расчетами, загадочными терминами, схемами и чертежами.
Единственное, что мне стало ясно после знакомства с книгой, это то, что теория летательных машин —
сложнейшая наука, которую без всесторонней, основательной подготовки не осилишь.
Придя к такому заключению, я запасся керосином для лампы и засел за физику и математику. Спать
нередко укладывался в полночь, но зато в течение года с небольшим основательно проштудировал
классический в то время учебник физики Цингера, не оставил нерешенной ни одной задачи из столь же
популярного в годы моей юности математического задачника Рыбкина.
Над некоторыми задачами, решение которых требовало знания и геометрии, и тригонометрии, и алгебры,
случалось, ерошил волосы до первых петухов, но правильного ответа все же не находил. И тем приятнее
было, когда звонкие голоса и хлопанье крыльев вторых петухов как бы возвещали о том, что полученный
мною результат совпал наконец с ответом. [16]
Павел Тимофеевич Пустовойт
Не успел я получить аттестат о среднем образовании, как судьба нанесла мне новый тяжелый удар.
Скоропостижно скончалась бабушка; никого из близких у нас с братом в Хатмыжеске не осталось.
Дедова изба вконец обветшала и для жилья уже не годилась. Брата взяла на воспитание тетка, я же стал
собираться в Харьков. Была у меня давняя мечта: поступить там на работу, осмотреться и потом
попытаться поступить в аэроклуб, о котором не раз читал в газетах.
В Харькове жили мои дальние родственники Василий Иванович и Ефросинья Петровна
Тетеревятниковы. Правда, с тех пор, как похоронили бабушку, не было от них известий, но адрес их я
знал.
Знакомый столяр сколотил мне небольшой фанерный чемодан, Я собрал свой немудреный скарб,
побывал в последний раз перед отъездом на могилах родителей, бабушки, деда, попрощался с друзьями
детства и на попутных подводах добрался до железнодорожной станции.
Поезд отходил через полтора часа, и мне удалось занять место у мутного от пыли окна общего вагона.
Наконец поезд тронулся.
За окном потянулись поля и рощи, замелькали станции, перроны, длинные пакгаузы, полосатые
семафоры, железнодорожные переезды. Как-то встретит меня незнакомый город: найдутся ли люди,
которые станут моими товарищами, друзьями? Что ждет меня впереди?
Погруженный в свои тревожные думы, я не заметил, как поезд достиг харьковских предместий.
Навстречу с грохотом проносились составы с машинами, станками, серыми чугунными трубами и
отливками. [17]
Поля за окном отпрянули в сторону, показались кирпичные дома, угадывались заводские и фабричные
постройки, железнодорожные мастерские. Вскоре показалось огромное, закопченное здание
локомотивного депо. Ворота его были широко открыты. Окутанный густым дымом, в них въезжал
пассажирский паровоз.
Наш поезд остановился напротив высокого здания вокзала. На фасаде его, чуть пониже крыши,
крупными накладными буквами было обозначено название города: Харьков.
Я стоял посреди длинной платформы, заполненной множеством людей, растерянный и беспомощный, не
зная, в какую сторону податься. Во рту у меня пересохло. От волнения вылетел из головы адрес
родственников. Мимо меня торопливо проходили люди с чемоданами, баулами, узлами. Я устремился
вслед за пестрой, многоголосой толпой, и почему-то сразу почувствовал себя уверенней, веселей.
Гулкая стеклянная галерея, служившая переходом над стальными железнодорожными путями, вывела
меня на привокзальную площадь. Звенели трамваи, слышался дробный цокот лошадиных подков. С
трудом пробивая дорогу своим экипажам, усатые извозчики лихо покрикивали на зазевавшихся
пешеходов.
Оказалось, что родственники мои живут вблизи вокзала. Квартировали они в глинобитном приземистом
бараке на одной из новоселовских улиц. Семья Тетеревятниковых ютилась в небольшой комнате.
Убранство ее состояло из сработанного хозяином соснового стола и полдюжины железных коек. Одну из
них Евфросинья Петровна как гостю предоставила мне, постелив кому-то из своих детей на полу. Я
видел, что жить мне здесь негде, придется искать жилье.
На улице сгущались сумерки. Ожидая хозяина, мы успели обо всем переговорить со словоохотливой
хозяйкой Василий Иванович появился, когда на дворе [18] стало совсем темно. Обремененный
многочисленной семьей, плотник по специальности, Тетеревятников выполнял по вечерам частные
заказы. Это был молчаливый, несколько угрюмый человек, который хорошо знал цену трудовой
копейки. Меня он встретил сдержанно, но дружелюбно, пообещал помочь определиться на работу.
— И насчет жилья непременно помозгуем, — сказал Тетеревятников и виновато развел руками,
пропахшими сосновой стружкой. — Сам видишь, Васек, тесно живем. Не то что взрослый человек, малое
дитя между кроватями не протиснется.
Хозяйка собрала ужин, поставила перед нами алюминиевые миски с борщом.
Ел Василий Иванович сосредоточенно, неторопливо, по-крестьянски аккуратно подбирал со стола
хлебные крошки и отправлял их в рот. За всю трапезу он не проронил ни слова. Обглодав крепкими
зубами жирную свиную кость, он посмотрел на часы-ходики с килограммовым болтом вместо гири и
заметил:
— Утро вечера мудренее. Будем ложиться.
С этими словами Василий Иванович вышел в коридор. Голый по пояс, он долго плескался и фыркал под
самодельным жестяным рукомойником, потом, возвратившись в комнату, стал стаскивать с ног тяжелые
юфтовые сапоги. Поставил их рядом, задумался и, почесав в затылке, сказал:
— Вот что, Васек. Работаю я на Южной железной дороге. В отделе рабочего снабжения при
строительном управлении. Начальником у нас Павел Тимофеевич Пустовойт. Славный человек! Вот мы
с тобой поутру к нему и заявимся. Определенно возьмет тебя на работу. А теперь спи. Небось, устал с
дороги.
Тетеревятников мгновенно заснул. Комната наполнилась богатырским храпом, от которого сотрясались
стены. Где-то невдалеке пронзительно свистели маневровые [19] паровозы, постукивали на стыках
рельсов проходящие поезда.
Меня обнадежил разговор с Василием Ивановичем. Радовало его участие, обещание помочь в поисках
работы и жилья. Но совсем расстроил холодный ответ Тетеревятникова на вопрос об аэроклубе, о том,
удастся ли мне без отрыва от производства стать летчиком.
— Человек, Василий, я мастеровой, — сказал Тетеревятников. — Мое дело — топор да пила. До
аэропланов касательства не имею. Да и тебе они ни к чему.
Подумав, он добавил:
— Без отца и матери растешь. Стало быть, о деле, не про забавы думать надобно.
***
Бывает, встретишь человека, который при первом же знакомстве становится таким понятным и близким,
что, кажется, будто ты долгие годы прожил с ним под одной кровлей. Таким человеком оказался
коммунист Павел Тимофеевич Пустовойт. Едва Тетеревятников приоткрыл дверь, как я услышал
молодой голос:
— Чего стоишь на пороге. Давай заходи!
На вид Павлу Тимофеевичу было лет около сорока. Ладно скроенный, высокий, энергичный, он поднялся
из-за стола, шагнул навстречу Василию Ивановичу, крепко пожал ему руку.
Пустовойт спросил, как меня звать, поинтересовался, кем я прихожусь Тетеревятникову, и усадил нас на
диван, обтянутый черным дерматином:
— А теперь выкладывайте свое дело.
У Пустовойта были густые черные брови, выпуклый лоб, на котором успели обозначиться первые
морщины, слегка выдвинутый вперед энергичный подбородок. Его лицо казалось строгим, пожалуй,
даже несколько суровым. Но глаза у Павла Тимофеевича были добрыми, улыбчивыми. Большие, умные,
внимательные, они излучали [20] душевное тепло, смотрели на людей прямо и открыто.
Узнав о цели нашего прихода, Пустовойт ненадолго задумался, потом тряхнул головой — мол, все
образуется наилучшим образом — и сказал Тетеревятникову:
— Вопрос ясный, и ты, Василий Иванович, можешь идти. Не то опоздаешь на работу. А мы тут
останемся. Подумаем, что и как.
Павел Тимофеевич по-отечески ласково обнял меня, распахнул окно, и я увидел строительную
площадку, на которой возводилось большое высокое здание. Рядом с ним стояло несколько уже готовых
помещений поменьше. Вся площадка была заполнена грузовыми автомобилями, пароконными
повозками, штабелями кирпича и леса.
— В замечательное время мы живем, — улыбнулся Пустовойт и прищурился от яркого солнца. — Вся
наша страна — грандиозная новостройка. На то она и пятилетка, чтобы строить, созидать новую жизнь.
Он немного помолчал, потом спросил тоном доброго учителя:
— А знаешь, что такое первая пятилетка? Это наш родной Харьковский тракторный завод и
Сталинградский, Московский и Горьковский автомобильные заводы, Магнитогорский и Кузнецкий
металлургические комбинаты. Это не только полторы тысячи новых индустриальных предприятий, но и
заново созданная современная черная металлургия. Да разве она одна, а химическая и авиационная
промышленность, сельскохозяйственное машиностроение! А Магнитогорск, Сталинск, Кузнецк и другие
новые города. Хорошо написал Владимир Маяковский о созидателях Кузнецкстроя:
Я знаю — город будет, [21]
я знаю — саду цвесть,
когда такие люди
в стране в советской есть
Павел Тимофеевич подробно расспрашивал о жизни хатмыжеских крестьян, о делах организованных в
нашей деревне первых колхозов.
Пустовойт был так глубоко осведомлен в земледелии, так хорошо знал сельскую жизнь, крестьянские
нужды, что я поинтересовался:
— И вы, Павел Тимофеевич, родом из деревни?
— Это верно. Отец мой занимался крестьянским трудом. Но сам я давно работаю в Харькове. Впрочем,
связи с селом не порываю. По заданию партии раскулачивал мироедов, участвовал в коллективизации.
Часто и теперь коммунисты нашей парторганизации бывают в колхозах: укрепляем смычку города с
деревней.
На столе требовательно зазвонил телефон. Со своим невидимым собеседником Павел Тимофеевич
говорил недолго:
— Все это мне давно известно. В общем, подумаю. Постараюсь помочь.
Он положил телефонную трубку на рычаг и вздохнул:
— Беда у нас с кадрами. Некому стоять за прилавком. Торговлю же, между тем. надо не свертывать, а
расширять. Так-то.
После недолгой паузы Пустовойт встал из-за стола, подошел ко мне вплотную, снова помолчал и вдруг
предложил:
— Иди работать к нам в магазин. Учеником продавца. Парень ты грамотный. Имеешь чуть ли не
профессорское образование. Справишься. [22]
Признаться, я растерялся от такого предложения и не знал, что ответить.
Пустовойта это не смутило:
— Завтра же выходи на работу. К восьми утра. И не говори мне, что торговля не твое призвание, коль
носишь в кармане комсомольский билет. Я и сам в ОРС не по любви пришел. Райком партии в «красные
купцы» направил. Вот и командую ОРСом, организую снабжение рабочих.
Потом он добавил:
— А вообще-то по специальности я инженер. Имею даже кое-какие изобретения. Напечатал несколько
статей в технических журналах.
В это время Пустовойту принесли на подпись папку с бумагами.
У него была крепкая, мускулистая рука, более привычная к заводскому инструменту, нежели к
карандашу, и под нажимом грифель сломался. Затачивая карандаш, Павел Тимофеевич сказал:
— Вот что, Василий, пока я тут священнодействую над бумагами, ты погуляй на свежем воздухе. Но не
уходи далеко. Через полчаса жди меня у проходной.
Часы в комнатушке дежурного вахтера показывали ровно одиннадцать.
На улице я не без робости остановил первого же прохожего (это был коренастый паренек в серой кепке и
замасленной рабочей гимнастерке) и спросил, далеко ли до железнодорожного аэроклуба.
Парень не спеша размял в пальцах тонкую папиросу, чиркнул спичкой, закурил и переспросил:
— Далеко ли, говоришь, до аэроклуба? Да совсем рядом, рукой подать. Угол улиц Карла Маркса и
Красноармейской.
Клуб помещался в большом кирпичном доме. С тыльной стороны к нему примыкал просторный и
ровный двор, в котором стоял выкрашенный зеленой краской [23] одномоторный самолет с номерными
знаками на фюзеляже и алыми звездами на плоскостях. Я впился в него глазами. Казалось, какая-то
могучая, непреодолимая сила приковала мои ноги к узкому тротуару.
Самолет обступили молодые парни, многие из них были, пожалуй, лишь на год-два старше меня. Они
слушали объяснения худощавого человека лет двадцати пяти в синем летном комбинезоне, видимо,
инструктора. Капот мотора на самолете был открыт, и инструктор, держа в руках указку,
демонстрировал курсантам какие-то патрубки на верхней части двигателя. Мотор состоял из множества
различных узлов и агрегатов, замысловатых деталей и выглядел таким внушительным и сложным, что я с
тревогой подумал о том, удастся ли мне когда-нибудь постичь его тайны, подчинить себе сердце
воздушной машины.
И вдруг сзади на мое плечо легла чья-то рука. От неожиданности я вздрогнул, оглянулся. Передо мной
стоял Павел Тимофеевич Пустовойт. Глаза его были серьезными.
— Из конторы я вышел в половине двенадцатого, как и обещал. Гляжу, а тебя нет, — укоризненно
покачал он головой. — Вот и назначай тебе после этого свидания. Хорошо, что я догадался, где тебя
искать.
Мы направились к вокзалу. Я молчал, чувствуя свою вину.
— Учись, Василий, быть человеком слова, — сказал Павел Тимофеевич. — И в большом, и в малом.
Коль уж договорено встретиться в половине двенадцатого, то, хоть дух вон, но в одиннадцать тридцать,
ни минутой позже будь в условленном месте.
Пустовойт посмотрел на свои карманные часы, голос его потеплел, и он заметил:
— Люблю увлеченных людей. У них всегда есть цель в жизни. Ты, как я погляжу, уже выбрал себе цель.
Раньше ли, позже ли, но летать, видно, будешь непременно. [24]
Остановились мы у длинного кирпичного дома, стоявшего неподалеку от железнодорожных путей. На
рельсах, формируя грузовой поезд, озабоченно пыхтел маневровый паровоз. Павел Тимофеевич постучал
в дверь одной из квартир.
Нам открыла молодая женщина с удивительно мягкими чертами лица. Платье на ней было
безукоризненно отглажено. Из-под ситцевой косынки выбивались пряди густых светлых волос. Вслед за
женщиной на крыльцо выбежал худощавый мальчик лет семи, в котором нетрудно было узнать сына
Пустовойта. Малыш радостно бросился на шею отцу.
Мы вошли в уютную квартиру, где подоконники были заставлены цветами.
Павел Тимофеевич познакомил меня со своей супругой:
— Клавдия Федоровна. Одним словом, тетя Клава. Потом Пустовойт представил меня и сыну Володе:
— Василий Васильевич Исаев. Прошу любить и жаловать.
Пока Павел Тимофеевич и Клавдия Федоровна приготавливали на кухне нехитрое угощенье, Вова успел
показать мне свои книжки и сказал о том, что отец купит ему к зиме двух чижей.
— Живых, — уточнил Вова. — Настоящих.
После обеда Павел Тимофеевич вернулся на работу, а Клавдия Федоровна понесла в сапожную
мастерскую ремонтировать разбитые Вовины сандалии. Я остался в доме Пустовойтов со своим новым
приятелем, который до возвращения матери успел поведать мне множество интересных вещей.
Прежде всего, я узнал, что в заросших ряской и камышами мелководных новоселовских озерцах
несметное множество сказочно крупных карасей. Как я понял из красочного Вовиного рассказа, они
только о том и мечтают, чтобы поскорее угодить на удочку. [25]
В соседнем дворе, оказалось, живет огромный, клыкастый рыжий пес Джульбарс. Прошлой осенью
Джульбарса несколько раз отправляли куда-то на хутора сторожить сады и бахчи, но уже на следующее
утро пес, как ни в чем не бывало, неизменно прибегал домой с обрывком толстой веревки на могучей
шее. Вова убеждал меня, что несмотря на свой грозный, устрашающий вид, пес доброго, кроткого нрава,
он в жизни своей ни на кого не лаял и каждого, кто бы ни вошел во двор, приветствует дружеским
помахиванием длинного хвоста.
Закончил Вова рассказ о Джульбарсе неожиданным вопросом:
— А что, шибко хитрое дело словить шпиона?
Я сказал, что затрудняюсь точно ответить на этот вопрос.
Вова был явно разочарован моим неопределенным ответом. Впрочем, тут же добавил:
— Собираюсь идти в пограничники.
Первые шаги в авиацию
В семью Пустовойтов я с первых дней вошел как полноправный член. Точнее говоря, я стал названным
сыном этих славных, сердечных людей и Вовкиным братом. Потеряв в раннем детстве родителей,
воспитанный бабушкой, в доме Пустовойтов я познал, что такое отцовская забота, материнская ласка.
Человек высокой культуры, кристально чистой, благородной души, Павел Тимофеевич был незаурядным
воспитателем. Мне было неполных семнадцать, и я находился в том самом мальчишеском, переломном
возрасте, который даже опытные педагоги называют «трудным». Уверенность в непогрешимости своих
незрелых [26] суждений, переоценка слишком малого собственного жизненного опыта, стремление
подражать порой тем, кому подражать не следует, пренебрежение к «прозаическим» профессиям, — все
эти «пороки», которые, увы, нередко сопутствуют юношеству, были свойственны и мне.
Я не помню случая, чтобы Павел Тимофеевич повысил на меня голос, сказал слово, способное уязвить
мое мальчишеское самолюбие. Пустовойт очень редко прибегал к отцовской власти надо мной, которую
я безоговорочно признал с самого начала нашего знакомства.
— Торговля, мой милый, — бывало, говаривал мне Павел Тимофеевич, — дело серьезное. Вот и гордись
тем, что тебе доверено заботиться о людях, обслуживать рабочего человека. Ноги у тебя крепкие,
молодые. Так что постоишь за прилавком.
Вопреки собственным ожиданиям я довольно быстро освоил премудрости торговли
продовольственными товарами, безошибочно подсчитывал выручку. Заведующий магазином Середа стал
поручать мне «делать кассу», то есть раскладывать покупюрно и подсчитывать деньги перед сдачей их
инкассатору. Впоследствии по инициативе Середы меня назначили его помощником.
По утрам Середа проводил «пятиминутку», объяснял мне, чем я должен заниматься в этот день, и уезжал
в ОРС или на базы, «выколачивать» дефицитные товары. В его отсутствие я следил за порядком в
торговом зале, принимал поступающее в магазин продовольствие, оформлял накладные и другие
документы, улаживал конфликты, возникавшие иной раз между покупателями и продавцами. К этому
надо добавить, что из-за постоянной нехватки работников мне приходилось совмещать функции
помощника заведующего магазином с обязанностями грузчика, продавца, экспедитора.
Занимаясь делом, далеким от авиации, я оставался верен своей мечте. Но пока в аэроклубе не было
вакантных [27] курсантских мест. По ночам мне снились самолеты, моторы, и, чтобы хоть частично
утолить свою любовь к технике, страсть к машинам, я поступил на вечерние курсы шоферов.
Сравнительно редкая в начале тридцатых годов профессия водителя автомобиля была одной из самых
почитаемых молодежью. И мне, очевидно, не было чуждо чувство тщеславия, потому что как только
меня зачислили на курсы, я отправился на шумную рыночную толкучку и купил у толстощекого,
краснолицего дядьки кожаные штаны.
В годы, о которых идет речь, в моду входила нарядная одежда. Парни стали носить пиджачные костюмы
из клетчатого трико и синего шевиота, девушки шили платья из появившихся в продаже шерстяных и
шелковых тканей. Но шоферы неизвестно почему были настроены в этом смысле консервативно. Они
по-прежнему отдавали предпочтение кожаным штанам, которые стали как бы формой,
свидетельствующей о принадлежности их владельцев к гордому водительскому племени.
В предвыходные дни мы вместе с товарищами, молодыми железнодорожниками Евгением Давыдовым и
Иваном Балашовым посещали летний кинотеатр. Находился он в одном из городских садов. Названия
просмотренных фильмов, их содержание давно выветрились из моей головы. Но и поныне я не забыл
почтительных взглядов девушек, украдкой поглядывавших на меня, совсем еще юного паренька в
кожаных штанах, который в компании своих друзей прогуливался по садовой аллее перед началом
киносеанса.
Дела на службе шли у меня неплохо. Я получал благодарности, премии, но торговле не суждено было
стать моей стихией. При первой же возможности я перешел на другую работу. Помог мне в этом опять
Павел Тимофеевич, откомандированный райкомом партии из ОРСа [28] на должность начальника
транспортно-экспедиционной конторы Южной железной дороги.
Доставляя фабрикам, заводам, различным организациям и учреждениям грузы, поступавшие на станцию
Харьков-Товарный, контора располагала несколькими десятками автомобилей, подъемными кранами,
складскими помещениями. Чтобы поддерживать в надлежащем состоянии все это хозяйство, постоянно
требовались запасные части для автомобилей, лес, гвозди и другие строительные материалы. Не устояв
перед моими слезными просьбами, Пустовойт принял меня на должность агента по снабжению. Но и
этим делом я занимался недолго: появившееся вскоре вакантное место дежурного диспетчера пришлось
мне более по душе.
Во время дежурств я выписывал наряды шоферам, принимал грузы, поступающие по железной дороге,
организовывал их выгрузку из вагонов, доставку получателям. Когда, случалось, заболевал кто-нибудь
из шоферов, я нередко садился за руль автомашины. Часы, проведенные в пропахшей бензином тесной
автомобильной кабине, приносили мне огромную радость.
Как-то вечером, за несколько дней до встречи Нового, 1937 года я поставил автомобиль в гараж,
выключил зажигание, сунул ключ в карман и, порядком уставший, направился в общежитие, где я теперь
жил.
В конце декабря установилась морозная погода. Термометр показывал пятнадцать градусов ниже нуля. С
затянутого тяжелыми тучами черного неба густо валил снег. Дети, соскучившиеся по настоящей зиме,
лепили в сквере огромную снежную бабу. На углу улицы торговали елками, я жадно вдохнул запах
свежей хвои, живо напомнивший мне сосновый бор вблизи родной деревни, где, бывало, мы с бабушкой
собирали рыжики и опенки.
Смахнув перчаткой снег с пальто и шапки, я вошел в комнату и вдруг увидел на тумбочке у моей кровати
[29] голубой конверт. Сердце мое забилось от волнения. Уже не первый месяц в железнодорожном
спортивном авиаклубе лежало мое заявление с просьбой принять меня курсантом. В конверте было
долгожданное извещение, предписывающее мне явиться в приемную комиссию.
Прием назначен на десять утра, но уже в половине девятого вместе с другими ребятами я сидел под
заветной дверью, держа в руках папку со служебной и комсомольской характеристиками.
По физике и математике в объеме средней школы я подготовлен неплохо. Кроме того, серьезное
преимущество перед другими претендентами на поступление в аэроклуб давали мне права шофера. И на
здоровье я не жаловался, но кто мог поручиться, что строгая медицинская комиссия не обнаружит в моем
организме каких-либо скрытых изъянов? К счастью, волновался я напрасно. Все четыре врача —
терапевт, хирург, окулист и невропатолог, посовещавшись недолго, подписали заключение о том, что я
годен к службе в авиации.
Занятия в аэроклубе начались сразу после Нового года. В честь этого радостного события я надел
выходной костюм. Павел Тимофеевич пожелал мне стать достойным защитником великой Родины,
напутствовал меня энергичным, мужским рукопожатием.
В приподнятом, праздничном настроении я переступил порог просторной аудитории, увешанной
красочными плакатами с изображениями силуэтов самолетов и их краткими тактико-техническими
данными.
Разглядывая плакаты, я не заметил, как в аудиторию вошел молодцеватый человек с выбритым до
синевы лицом и отличной выправкой. Это был командир аэроклуба Николай Николаевич Тарарака.
Курсанты дружно поднялись.
Поздоровавшись с нами, Тарарака негромко скомандовал:
— Вольно, товарищи. Садитесь. [30]
Мы сели и приготовились слушать.
— Вы все знаете, какое большое внимание уделяет Коммунистическая партия подготовке кадров для
боевой авиации, — сказал Николай Николаевич. — Наш аэроклуб — спортивное учреждение. Однако
лучшие из вас, наиболее способные станут со временем военными летчиками, парашютистами,
планеристами, техниками Военно-Воздушного Флота. Никогда не забывайте об этом.
В течение первых четырех месяцев мы занимались лишь в аэроклубе, ни разу не побывали на аэродроме.
Изучали материальную часть самолета, овладевали основами аэродинамики, теории полета, знакомились
с топографией и другими науками. Занятия проводились по вечерам, три раза в неделю. Но не проходило
дня, чтобы курсанты не наведались в аэроклуб, не осмотрели, не ощупали своими руками моторы и узлы
машин, которые в качестве наглядных пособий стояли на стендах в учебных классах.
К середине мая, к тому времени, когда меня в числе тридцати пяти курсантов направили на летную
практику в лагерь аэроклуба, я уже довольно сносно знал двухместный учебный биплан У-2.
Сконструированный Н. Н. Поликарповым, этот самолет предназначался для подготовки молодых летных
кадров, что однако не помешало ему снискать заслуженную славу подлинно универсальной машины.
Простой и безотказный в управлении, надежный в работе неутомимый воздушный труженик У-2,
переименованный впоследствии по фамилии его создателя в По-2, тридцать с лишним лет верой и
правдой прослужил в советской авиации.
Забегая вперед, скажу, что в годы Великой Отечественной войны я сражался с ненавистным врагом на
таких первоклассных по тому времени машинах, как «яки», «лагги», но и теперь, в семидесятые годы, в
век сверхзвуковой [31] авиации я с теплым чувством вспоминаю биплан По-2, на котором в далекие дни
учебы в железнодорожном аэроклубе осваивал основы летного мастерства.
Выдающийся советский авиаконструктор А. С. Яковлев в своей книге «Цель жизни» дал высокую оценку
этому самолету. Он писал, что по длительности производства и универсальности применения У-2 не
имел себе равных. Самолет перевозил грузы, охранял леса и поля от пожаров и сельскохозяйственных
вредителей, производил аэрофотосъемку, доставлял врачей к больным в самые отдаленные, совершенно
неприспособленные для посадки других самолетов, уголки нашей Родины.
В тяжелые для советского народа годы гитлеровского нашествия ночные бомбардировщики У-2ВС
наносили бомбовые удары и поражали пулеметным огнем живую силу и военную технику противника,
осуществляли ближнюю разведку, проникали во вражеский тыл, поддерживали надежную связь с
народными мстителями, действовавшими на временно оккупированной фашистами территории,
эвакуировали в расположение наших войск раненых партизан.
По признаниям самих же фашистов, от самолетов У-2ВС, вопреки их названию легкомоторных,
гитлеровцам приходилось совсем нелегко. Штурман гвардейского ночного бомбардировочного женского
авиаполка, оснащенного самолетами У-2ВС, Герой Советского Союза Лариса Николаевна Розанова
(Литвинова), вместе с которой я сражался впоследствии в составе 4-й воздушной армии с фашистскими
стервятниками, в своих воспоминаниях пишет: «Один военнопленный при допросе сказал: «Ночью я
стоял на посту у штаба батальона и видел работу русских ночных бомбардировщиков. Не было минуты,
чтобы над нами не висел самолет, который солдаты называли «пилильщиком нервов». [32]
Эти самолеты всю ночь сбрасывали небольшие бомбы, от налетов их мы не знали покоя». Для
фашистских солдат мы были «пилильщиками нервов». Советские же солдаты любовно называли нас
хозяйками ночного неба».
Но с того мирного весеннего дня 1937 года, когда я прибыл в лагерь аэроклуба, расположенный
невдалеке от западной окраины Харькова, у поселка Коротич, до моей первой встречи в священном
советском небе с фашистским «мессершмиттом», прошло немало времени.
***
В первый же день приезда в лагерь я вместе с другими курсантами занялся оборудованием палаточного
городка в степи, по соседству с учебным аэродромом. Вокруг летного поля, уходя к линии горизонта,
простирались посевы озимых хлебов, сочно зеленели всходы кукурузы, четко обозначившиеся на
черной, обработанной культиваторами влажной земле.
В лагере мы обосновывались надолго, и командир звена Сергей Петрович Москаленко, человек в равной
мере требовательный и к себе и к подчиненным, не только ревностно наблюдал за работой курсантов, но
и сам принимал в ней горячее участие, добиваясь, чтобы палаточный городок был предельно удобным,
благоустроенным, отвечал самым высоким требованиям. Появляясь то в одном, то в другом конце
лагеря, Москаленко с несколькими помощниками устанавливал столбы, чтобы протянуть электрические
провода к столовой и красному уголку, трамбовал и посыпал золотистым речным песком дорожки,
связывавшие воедино палаточный городок, аэродром и различные подсобные службы.
Мне и еще трем курсантам изрядно пришлось повозиться, прежде чем удалось установить
четырехместную палатку, разместить в ней койки, втиснуть между ними небольшой стол и набить сеном
матрацы и наперники. [33]
Закончив работу, мы с легким сердцем людей, образцово выполнивших задание, сели передохнуть,
вытащили из карманов папиросы и спички. Но закурить нам, однако, не пришлось. Неожиданно
появился вездесущий Москаленко. Губы его были плотно сжаты. Подойдя поближе, он неторопливо
оглядел палатку, ткнул крепким кулаком в ее податливую брезентовую стенку и в иронической улыбке
обнажил ослепительно белые зубы:
— Занятное сооружение! Теперь бы вам в зоопарк съездить.
Не понимая, что, собственно, имеет в виду Москалеко, я переспросил:
— В зоопарк?
— Совершенно верно.
— Зачем?
— За медведем, — с серьезным видом коротко объяснил Сергей Петрович. — Или не знаете, что
цыганский табор без медведя все равно, что невеста без фаты.
После многозначительной паузы он внес в вопрос полную ясность:
— Сразу и не смекнешь, что это такое: палатка, в которой собрались жить авиаторы, или цыганский
шатер, к тому же не первого разряда... Пойдет дождь, поплывете вместе со всем своим скарбом. Не
хватает силенок натянуть брезент? Надо, чтобы он звенел, как кожа на барабане!
Я взял в руки молоток.
— В таком направлении и действуй, — поддержал меня Москаленко. — Вобьешь колья поглубже,
брезент сам собой и натянется.
Вслед за Сергеем Петровичем мы забрались в палатку. Здесь он, осмотревшись, сменил гнев на милость:
— Матрацы потуже набивайте. Мягче спать будет. Сена можете не жалеть. Две арбы привезли. Всем
хватит. [34]
Только после того, как матрацы были туго набиты, Москаленко сказал «добро». Но перекур снова не
состоялся. Теперь уже командир взвода приказал нам привести в порядок спортивную площадку,
покрасить масляном краской навес над летней кухней, газетную витрину и «грибок» часового,
охранявшего учебные самолеты.
Приближалось обеденное время. Работа на свежем воздухе возбуждала аппетит. Всем хотелось есть.
Запахи рассольника, баранины с гречневой кашей, душистого ржаного хлеба приятно щекотали
обоняние, и когда была подана команда на обед, все дружно двинулись в столовую.
Обедали под звонкие голоса скворцов. Веселые желтоклювые птицы радостно щебетали у скворешен в
зарослях лоха, обрамлявших кукурузное поле.
После обеда Москаленко объявил нам, что занятий в этот день не будет. Командир звена предоставил
нам отдых, но строго-настрого запретил покидать лагерь. Впрочем, никто из нас и не собирался идти в
поселок. Все мы основательно устали, и каждый мечтал поскорее забраться под одеяло. Да и тучи,
затянувшие небо, ласточки, низко парящие над землей, предвещали ненастную погоду.
Несмотря на усталость, я написал письмо Павлу Тимофеевичу Пустовойту, потом прилег на койку и
тотчас заснул. Проспал я почти до ужина, разбудило меня девичье пение. Мелодия и слова «Катюши»
доносились со стороны поселка.
Потом песня смолкла, и меня привлек негромкий разговор товарищей по палатке. Говорил, собственно,
лишь один из них — плотный парень со вздернутым носом, густо усеянным мелкими, словно мак,
рыжими веснушками; двое остальных участников этой доверительной беседы с преувеличенным
вниманием слушали рассказчика, [35] подбадривая его поощрительными замечаниями.
— Действительно, история! Говори, Петя, что ты еще в поселке видел. Не томи душу.
— Поселок как поселок. А вот девчата, так это да! Нигде таких не встречал...
— Рассказывай, Петя, дальше. Не тяни резину.
— А что тут, братцы, рассказывать? Отпустила мне, к примеру, кладовщица сено и говорит: «Очень
прошу вас, уважаемый товарищ летчик, собственноручно расписаться в получении такового. Извините,
конечно, за беспокойство, но сделать ничего не могу. Такой заведен порядок». Поставил я, значит, на
бумаге свою подпись. Протягиваю кладовщице документ, а у самого аж дух захватило. И как только я
раньше не заметил: глаза, что блюдца, и цвет — морская волна!
— Везет же тебе, Петя. Говори, что потом было.
— Потом что было? Все было обыкновенно. «Будьте, — говорит, — добры, приходите после ужина на
железнодорожную платформу. Там у нас по вечерам вроде парк культуры и отдыха. Буду весьма
счастлива увидеть вас во внеурочное время. С детства уважаю интересных людей».
— Пойдешь?
— Пойти-то оно, дело, известно, нехитрое. Только вот Москаленко побаиваюсь. Поймает в самоволке, —
беды не оберешься. Из аэроклуба свободно отчислить могут. В общем, для начала пообещал написать до
востребования.
Петя был скромным, славным парнем, замечательным товарищем. Но была у него одна слабость: любил
при случае прихвастнуть своим даром покорять женские сердца. При этом Петя безбожно и неумело
фантазировал, и мы легко разоблачали небылицы, которые он тщетно пытался выдавать за правду. [36]
Так случилось и на этот раз. С невинным видом я спросил Петю, как зовут девушку с глазами цвета
морской волны, влюбившуюся в него с первого взгляда.
Не подозревая подвоха, он сказал:
— Галиной или Мариной. А может, и Надеждой. Точно не упомнил.
— Как же ты напишешь ей до востребования?
— Очень просто, — разобиделся Петя. — Возьму и напишу. Были бы карандаш и бумага.
Все дружно рассмеялись.
Петя поднялся.
— Вас не переговоришь. Навалились трое на одного!.. Надоело.
— На железнодорожную платформу пойдешь? К Галине-Марине-Надежде?
Петя смерил всех уничтожающим взглядом и с оскорбленным видом покинул палатку.
Характер у Пети был покладистый, не прошло и десяти минут, как он снова был в нашем тесном,
дружеском кругу.
С домовитостью, которой никто из нас в себе и не подозревал, мы застелили стол двумя новыми
вафельными полотенцами, поставили на него зеркало, аккуратно разложили книги и тетради, положили у
входа половичок, и наше полевое жилье приняло такой уютный, щеголеватый вид, что к нему не
придрался бы самый строгий армейский старшина.
Спать совершенно не хотелось. Где-то на западе, будто отблески далеких костров, вспыхивали зарницы.
Надоедливо моросил дождь.
Возвратившись после ужина в палатку, мы от нечего делать снова завели беседу. Уже давно прозвучал
отбой. О чем только мы не переговорили в эту теплую и тихую весеннюю ночь! О недавнем
первомайском воздушном параде в Москве, о новых поликарповских истребителях и туполевских
бомбардировщиках, о наших предстоящих [37] самостоятельных полетах, о прочитанных книгах и
просмотренных кинофильмах. И только о любви, о девушках не было сказано ни слова, потому что
никто не хотел обижать добряка Петю. Да и сам он старательно обходил эту злополучную для него тему.
В четыре часа утра прозвучал сигнал побудки. Лагерь пришел в движение.
Через несколько минут раздалась очередная команда:
Строиться на физзарядку!
За ночь распогодилось. В светлеющем небе медленно гасли звезды. Было прохладно и сыро. На траве
густо серебрилась роса.
Москаленко повел строй на площадку с гимнастическими снарядами.
Кто-то из курсантов запел:
Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц.
Все дружно подхватили песню.
Москаленко остановил строй у турника. В неглубокой яме под ним был насыпан песок.
— К снаряду! — скомандовал Сергей Петрович.
И тут выяснилось, что многие из нас не могут справиться с простейшими упражнениями.
Подстраховывая курсантов, Москаленко никого не стал журить, но чувствовали мы себя смущенно.
Четко печатая шаг, Сергей Петрович подошел к турнику, в легком прыжке обхватил перекладину
натренированными, мускулистыми руками и мастерски выполнил несколько сложных упражнений.
— Со временем все вы будете отлично работать на снарядах, — ободрил нас командир звена. — А пока с
сегодняшнего же вечера организуем дополнительные занятия по физподготовке.
На востоке заалела заря. Быстро светало. Из-за косогора показался первый солнечный луч, позолотил
[38] землю. На аэродроме начинался напряженный летный день. Мы издали наблюдали, как принимая
самолеты у техников, инструкторы неторопливо с ними переговаривались, не мешкая, «прогоняли»
моторы. Поднятый работающими винтами мощный воздушный поток шквальным ветром обрушился на
траву, живым ковром устилавшую летное поле, и она волновалась, словно зеленое море.
После завтрака Сергей Петрович распределил нас по самолетам, и я попал под начало инструктора Петра
Васильевича Седых. Вместе с ним мне предстояло в этот день впервые подняться в воздух. И хотя это
был лишь так называемый ознакомительный полет, в котором мне по существу отводилась скромная
роль пассажира, на душе было неспокойно. Как я поведу себя в воздухе? Не растеряюсь ли при взлете?
Какую реакцию вызовет во мне известное из рассказов бывалых людей неприятное и трудно
преодолимое новичками чувство, которое принято называть страхом перед высотой — воздухобоязнью.
Между тем инструктор приказал мне занять место в задней кабине самолета По-2, привязаться ремнями.
Сам же он сел за штурвал, стал запекать мотор. Вырулив машину на старт, летчик прибавил газу. Мотор
уверенно набирал обороты. Самолет задрожал, завибрировал всем своим телом. С непривычки мне
показалось, что трясется сама земля. Невольно вспомнив, что наш биплан сделан не из бог весть каких
прочных материалов, я до боли в пальцах вцепился руками в борта кабины.
Седых дал полный газ. Поглотив все окружающие звуки, пуще прежнего взревел мотор. Машина
рванулась с места. В тонких расчалках упруго засвистел свежий ветер, ударил в лицо, и самолет,
подпрыгивая на неровностях почвы, понесся по зеленому полю аэродрома. Машина бежала все быстрее.
Толчки снизу стали [39] резче, но вдруг они сразу прекратились, словно самолет взлетел не с суши, а с
воды.
Кабина мягко закачалась с борта на борт, будто лодка на легкой волне. Я посмотрел вниз, и перед моими
глазами предстала земля, быстро уходящая из-под крыла машины. По мере того, как самолет набирал
высоту, шире становилась панорама полей, разбитых на аккуратные прямоугольники. В степи работали
тракторы. Из кабины самолета они казались игрушечными, как и все то, что теперь медленно, как бы
нехотя, проплывало под нами. Порой было похоже, что мы совершенно неподвижны, и если бы не
показания прибора в передней кабине, свидетельствующие о том, что машина движется со скоростью сто
километров в час, можно было подумать, что самолет висит в небе, словно впаянный в его прозрачную
светло-голубую глубину.
Стрелка продолжала ползти вправо по шкале: сто десять километров... сто двадцать... сто тридцать... А
мы, казалось, движемся по небу не быстрее черепахи. Не испытывая напряжения, знакомого каждому,
кому приходилось с ветерком ездить на автомобиле, я даже усомнился в исправности прибора. В
самолете было совсем нестрашно, мысленно я уже посмеивался над своими недавними волнениями.
Но то, что произошло в течение последовавших нескольких минут, мгновенно вывело меня из состояния
беспечности. Небо и земля, принявшая странную выпуклую форму, вдруг поменялись местами. Меня
резко бросило вниз, прижало к стенке кабины, привязные ремни впились в плечи. Степь, леса, сады,
постройки, которые лишь несколько мгновений назад лежали под крылом самолета, неожиданно
очутились над моей отяжелевшей головой. Заложило уши, я почувствовал в них тупую боль.
Признаться, я порядком струсил, но отраженное в зеркале спокойное, сосредоточенное лицо инструктора
[40] Седых говорило о том, что на борту машины все обстоит благополучно, и это поддержало мой было
окончательно упавший дух. А когда Седых вывел самолет в спокойный горизонтальный полет, я
сообразил, что это была петля Нестерова.
Едва я отдышался и немного пришел в себя, как инструктор прибавил скорость, набрал высоту и
принялся выполнять очередные головокружительные эволюции. Я смутно представлял, какие именно это
были фигуры, ибо все свое мужество, волю мне пришлось мобилизовать на то, чтобы выдержать
нелегкое испытание физических и духовных сил в этом первом ознакомительном полете.
Когда самолет, коснувшись колесами аэродромного поля и погасив скорость, остановился наконец у
посадочного знака, я отвязал ремни, с трудом вылез из кабины. Земная твердь казалась зыбкой и
ненадежной. Ноги мои ступали неуверенно, будто у годовалого ребенка. Меня покачивало из стороны в
сторону, к горлу подступала противная тошнота, и чувствовал я себя так, словно только что сошел с
парохода, угодившего в долгий, жестокий шторм.
В таком виде я и предстал перед своими друзьями Александром Сукачевым и Василием Белецким. Из
ознакомительного полета Саша и Вася возвратились несколько раньше, и теперь, наслаждаясь покоем,
лежали в густой траве за чертой летного поля.
Летный день был в разгаре. В воздухе неумолчно гудели машины, и, кажется, я впервые на своем веку
нисколько не завидовал тем, кто в небе.
— На тебе лица нет, — сочувственно посмотрел на меня Саша. — Зеленый, как недозревший лимон.
Если сказать правду, то и мы с Василием чувствуем себя неважно. До того, знаешь, укачало, что
свалились. Располагайся рядом. [41]
Рассудительный Вася Белецкий добавил:
— Нам-то с тобой, Сукачев, пришлось куда легче, чем Исаеву. Вдвоем шли с аэродрома, друг на друга
опирались. А за что, скажи, Исаеву было держаться? За воздух?
Все невольно улыбнулись неожиданной шутке.
Трудным было для меня и моих друзей первое знакомство с небом. Помню, я тогда чистосердечно
признался:
— Не знаю, ребята, как дальше будет, но пока что на земле мне куда уютнее, чем в воздухе.
Экзамен в воздухе
С первого же полета я проникся большим уважением к инструктору Седых. Это был способный, хорошо
подготовленный летчик, волевой и мужественный человек. Спокойный, собранный, уравновешенный,
Петр Васильевич не терял самообладания в самых острых ситуациях. За годы службы в авиации он не
знал ни одного летного происшествия, ни одной аварии.
У командования аэроклуба, не говоря уже о нас, курсантах, Петр Васильевич пользовался
непререкаемым авторитетом. Бывалые летчики отзывались о нем как об отличном специалисте, дельном
наставнике авиационной молодежи, умеющем безошибочно предугадывать летную судьбу
воспитанников. Именно Седых уже после первого полета заверил меня в том, что через месяц-полтора я
настолько освоюсь в воздухе, что буду чувствовать себя в самолете так же уверенно, как на земле.
Признаюсь, я не особенно в это поверил.
Однако события ближайшего будущего показали, что в словах Петра Васильевича не было
преувеличения. [42]
В этом я убедился даже несколько раньше, чем обещал Седых.
Ценой упорного труда, напряженной учебой добивались курсанты победы над воздухобоязнью,
приобретали под руководством инструкторов первые практические навыки самостоятельного управления
самолетом.
Страна укрепляла свои вооруженные силы, Военно-Воздушному Флоту требовались многочисленные
молодые кадры, и обучение их в аэроклубах велось по ускоренной программе. Вполне понятно, что
делалось это не в ущерб качеству подготовки летчиков, а за счет повышенной учебной нагрузки.
Весна была на исходе. Май укорачивал ночи. С каждым днем все раньше светало, и поднимать нас стали
в три часа утра. Занимались мы до восьми-девяти часов вечера с короткими перерывами на завтрак, ужин
и непродолжительным отдыхом в послеобеденное время.
А ведь надо было еще выкроить часы для того, чтобы почитать газету и книгу, посмотреть кинофильм,
не опоздать на концерт самодеятельного хора, выступавшего в субботние вечера на сцене поселкового
клуба. Мы были молоды, на все находили время, хотя и несладко было по утрам, когда раздавался
неумолимый сигнал горниста, вскакивать с койки и, на ходу одеваясь, полусонными бежать в строй.
Впрочем, физзарядка, умывание по пояс холодной водой быстро и бесследно разгоняли дрему, вливали
бодрость в наши тела. После завтрака, полные сил и энергии, мы спешили к самолетам.
За плечами у меня было уже несколько часов, проведенных в воздухе. Все увереннее, спокойнее
чувствовал я себя в голубых просторах неба. И хотя самолет наш был построен из дерева и обтянут
перкалем, опыт совместных полетов с инструктором убеждал меня в том, что на По-2 можно смело
положиться — умелого авиатора он не подведет. [43]
Я жадно ловил каждое слово Седых, прислушивался к его советам и наставлениям, упорно осваивая
практические навыки самолетовождения. Помню, как Седых впервые предложил мне поменяться с ним
кабинами. Это было так неожиданно, что мне показалось, будто я ослышался. Однако Седых не стал
занимать своего привычного места в самолете, кивком головы показал мне на первую кабину.
Инструктор завел мотор, вырулил наш По-2 на старт, прибавил обороты винта, взял на себя ручку.
Легко оторвавшись от земли, самолет взмыл в небо. Когда высота достигла двухсот метров, инструктор
перевел машину в горизонтальный полет, передал мне управление. Петр Васильевич зорко следит за
каждым моим движением. Пусть управление дублировано, но сейчас мои руки лежат на штурвале и
рычаге управления мотором, а ноги ощущают под собой педали.
Корректировать меня инструктору приходится часто, хотя в кабине я сижу с видом бывалого авиатора.
Но машину не обманешь, она упорствует, словно строптивый конь, не желает признавать мою власть над
собой. Вот выровненный инструктором самолет послушно и плавно идет по прямой. Но достаточно
Седых покачать ручкой управления, сделать мне условленный знак: принимай, мол, пилотирование на
себя, и машина, которая за секунду до этого летела точно по горизонтали, выходит из повиновения,
устремляется вверх или вниз.
Терпеливый Седых еще раз выравнивает самолет, снова передает мне управление. Я внимательно слежу
за горизонтом. Кажется, дело идет успешнее. Машина движется по прямой. Меня это бесконечно радует.
Я вступаю в разговор с самолетом, словно с живым, непокорным существом: «Погоди, теперь не долго
ждать, когда я окончательно тебя обуздаю!»
Мы уже сорок минут в воздухе. Мое время подходит к концу. Пора уступить кабину очередному
курсанту. [44]
Скользнув глазами по циферблату часов, Петр Васильевич приказывает мне оставить управление.
Скрепя сердце, я выполняю приказ инструктора. Теперь полеты будут каждый день и это меня утешает.
Машина опускает нос, разворачивается, идет на посадку. Быстро приближается земля. Расположенные
вокруг аэродрома поля, сады, постройки, придорожные деревья стремительно крупнеют, приобретая
свои истинные размеры. Едва ощутимый толчок, и приземлившийся самолет, сбавляя посадочную
скорость, катится по травяному полю аэродрома.
День за днем отрабатываются различные элементы техники пилотирования. Я уже самостоятельно
поднимаю самолет в воздух, набираю заданную высоту, перехожу в горизонтальный полет, иду по кругу,
произвожу всевозможные развороты. Инструктор все реже вмешивается в управление машиной. Попрежнему плохо дается мне только приземление. Аэродромное поле велико, но машину нужно посадить
не где придется, а в строго определенном месте у специального знака, выложенного наподобие буквы
«Т». Для новичка это сложная задача. Решение ее требует от авиатора умения «чувствовать» самолет,
особой интуиции. Сколько раз, бывало, я веду машину к полосе приземления, уверенный в том, что учел
все расчетные данные: высоту и скорость полета, угол снижения, обороты мотора, силу и направление
ветра, и снова посадочный знак остается далеко позади самолета. Петр Васильевич реагирует на это
спокойно, приказывает мне начать все сначала. Я поднимаю машину в воздух, повторяю неудавшееся
упражнение. Наконец самолет приземляется вблизи посадочного знака, и я слышу ободряющий голос
инструктора:
— Получилось неплохо. А завтра постараемся, чтобы было еще лучше. [45]
Настроение у меня отличное. Сегодня суббота, занятия заканчиваются на два часа раньше обычного.
Саша Сукачев и Вася Белецкий старательно подшивают свежие подворотнички к своим зеленым
осоавиахимовским гимнастеркам, надраивают ботинки. Я следую их примеру.
Чисто выбритые, пахнущие цветочным одеколоном, мы торопимся в поселковый клуб. Но нас ждет
разочарование. На дверях клуба висит тяжелый амбарный замок. Наскоро написанное объявление
извещает посетителей о том, что хор, шефствующий над недалеким совхозом, в полном составе убыл на
прополку кукурузы, в связи с чем назначенный на сегодня концерт отменяется.
В раздумье мы переминаемся с ноги на ногу, не зная, как и где провести вечер. Возвращаться в лагерь в
душную палатку не хочется.
В Васиной голове возникает спасительная идея:
— Вот что, ребята. Не пойти ли нам на железнодорожную платформу? Хоть пива по кружке выпьем в
буфете.
Пива в буфете не оказалось. Вместо него нам предложили теплый квас. К перрону подкатил дачный
поезд, и мы направились к вагонам, хотя встречать нам было некого.
Поезд простоял на станции не дольше минуты. Прибывшие из города пассажиры быстро покинули
перрон. Однако платформа не опустела. По асфальту прогуливалась молодежь. Говорливыми стайками
ходили застенчивые девчата.
На перроне вдруг появился белозубый вихрастый парень в лихо заломленной фуражке, футболке,
широченных брюках матросского покроя и тупоносых полуботинках.
— Внимание! — подняв руку, властно скомандовал парень, и его натренированный, зычный голос не
оставлял [46] сомнений в том, что к молодежи взывает бывалый клубный работник. — Срывать план
мероприятий я не намерен. В районе за это не похвалят. Вместо концерта проведем вечер танцев под
баян. И никаких разговоров. Быстро в клуб. Все, как один. Будем отрабатывать вальс и польку.
Молодежь последовала призыву массовика.
— Приступаем к первому танцу! — массовик снял фуражку, взял в руки баян с блестящими
перламутровыми клавишами и заиграл вальс.
В танцах в ту пору я был не силен, едва отличал краковяк от танго, и мне не оставалось ничего другого,
как скромно присесть на скамью у окна, на другом конце которой расположились симпатичные
подружки. Моей соседкой оказалась улыбчивая черноволосая девушка, тихо подпевавшая под баян. Не
могу сказать, что мое общество пришлось ей по вкусу, потому что она перестала напевать и улыбаться,
смерила меня неодобрительным взглядом и теснее придвинулась к своей подруге.
Я же тем временем с напускным интересом изучал вывешенный на стене плакат, призывавший
население сдавать потребительской кооперации кроличьи шкурки, и мучительно думал о том, как
завести разговор с черноволосой незнакомкой. Ничего оригинального, однако, я не придумал, и поэтому
начало моей беседы с девушкой носило довольно сухой, официальный характер:
— Скажите, пожалуйста, как вас зовут.
— Вас интересует мое имя? — посмеиваясь, спросила она. — Или сообщить вам заодно и фамилию.
— На первый случай, просил бы назвать имя.
— Нина, — сверкнула она в улыбке ровными зубами. — Хорошее имя?
Я ответил утвердительно и, чтобы поддержать разговор, задал очередной вопрос:
— Должно быть, вы работаете? [47]
— Работаю.
— А кем?
Сквозь смех она сказала:
— У вас в аэроклубе штат не укомплектован? Подыскиваете рабочую силу?
— Вы не совсем правильно меня поняли. Я не вербовщик. Просто хочется с вами познакомиться. Буду
рад, если вы не против.
Нина сочувственно вздохнула:
— Поздно.
— Почему поздно? Ведь нет и девяти.
— Я не о времени.
— А о чем, позвольте поинтересоваться?
— О том, что я замужем.
Обратившись к подругам, она дала мне понять, что разговор окончен.
— Пора, пора, девочки. Идемте.
На прощанье я пожелал Нине доброй ночи и счастья в семейной жизни.
***
В понедельник, как и обычно в будние дни, мы с раннего утра поспешили на аэродром. Ночь была
прохладной, и мотор нашей машины основательно остыл. После того, как Петр Васильевич принял ее у
техника, мы вдвоем запустили и прогрели двигатель, проверили его в работе.
Пора надевать парашюты, занимать места в кабинах, выруливать самолет к старту. В это время к нам
подошел Москаленко.
— Как дела, Исаев? — поинтересовался командир звена. — Готов к самостоятельному полету?
За меня ответил Седых:
— Считаю, что готов. Но не стоит спешить. Еще два-три дня потренируемся вместе.
— Не поспеваете за жизнью, — лукаво усмехнулся Москаленко. — В других учебных группах курсанты
[48] вторую неделю летают самостоятельно. Обходят тебя, Петр Васильевич, братья-инструкторы!
— И пусть обходят. В таком деле я предпочитаю не спешить.
— Да я тебя и не тороплю. Старая истина, что за риск, поспешность да верхоглядство небо не милует.
Обращаясь ко мне, Сергей Петрович сделал внушительное лицо:
— Седых по всем правилам готовит тебя к летной жизни. Так что и ты Петра Васильевича не подводи.
Учти, что экзаменовать буду строго, без всяких поблажек. Но, в общем, не робей. Желаю удачи.
Отлетал я в этот день, как никогда, исправно. Седых был мною доволен. Когда я покидал кабину, этот
нещедрый на похвалы человек сказал:
— В нашем полку, Исаев, прибывает. Можешь считать себя без пяти минут летчиком.
Но странное дело, я уже был близок к осуществлению заветной цели, своей давнишней мечты, а вот
подъема особого не чувствовал. На душе было тоскливо, неопокойно, и, что бы я ни делал в этот
напряженный учебный день, мои мысли были о стройной, черноволосой девушке, с которой я
познакомился в поселковом клубе.
С сожалением думал о том, что не знаю ни фамилии ее, ни адреса. Впрочем, какое это имело значение,
если она замужем и сердце ее, как писали в старых сентиментальных романах, принадлежит другому.
Знакомство с Ниной оттеснило на второй план все, что прежде меня волновало, радовало, чему я отдава\
всего себя без остатка. Даже предстоявший первый самостоятельный полет, который входит в жизнь
каждого авиатора как большое, торжественное событие, я не ожидал с таким нетерпением, как раньше.
Вечером мне мучительно захотелось повидать девушку. Я чистосердечно сказал об этом Васе Белецкому,
[49] но утаил от него, что она замужем. Иначе я не встретил бы взаимопонимания с Васиной стороны,
поскольку он был человеком строгих правил. Идея моя и без того поставила его в тупик, увольнение
курсантов накануне полетов строго запрещалось. Даже сам Москаленко не мог отступить от приказа
командира аэроклуба. Надеяться на то, что меня выпустит из лагеря часовой, тем более не приходилось.
Не зная, что мне посоветовать, Вася озабоченно морщил лоб. Он смотрел то на меня, то на обширное
поле подсолнечника, подступавшее почти вплотную к нашим палаткам. Стояли теплые, тихие дни,
недостатка в дождях не было, и влаголюбивый подсолнечник поднимался, как на дрожжах. Высота его
достигала человеческого роста.
— Любовь требует жертв, — заключил наконец Вася, глядя на толстые, сочные стебли, начавшие
выбрасывать корзинки. — Я убежден, что тебе не обязателен «парадный ход». Ступай через подсолнухи.
Если напорешься на Седых или на самого Москаленко, объяснишь, что отрабатывал, мол, на практике
способы маскировки войск в поле. Все-таки уважительная причина!
Затем Вася предостерегающе поднял указательный палец. Последовавший вслед за этим выразительным
жестом еще один совет свидетельствовал о том, что при всех прочих своих достоинствах Вася не лишен
также чувства осмотрительности:
— Только не увлекайся. Будешь идти по подсолнуху, — не спеши, чтобы он не волновался, не шумел
листьями. Иначе грош цена всей твоей маскировке. Одним словом, тезка, действуй по всем правилам
военно-тактической науки. Ни пуха тебе ни пера!
Я принял к сведению Васины наставления; никем не замеченный, скользнул в подсолнечник и, разводя
руками упругие стебли, больно хлеставшие меня по лицу огромными шершавыми листьями, добрался до
железнодорожной [50] линии. Дальнейший мой путь лежал по обочине полотна. Обычные смертные, в
том числе и наше аэроклубовское начальство, предпочитали передвигаться по удобной пешеходной
дороге, и разоблачение в стороне от хоженых троп мне не угрожало. Я смело зашагал вдоль шпал к
станционной платформе, питая слабую надежду на то, что, быть может, случайно встречу Нину на
перроне.
Но платформа была безлюдна, если не считать редких пассажиров, дожидавшихся поезда на Харьков.
Я вспомнил, что в клубе в этот вечер шел цветной кинофильм «Соловей-Соловушка». Какая девушка не
воспользуется возможностью посмотреть новую картину, тем более, что в те годы цветные фильмы лишь
начали появляться на экранах, и я во весь дух помчался к клубу. Поспел как раз к окончанию сеанса.
Двери кинозала распахнулись, на улицу хлынули принаряженные хлопцы и девчата. Я стоял у фонаря и
внимательно вглядывался в пеструю толпу. Из-за слабого напряжения в сети лампочка едва светила, и
Нину я не увидел, а услышал. Она о чем-то говорила с подругами, я узнал ее голос.
Выдерживая почтительный интервал, я зашагал вслед за девушками. На одном из перекрестков они
остановились попрощаться. Нина свернула в переулок. Я догнал ее у калитки маленького домика,
который утопал в саду, огороженном с улицы невысоким забором.
Я тихо ее окликнул. Она остановилась. Очевидно, и Нина узнала мой голос, потому что в тусклом свете
луны, выплывшей из-за облаков, я увидел ее улыбку.
— Здравствуйте, — сказала она и подала мне руку. — Я здесь живу.
С ревнивым чувством я подумал о Нинином муже, но она приветливо пригласила меня в дом.
Сославшись на поздний час, я мягко отклонил ее приглашение. [51]
— Как знаете, — пожала она плечами. — Вы не очень торопитесь? Я на минутку забегу домой. А потом,
если хотите, немного погуляем.
Я был озадачен.
Нина вела себя со мной как со старым добрым знакомым. Сначала мы бродили по улице, вдыхая запах
матиолы, потом пришли на железнодорожную платформу. Сами собой находились темы для разговора: и
Нина и я чувствовали себя непринужденно; со стороны могло показаться, что мы и в самом деле давно
знакомы, хорошо знаем друг друга.
Недавняя выпускница медицинского училища, Нина работала старшей медицинской сестрой в одной из
харьковских больниц.
Последний пригородный поезд, проследовавший мимо нас из Харькова в Люботин, заставил меня
вспомнить о том, что уже двенадцатый час ночи. Об этом же подумала и Нина, она всплеснула руками и
заторопилась домой.
Прощаясь с Ниной, я что-то невнятно пробормотал о ее муже. Она взглянула на меня удивленными
глазами и, сообразив наконец, в чем дело, сквозь смех сказала:
— Я не замужем. И не собираюсь замуж.
Я почувствовал себя на седьмом небе.
Пока я, отбиваясь от собак, петлял по незнакомым улицам и переулкам, а затем по железнодорожной
насыпи и подсолнухам добирался до палаточного городка, прошло больше часа. Палатка была объята
глубоким сном. На столе, накрытый эмалированной миской, стоял заботливо припасенный для меня
ужин. Есть не хотелось. Я быстро разделся, натянул на себя байковое одеяло. Мысли о Нине отгоняли
сон, и я долго ворочался с боку на бок.
Едва я задремал, как услышал сигнал подъема... и тут же снова заснул. Растолкал меня Вася. С большим
[52] усилием я поднял с подушки несвежую, словно чугунную голову, долго одевался и, конечно,
опоздал к построению.
Я попросил у Москаленко разрешения занять место в строю.
— Становитесь, — сухо сказал Сергей Петрович. — Почему опаздываете?
— Проспал.
— Быстро в столовую. Вам летать сегодня первым.
Ситуация складывалась сложная, но я промолчал. В столовой я залпом осушил стакан какао, сунул в
карман кусок хлеба с маслом и поспешил к самолету.
К счастью, все обошлось благополучно. Я удачно выполнил программу полета — мелкие и глубокие
виражи, иммельманы, ранверсманы, развороты, штопор, петлю Нестерова.
Когда я посадил машину, Москаленко, с земли наблюдавший за полетом, пожал мне руку. Казалось,
утренний инцидент с командиром звена исчерпан, и я успокоился, считая, что это уже дело прошлого.
Случилось однако иначе.
Пригрело солнце, и мне мучительно захотелось спать. Рядом уютно кудрявилась густая трава, и я не
устоял против соблазна прилечь. Не успел опуститься на землю, как уснул. Разбудил меня Москаленко.
По всем правилам устава он поставил меня по команде «смирно».
— Где вы были ночью, Исаев? Почему не спали?
Я не стал отпираться — провести Москаленко не удавалось даже самым изобретательным курсантам.
— Ходил на свидание с девушкой.
— Ясно, — отрезал Москаленко. — За признание — половина наказания. А наказание таково: будете вне
очереди драить самолеты. Четыре часа на сон. После отдыха приступайте к делу. [53]
Перед моим самостоятельным полетом вся эта неприятная история была особенно некстати, тем более,
что проверять меня должен был не кто иной, как сам Москаленко.
Командир звена был умным, покладистым человеком. Уравновешенный, спокойный, умеющий заглянуть
в душу курсанта, он считал, что людям, тем более молодым, можно и должно прощать ошибки,
опрометчивые поступки, связанные с отсутствием житейской мудрости, которая, как известно, приходит
лишь с годами.
Рабочий день Москаленко был до отказа заполнен неотложными делами, но он находил время, чтобы
потолковать с курсантом, поинтересоваться, как живет его семья, и, бывало, мягко, по-отечески
пожурить парня за то, что он давно не пишет родителям.
Своей первейшей обязанностью Сергей Петрович считал заботу о курсантах, их быте, питании. Когда на
огородах стали поспевать первые овощи, он добровольно принял на себя функции не предусмотренного
скупыми аэроклубовскими штатами начальника продовольственной части, связался с дирекцией совхоза,
и наш стол украсили салаты из редиски, зеленого лука и ранних огурцов. Ежедневно Москаленко
приходил в курсантскую столовую, интересовался, вкусно ли приготовлена пища, достаточно ли она
разнообразна. Если случалось, что мы не до дна опорожняли свои миски и котелки, то повар знал: не
миновать ему серьезного разговора с Сергеем Петровичем.
Чуткий и снисходительный к людям, Москаленко был беспощаден к нарушителям дисциплины.
Исполнительный до педантизма, в отступлении от требований дисциплины он видел благодатную почву
для всяческих бед и неприятностей. Распекая иных курсантов, которые недостаточно прочно усваивали
теорию, отставали в летной практике, командир звена утверждал, что виной всему их расхлябанность,
нерадивость. Возражать [54] ему в этом было совершенно бесполезно, и я не сомневался в том, что без
крупных неприятностей мой предстоящий экзамен не обойдется. Ведь на моем примере Москаленко мог
лишний раз проиллюстрировать свое категорическое утверждение о том, что недисциплинированный
курсант никогда не станет мало-мальски приличным летчиком. Одним словом, нетрудно представить мое
душевное состояние, когда настал «судный» день или, точнее говоря, «судное» утро и место в
инструкторской кабине моего самолета занял Сергей Петрович Москаленко.
Я застегнул привязные ремни, доложил командиру звена о готовности к полету. Москаленко глазами
приказал мне запускать мотор, выруливать на старт.
Самолет уверенно побежал по взлетной полосе, плавно оторвался от земли, и я стал набирать высоту.
Москаленко сидел в кабине с безучастным видом. Со стороны могло показаться, что ему нет до меня
никакого дела. Тем временем машина достигла заданной высоты, я выровнял ее, и она, не «клюнув»
носом, продолжала полет по геометрически точной прямой.
Я почувствовал себя спокойней. Хотелось извиниться перед Москаленко за то, что я мог заподозрить его
в предвзятом к себе отношении.
В зеркале я увидел оживившееся лицо Сергея Петровича, его поощрительную улыбку. Мы были в центре
пилотажной зоны. Я убрал газ, установил нужную скорость. Одна за другой следовали команды
командира звена. Я выполнял боевые развороты, глубокие виражи, затем по очередной вводной
Москаленко стал выбирать место для «вынужденной» посадки. Над ровным, будто поверхность стола,
небольшим участком парового поля пошел на снижение. Колеса машины были готовы коснуться
поверхности земли, но в этот момент, приняв на себя управление мотором, командир звена приказал
продолжать полет над полем. Мы шли над ним так низко, [55] что случись под самолетом рожь или
пшеница, и нежные стебли были бы сбиты колесами машины.
Москаленко, видимо, был удовлетворен моей летной работой, и я услышал команду набрать высоту,
взять курс к аэродрому. Вскоре под крылом машины показался знакомый поселок. Я точно зашел на
посадку, привычным движением сбросил газ. Приземлившись, самолет, словно по заказу, остановился у
знака «Т».
Анализируя мой полет, скрупулезно разбирая его по отдельным элементам, командир звена указал мне
на некоторые погрешности, но в общем за технику пилотирования я получил отличную оценку.
В виде поощрения за успешную учебу Москаленко отпустил меня в увольнение.
Вечером в тот день я впервые побывал в Нинином доме, познакомился с ее отцом Данилой Антоновичем
и матерью Зинаидой Серапионовной. Это были добрые, гостеприимные люди. Пока я пил ароматный чай
со свежим клубничным вареньем, Данила Антонович с гордостью рассказывал мне о строительстве
новых красивых корпусов в местном доме отдыха, где он работал бухгалтером, о коротичанских садах, о
благоустройстве поселка.
Потом Данила Антонович сказал:
— Хорошеет наша жизнь... — Он о чем-то задумался и глубоко вздохнул: — Только бы не было войны.
Спустя две недели я сделал Нине предложение. Через три месяца мы отпраздновали нашу скромную
свадьбу. [56]
Военное училище летчиков
В ночь на 1 сентября 1939 года фашистская Германия без объявления войны напала на Польшу.
Развязанная фашистскими агрессорами вторая мировая война подступала все ближе к рубежам нашей
Родины.
В это утро я пораньше вышел из дому. В кармане у меня лежала повестка из военкомата. Несмотря на
ранний час, политые улицы дышали влажным зноем. В чистом небе по-летнему сияло солнце. И только
серебристая паутина в прозрачном воздухе да обилие даров земли в витринах овощных магазинов и
киосках говорили о наступлении щедрой украинской осени.
Город имел обычный деловой и будничный вид, но лица людей попадавшихся мне навстречу в это
первое сентябрьское утро, казались по-особенному сосредоточенными и серьезными. И только
школьники младших классов, которые после летних каникул с букетами цветов спешили на уроки, как
всегда, весело болтали и смеялись, им не было дела до тревожных событий, происходивших в мире.
Призывную комиссию я проходил вместе со своими друзьями Сашей Сукачевым, Васей Белецким и
Петей Васильевым.
— В каких войсках желаете служить? — после медицинского освидетельствования спросил нас военком
и, просматривая наши документы, сам же ответил: — Ясное дело, в авиации.
Нам оставалось лишь уточнить, что мы мечтаем об истребительной авиации.
— Хорошо, — сказал военком, — постараемся учесть вашу просьбу.
Меня беспокоил неопределенный ответ военкома, и я все дни томился тревожным ожиданием. [57]
С того времени, когда я проходил призывную комиссию, до отправки в воинскую часть минуло без
малого три недели. Работу я не оставлял до последнего дня, и только накануне отъезда из Харькова
получил расчет, наголо остригся, купил новую бритву, забежал на почту за марками и конвертами.
Зинаида Серапионовна и Нина всю ночь хлопотали у плиты, но зато они нагрузили мой чемодан таким
количеством аппетитной снеди, что ее вполне бы хватило на кругосветное путешествие.
В военкомате нас четверых принимал угрюмый, неразговорчивый старший лейтенант. На наши вопросы:
куда мы едем, в каких войсках будем служить, он отвечал в равной мере кратко и непонятно или вообще
не отвечал. Впрочем, в подробных разъяснениях старшего лейтенанта мы не нуждались — все было
сказано его голубыми петлицами с летными эмблемами.
Сидя на штабеле сосновых досок, сложенных в военкоматовском дворе, и с нетерпением ожидая, когда
мы под командой старшего лейтенанта направимся на вокзал, чтобы следовать в авиационный полк, я
уже видел себя в кабине новенького краснозвездного истребителя.
На вокзале мы погрузились в оборудованные нарами четырехосные вагоны. Офицеры, сопровождавшие
новобранцев, пересчитали личный состав своих команд и поезд тронулся на север.
Эшелон двигался по той самой дороге, по которой несколько лет назад я добирался из родного
Хатмыжеска в Харьков, но теперь вокзалы и железнодорожные платформы проносились перед моими
глазами в противоположном направлении.
На третьи сутки, к вечеру наша сравнительно немногочисленная команда высадилась в Старой Руссе. В
отличие от Украины в здешних краях уже чувствовалось дыхание поздней осени. [58]
Старший лейтенант в двадцатый раз за дорогу построил и стал вызывать по списку своих подопечных.
Никто не отстал в пути, личный состав команды был на месте, и мы зашагали по направлению к
казармам. Молчаливый старший лейтенант неожиданно заговорил. Он объявил нам, что мы будем
служить на авиабазе. Новичок в армии, я не знал значения этого слова. Мне представилось, что речь идет
о крупном авиационном соединении, располагающем всеми видами боевых самолетов.
Догадки мои однако не оправдались. Авиабазы, переименованные впоследствии в БАО (батальоны
аэродромного обслуживания) несли вспомогательную службу при авиационных частях. И наша 21-я
авиабаза Ленинградского военного округа не являлась исключением. Ее сравнительно
немногочисленный личный состав заправлял самолеты горючим, обеспечивал их смазочными
материалами и боеприпасами, запасными частями, проводил различные ремонтные работы, охранял
аэродром и склады.
Но прежде чем заняться всеми этими «земными» делами, прибывшее в часть пополнение в течение двух
месяцев проходило курс молодого бойца. Мы штудировали воинские уставы и наставления, изучали
стрелковое оружие, овладевали приемами штыкового боя и самоокапывания, основами саперного дела.
Все это было далеко от авиации, от тактики воздушного боя, хотя мы не только находились в
непосредственной близости от самолетов, но и имели к ним прямое отношение.
Не проходило дня, чтобы по долгу службы солдаты и командиры авиабазы не встречались с летчиками,
не решали сообща с ними различные задачи. Собственно, и первые, и вторые были заняты одним и тем
же делом. Только место летчиков было в небе, на нашу же долю не оставалось ничего другого, кроме
обычной хозяйственной работы. В какой-то мере она напоминала мои недавние обязанности в
продовольственном магазине, правда, [59] с той разницей, что если прежде я обеспечивал граждан сыром
и колбасой, то в ближайшем будущем мне предстояло заботиться о снабжении военных летчиков
высокооктановым бензином и боеприпасами для учебного бомбометания и тренировочной стрельбы по
конусам.
Наступила глубокая осень 1939 года. На северо-западной границе нашей Родины, неподалеку от города
Ленина становилось все тревожнее.
Объявив после нападения гитлеровских армий на Польшу войну Германии, тогдашние правители Англии
и Франции по-прежнему не теряли надежды на то, что им удастся столкнуть Германию с Советским
Союзом, а самим остаться в стороне от крупных военных действий в Европе.
Во имя осуществления своих планов, с нетерпением ожидая советско-германского конфликта, англофранцузские империалисты предоставили Гитлеру полную возможность безнаказанно разгромить
союзную им Польшу. В течение длительного времени они вели «странную войну», отличавшуюся
полным отсутствием серьезных боевых операций на фронтах борьбы с фашистами. Но вопреки надеждам
правящих кругов Англии к Франции захват гитлеровскими войсками Польши, их непосредственное
соприкосновение с Красной Армией, освободившей в сентябре 1939 года Западную Украину и Западную
Белоруссию, не привели к немедленному возникновению войны между Германией и Советским Союзом.
Тогда лондонское и парижское правительства обратили свои взоры в сторону маннергеймовской
Финляндии. Они прилагали усилия к тому, чтобы спровоцировать ее на военное столкновение с нашей
страной. И эта затея оказалась небезуспешной.
26 ноября в районе селения Майнила белофинны открыли огонь по нашим пограничникам. Попытки
советского правительства избежать кровопролития, уладить [60] конфликт мирным путем не увенчались
успехом. Вооруженные провокации с финской стороны не прекращались.
30 ноября советские войска начали боевые операции против белофиннов. Готовясь к штурму созданной
вблизи Ленинграда укрепленной «Линии Маннергейма», командование Красной Армии придавало
особое значение поддержке в предстоящих боях наземных войск авиацией.
Вместе с другими летными частями к решающим сражениям с белофиннской армией готовился полк,
обслуживаемый 21-й авиабазой. Вслед за ним мы срочно перебазировались в село Кательярве северозападнее Ленинграда, и в течение ближайших нескольких дней оборудовали аэродром на замерзшем
озере.
Стояли жестокие морозы, сопровождавшиеся лютыми, обжигающими ветрами. Даже местные
старожилы не помнили такой суровой зимы. В шерстяном подшлемнике, закутанный в тулуп из овчины,
в теплых рукавицах, обутый в добротные валенки, я часто ходил в караул к складам с авиабомбами.
Огороженный двумя рядами колючей проволоки, охраняемый объект был оборудован на ровном месте,
продуваемом с трех сторон свирепым ветром. С четвертой стороны хмуро синел дремучий хвойный лес.
По ночам вековые сосны и ели потрескивали от мороза, и я настороженно прислушивался к каждому
звуку, до боли в глазах всматривался в густую чернильную тьму.
В совершенстве владея искусством маскировки, нередко выдавая себя за местных жителей, враг делал
все, чтобы проникнуть в расположение советских воинских частей, на территорию наших объектов,
пытаясь нанести удар из-за угла. Как правило, вражеские диверсанты обезвреживались, но иногда они
достигали своей цели, выводили из строя наших солдат и командиров, уничтожали военную технику,
взрывали склады с боеприпасами и продовольствием. [61]
Стоя однажды глубокой ночью на посту, я разглядел на фоне зловещего черного леса едва заметные
голубоватые огоньки. Местность, окружавшую склады, я знал, как собственную руку, и мне было
хорошо известно, что у леса нет ни населенных пунктов, ни одиночного жилья. К тому же гражданские
лица, как и военнослужащие, неукоснительно выполняли приказ командования о строжайшей
светомаскировке, и я не на шутку встревожился.
Между тем загадочные, подозрительные огоньки пришли в движение. Они то удалялись, то, напротив,
тесно приближались друг к другу. Создавалось впечатление, что у леса ходит группа людей, осторожно
просвечивая себе путь электрическими фонариками с ослабевшими батарейками. Такое легкомысленное
обращение со светом со стороны диверсантов вблизи охраняемого военного объекта противника
казалось более чем странным. Через некоторое время огоньки стали попарно перемещаться в мою
сторону. Теперь они горели ярче, и по ним можно было вести прицельный огонь. Я расстегнул на
поясном ремне подсумок, чтобы иметь под рукой запасные обоймы с патронами, вскинул карабин.
Но в следующую минуту я облегченно опустил оружие, потому что «диверсанты», точно по команде,
дружно завыли... волчьими голосами. Обезумевшие от голода и стужи волки подошли вплотную к
караульной зоне и уселись в полусотне шагов от протоптанной в глубоком снегу тропы, по которой я
обходил охраняемую зону.
В стае было семеро волков. Я подумал о том, что подстегиваемые неумолимым голодом, они могут
напасть на одинокого человека. Не стану скрывать, визит непрошенных гостей меня нимало не
обрадовал. Правда, в руках у меня было надежное оружие, однако я не решался пустить его в ход,
поскольку устав караульной службы не предусматривал действий часового в такой неожиданной
ситуации. [62]
Волки не сводили с меня настороженных глаз. Мне вспомнились рассказы бывалых охотников о том, что
звери лишь в исключительных случаях нападают на человека с ружьем — их отпугивает запах оружия. И
действительно, по соседству со мной волки оставались недолго. Разом поднявшись, звери скрылись в
лесу.
Не успел я сдать караул, отогреться у жарко пылавшей железной печки, как мне был передан приказ
явиться к помощнику начальника штаба авиабазы.
— Вы шофер, Исаев? — хриплым, простуженным голосом спросил помначштаба.
— Шофером я не работал, но водительские права имею. Случалось, водил автомашину.
— Какую именно?
— ГАЗ-АА.
— Такой человек нам и требуется. Водительские права при вас?
Вместо ответа я вытащил из нагрудного кармана гимнастерки завернутое в водонепроницаемую бумагу
шоферское удостоверение. Помощник начальника штаба не стал долго его разглядывать. Возвращая мне
права, он коротко распорядился:
— Принимайте автостартер.
— Есть принять автостартер! — по-уставному повторил я приказание. — Разрешите выполнять?
— Выполняйте. И немедленно.
Автостартер представлял собой обычный грузовой «газик» с навешенным перед кабиной водителя
специальным устройством из металлических труб, так называемым «хоботом». Внутри него находилась
червячная передача. Посредством редуктора она приводилась в движение от автомобильного двигателя.
«Хобот» служил для запуска моторов самолета. Действуя по принципу обычной заводной ручки для
автомашины, он захватывал спереди коленчатый вал авиационного мотора и, постепенно [63] наращивая
обороты, прокручивал его до тех пор, пока тот не заводился. После этого летчики еще долго прогревали
застывшие на сорокаградусном морозе двигатели, выруливали на старт и уходили к линии фронта.
Проводив в бой пилотов, я вместе с другими бойцами наземной службы оставался на аэродроме. С
волнением вглядываясь в студеное северное небо, мы нетерпеливо ожидали возвращения «ястребков».
Беспокойство за судьбу боевых товарищей с каждой минутой возрастало. Но вот в гулком морозном
воздухе возникал наконец отдаленный рокот моторов. В наших ушах он звучал, как радостная песня. Мы
облегченно вздыхали, будто сбрасывая с плеч тяжелую ношу. Один за другим самолеты заходили на
посадку. Плоскости их, случалось, были сильно изрешечены пулями, осколками вражеских зенитных
снарядов. Как правило, наши летчики благополучно возвращались с боевых заданий.
Но, бывало, после сражений мы не досчитывались боевых товарищей. Каждый из нас прекрасно
понимал, что у истребителя, который не вернулся в срок на аэродром, давно вышло горючее, и что, увы,
нет никаких надежд на то, что он окажется над нашими головами. Но, вопреки логике, неумолимой
действительности, мы еще долго не покидали аэродром, тоскливо всматривались в безмолвное,
пустынное небо.
Нет дружбы крепче, вернее, самоотверженнее, чем фронтовая, и в суровые дни войны с белофиннами я
впервые познал горечь невозвратимых потерь, тяжесть утраты фронтовых друзей, товарищей по оружию.
Совсем недавно они были рядом, в одном строю, жили со всеми нами одними заботами, радостями,
печалями. И вот сиротливо пустуют койки воздушных воинов и товарищи долго еще не занимают их
мест в тесной фронтовой столовой. [64]
В воздухе безраздельно господствовала наша авиация. В сторону передовой скрытно подтягивались
свежие воинские части.
По всему чувствовалось, что на фронте назревают большие события. И действительно, 11 февраля 1940
года наши войска перешли в решительное наступление, прорвали оборону противника и стали
неудержимо продвигаться вперед.
Видя близкий и неизбежный крах своих авантюристических замыслов, тогдашнее правительство
Финляндии обратилось с просьбой к Советскому Союзу о заключении мира. В марте состоялось
подписание мирного договора, и военные действия были прекращены.
Благодаря героизму Красной Армии, победоносно завершившей войну с Финляндией, потерпели полный
провал провокационные планы англо-французских империалистов. Наша страна улучшила свое
стратегическое положение на северо-западе и севере, обеспечила безопасность Ленинграда, Мурманска,
Мурманской железной дороги.
В течение нескольких дней мы отдыхали после боевой страды: брились, чистились, приводили себя в
порядок, до боли в пальцах забивали в «козла», отсыпались после тревожных фронтовых ночей. Вскоре
наша авиабаза получила приказ о передислокации в район Ленинграда.
Так мы оказались в знаменитом Пушкино. В первое же воскресенье, получив увольнительные, Саша
Сукачев, Вася Белецкий, Петя Васильев и я отправились осматривать исторические места, которыми
столь богаты ленинградские предместья. Но прежде, чем предпринять эту увлекательную экскурсию, мы
завернули на почту и отправили на имя Клемента Ефремовича Ворошилова рапорты с просьбой
откомандировать нас курсантами в Чугуевское авиационное училище. [65]
Надо сказать, что мы не были уверены в том, что маршал Ворошилов, занятый делами большой
государственной важности, станет рассматривать ходатайства рядовых солдат. К тому же популярность
среди молодежи профессии военного летчика была так велика, что. количество заявлений от желающих
поступить в училище значительно превышало ограниченные рамки набора.
По нашим подсчетам, ответ на рапорты должен был прийти в течение двух недель. Миновал, однако,
целый месяц. Ежедневно в часть поступала свежая почта. Нам писали родные и близкие, друзья по
прежней работе. Письма всегда большое событие для солдата, которого радует то, что семья, друзья,
знакомые его не забывают. Однако долгожданное сообщение из Москвы все не приходило. И чем
меньше оставалось надежд на то, что исполнится наша заветная мечта, тем крепче было наше стремление
стать летчиками-истребителями.
Но вскоре после первомайских праздников командир нашей роты получил приказание направить
Белецкого, Сукачева, Васильева и меня в штаб части. Мы сразу догадались, в чем дело. В штабе нам
сообщили, что Климент Ефремович удовлетворил нашу просьбу, и приказали готовиться в дорогу.
— В Чугуев? — невольно вырвалось у меня. — В авиаучилище!
Офицер, сообщивший долгожданную радостную весть, развел руками:
— Ни за что не отпустил бы с базы четырех обстрелянных на фронте солдат. Но ничего не поделаешь.
Приказ надо выполнять. Особенно, когда приказывает Маршал Советского Союза.
В части мы стали героями дня. Поздравляя нас, однополчане наперебой желали нам успехов, горячо
пожимали руки, наказывали помнить родную авиабазу, совместную фронтовую жизнь. [66]
Прочувствованное слово по поводу того, что сам Климент Ефремович Ворошилов распорядился
направить нас на учебу, произнес комсорг подразделения. Не ограничиваясь приличествующими
моменту обычными добрыми пожеланиями, он обязал Белецкого, Васильева, Сукачева и меня впредь
регулярно докладывать комсомольскому бюро авиабазы о ходе нашей учебы. При этом комсорг придал
своему лицу самое строгое выражение и предупредил нас, что малейшие перебои в поступлении
указанной информации лично он будет рассматривать как грубое нарушение комсомольской
дисциплины.
Кончилась официальная часть, и комсорг, наш подобрел. Голос его стал мягче, доверительнее, он с
наивной юношеской непосредственностью признался:
— Завидую вам, ребята. По-хорошему завидую.
— А ты не завидуй. Поступай с нами.
— Легко сказать «поступай с нами»! Мне по зрению не пройти в авиацию.
Последний мирный день
Одно из популярнейших в стране Чугуевское авиационное училище, воспитавшее целую плеяду
первоклассных военных летчиков, славилось отличными преподавательскими кадрами. Капитан
Чурилов, в эскадрилью которого зачислили нас — четырех вчерашних солдат авиабазы, подтверждал
справедливость этой оценки. Образованный, теоретически всесторонне подготовленный командир, он в
равной мере служил примером высокой летной, технической и методической культуры. Именно таким
воспитателем летных кадров, как Чурилов, училище обязано тем, что многие его выпускники [67] стали
безупречными воздушными бойцами, героями сражений на стороне республиканской Испании и
последующих жарких боев с японскими милитаристами в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол, в
войне с белофиннами.
В бытность мою курсантом аэроклуба я успел налетать в общей сложности около ста часов. По
тогдашним моим представлениям, это было немало, в душе я считал себя чуть ли не летчикомпрофессионалом гражданской авиации. Но уже в первые дни пребывания в училище мой пыл порядком
поостыл. В эскадрилье капитана Чурилова мне по существу довелось начинать все заново, ибо училище в
отличие от гражданского аэроклуба, готовило не любителей, а высококвалифицированных военных
летчиков, для которых авиация должна была стать делом всей жизни. Я снова занялся изучением
материальной части самолета, теорией полета, аэродинамикой, топографией и другими предметами.
Однако это не было повторением пройденного. Обучение в училище велось по иным, более
основательным, расширенным и углубленным программам.
В связи с ускоренным развитием военной авиации, возросшей потребностью Вооруженных Сил в
молодых летных кадрах прежние сроки подготовки курсантов были уплотнены. К воспитанникам
училища предъявлялись исключительно серьезные требования. Учебный день, не считая
самоподготовки, продолжался двенадцать часов. Кроме того, мы ходили в наряд, несли внутреннюю и
караульную службу.
Уставал я, однако, меньше, чем некогда на летной практике в аэроклубе. Этим я был обязан армейской
службе, серьезным занятиям спортом, пребыванию на фронте, закалившему меня и морально и
физически. Если в аэроклубовские времена строгая дисциплина порой бывала мне в тягость и, случалось,
я задумывался над тем, как бы половчее ее обойти, то с самого начала [68] пребывания в училище
дисциплина стала для меня первейшей необходимостью. Сама жизнь убеждала меня в том, что суровая
дисциплина укрепляет волю, помогает успешно преодолевать трудности, воспитывает в человеке такие
черты характера, как целеустремленность, стойкость, упорство в достижении поставленной цели, без
которых летчику, тем более военному, не обойтись.
Обучение не ограничивалось теорией и практикой военного дела. Оно было направлено также на то,
чтобы привить курсантам высокую общую культуру, вкус к литературе и искусству. В училище был
хороший клуб с просторным кинозалом и сценой. Выступали на ней не только приглашенные из
Харькова профессиональные театральные коллективы, актеры филармонии, но и самодеятельные певцы,
музыканты, танцоры, любители художественного чтения.
В библиотеке устраивались литературные вечера, коллективные обсуждения прочитанных книг,
просмотренных спектаклей. В гости к курсантам приезжали замечательные лекторы, которые выступали
перед нами с докладами на политические, естественно-научные и атеистические темы. Встречались с
нами передовики промышленности и сельского хозяйства, известные летчики, военачальники.
В стенах Чугуевского авиаучилища я проучился более года, на «отлично» сдал выпускные экзамены по
теоретическим предметам и технике пилотирования. Теперь мне только и оставалось, что прикрепить к
петлитам по два треугольника, — свидетельство того, что я произведен в младшие командиры, и
спокойно ждать, пока откомандируют для прохождения дальнейшей службы в одну из частей ВоенноВоздушных Сил.
Находясь в самом лучшем расположении духа, я обратился к командиру эскадрильи с просьбой
предоставить однодневный отпуск для поездки к семье в недалекий [69] Коротич. Отпуск я получил без
промедления и не на день, а на двое суток.
В новом парадном обмундировании, с широким командирским ремнем и добела надраенной медной
пряжкой, опоясанный двумя хрустящими портупеями, источавшими запах свежей кожи, я предстал
перед моими близкими.
— Вот и наступает конец нашей раздельной жизни, — весело сказал я жене. — Надеюсь, что в полку
меня обеспечат жильем. В крайнем случае снимем комнату где-нибудь неподалеку от части. Одним
словом, готовьтесь со Светланой в скорую дорогу.
Но пока я находился в Коротиче и, мечтая о службе в истребительной авиации, обдумывал с женой
планы нашей дальнейшей жизни, комиссия по распределению выпускников уготовила мне как
отличнику боевой и политической подготовки место инструктора в Черниговском военном авиационном
училище.
Добровольцев на должность инструктора найти было нелегко. Все хотели служить в авиационных
полках. В беседе со мной мое начальство расписывало уютный зеленый город на Десне, прелести
тамошних пляжей. Однако попытки соблазнить меня красотами черниговской природы, как, впрочем, и
широкими перспективами преподавательской работы, не увенчались успехом.
Я упорно стоял на своем — только в полк. И когда на следующий день меня вторично вызвали для
разговора, я снова ответил решительным отказом.
— Вы военный человек, товарищ Исаев, — строго напомнил мне один из командиров. — Служить вам,
как и каждому из нас, придется там, где это наиболее целесообразно. Вы это понимаете?
Дальнейшие возражения лишены были всякого смысла, и я коротко ответил:
— Понимаю.
— Весьма рад, Исаев, что вы уразумели наконец необходимость [70] и важность вашего назначения, —
примирительно улыбнувшись, пожал мне руку капитан Чурилов. — Поверьте, вас увлечет
преподавательская работа.
Я кисло улыбался, не зная, что сказать.
В тот же день мне вручили документы, выписали железнодорожный литер. Я распрощался с
однокашниками, пообещав друзьям поддерживать с ними переписку, и отбыл в Чернигов.
Город на Десне встретил меня удивительно чистыми улицами и сладким ароматом цветущих акаций. В
военной комендатуре мне сообщили адрес училища, объяснили, как до него добраться. В общей
сложности предстояло пройти добрых пять-шесть километров, и я высказал сожаление о том, что в
Чернигове, в отличие от Харькова, нет ни трамвая, ни троллейбуса.
— Со временем будут и трамвай и троллейбус, — оптимистично заметил прибывший за каким-то
неотложным делом в комендатуру голубоглазый лейтенант с черными танкистскими петлицами. — А
пока можете воспользоваться моей полуторкой. На ней я и командир, и водитель, так что располагайтесь
в «кабине». Поедем мимо авиаучилища.
Лейтенанту было девятнадцать лет. Мы оказались земляками, жили в Харькове чуть ли не на соседних
улицах. Лейтенант рассказал, что в Чернигове он служит недавно, подобно мне, прибыл сюда после
окончания военного училища, командует взводом в отдельном танковом батальоне, расквартированном в
пригородном поселке.
Жизнью и службой лейтенант в общем был доволен. Пожаловался лишь на то, что батальон вооружен
устаревшими танками Т-26, которые, по мнению лейтенанта, вскоре будут заменены новыми машинами.
***
Командование училища встретило меня с распростертыми объятиями и, как показалось мне, с чувством
некоторого [71] облегчения. Причина этого стала ясна из беседы с командиром эскадрильи, в которую
меня направили. Дело в том, что курсанты, принятые три месяца назад в училище, успели освоить
материальную часть самолета, приобрели необходимые начальные знания по военно-теоретическим
дисциплинам, и теперь наступила пора приступить к практическим занятиям, а инструкторов не хватает.
Мой приезд был кстати.
Меня поставили во главе отделения из двенадцати человек. Это были смышленые, грамотные парни,
почти все успевшие до призыва в армию закончить среднюю школу. В авиацию пришли по призванию,
работать с ними с первого дня было легко и интересно.
Еще год назад, в бытность курсантом Чугуевского училища, мне приходилось слышать, что на
авиационных заводах запущены в серийное производство новые истребители. Это были «миги», «лагги»
и Яки-1, которые шли на смену созданным в начале тридцатых годов поликарповским машинам И-15 и
И-16. Однако не только иметь с ними дело, но и видеть новые истребители мне, к сожалению, не
приходилось. Представление о них у меня было самое смутное. Не без смущения я подумывал о том
положении, в котором окажусь как инструктор, если Черниговское училище располагает этими
машинами и именно на них мне предстоит обучать курсантов летному делу.
Вскоре выяснилось, что курсанты будут практиковаться на хорошо мне известных самолетах Ут-2, УТИ4, И-15, И-16. Пилотирование их было для меня обычным, повседневным делом. Это уже облегчало мою
предстоящую преподавательскую работу. Но, вместе с тем, я испытывал чувство неудовлетворенности.
Конечно, легче обучать людей на машинах, которые известны тебе до последнего винтика, но может ли
летчик, особенно инструктор, не мечтать о знакомстве с новинками авиационной техники! [72]
Наш интерес к новым самолетам особенно возрос в связи с тем, что биплан И-15 и более совершенный
моноплан И-16, отживали свой век. Но надо отдать должное этим машинам. Отличаясь на определенном
этапе развития истребительной авиации превосходными тактико-техническими качествами, они в свое
время занимали достойное место в ВВС.
Как показал боевой опыт советских летчиков-добровольцев, сражавшихся в небе Испании с
фашистскими самолетами, поликарповские машины, не уступая истребителю Ме-109В в скорости и
вооружении, превосходили его по маневренности. Преимущество И-15 и И-16 над «мессершмиттом»
встревожило фашистов. Они спешно его модернизировали, увеличили скорость до 570 километров в час,
оснастили 20-миллиметровой пушкой. Наладив производство модифицированных истребителей Ме109Б, гитлеровское военное командование немедленно бросило их на фронты гражданской войны в
Испании. Воздушные схватки истребителей И-15 и И-16, максимальная скорость которых
соответственно составляла 360 и 460 километров в час, с Ме-109Б свидетельствовали о серьезных
преимуществах последнего над Поликарповскими машинами.
Для личного состава училища все это не являлось секретом. С нетерпением ожидая той, судя по всему,
недалекой поры, когда на нашем аэродроме появятся новые, совершенные истребители, курсанты упорно
овладевали навыками пилотирования учебно-тренировочных самолетов Ут-2 и УТИ-4. Будущие летчикиистребители хорошо понимали, что чем значительнее их успехи в этом деле, тем быстрее освоят они
впоследствии боевые машины И-16, а затем и новейшую технику.
***
Перед курсантами была поставлена задача в непостижимо короткое, по прежним представлениям, время
пройти полный курс обучения, подготовиться к сдаче [73] экзаменов государственной комиссии
наркомата обороны. Это выдвигало повышенные требования не только перед обучающимися, но и перед
теми, кто их обучал.
По целым дням я не расставался с инструкторской кабиной. Отличная солнечная погода, безветрие
способствовали напряженной учебе.
Выходные дни в училище были отменены. Лишь изредка командование предоставляло курсантам
недолгий отдых, тогда полными хозяевами положения на аэродроме становились военные техники. Пока
они копались в едва остывших моторах, проверяли и отлаживали машины, готовили их к очередным
полетам, мы купались в Десне, загорали на ее зеленом берегу.
Однажды в субботу у реки меня кто-то окликнул. В длинноногом, худощавом парне в синих плавках я
узнал земляка-танкиста. Мы обменялись крепкими рукопожатиями. Молодой лейтенант был чем-то
расстроен. Отойдя в сторону, мы спустились к реке.
— Сегодня собирался ехать в отпуск, но в последнюю минуту его отменили, — пожаловался танкист. —
А ведь я уже дал телеграмму маме, чтобы встречала. Мама у меня учительница.
Я, как мог, старался утешить лейтенанта, посоветовал отправить домой еще одну телеграмму и сообщить
матери, что временно отпуск задерживается, пусть не волнуется.
Не раздумывая долго, мы направились в город. Я проводил лейтенанта до почты — белого здания
напротив сквера, где под присмотром мам и бабушек играли дети. На скамьях, уткнувшись в газеты,
сидели благообразные старики в парусиновых костюмах. Порой они отрывались от чтения, задумчиво
глядели на детей, вполголоса о чем-то рассуждали.
Была последняя мирная суббота, 21 июня 1941 года. [74]
Начало суровых испытаний
На заре меня разбудил отдаленный, неясный гул. Он быстро приближался, нарастал, становился все
гуще, мощнее. В оконных рамах жалобно зазвенели стекла. Со сна мне почудилось, что началось
землетрясение.
Над территорией училища прозвучал сигнал боевой тревоги. Смутно догадываясь о случившемся, вместе
со своим отделением я выбежал во двор. Быстро рассветало. Первые лучи яркого июньского солнца
осветили армаду самолетов, заполнивших небо. В безупречном строю, будто на воздушном параде,
группами по 27 машин, держа курс на восток, в глубь советской территории, шли двухмоторные
бомбардировщики Ю-88 и Хе-111. На машинах явственно темнели опознавательные кресты. Эти
бомбардировщики были знакомы нам по альбомам силуэтов немецких самолетов и самолетов союзных
Германии государств. Несмотря однако на полную очевидность вражеского вторжения, многие из нас все
еще не верили в то, что гитлеровцы, вероломно нарушив недавно подписанный договор о ненападении,
развязали войну против Советской страны.
С секунды на секунду можно было ожидать бомбовой удар по училищу, по нашему аэродрому. Но
самолеты шли мимо, и это вызывало самые противоречивые толки.
Позже стало известно, что в первые же часы войны фашисты подвергли варварской бомбардировке
целый ряд мирных советских городов. Смертоносный груз, который пронесли над нашими головами
фашистские стервятники, был уготован для столицы Советской Украины.
Сбросив бомбы на Киев, немецкие бомбардировщики, эскортируемые «мессершмиттами» все в том же
непогрешимом строю, по той же воздушной дороге, но [75] теперь в противоположном направлении,
возвращались на свои аэродромы, чтобы принять на борт очередной груз бомб и продолжить
разбойничью работу.
Мы с болью смотрели в наше родное небо, где бесчинствовала фашистская авиация. Советские самолеты
в воздухе не появлялись. Где-то на городских окраинах глухо постреливали зенитные пушки и пулеметы,
но их редкий огонь не причинял вреда вражеским самолетам.
И тем большей была наша радость, когда во второй половине дня со стороны солнца, из-за белесых
перистых облаков вынырнул краснозвездный истребитель И-16 и храбро устремился наперерез
отбомбившимся «хейнкелям», прикрываемым девяткой «мессеров». Не обращая внимания на
«ястребка», «мессершмитты» продолжали выполнять боевую задачу — сопровождать бомбардировщики,
которые шли на заданной скорости по своему курсу. Скорость эта не была максимальной для
«хейнкелей», и тем самым бомбардировщики как бы привязывали к себе невидимыми нитями
охранявших их быстроходных истребителей.
Этим не преминул воспользоваться советский летчик. В бой он шел на полном газу; расстояние между
его одинокой машиной и фашистскими самолетами быстро сокращалось. Еще несколько секунд, и
«хейнкели», как и сами «мессершмитты», окажутся в зоне огня советского истребителя. И тогда тройка
«мессеров», видимо, связавшись предварительно друг с другом по радио, отвалила от
бомбардировщиков, сделала боевой разворот и, набирая одновременно скорость и высоту, пошла на
сближение с нашим истребителем. Тот ударил по фашистам из пулемета, и головной «месершмитт» както странно клюнул носом, задымился и, быстро теряя высоту, стал уходить на запад.
Курсанты, наблюдавшие бой советского истребителя с тремя «мессерами», восхищенно зааплодировали,
[76] закричали «ура», в воздух полетели фуражки и пилотки.
Между тем оставшиеся без ведущего фашистские летчики не растерялись. В считанные мгновенья они
зашли в хвост тихоходному, слабо защищенному и совершенно беспомощному в сложившейся новой
ситуации И-16. Прикрыть его было некому. Глухо хлопнули пушки, сухо затрещали пулеметы, прошив
небо сверкнувшими на солнце трассирующими пулями. Оставляя позади себя шлейф черного дыма,
полыхая желтым пламенем, наш «ястребок» камнем пошел к земле. На всякий случай немцы выпустили
еще несколько пулеметных очередей по гибнущему самолету и затем догнали свою группу.
Мой курсант, Николай Пашун, дюжий, невозмутимо спокойный парень, которого, казалось, ничто не
могло вывести из равновесия, с побелевшим от гнева лицом проводил взглядом гитлеровские самолеты
и, обращаясь ко мне, сказал:
— Нет сил, сержант, такое видеть!
***
Всем сердцем я рвался на фронт, туда, где, судя по сводкам Совинформбюро, шли неравные,
кровопролитные бои с противником, но на моем рапорте командованию училища с просьбой отправить
меня в действующую армию появилась категорическая резолюция: «Оставить на инструкторской
работе». Мне, как и командирам других подразделений, было приказано готовить подчиненных и
материальную часть к передислокации в Фастов.
Сборы были недолгими. Мы перегнали самолеты, перевезли на новое место необходимое имущество,
оборудовали аэродром и немедленно приступили к боевой учебе, прерванной лишь на один день.
По утрам мы собирались у репродуктора, с нетерпением ожидали сообщений с театра боевых действий.
[77]
Радио приносило горькие вести. Гитлеровцы развивали стремительное наступление. Вслед за Гродно,
Даугавпилсом, Слуцком на седьмой день войны они захватили столицу советской Белоруссии — Минск.
Еще через два дня пал Львов. Появлялись все новые и новые направления: Брестское, Белостокское,
Каунасское, Владимир-Волынское, Вильнюсское, Барановичское... Под натиском превосходящих сил
противника Красная Армия с боями отходила на восток.
В Фастове появились первые беженцы. Изможденные, измученные женщины, дети, старики. Они
рассказывали о чудовищных злодеяниях гитлеровских воздушных бандитов, которые сметали с лица
земли советские города и села, расстреливали на дорогах из пулеметов мирных граждан.
В первые же дни войны неувядаемой славой покрыли себя советские воздушные бойцы. 26 июня
совершил бессмертный подвиг капитан Николай Гастелло. Возвращаясь с эскадрильей дальних
бомбардировщиков на свой аэродром после удара по вражеской военной технике, он был атакован
фашистским летчиком. Осколок снаряда пробил бензобак бомбардировщика. Самолет загорелся. В
последнюю минуту Николай Гастелло обрушил свой пылающий самолет на скопление немецких танков,
автомашин, цистерн с горючим. Мощный взрыв потряс воздух. Фашисты дорого заплатили за смерть
Николая Гастелло.
В историю советских Военно-Воздушных Сил навечно вошло имя выдающегося летчика-испытателя
дважды Героя Советского Союза Степана Супруна. Возглавив в начале Великой Отечественной войны
истребительный авиаполк, Супрун в первый же день боев сбил лично четыре фашистских самолета.
Погиб Степан Супрун в неравном бою с шестью немецкими истребителями. Один из них он успел сбить.
С. П. Супрун — [78] первый советский воин, удостоенный второй медали «Золотая Звезда» в Великой
Отечественной войне.
Готовясь к воздушным битвам с противником, мы с большим упорством постигали боевой опыт
советских асов, учились у них искусству без промаха бить врага. Многие из нас, будучи впоследствии на
фронте, успешно использовали этот замечательный опыт в боевой работе, в частности, метод
воздушного тарана, мастерски осуществленного в небе Подмосковья младшим лейтенантом Виктором
Талалихиным.
Первые сообщения о подвиге Виктора Талалихина были опубликованы в «Правде» и «Красной звезде».
Несколько позже этой теме был посвящен специальный плакат, который мы использовали в качестве
учебного пособия для подготовки летчиков-истребителей.
В ночь с шестого на седьмое августа в воздушном пространстве на подступах к столице Виктор
Талалихин встретился с немецким бомбардировщиком. Советский летчик обстрелял и поджег фашиста.
Развернувшись, «хейнкель» предпринял попытку уйти от последующей атаки, скрыться во тьме.
Маневр не удался. Пылавший мотор демаскировал гитлеровца, и Талалихин, не теряя его из виду, бросил
свой истребитель в погоню, выпустил по врагу несколько очередей. Однако бомбардировщик продолжал
уходить. Виктор Талалихин, прибавив газу, нажал гашетки... но патроны кончились. Надо выходить из
боя. И тогда Талалихин принял дерзкое решение — винтом своего самолета отрубить хвостовое
оперение «хейнкеля».
Расстояние между истребителем и бомбардировщиком сократилось до предела. Фашистский стрелок
полоснул из пулеметов по кабине преследователя. Пуля ранила Талалихина в руку. Обливаясь кровью,
отважный воин таранил фашиста. «Хейнкель» рухнул на подмосковную землю. Талалихин успел
выброситься [79] с парашютом из развалившегося в воздухе самолета. К утру он был в кругу боевых
друзей, на своем аэродроме.
Восхищаясь подвигом Виктора Талалихина, я думал о том, как похожи порой и, вместе с тем, различны
людские судьбы. Путь Талалихина в авиацию не отличался от моего, если не считать, что он закончил не.
харьковский, а Центральный аэроклуб имени Чкалова. Затем Талалихин, как и я, обучался в школе
военных летчиков. Но с первых дней войны Виктор Талалихин сражался с ненавистным врагом,
защищал от фашистских воздушных разбойников столицу. Я же, несмотря на то, что второй месяц шли
ожесточенные бои с гитлеровцами, оставался в тылу.
В те дни я получил теплые письма от жены и Павла Тимофеевича Пустовойта. Они сообщали, что дома
все живы и здоровы, просили ни о чем не беспокоиться, наказывали быть храбрым воином, беспощадно
бить врага. Пожелания родных, близких людей только укрепляли мою решимость во что бы то ни стало
добиться отправки на фронт.
Во второй раз я обратился к командованию с просьбой откомандировать меня в действующую армию, и
мне снова было в этом отказано.
Неся огромные потери, фашистские орды рвались в глубь нашей Родины. Гитлеровцы штурмовали Киев,
блокировали героически оборонявшуюся Одессу.
Прифронтовым городом стал Фастов. Все явственнее слышался грохот артиллерийской канонады. С
наступлением темноты на западе полыхало багровое пламя. Готовый к отражению вражеских атак с
земли и воздуха, личный состав училища продолжал заниматься своим делом. Не прекращались учебные
полеты в зоне и по кругу, теоретические занятия. Стремясь быстрее отправиться на фронт, курсанты в
течение полутора-двух месяцев осваивали технику пилотирования учебно-тренировочных истребителей
УТИ-4, приступали к [80] полетам на боевых машинах. Несмотря на то, что времени было в обрез, ребята
сдавали зачеты с отличными и хорошими оценками.
Учеба продолжалась до тех пор, пока вблизи нашего аэродрома не появились прорвавшиеся немецкие
танки. Фашисты рассчитывали с ходу ворваться на аэродром, но они встретили хорошо организованное,
упорное сопротивление. Сохранив людей, материальную часть, различное военное имущество, училище
перебазировалось в Зерноград Ростовской области.
Местное население оказало нам радушный прием и на первых порах, пока командованию училища не
удалось установить связь с армейскими складами, обеспечивало нас всем необходимым, помогло
оборудовать полевой аэродром. А ведь у людей — в основном это были женщины, проводившие на
фронт своих мужей, сыновей, братьев, — и собственных забот было хоть отбавляй. Наступила осень, а в
поле оставалось много работы. Из-за отсутствия комбайнеров, взявших в руки оружие, нехватки
автомобилей, затягивалась уборка урожая. Выбиваясь из сил, женщины, старики, подростки косили
пшеницу косами, жали серпами, как в давнее время обмолачивали ее цепами, лишь бы сохранить
урожай, обеспечить хлебом Красную Армию. Нельзя было не восхищаться величием духа простых
русских крестьянок, которые совершали настоящий трудовой подвиг.
Моя первая встреча в воздухе с врагом состоялась в погожий сентябрьский день. Совместно с курсантом
я совершал обычный учебный полет в зоне на самолете УТИ-4. Мы находились в воздухе уже полчаса,
после серии глубоких виражей я собрался было приказать курсанту взять курс на аэродром. Машина
сделала разворот и ослепительное солнце, стоявшее слева от нас заполнило кабину. Я невольно отвел
глаза в противоположную сторону, и в это время, справа за моей кабиной, в разрыве облаков
промелькнул двухмоторный самолет. [81]
Он шел параллельным курсом. Скорость его не превышала скорости нашего учебно-тренировочного
истребителя. Я принял на себя управление машиной, рванул до упора сектор газа.
Самолет снова вынырнул из-за туч, и я заметил кресты, темневшие на его крыльях и фюзеляже, свастику
на хвосте. Это был двухмоторный пикирующий бомбардировщик. Еще мгновенье и в какой-нибудь
полусотне метров от себя я увидел мясистое лицо немца, управлявшего самолетом. Очевидно, «юнкерс»
совершал разведывательный полет. Наша машина была безоружной. Атаковать нечем, и враг уйдет
безнаказанным. В голове промелькнула мысль: «Виктор Талалихин...»
— Идем на таран! — передал я курсанту.
Фашист, несомненно, знал о том, что у нас нет ни пушки, ни пулеметов. И все-таки уклонился от встречи
с нами. Уже тогда, в первые месяцы войны, гитлеровцев пугал воздушный таран. Не открывая огня,
«юнкерс» прибавил газ и оторвался от нас.
***
В январе 1942 года был получен приказ об эвакуации училища в глубокий тыл. Путь наш лежал в
далекую Туркмению. Позади остались привольные донские степи, просторы Калмыкии, Дагестан.
Вскоре мы увидели Баку, множество нефтяных вышек, обрамленных с восточной стороны необозримой
водной равниной. Под крылом самолета синело неспокойное Каспийское море. На крутой волне дымили
пароходы.
Из Красноводска мы взяли курс на Кизил-Арват. Местность здесь была безлюдной и однообразной. Коегде стояли одинокие юрты. Вокруг них, на выжженной солнцем безводной земле, пощипывая чахлую
траву, паслись овечьи отары. На востоке, затянутые голубоватой дымкой, призрачно вырисовывались
мощные хребты Копет-Дага. По мере приближения к Кизил-Арвату [82] природа становилась богаче.
Зима была в разгаре, но здесь, в Туркмении, наступала весна.
Наши учебные аэродромы находились под Кизил-Арватом и в Казанджике. Часто выпадали дожди.
Буйно пошло в рост сочное разнотравье. Ярко запестрели дикие тюльпаны, они украсили землю,
превратили ее в сказочно огромный, нарядный цветник. Впрочем, мне было не до созерцания красот
природы. До выпуска курсантов, отправки их на фронт оставалось немногим более двух месяцев, и вся
энергия инструкторов, преподавателей была направлена на то, чтобы достойно подготовить их к этому
долгожданному событию. Мы прекрасно понимали, что держать серьезный экзамен перед
государственной комиссией предстоит, в конечном счете, не только курсантам, но и нам, их наставникам
и воспитателям.
В основу всей учебной работы был положен известный суворовский принцип: «Тяжело в учении —
легко в бою». Мы поднимались в два часа ночи и к рассвету уже были на аэродроме. С первыми лучами
солнца, словно приветствуя рождение нового дня, в небо взмывали самолеты.
К этому времени относится одно из самых радостных событий, о котором я мечтал с первого дня войны.
На вооружение училища поступили истребители Як-1, и перед инструкторами встала задача в самый
короткий срок освоить новую технику. Уже при первом знакомстве с машиной я убедился в том, что
советский авиаконструктор создал замечательный боевой самолет, превосходящий все ранее известные
мне истребители. Ни И-15, И-16, ни «Чайка» не шли в сравнение с новой машиной. Не случайно даже
фашистские асы из разрекламированных Герингом авиагрупп «Удэт», «Мельдерс», «Рихтгофен» очень
беспокойно чувствовали себя в воздухе, встречаясь в бою с яковлевскими машинами. [83]
Хорошо помню свой первый полет на «яке». В его надежности я убедился уже на взлете. Самолет быстро
и уверенно набирал высоту, прекрасно слушался всех рулей, был устойчив при выполнении петли,
хорошо планировал, легко приземлялся. Я почувствовал себя единым целым с машиной. Точно такое же
ощущение испытывали мои коллеги-инструкторы, об этом говорили и курсанты. Осваивая под нашим
руководством новый самолет, они не могли им нарадоваться.
Я попрежнему стремился уйти на фронт. После очередного рапорта меня, наконец, вызвали к начальнику
училища. Он пригласил меня сесть, устало покачал седеющей головой:
— Не проходит дня, чтобы я не читал ваших рапортов об отправке на фронт. Что и говорить, молодцы
ребята. Какой бы трудной и долгой ни была война, с таким народом ее не проиграешь. Но войдите,
Исаев, в мое положение. С кем буду обучать курсантов, если всех вас провожу в действующую армию?
Он задумчиво постучал пальцами о край стола, достал из портсигара папиросу, закурил, посмотрел мне в
глаза:
— Какой по счету вы подали рапорт?
— Третий.
— Пока третий, — поправил меня начальник училища. — Скажите, как же мне, по вашему мнению,
поступить?
Я медлил с ответом.
— Нет, уж коль спрашиваю, потрудитесь ответить.
— Просил бы удовлетворить мое ходатайство.
— В противном случае завтра же подадите следующий рапорт?
Я промолчал, не стал возражать против справедливой догадки.
— В общем, мое решение таково: закончатся экзамены, будете сопровождать молодежь в запасной полк.
[84]
В полку и останетесь. Поступите в распоряжение командира. Надеюсь, оправдаете доверие, не уроните
честь училища.
— Ничего для этого не пожалею.
— Верю.
В заключение начальник училища сказал:
— Думаете, мне самому хочется сидеть в тылу? Пешком бы ушел на фронт. Да не отпускают.
Приказывают готовить резервы для действующей армии. Вот и готовлю.
Четвертая воздушная
В мае 1942 года из частей ВВС Южного фронта была сформирована 4-я воздушная армия. Возглавил ее
генерал-майор авиации, впоследствии Главный маршал авиации Константин Андреевич Вершинин.
Полки и дивизии, вошедшие в состав 4-й армии, имели большой боевой опыт. Сорвав коварный замысел
гитлеровцев, рассчитывавших в первые же часы войны уничтожить авиацию Южного фронта на
аэродромах, они оказывали упорное противодействие противнику и в первый день войны сбили десятки
вражеских самолетов.
Среди тех, кто открыл счет уничтоженным фашистским машинам, был командир эскадрильи капитан
Афанасий Георгиевич Карманов.
В шестом часу утра 22 июня капитан Карманов вступил в неравный бой с 25 «юнкерсами». Под
прикрытием 9 «мессершмиттов» они шли на бомбежку наших военных объектов. Не раздумывая,
отважный воин смело атаковал фашистов. Метким огнем своего «мига» он сбил два вражеских
истребителя, нарушил строй бомбардировщиков, беспорядочно сбросивших бомбы. На заре [85]
следующего дня Афанасий Карманов уничтожил еще три фашистских самолета. В тот же день он погиб в
схватке с четырьмя «мессершмиттами». За мужество и отвагу капитан Карманов был посмертно
удостоен звания Героя Советского Союза.
В частях, вошедших в состав 4-й воздушной армии, выросли и возмужали такие выдающиеся советские
асы, как Александр Иванович Покрышкин, впоследствии трижды Герой Советского Союза; Дмитрий
Борисович Глинка, Александр Николаевич Ефимов, Павел Михайлович Камозин, Алексей
Константинович Рязанов, Иван Никифорович Степаненко, грудь которых украсили по две Золотые
Звезды Героя Советского Союза.
Об этих неустрашимых людях, их ратных делах мы узнали в учебно-тренировочном запасном полку,
дислоцированном в городе Каменске, Ростовской области, куда я прибыл с группой выпускников
училища. Здесь размещался в то время штаб 4-й воздушной армии.
Едва я передал представителю штаба полка новое пополнение, оформил необходимые документы, как за
молодыми летчиками прибыли заблаговременно оповещенные по телефону командиры авиационных
частей. В подразделениях ощущалась острая нужда в летных кадрах, и никто из наших выпускников не
задержался в запасном полку.
Не впервые приходилось разлучаться мне с ребятами, с которыми породнила совместная армейская
служба, но каждый раз в минуты прощания тоскливое чувство сжимало грудь. Доведется ли снова
встретиться с людьми, которые стали дорогими и близкими, как братья? Нет, пожалуй, дружбы крепче,
прочнее, самоотверженнее воинского товарищества, но такова уж судьба солдата, что на нелегком своем
боевом пути он не только приобретает новых друзей, но и разлучается с прежними однополчанами,
нередко теряя их навсегда. [86]
Задумавшись, я не заметил, как ко мне подошел молодцеватый подполковник и окликнул меня по
званию. Я поднял на него глаза, невольно вытянулся, приложив к пилотке руку.
— Вольно! — улыбнулся он и сказал: — Подполковник Курбатов. Командир истребительного авиаполка.
— Сержант Исаев, — растерянно ответил я подполковнику и тут же умолк, не зная, что, собственно, к
этому добавить.
— Это я и сам вижу, что вы сержант, — весело заметил Курбатов, — Расскажите о себе подробнее. Кто
вы, откуда?
— Инструктор военного авиационного училища. По докладной направлен в действующую армию.
— Вот это уже иной разговор, — оживился подполковник и сразу перешел со мной на «ты». — На каких
самолетах летаешь?
Я ответил.
— Вот что, идем ко мне в полк, — сказал Курбатов. — Сам приму у тебя экзамен. Выдержишь, —
посажу на «як».
По манере Якова Архиповича Курбатова разговаривать, по его коротким, словно рубленым, фразам было
видно, что это человек дела, кадровый военный.
Вместе с Курбатовым я выехал в полк.
На следующее утро мы встретились на аэродроме. Было тихо и безоблачно, и Курбатов сказал:
— Надевай-ка парашют.
Я выполнил приказание.
— А теперь быстро в кабину. Полетишь в зону.
Вырулив машину на старт, я легко поднял ее в воздух и, набрав трехкилометровую высоту, стал
выполнять фигуры высшего пилотажа.
Курбатов и батальонный комиссар Гожаревич с земли наблюдали за мной. [87]
Через полчаса я посадил машину.
— Годишься, — коротко сказал Курбатов. — Умеешь летать.
Обращаясь к Гожаревичу, он спросил:
— Дадим сержанту «як»?
— Не возражаю. Пусть принимает.
— А куда направим Исаева, в какую эскадрилью? — вслух подумал Курбатов. — Должно быть, во
вторую. К капитану Наумчику.
Обращаясь ко мне, командир полка сказал:
— Считай, Исаев, что тебе повезло. Наумчик — отличный летчик-истребитель. И человек превосходный.
Курбатов позвонил в эскадрилью, распорядился найти Наумчика и передать ему приказание прибыть к
командиру полка.
Из рассказа Курбатова я узнал, что Николай Кузьмич Наумчик сражается с фашистами с первого часа
войны, в воздушных боях сбил семь самолетов.
— Получив боевую задачу, — говорил Курбатов, — он спешит подробнее разузнать, где искать врага, но
не всегда успевает поинтересоваться, насколько многочислен противник. Такой у него характер.
По заслугам оценив высокие боевые качества яковлевского истребителя, Николай Наумчик первым
среди летчиков полка отказался от прежней пассивной тактики борьбы с вражескими самолетами на
горизонтальном маневре, по методу так называемого «замкнутого круга».
Метод этот был оправдан в бою на маневренных, но сравнительно тихоходных истребителях И-16 и И153, на которых наши летчики принимали бои в начале войны со скоростными немецкими самолетами.
Первый же опыт боевой работы на «яке» убедил Наумчика в том, что «замкнутый круг» сковывает
большие потенциальные возможности первоклассного истребителя, не позволяет использовать его в
полную силу. Совершенная [88] техника требовала новых, более эффективных методов ее боевого
применения, и Наумчик, действуя как настоящий новатор, смело отказался от прежней, устаревшей
тактики воздушного боя и начал успешно атаковать фашистов на вертикальном маневре.
Командующий армией К. А. Вершинин высоко оценил инициативу летчика и позаботился о том, чтобы
наша армейская газета «Крылья Советов» раскрыла на своих страницах предложенную капитаном
Наумчиком «технологию» борьбы с фашистскими самолетами, обязал командиров истребительных
авиаполков досконально изучить и отработать с личным составом тактику боя «яков» на вертикальном
маневре.
Одаренный авиатор, мастер стремительных воздушных атак, Николай Кузьмич был одним из самых
популярных летчиков-истребителей. Его советами дорожили и молодежь, и бывалые воздушные воины,
имевшие на своем счету, как и сам Наумчик, не один уничтоженый фашистский самолет. Многие
считали для себя большой честью служить в эскадрилье Наумчика, под его началом идти в бой. И я был
глубоко признателен командиру полка Курбатову за то, что он дал мне возможность пройти школу
Николая Наумчика.
Ожидая, пока мой комэск прибудет к Курбатову на командный пункт полка, я старался представить себе,
каков же он, прославленный летчик. Не без волнения думал я о предстоящем знакомстве с Наумчиком, о
том, как встретит меня, молодого, необстрелянного летчика, прославленный командир эскадрильи. В
тылу не часто приходилось встречать героев боев с немецко-фашистскими захватчиками, и мое
представление о внешности, характере фронтового летчика складывалось в основном под впечатлением
киножурналов и газетных статей. Пусть не обижаются на меня авторы иных произведений, но
фронтовики у них нередко выглядели на один манер, и, скорее всего, поэтому мое воображение рисовало
[89] Наумчика человеком с суровым, мужественным лицом, орлиным взглядом.
К Курбатову непрерывно приходили люди. У многих на просоленных потом, выгоревших гимнастерках
поблескивали ордена и медали — это были летчики-истребители. Я их сразу отличал от людей в
замасленных комбинезонах, которые докладывали командиру полка о делах и нуждах инженернотехнической службы. Тучноватый капитан настойчиво просил у Курбатова грузовик, чтобы съездить за
свежей рыбой для столовой. Немолодой уже человек с выпиравшим из-под кителя брюшком, видно,
мобилизован был в армию из запаса и ведал в полку интендантской частью.
Разговор подполковника с интендантом затягивался, и представители прочих служб, командиры
подразделений, прибывшие на прием к Курбатову, нетерпеливо поглядывали на часы, ожидая, когда он,
наконец, освободится.
И лишь только один светловолосый, голубоглазый летчик лет двадцати пяти, не в пример другим,
производил впечатление невозмутимо спокойного человека. Примостившись на ящике из-под
боеприпасов, он углубился в тоненькую книжечку. Судя по улыбке, не покидавшей его простого,
добродушного лица, там шла речь о какой-то смешной, забавной истории. Летчик дочитал последнюю
страницу и, все еще продолжая улыбаться, сунул книжицу в кожаный планшет. Вслед за этим он
поднялся с ящика, одернул гимнастерку, подошел ко мне и сказал:
— Никак, вы новый человек в полку?
Я подтвердил, что в полк прибыл лишь накануне.
— В таком случае рад поздравить с вступлением в нашу боевую семью. Может, и служить доведется в
одном подразделении.
— Подполковник Курбатов назначил меня в эскадрилью к капитану Наумчику. [90]
— К Наумчику? Верно, есть у нас такой капитан.
Я поинтересовался, молод ли мой будущий командир.
— Как сказать, в общем не старый.
— В полку он, видно, первый летчик. Семь сбитых самолетов на боевом счету.
— А кто из нас их не сбивает, — неопределенно заметил собеседник, и мне показалось, что мое
восхищение капитаном Наумчиком уязвило его самолюбие.
Узнав, что в прошлом я инструктор авиационного училища, готовил кадры летчиков-истребителей, он
оживился:
— Побольше бы нам таких людей. Воюем, теряем славных ребят. А заменить их подчас некем. Личный
состав пополняют не густо... Вы родом-то откуда?
— Из Курской области. Работал на Украине, в Харькове. Там и был призван в армию.
— Значит, в мирной жизни были, считай, соседями. Жил я в Белоруссии. И по национальности белорус.
Одним словом, сержант, связаны мы двойным братством: и по крови, и по полку.
Проводив, наконец, интенданта, Курбатов вышел к людям:
— Товарищ подполковник, — вытянулся говоривший со мной летчик. — Капитан Наумчик явился по
вашему приказанию.
— Оказывается, Николай Кузьмич, вы и без меня успели познакомиться с сержантом Исаевым. Короче
говоря, принимайте боевое пополнение. Берите сержанта к себе ведомым. Летает исправно. Сам
проверял.
Обращаясь ко мне, Курбатов сказал:
— Желаю, сержант Исаев, счастливой службы. [91]
Боевое крещение
Мое знакомство с Николаем Кузьмичем Наумчиком состоялось утром. А в полдень мы вылетели в паре
на разведку войск противника в районы Котельниково, Морозовской и Цымлянской. Это был первый
мой боевой вылет.
Перед тем, как занять место в кабине, Николай Кузьмич сказал:
— После взлета набираем высоту и — к линии фронта.
Я понял мысль командира эскадрильи: будет высота, — будет и скорость, а это и есть тактическое
преимущество над противником в случае встречи с фашистскими истребителями. Такая встреча
возможна в любую секунду, особенно во время разведывательного полета во вражеском тылу, и она не
должна застать нас врасплох. Бить «мессеров», находясь над ними, не только вернее, надежнее, но и
безопаснее, поскольку решительная атака сверху в сочетании с повышенной скоростью позволяет
предельно сократить время пребывания машины под огнем пулеметов и пушек врага. И, напротив, тот,
кто атакует противника снизу, на малой скорости ставит себя в неравное, проигрышное положение перед
неприятелем, совершает грубейшую, порой непоправимую ошибку, за которую молодые,
неосмотрительные летчики зачастую расплачиваются не только ценой своего самолета, но и собственной
жизнью.
Не теряя ни минуты, прямо из капониров{1}, надежно маскирующих наши самолеты от фашистских
воздушных разведчиков, идем на взлет. Подняв густую серую пыль, отрываемся от земли. Вслед за
ведущим делаю [92] доворот в левую сторону, поближе пристраиваюсь к его крылу. Стрелка на шкале
высотомера быстро уходит вправо, словно и она торопится на боевое задание. Высота — около двух
тысяч метров. Летим под густыми облаками. Сквозь назойливый писк морзянок, резкий треск
электрических разрядов, обрывки симфонической и джазовой музыки, чьи-то хриплые команды, брань,
гортанные выкрики на немецком языке слышу в наушниках шлемофона спокойный голос Наумчика:
— Держись поближе, не отрывайся.
Подходим к линии фронта. Ее нетрудно обнаружить по частым огненным сполохам, вырывающимся из
жерл артиллерийских орудий, по причудливо извивающимся линиям окопов, которые темнеют среди
затянутой дымом, выгоревшей степи.
В воздухе, слева и справа, появляются безобидные на вид белесые облачка. Это открыла огонь по «якам»
расположенная у переднего края фашистская зенитная артиллерия. Снаряды ложатся кучно, любой из
них может обернуться для нас смертельной бедой. Но я не думаю об опасности; все мои мысли
направлены на то, чтобы успешно выполнить первое боевое задание, оправдать доверие Курбатова и
Наумчика.
Уходя от зенитного огня, круто пикируем, бросаем машины влево и вверх, продолжаем полет строго по
заданному курсу. Линия фронта остается позади. Огонь зениток становится слабее, а затем полностью
прекращается.
Под крылом самолета чернеют выжженные до последней мазанки безлюдные деревни и хутора. Кажется,
что мы пролетаем не над плодородной землей — еще недавно цветущим, обильным краем, а над
пустыней.
Земля словно вымерла, движение заметно лишь на дорогах. В недавних боях фашисты понесли
серьезные потери в людях и технике, и теперь они подтягивают к фронту свежие танковые части и
мотопехоту. Отмечаю [93] на карте пути следования войск, делаю краткие заметки об их численности,
одновременно слежу за воздухом. Надо мной голубеет знойное небо, солнце сзади, и все у меня, как на
ладони. Пока не видно никакой опасности.
И вдруг в наушниках слышится все тот же спокойный голос Николая Кузьмича:
— По курсу девяносто вижу три девятки «юнкерсов» и «хейнкелей» под прикрытием восьми «мессеров».
В первый момент я растерялся. Уж слишком неравными были силы. Да и встреча с врагом над
территорией, временно оккупированной немецко-фашистскими войсками, вдвойне усиливала опасность.
Гитлеровцы шли примерно на одной с нами высоте. Если не разогнать, не разметать вражеские
бомбардировщики, то на позиции наших войск, фронтовые тылы неминуемо обрушится мощный
бомбовой удар.
Нас маскировало ослепительно яркое солнце. Этим не преминул воспользоваться мой ведущий, и я
услышал его команду:
— Набираем высоту!
Несколько «мессершмиттов», отвалив от своих бомбардировщиков, на полном газу бросаются нам
навстречу. Но фашисты заметили нас слишком поздно, когда мы находились уже над немецкими
истребителями. Явное тактическое преимущество было на нашей стороне, хотя их в воздухе было
вчетверо больше. К тому же «мессеров» связывали собственные бомбардировщики, которые, лишившись
прикрытия, немедленно превратились бы в верную мишень для наших пушек и пулеметов.
В эфире все тот же хаос, все то же столпотворение звуков. Я напрягаю слух, сквозь горячую словесную
перепалку немцев улавливаю басок Николая Кузьмича. Оценив обстановку, он принимает смелое
решение:
— Атакую головного «мессера». Прикрывай. [94]
«Як» моего ведущего на полном газу идет на сближение с фашистом, и я мысленно представляю, как
сейчас, искусно действуя ручкой и педалями, Наумчик выносит перекрестье прицела в нужную точку и с
короткой дистанции открывает огонь. Прикрывая ведущего, жму на гашетку и я. Гитлеровский летчик,
собравшийся, было, атаковать в хвост Наумчика, отворачивает в сторону. Завязывается жаркий бой.
Атакованный моим командиром «мессер» маневрирует, увертывается от огня советского истребителя, и
первая очередь, прошив небо, не причиняет вреда противнику. Мой ведущий снова ловит фашиста в
прицел, но удержать его в перекрестье, взять упреждение не удается. Тем временем второй и третий
«мессеры» пытаются сзади атаковать Наумчика, все еще связанного боем с первым «мессершмиттом». Я
отгоняю их пулеметным огнем.
Эволюции немецкого истребителя однообразны, как движение маятника: «мессер» маневрирует слева
направо, затем справа налево и снова слева направо, однообразная тактика противника не остается не
замеченной наблюдательным и хладнокровным Наумчиком. Бросив свой самолет в очередной раз на
фашиста, он не стал открывать огня, выжидал, пока тот, продолжая действовать по прежней системе, не
отвернет вправо, а когда «мессер» взял влево, стремительно его атаковал. Неожиданный маневр
советского летчика оказался роковым для фашиста. Сразу же потеряв скорость и управление,
крутнувшись через крыло, в последний раз сверкнув черным крестом в белой окантовке, «мессер»
задымил и, объятый пламенем, камнем понесся к земле.
Не испытывая желания разделить участь своего ведущего, остальные фашисты, несмотря на численное
превосходство, не стали продолжать бой. Ободренный маневром Наумчика, я бросил самолет в сторону
вражеских бомбардировщиков, и те, должно быть, не особенно надеясь на прикрывавших их «мессеров»,
стали уходить [95] кто куда. Трудно было устоять против соблазна атаковать «юнкерсы», но нам
предстояло еще выполнить боевое задание. Командованию советских войск требовались уточненные,
свежие данные о действиях противника в его прифронтовом тылу, и после того, как Наумчик, как бы
между делом, сбил очередной «мессер», мы продолжали разведывательный полет.
Чем дальше «яки» уходили в тыл противника, тем более интенсивным, насыщенным становилось
движение гитлеровских войск. Окутанные пылью, словно в тумане, направлялись к фронту танковые
колонны, артиллерийские части, автомашины с пехотой и грузами. В районе Цимлянской мы
обнаружили несколько железнодорожных эшелонов, с небольшими интервалами проследовавшими на
юго-восток.
Выполнив задание, мы благополучно пересекли линию фронта. Вот и наш аэродром. Приземлившись,
зарулили к стоянке, укрыли машины в капонирах. Только теперь я увидел на своем истребителе следы
фашистских пуль: в пылу воздушного боя я не заметил, что одному из «мессеров», пытавшихся отсечь
меня от ведущего, удалось всадить в мой «як» пулеметную очередь.
В предгорьях Кавказа
Нам приходилось действовать в сложных и трудных условиях, драться с превосходящими силами
противника. Вражеская авиация наращивала удары по коммуникациям советских войск, подвергала
ожесточенным бомбежкам железные дороги, аэродромы, мосты, переправы.
В неравной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками наши летчики проявляли массовый героизм
[96] демонстрировали беззаветную преданность советской Родине, своему народу.
Великолепным мастером воздушного боя показал себя заместитель командира эскадрильи, летчикистребитель Филипп Степанович Яровой, впоследствии удостоенный звания Героя Советского Союза.
На примере Ярового многие из нас учились суворовской науке побеждать, бить врага не числом, а
умением.
В один из дней, когда гитлеровские молодчики особенно активно действовали в воздухе, Яровой во главе
шестерки «лаггов» сопровождал на боевое задание группу бомбардировщиков. На обратном пути наши
самолеты были атакованы дюжиной «мессеров», которые разделились на две группы. Первая вступила в
схватку с «лаггами» и отсекла их от бомбардировщиков. Вторая, уверенная в скорой и легкой победе,
бросилась в атаку на бомбардировщиков, вблизи которых в эти критические секунды оставался
единственный советский истребитель, пилотированный Яровым. Имея многократное численное
превосходство, фашисты не предполагали, что советский летчик примет навязанный ему неравный бой.
Но не тут-то было! Развернув свою машину, Яровой смело бросил ее на противника, открыл огонь и
первыми же очередями сбил истребитель. Все произошло так неожиданно для немцев, что поначалу они
растерялись. Но быстро опомнившись, яростно набросились на Ярового. Хладнокровно отбиваясь от
наседавших фашистов, летчик не терял из виду своих бомбардировщиков, не подпуская к ним
«мессеров». Тем временем остальные «лагги» связывали боем вторую группу вражеских истребителей.
Наши бомбардировщики не замедлили воспользоваться создавшейся благоприятной ситуацией и
сомкнутым строем уверенно уходили к своему аэродрому. [97]
А позади них продолжалась ожесточенная схватка советских истребителей с вражескими машинами.
Бой шел с переменным успехом. Стремясь во что бы то ни стало уничтожить дерзкого летчикаистребителя, фашисты упорно наседали на Ярового. Совершая эволюцию за эволюцией, умело уходя из
под огня вражеских самолетов, он сбил второй «мессер».
Бомбардировщики, невредимые под надежным прикрытием истребителей, достигли аэродрома и стали
заходить на посадку. Однако немцы продолжали преследовать наши самолеты, снова и снова
предпринимали отчаянные усилия сбить истребитель Ярового, который по-прежнему, прикрывая
бомбардировщиков, лишал фашистов последней возможности атаковать их.
В разгар одной из самых горячих, напряженных схваток у отважного заместителя командира эскадрильи
полностью иссякли боеприпасы. Чтобы отвлечь внимание немцев от бомбардировщиков и дать им
благополучно приземлиться, Яровой стал имитировать ложные атаки на «мессеров». Во время одной из
таких «атак» в мотор угодил осколок фашистского снаряда. Самолет вышел из повиновения. Однако
Яровой выровнял машину и с большим трудом посадил ее невдалеке от аэродрома.
Фашистские стервятники атаковали стоящий в поле советский самолет, но уничтожить его не смогли.
Уверенные, что летчик погиб, они прекратили преследование.
В ожесточенных сражениях с фашистской авиацией прославился замечательный сын Дагестана
Владимир Аллахиярович Эмиров.
Комсомолец, студент авиационного техникума, курсант спортивного аэроклуба, в 1935 году он поступает
в Сталинградскую школу военных летчиков и успешно ее заканчивает. [98]
По прибытии в одну из частей Ленинградского особого военного округа лейтенант Эмиров продолжал
упорно учиться. Он в совершенстве овладел техникой пилотирования, искусством меткой стрельбы.
Когда речь заходила об отличниках боевой и политической подготовки части, командир истребительного
авиационного полка в числе первых называл имя Владимира Эмирова, двадцатичетырехлетнего парня,
родившегося в семье рыбака в далеком прикаспийском ауле Ахты. Он был не только замечательным
летчиком, но и общительным, душевным человеком. Внимательный к людям, весельчак, Владимир
Аллахиярович пользовался среди однополчан глубоким уважением и любовью.
Боевой путь отважного сокола начался зимой 1939 — 1940 года во время войны с белофиннами. В
разведывательном полете он шел над вражеской территорией, густо покрытой непроходимыми лесами,
пестревшей бесчисленными озерами, когда вдруг его атаковали три финских истребителя. Один из них
Эмиров сбил, но в бою получил тяжелое ранение. От потери крови кружилась голова, тяжелой, словно
чугунной, стала рука, лежавшая на штурвале. Нестерпимо болела рана, перед глазами мельтешили
черные точки. Эмиров чувствовал, что вот-вот он впадет в беспамятство, а это было равносильно гибели.
Раненый летчик собрал всю свою волю. И мужество победило: Эмиров дотянул до своего аэродрома.
Друзья насчитали в его машине около сотни пробоин. Родина высоко оценила отвагу Эмирова, грудь
смелого летчика украсил орден Красного Знамени.
Началась Великая Отечественная война, и снова Владимир Эмиров в рядах защитников Отчизны.
Эскадрилья истребителей-штурмовиков, которой он командовал, громила врага на Крымском участке
фронта. Однажды на рассвете дальнобойная артиллерия гитлеровцев открыла ураганный огонь по
переднему краю наших наземных войск. Эскадрилья Эмирова получила приказ [99] подавить
артиллерийские точки противника, сорвать готовящуюся атаку наших позиций.
Прорвавшись невредимой сквозь плотную огневую завесу немцев, эмировская девятка обрушила
сокрушительный удар на вражеские огневые позиции. Замолчала артиллерия, пылали фашистские танки,
взрывались цистерны с горючим. А эскадрилья Эмирова, делая крутые развороты, снова и снова
атаковала гитлеровцев.
В разгар боя захлопали зенитные батареи немцев. Уходя вверх, в очередной разворот, машина Эмирова
вдруг резко вздрогнула, и в то же мгновение летчик до крови закусил губу от нестерпимой боли,
пронзившей все тело. Едкий, удушливый дым, заполнивший кабину, жег глаза. Нечем было дышать, и,
казалось, теперь — конец. Но не впервые смотрел в глаза смерти отважный воин. С огромным трудом
выровняв самолет, он сверил курс и, приземлившись через пятнадцать минут на своем аэродроме, тут же
потерял сознание.
Хирург обнаружил в теле Эмирова семнадцать ран. Многие из них были тяжелыми, и, по заключению
медиков, состояние командира эскадрильи не оставляло почти никаких надежд на благополучный исход.
Около трех недель врачи не отходили от его койки, и богатырский организм Владимира Эмирова, его
стремление во что бы то ни стало выжить, чтобы и дальше бить врага, победили смерть.
После выздоровления летчик возвратился в строй, и боевые друзья поздравили вчерашнего комэска с
назначением на должность командира истребительного авиационного полка.
К сожалению, мне больше не пришлось встречаться с Владимиром Аллахияровичем. Но вот что
рассказывает о дальнейшем ратном пути героя его однополчанин, бывший техник авиаполка капитан И.
Е. Прокофьев:
— Шли упорные кровавые бои с гитлеровскими полчищами, подошедшими к предгорьям Северного
Кавказа. [100]
Капитан Эмиров тяжело переживал временные неудачи наших войск. Сердце его клокотало жгучей
ненавистью к врагу.
На антифашистском митинге молодежи Северного Кавказа Владимир Эмиров сказал: «Молодые
джигиты! Нас ждут жестокие кровавые бои, Буйный Терек не потечет вспять, злая туча не погасит
солнца, горцы не будут рабами Гитлера. Мы победим. Залог нашего торжества — в сплоченности
братских народов, в могуществе партии Ленина!»
Сотни глаз всматривались в суровое, уставшее лицо Эмирова, согласно кивали головами. Возвратился
Эмиров с митинга в свою часть — и снова в бой.
В тот же день он мастерски отразил атаки семи «мессершмиттов» и трех «Макки-200», напавших на
наших бомбардировщиков, одного пирата сбил.
В конце августа, сопровождая группу самолетов на бомбометание, Эмиров обнаружил в воздухе
вражеского разведчика, догнал его, атаковал и сбил.
10 сентября 1942 года Эмиров вступил в жаркую схватку с шестью самолетами врага. После первой
атаки задымил и упал на землю фашистский истребитель. Судьбу его разделил и второй воздушный
пират. Но слишком неравными были силы. Немцам удалось поджечь самолет Эмирова. Летчик пытался
сбить пламя с горящего самолета, круто бросал его из стороны в сторону, но ничто не помогало.
Огненные языки проникли в кабину, подожгли на Эмирове одежду, стали лизать его лицо и руки. Когда
летчик решил оставить гибнущий самолет, горящая машина уже шла чуть ли не на бреющем полете, и
парашют не успел раскрыться. Так трагически оборвалась жизнь отважного рыцаря неба, который
совершил свыше двухсот боевых вылетов, сбил лично восемь немецких самолетов, уничтожил сотни
вражеских солдат и офицеров, большое количество фашистской боевой техники. [101]
В декабре 1942 года Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил Владимиру
Аллахияровичу Эмирову звание Героя Советского Союза. Прошли десятилетия, но не померк в памяти
народной, в памяти друзей-однополчан благородный образ мужественного летчика, до последнего
дыхания сражавшегося за свою Родину.
***
Ежедневно каждый из нас совершал несколько боевых вылетов, и нередко, возвратившись с задания, мы
тут же заправляли баки горючим и снова поднимались в небо навстречу ненавистному врагу. Отражая
атаки фашистской авиации, прикрывая в полетах наши бомбардировщики, уничтожая военную технику и
живую силу противника, мы также вели разведку, изучали быстро менявшуюся фронтовую обстановку.
Летчики уточняли дислокацию наших наземных частей, доставляли им свежие данные о «поведении»
противника и, если в этом возникала необходимость, обеспечивали связь с вышестоящим
командованием.
Все это было нелегким делом. Для получения точных данных о своих войсках приходилось летать на
малых высотах, что в условиях предгорной местности уже само по себе небезопасно. Приземляя с
риском свои машины на первых же более менее подходящих «пятачках», мы вступали в
непосредственный контакт с командирами наземных частей, которые информировали нас о действиях
вверенных им подразделений и противостоящего противника.
Во время таких полетов нам нередко приходилось попадать в самые сложные, неожиданные ситуации.
Вспоминается такой случай. Облетая территорию вблизи линии фронта, Герой Советского Союза
капитан Петр Селиверстович Середа увидел под крылом машины пехотную колонну. Кто это? Свои?
Немцы? Чтобы получить ответ на этот вопрос, летчик сбавил высоту. По [102] обмундированию солдат,
по цвету гимнастерок он определил, что по дороге движутся советские бойцы. Солдаты приветственно
замахали летчику руками и пилотками, и он решил выяснить, какую они выполняют задачу.
Рядом с дорогой, по которой устало шагали бойцы, зеленела поросшая травой небольшая, но пригодная
для приземления истребителя луговина, и капитан Середа посадил самолет. Не выключая мотора, он
вылез из кабины, поспешил к колонне. На полпути его остановили тревожные, предостерегающие крики
солдат:
— Товарищ летчик, назад! Спасайтесь! Мы пленные.
Середа бросился к истребителю. Солдаты, конвоировавшие пленных вскинули автоматы... Одна из пуль
ранила Середу, но он успел добежать до своей машины и влезть в кабину. Когда гитлеровцы были уже в
нескольких метрах от машины, летчик дал газ. Истребитель круто развернулся и, обдав преследователей
густой пылью, поднялся в воздух.
Напряжение битвы, развернувшейся на юге, с каждым днем нарастало. Не останавливаясь ни перед
какими потерями, немцы стремились форсировать Дон. Фашистские саперы предпринимали попытки
навести переправы то на одних, то на других участках западного берега реки.
Небо над переправами превратилось в арену ожесточеннейших воздушных схваток. Выжженная дотла
земля сотрясалась от взрывов фугасных бомб и артиллерийских снарядов. Свистели мины, трещали
пулеметы и автоматы. Вода у переправ кипела и клокотала, словно в гигантском котле, и никак нельзя
было назвать в то горькое трудное лето 1942 года величавую русскую реку, преграждавшую гитлеровцам
путь в глубь нашей Родины, «тихим» Доном. За несколько дней боев наша дивизия произвела сотни
самолето-вылетов. Мы неоднократно уничтожали подготовленные противником переправы, [103] сожгли
десятки немецких танков, вывели из строя немало живой силы противника.
В этих сражениях умножила свою боевую славу и эскадрилья капитана Наумчика. Прикрывая
штурмовики и бомбардировщики, которые неустанно наносили удары по вражеским переправам, держа
под беспощадным огнем фашистских саперов, мы ежедневно совершали по пять-шесть самолетовылетов. Летчики нашей эскадрильи, как и других подразделений полка, не жалели ни сил, ни крови, ни
самой жизни для того, чтобы задержать гитлеровцев, не дать им возможности форсировать Дон,
прорваться в Сальские степи.
Однако наседающему противнику удалось расширить протяженность фронта, по которому он вышел
непосредственно к правому берегу реки, и форсировать ее.
Намереваясь захватить Кавказ, фашистское командование надеялось не только на значительное
ослабление Советского Союза, но и предполагало одновременно усилить экономический потенциал
Германии, обеспечить ее, прежде всего, нефтепродуктами, в которых Немецкая армия испытывала все
более серьезную нехватку. Вместе с тем гитлеровская клика отводила Кавказу особую роль в
осуществлении своей бредовой идеи завоевания мирового господства, поскольку в случае оккупации
кавказских территорий оно рассчитывало выйти на операционное направление, открывавшее немецким
войскам кратчайший путь для захватнического похода на Ближний Восток и в Индию.
Благодаря огромной работе проводимой Коммунистической партией в действующей армии, мы
понимали, что значение битвы на юге выходит далеко за рамки нашего фронта, что оно во многом
предопределяет исход всей священной, освободительной борьбы советского народа против гитлеровской
Германии, в целом судьбу второй мировой войны. Прозвучавший в те дни призыв Коммунистической
партии «Ни шагу назад!» [104] нашел горячий отклик в сердцах советских солдат и офицеров, умножал
наши силы, вдохновлял на новые подвиги в кровопролитных сражениях с ненавистным врагом.
В середине августа фронт стабилизировался на берегах рек Терек и Баксан. Гитлеровцы стремились
любой ценой прорваться к Грозному, Орджоникидзе, захватить Баку и Тбилиси, выйти в районе Сухуми
на побережье Черного моря. Но все усилия фашистских войск неизменно разбивались о несокрушимую
стойкость, отвагу, массовый героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров.
Во взаимодействии с бомбардировщиками и штурмовиками мы не только наносили сокрушительные
удары по противнику, но и держали под своим контролем важнейшие объекты в ближнем тылу врага.
Не проходило дня, чтобы на счету у каждого из нас не прибавлялось по четыре-пять боевых вылетов.
Каждый из них, какую бы задачу мы ни выполняли, не обходился без ожесточенных схваток с
фашистскими самолетами.
Вспоминается один из августовских дней. Стояла сухая, жаркая погода. Самолеты нашей эскадрильи, в
очередной раз сопровождавшие штурмовики на бомбежку переднего края гитлеровцев, после успешного
выполнения боевой задачи возвратились на полевой аэродром.
На землю спускались сумерки, которые на юге наступают особенно рано. В небе на некоторое время
воцарилось относительное спокойствие. Воспользовавшись недолгим отдыхом, мы приводили себя в
порядок: умывались прозрачной, будто слеза, родниковой водой, брились, подшивали к гимнастеркам
белоснежные подворотнички, чистили одежду и обувь. Управившись со всем этим, занялись свежими
газетами. Многие писали письма. [105]
Мне писать было некуда. С тех пор, как в конце октября 1941 года гитлеровцы оккупировали Харьков, я
потерял связь со своей семьей, ничего не знал о ее судьбе, и тревога, щемящая тоска не давали мне ни
минуты покоя.
Не проходило дня, чтобы печать, радио не сообщали о злодеяниях гитлеровцев на временно захваченной
советской земле. Виселицами, трупами замученных и расстрелянных женщин, детей, стариков
покрылись и улицы истерзанного врагом Харькова. С болью в сердце я думал о том, не разделила ли моя
семья трагической участи многих харьковчан.
Военная гроза разлучила меня и со старыми друзьями по службе в батальоне аэродромного
обслуживания, и с однокашниками по Чугуевскому училищу Василием Белецким, Александром
Сукачевым и Петром Васильевым. Постоянно перебазируясь со своими полками и эскадрильями с места
на место, меняя номера полевых почт, мы еще в начале 1942 года потеряли всякую связь, ничего не
ведали друг о друге. Единственное, что мне было известно о моих друзьях, это то, что они воюют где-то
на центральных фронтах.
Погрузившись в свои невеселые думы, я прилег отдохнуть на траву у капонира. Тревожные,
неспокойные мысли мои были далеко за линией фронта, на оккупированной гитлеровцами Украине.
Голос дежурного по эскадрилье заставил меня быстро подняться, застегнуть на все пуговицы
гимнастерку, оправить складки у поясного ремня:
— Срочно к командиру полка!
Подполковник Курбатов вызвал командиров и политработников, чтобы сообща с нами подвести итоги
дня, проанализировать ход состоявшихся воздушных сражений, наметить план боевой работы на
следующий день.
Совещание подходило к концу. Командир полка пожелал нам успехов, и мы собрались было в столовую.
[106]
После напряженной боевой работы хотелось быстрее поужинать и предаться недолгому фронтовому сну.
Но тут на командный пункт полка поступил приказ произвести еще один боевой вылет. Быстро надеваем
парашюты, заводим моторы своих «яков», постоянно находившихся в полной боевой готовности, ждем
сигнала на взлет.
В темнеющем небе ярко вспыхивает красная ракета. Ведущий, командир эскадрильи капитан Наумчик
поднимает в воздух свой самолет. Вторым взлетаю я. Вслед за нашими «яками» взмывают в небо
остальные истребители. Достигнув нужной высоты, ложимся на боевой курс.
Как всегда, наблюдаем друг за другом, бдительно следим за воздухом. В небе спокойно. Фашистских
самолетов не видно. В заданном квадрате принимаем под свою опеку группу «ильюшиных»,
пристраиваемся им в хвосты, слева и справа. Сообща идем на штурмовку автомашин с фашистскими
войсками, которые спешно подтягиваются к линии фронта.
А в это время наши товарищи, оставшиеся на аэродроме, увидели в небе разведчик-корректировщик
«Фокке-Вульф-189», окрещенный летчиками за двойной фюзеляж «рамой». Крадучись, «фоккер» шел с
запада на высоте двух тысяч метров курсом на Моздок. Дай «раме» благополучно уйти, и серьезных
неприятностей не оберешься: жди после нее появления в воздухе вражеских самолетов, имеющих
уточненные «фоккером» данные для бомбометания.
Вблизи города немецкий самолет развернулся вправо. Пользуясь отсутствием в воздухе советских
истребителей, он начал петлять над нашим аэродромом. Все ясно: «рама» решила произвести
обстоятельную воздушную разведку. В воздухе над аэродромом патрулировал единственный «як»,
остальные ушли громить фашистскую мотопехоту. Да и на этом самолете лейтенант Калугин [107]
проверял новый мотор. В довершение всего, на машине не было рации. Но «раму» ни в коем случае
нельзя было отпустить подобру-поздорову.
Калугин пилотировал свой самолет на высоте трех тысяч метров. «Фоккер» шел тысячью метрами ниже.
Это создавало «яку» выигрышное положение для атаки. Однако Калугин, увлекшись испытанием
машины, все еще не видел противника. По тому, как нагло вел себя гитлеровец, продолжавший летать
над нашим аэродромом, можно было предположить, что и фашист не замечает Калугина.
Задрав головы, все, кто был на аэродроме, не жалея глоток, взволнованно кричали в небо, будто Калугин
мог их услышать:
— Да атакуй же, наконец, Калугин, эту чертову «раму». Уйдет же, проклятая!
Подполковник Курбатов недолго наблюдал за этой картиной. Бросив сквозь зубы несколько крепких
слов в адрес ничего не ведавшего Феди Калугина, он приказал поднять в воздух второй «як»,
оказавшийся у капонира.
— Разрешите, товарищ подполковник, выполнять боевую задачу? — буквально взмолился один из
опытнейших летчиков полка Герой Советского Союза Михаил Михайлович Осипов, в группе с которым
мне много раз доводилось сражаться с фашистскими истребителями. — Позвольте показать этой самой
«раме», где раки зимуют!
Курбатов поощрительно кивнул головой:
— Давай, Миша, показывай!
Не успел Осипов запустить мотор и устремиться ввысь, как на аэродроме послышались дружные
аплодисменты и восторженные возгласы:
— Молодец, Калугин! Врежь ему, Федя, чтоб знал наших! [108]
Показавшись из-за жидкого облачка, «як» Калугина стремительно шел на сближение с немцем. Фашист
уклонился от боя, отвернув в сторону, стал уходить на запад. Пушки и пулеметы «яка» ударили по
«раме». Разведчик продолжал удирать. Калугин молниеносно развернул машину для новой атаки.
Пытаясь оторваться от советского истребителя, фашистский летчик до отказа выжал сектор газа. Но уйти
от возмездия ему не удалось. К месту боя подоспел Михаил Осипов. Объятый огнем и дымом «фоккер»
врезался в землю неподалеку от нашего аэродрома.
Запись в летной книжке
Спустя недолгое время лейтенант Калугин сбил очередной фашистский самолет. В этом скоротечном,
особенно хорошо запомнившемся мне воздушном бою неподалеку от Моздока, над населенным пунктом
Шефатов, бок о бок с Федором Калугиным, Николаем Наумчиком, Иваном Горбуновым, Николаем
Глядяевым и еще одним летчиком, фамилии которого, к сожалению, не запомнил, сражался и я.
Ведомые Наумчиком, мы сопровождали четверку Ил-2. Надежно прикрываемые истребителями, «илы»
подходили к цели. Штурмовик, идущий в боевом строю первым, покачнулся с крыла на крыло. Это был
условный сигнал ведомым:
— Внимание! Впереди цель!
Я посмотрел вниз. По извилистой дороге, обрамленной редкими деревьями, ползли фашистские
бронетранспортеры и автомашины с пехотой. Их много, даже приблизительно трудно пересчитать. Да и
не в характере советских летчиков заниматься в бою такой арифметикой, [109] иное дело — в разведке.
Слова «врага не считают, а бьют» давно стали для нас не только крылатой фразой, но и повседневной
жизнью, будничным трудом.
Развернувшись, «илы» со стороны солнца зашли на цель. Бомбовой удар был нанесен с безупречной
точностью. Густой дым разрывов окутал колонну, на дороге вспыхнуло несколько очагов пожара. Из
горящих бронетранспортеров и грузовиков разбегались в панике автоматчики.
— Делаем еще заход! — слышится в наушниках басок ведущего.
И в этот момент в воздухе появилась дюжина «мессеров», бросившихся навстречу нашей группе. Немцы
прибегли к своей обычной тактике. Одна часть ринулась к «илам»; остальные пошли на сближение с
«яками», рассчитывая разбить наш боевой порядок, связать боем, отсечь советские штурмовики от
истребителей. Вели себя в воздухе гитлеровские летчики самоуверенно, заранее предрешив исход
предстоящего боя в свою пользу. У немцев были серьезные основания предвкушать победу: как-никак
«мессеров» было вдвое больше, чем «яков». К тому же гитлеровцам некого было прикрывать. Перед
нами же стояла задача не только вести бой с противником, но и обеспечить безопасность штурмовиков,
которые без истребителей сопровождения стали бы легко уязвимой целью для фашистов.
Все это и имели в виду немцы. Но они не учли главного — морального превосходства советских
воздушных воинов, их твердой воли к победе, свойственной нашим летчикам, взаимовыручки в бою. И
за этот серьезный просчет противник жестоко поплатился.
В наушниках шлемофона послышалась команда Николая Наумчика:
— Горбунову и Глядяеву прикрывать штурмовики! Остальные самолеты Наумчик повел в атаку на
«мессеров». Я не впервые летал ведомым у Николая Кузьмича [110] и, как всегда, пристроился ему в
хвост, чтобы лишить фашистов возможности атаковать ведущего сзади.
Завязалась жаркая воздушная схватка. В течение десяти минут Николай Наумчик, Иван Горбунов, Федор
Калугин сбили по «мессершмитту». Четвертый «мессер» уничтожил я.
Пока мы разделывались с вражескими истребителями, «илы» продолжали штурмовать колонны
противника, обрушивая на них беспощадный артиллерийско-пулеметный огонь. Об успешной работе
краснозвездных штурмовиков свидетельствовали пылавшие на дороге автомашины с фашистскими
войсками и грузами.
На следующий день в штабе полка в мою летную книжку внесли лаконичную запись: «12 декабря 1942
года в составе шестерки Як-1 вылетел на прикрытие штурмовиков Ил-2 в район Шефатов. В районе цели
на отколовшегося от группы одиночного Ил-2 пытались напасть 2 Ме-109ф. Тов. Исаев один навязал им
бой, в результате которого сбил 1 Ме-109ф, упавший в 2—3 километрах севернее Шефатова; второго Ме109ф обратил в бегство. Сбитый самолет подтвержден наземными частями — танковым батальоном».
Так я открыл счет лично сбитых мною фашистских самолетов.
Командир полка Курбатов, комэск Наумчик уделяли много внимания организации боевой учебы, и
прежде всего изучению летным составом новых тактических приемов воздушного боя.
Как и в пору тяжелых оборонительных сражений на Украине, в предгорьях Кавказа, так и позже, в
период освобождения Кубани, Крыма, Польши, во время боев на территории фашистской Германии, в
полку глубоко анализировали воздушные бои с противником, изучали их сильные и слабые стороны. Все
это позволяло летчикам овладевать лучшим опытом боевой работы, воспитывать [111] в себе умение
ориентироваться в любой обстановке и, сообразуясь с условиями того или другого боя, сражаться с
врагом так, чтобы бить его без промаха.
В наших полках хорошо знали летчика-истребителя командира эскадрильи Героя Советского Союза
Дмитрия Павловича Назаренко. Мне также приходилось встречаться с замечательным советским асом, у
которого мы учились искусству внезапных, стремительных атак, военной хитрости, четкому
взаимодействию в бою со своими самолетами и наземными войсками. Находчивость Назаренко, его
способность безошибочно ориентироваться в воздушной обстановке, умение из множества возможных
вариантов боя выбрать лучший вошли у нас в поговорку. И когда, случалось, Курбатов или Наумчик
говорили кому-либо из подчиненных: «Воюешь ты, как Митя Назаренко», — слова эти звучали высокой
похвалой.
На фронте Дмитрий Назаренко был с первых дней Великой Отечественной войны. К декабрю 1942 года
он произвел свыше трехсот боевых вылетов, сбил в воздухе 11 самолетов противника, 5 — сжег на
вражеских аэродромах и 7 — вместе с товарищами по оружию уничтожил в групповых боях.
Отличная тактическая подготовка, неповторимый «почерк» Назаренко в воздушных боях особенно ярко
проявились в таком, например, эпизоде его богатой военной биографии. Во время одного из боевых
вылетов Дмитрий Назаренко во главе группы истребителей сопровождал наши штурмовики, перед
которыми была поставлена задача нанести удар по переднему краю противника. Когда «илы» начали
заходить на цель, истребители подверглись нападению «мессеров».
Пристроившись в хвост нашим машинам, немцы подошли к ним на близкую дистанцию и открыли огонь
из пушек. Назаренко приказал своей группе развернуться. Едва летчики, сопровождавшие штурмовики,
стали [112] выполнять команду, как фашисты сбавили газ, оторвались от советских истребителей. Но
стоило нашим машинам снова развернуться, и гитлеровцы повторили попытку пристроиться им в хвост.
И так продолжалось несколько раз.
Пока вражеские летчики, будто заведенные автоматы, прибегали к одному и тому же маневру, у
Назаренко созрело смелое решение. Приказав двум истребителям по-прежнему прикрывать штурмовики,
он остальные самолеты увел в тучи, так сказать, в неизвестном направлении.
Гитлеровские летчики, за которыми теперь было подавляющее численное превосходство, попались на
удочку. Не разгадав маневр Назаренко, они бросились в атаку на двух краснозвездных истребителей. На
это и рассчитывал командир эскадрильи, обрушивший на «мессеров» внезапный удар сверху. Не успели
ошеломленные фашистские летчики сообразить, что, собственно, происходит в воздухе, кто и откуда
открыл по ним беспощадный огонь, как мотор головного «мессера» задымил. Только убедившись в том,
что атака достигла цели, Назаренко оторвался от противника. Подбитый самолет стал беспомощно
дергаться из стороны в сторону, — видимо, у него были повреждены рули, — и, охваченный коптящим
оранжевым пламенем, врезался в землю.
Этот бой Дмитрия Назаренко стал для нас предметом глубокого разбора на одном из занятий по тактике
истребительной авиации. Рассказывая летчикам о своем боевом опыте, Дмитрий Петрович подчеркнул,
что в основе побед воинов его эскадрильи над воздушным противником лежат не везение, не счастливое
стечение обстоятельств, а точный тактический расчет, тесное взаимодействие не только с истребителями
своей эскадрильи, но и с самолетами, которые они прикрывают.
Назаренко решительно отказался от оборонительного и, стало быть, пассивного в своей основе
горизонтального [113] маневра поединка с воздушным противником, от единоборства с ним в замкнутом
кругу, по методу так называемой «карусели», от сомкнутых боевых порядков в звеньях и ряда других
прежних «классических» приемов тактики воздушного боя.
Заимствуя опыт Дмитрия Назаренко, моего комэска Николая Наумчика и других лучших летчиков,
действуя в рассредоточенных боевых порядках, сражаясь с гитлеровцами на вертикалях, и я стал
проявлять больше выдумки и инициативы в воздушных схватках.
Немало полезного почерпнул я и на занятиях, на которых досконально анализировались бои,
проведенные нашей же эскадрильей. Их обычно проводил сам Наумчик, и я был глубоко признателен
моему комэску за то, что он помог мне преодолеть опасные тактические ошибки, без которых редко
обходятся молодые летчики-истребители, впервые прибывшие на фронт.
Речь идет о простых, казалось бы, прописных истинах, но поначалу в пылу атак, разгоряченный боем, я
нередко о них забывал. Я имею в виду своеобразную технику безопасности воздушного боя. За
пренебрежительное к ней отношение с нас строго взыскивали и командир полка, и командир эскадрильи.
Они умели беречь людей, делали все возможное для того, чтобы ни один летчик не становился жертвой
собственной же оплошности.
Вспоминается один нелепый эпизод. В небе над Моздоком наш истребитель встретился с отставшим от
своей группы одиночным «юнкерсом». «Як» с ходу атаковал фашиста, точно взял его в прицел и первой
же пушечной очередью поджег левую плоскость вражеского самолета. Пламя с крыла перебросилось на
кабину. Оставляя позади себя шлейфы дыма, «юнкерс» стал терять высоту. Минуты его были сочтены.
«Як» мог продолжать полет по заданному курсу. Летчик же подошел на близкую дистанцию к
гибнущему фашисту, намереваясь, видимо, [114] проводить его на тот свет. Ждать оставалось недолго.
Но за мгновенье до того, как «юнкерс», уже весь объятый пламенем, начал разваливаться в воздухе,
гитлеровский стрелок успел полоснуть из пулемета по «ястребку». Бессмысленно погиб наш летчик,
победивший врага, потерян боевой самолет.
Напомнив на занятиях по тактике этот случай, комэск предостерег всех нас от другой грубой ошибки,
которую я допустил в недавнем групповом бою.
Не помню точно, кто именно из летчиков нашего звена всадил в кабину «мессера» меткую очередь из
пулемета. Да и не в этом, собственно, дело. Важно то, что фашиста подбросило вверх, он неестественно
накренился, задымил, потеряв управление, стал катастрофически быстро снижаться. Серо-желтый
«мессершмитт» был от меня не дальше чем в 120—150 метрах, и я не устоял против соблазна добить
противника. Нажал гашетку, направив в него огненную трассу. Подойдя к «мессеру» чуть ли не
вплотную, я тем самым подставил себя под удар его оружия. В ответ враг зло огрызнулся пулеметной
очередью. Лишь по счастливой случайности пули миновали меня, не повредили машины.
Без риска в бою не обходится. Но разумный риск, продиктованный необходимостью, стремлением
воздушного воина победить врага не имеет ничего общего с легкомыслием, когда летчик без особой
нужды подвергает и себя и свою машину опасности попасть под огонь неприятельских пушек и
пулеметов.
Выиграть бой не легко. Каким бы опытным ни был летчик, ему не всегда удается с первой атаки вывести
из строя самолет врага.
— В таком случае, Исаев, — часто напоминал Николай Кузьмич, — выход только один: разворачивай
машину, повторяй атаку. Но если ты видишь, что наконец твоя атака оказалась удачной, что подбитый
фашист заклевал носом, окутался огнем и дымом и неудержимо [115] идет вниз, — возиться с ним
больше нечего. Не жди, пока «мессер» грохнется на землю, немедленно отрывайся от него, атакуй
следующий фашистский самолет.
Именно так поступал он сам. Вот почему не только занятия, которые проводил с нами Наумчик на
аэродроме, у капониров, но и каждое воздушное сражение с фашистскими асами, в котором мы
участвовали под руководством комэска, служили для нас отличной школой боевого мастерства.
Летчику-истребителю, подбившему в бою вражескую машину, часто было невмоготу устоять против
искушения сделать хотя бы единственный круг над падающим на землю самолетом, своими глазами
увидеть его конец. Но комэск учил никогда не поддаваться такому опасному соблазну.
— Не отвлекайтесь от дела! — бывало, в минуты боя звучал в наушниках шлемофона его строгий голос.
— Фашист свое получил. Осиновый крест ему и без нас поставят.
После боя, когда наши машины стояли в капонирах, Николай Кузьмич со свойственными ему юмором и
доброй усмешкой говорил:
— Не в том, хлопцы, вопрос, кто именно сбил самолет: Горбунов, Калугин или ты, Исаев. Люди мы свои,
живем одной семьей. Так что не только солдатским хлебом, но и славой поделимся. Главное то, что
сбили фашиста. А считать уничтоженные «мессершмитты» — не наша забота. Пусть их Гитлер с
Герингом подсчитывают.
— Это правильно, — хитро посмеиваясь, соглашался с комэском Федор Калугин и в напускном
раздумье, с видом озабоченного человека морщил лоб. — Но вот что меня тревожит: управятся ли
Гитлер и его компания с этим делом? Работу-то в последнее время мы задаем им непосильную. [116]
Федя Калугин был прав: «мессеров» или «худых» (так мы порой называли Ме-109 за его тонкий,
удлиненный профиль) наши летчики били без промаха, даром что падкие на устрашающие названия
гитлеровцы нарекли их «королями воздуха». Положение нисколько не изменилось и после того, как мы
стали встречаться в воздушных боях с модернизированными «мессерами» — Ме-109Г, а затем и с
истребителями последующих модификаций, неустанно превозносимыми хвастливой фашистской
пропагандой.
Модернизированные «мессершмитты» отличались несколько большей скоростью, маневренностью,
обладали более мощным вооружением, чем Ме-109, однако, как я убедился на личном опыте, под
меткими ударами советских истребителей они пылали и падали на землю не менее исправно, чем
машины прежних конструкций.
Но вот «Фокке-Вульф-189», пресловутая «рама», как мы его прозвали, причинял нам вначале немало
неприятностей. Объяснялось это отчасти тем, что в воздухе он появлялся сравнительно редко, и мы не
сразу «освоили» этот фашистский самолет.
Первые встречи с «Фокке-Вульфом-189» не производили на наших летчиков особого впечатления.
Причиной скорее всего была его странная, непривычная форма, отдаленно напоминавшая судно
катамаран. Как бы сбитый из двух фюзеляжей, соединенных воедино спереди крылом, а сзади хвостовым
оперением, самолет напоминал раму и выглядел настолько невнушительно, что иные наши летчики
откровенно посмеивались над этой, на первый взгляд, громоздкой, неповоротливой машиной. В бой с
советскими самолетами по своей инициативе «Фокке-Вульфы-189» вступали неохотно, чаще всего лишь
тогда, когда у них не оставалось другого выхода, и трусливый «нрав» «рамы» служил почвой для
всевозможных анекдотов. Но дальнейшие события показали, что мы имеем дело с серьезным, опасным
противником. [117]
Несмотря на свой вид, не отличавшийся совершенством форм, особенно если смотреть на «ФоккеВульф-189» сверху или снизу, «рама» имела сравнительно малый вес, обладала высокой скоростью,
хорошей маневренностью. Пикируя, самолет экономно терял высоту, и с этой точки зрения с ним,
пожалуй, не могла сравниться никакая другая немецкая машина. Эта выигрышная особенность и лежала
в основе излюбленного тактического приема «Фокке-Вульфов-189». Уходя от преследования наших
истребителей, «рамы» упорно прижимались к земле, чтобы отражать атаки наших самолетов на
предельно малых высотах. Мы разгадали тактику немцев, поняли их расчет на то, что сравнительно
незначительная высота, на которой «фоккеру» удается благополучно выйти из пикирования, для
преследователя, увлеченного погоней за «рамой», может оказаться роковой. К сожалению, на первых
порах так оно иногда и случалось. В критический момент боя, находясь низко над землей, «рама» тем не
менее преодолевала силу инерции, выходила из пике, поднималась в небо; атаковавшей же ее более
тяжелой машине этот маневр удавался не всегда.
Среди тех, кто в нашем полку создавал надежную «технологию» борьбы с «фоккерами», был и Н. К.
Наумчик. Разработать ее удалось не сразу. Даже в тех случаях, когда «як» настигал «раму» на
выигрышной для него высоте, она, пользуясь своей высокой маневренностью, уходила от его огня.
Поймать и тем более удержать ее в прицеле было нелегкой задачей.
Спасаясь от пушек и пулеметов советских истребителей, «рама» неизменно придерживалась одного и
того же правила — уходила то вправо, то влево и только вниз. Не кто иной, как сами гитлеровские
летчики невольно помогли нам найти верный способ борьбы и с этими фашистскими самолетами.
Достаточно было кому-нибудь из нас атаковать «раму» слева, как она круто отворачивала вправо. Мы не
спешили открывать огонь, а выжидали, [118] пока «фоккер» возьмет влево, тогда атакующий его
советский летчик, успев довернуть свой истребитель навстречу врагу, нажимал гашетки и, если не с
первого, то с последующих заходов наносил «раме» смертельный удар.
Инициатива в наших руках
Упорные попытки немецко-фашистских захватчиков прорваться через Кавказский хребет по-прежнему
разбивались о железную стойкость и мужество советских воинов. В районе Вознесенской немцы ввели в
бой до сотни танков. Незначительно продвинувшись вперед, они вышли к горным склонам. Помощь
наземным войскам, отражавшим натиск фашистских танков, командование возложило на нашу
воздушную армию. Авиация обрушила на гитлеровцев мощный удар. Враг был остановлен. На поле боя
пылали десятки вражеских танков.
2 октября наши самолеты атаковали немецкий аэродром близ станицы Солдатской. Появление над ним
двадцати одного советского истребителя явилось полной неожиданностью для гитлеровцев. После
первой же нашей атаки на земле загорелось 12 самолетов, 7 машин получили серьезные повреждения.
Два самолета со свастикой, едва оторвавшись от взлетной полосы, были сбиты огнем наших
истребителей. Еще одна машина противника была уничтожена в воздухе. Два немецких истребителя
столкнулись в небе...
Наш удар обошелся гитлеровцам в 24 уничтоженных самолета. Мы в этом бою потеряли лишь один
истребитель.
С боевого задания не вернулся командир группы истребителей Герой Советского Союза Иван Маркович
[119] Пилипенко. Это был летчик высокого класса, отличный воспитатель молодых летных кадров,
замечательный человек. Весть о его гибели болью отозвалась в наших сердцах.
Иван Маркович погиб на глазах местных жителей. Втайне от оккупантов, рискуя жизнью, патриоты
похоронили отважного летчика в своей станице. Площадь, где покоятся останки Героя, теперь носит его
имя. Спустя много лет после окончания Великой Отечественной войны, читая воспоминания бывшего
командующего нашей воздушной армией Главного маршала авиации Героя Советского Союза К. А.
Вершинина, я узнал имена людей, которые предали земле тело Ивана Марковича Пилипенко. Это были
колхозницы Екатерина Горожанина, Анна Марченко, Анна Сушко. Президиум Верховного Совета СССР
отметил их благородный поступок медалями «За отвагу».
***
Приближался Новый, 1943-й год. Наши войска нанесли очередные сокрушительные удары по
гитлеровцам у Сунженского хребта и Эльхотовских ворот. Закончила свое существование разгромленная
советскими войсками группировка противника, пытавшаяся овладеть Орджоникидзе и захватить
Грозный. Совместно с авиацией наземные части Северной группы фронта вели успешные
наступательные действия в районах Ачикулак, Ага-Батырь, Ишерская.
Решительно изменилась в нашу пользу и обстановка в воздухе. О своем численном превосходстве над
советской авиацией противник мог говорить лишь в прошедшем времени. Подвергая систематическим
налетам вражеские аэродромы, мы уничтожили и вывели из строя значительную часть фашистских
самолетов. Большое количество бомбардировщиков и истребителей гитлеровское командование
вынуждено было перебросить под Сталинград, и инициатива в воздухе полностью [120] перешла в наши
руки. Если в начале ноября, в период своей наибольшей активности, противостоящий нам противник
ежедневно производил до пятисот и более самолето-вылетов, то уже в конце месяца число их снизилось
вчетверо.
Несмотря на дожди, снегопады, низкую облачность, раскисшие полевые аэродромы, наша авиация
продолжала активные боевые действия. Отходившие немецкие войска подвергались непрерывным
атакам с воздуха. Часто мы действовали мелкими группами, случалось, и в одиночку. Обочины дорог, по
которым отступал противник, были загромождены уничтоженными фашистскими танками,
бронетранспортерами, орудиями, усеяны трупами.
Вслед за наступавшими наземными войсками вместе с другими авиационными частями непрерывно
двигался на запад и наш полк. Отступая, немцы полностью разрушали аэродромы, и их приходилось
создавать заново. В условиях неблагоприятной погоды, постоянного бездорожья эта сложная,
трудоемкая работа требовала особых, поистине титанических усилий, и мы, летчики, были глубоко
признательны личному составу нашего тыла, батальонам аэродромного обслуживания, которые со
сказочной быстротой восстанавливали и оборудовали полевые аэродромы, готовили их к приему боевых
машин. Перелетая на новый аэродром, мы немедленно заправляли самолеты заблаговременно
завезенным горючим, боеприпасами и, если позволяла погода, тотчас же поднимались в воздух.
Однако за целый месяц выдалось лишь пять летных и восемь ограниченно летных дней. В остальное
время проливные дожди сменялись обильным мокрым снегом. Небо было сплошь покрыто облаками. В
довершение всех бед, по утрам и вечерам землю окутывал такой плотный, густой туман, что видимость
не превышала нескольких метров. Томимые вынужденной бездеятельностью, [121] ожиданием чистого
неба, мы, словно дотошные метеорологи, наблюдали за погодой, и стоило ей хоть немного улучшиться,
прогревали моторы истребителей, выруливали на взлетную полосу.
Гитлеровские летчики при такой погоде предпочитали не появляться в воздухе, и мы были полными
хозяевами не только в небе над расположением наших войск, но и над территорией, которую
продолжали временно удерживать оккупанты. И это позволяло нам при минимальных потерях наносить
весьма чувствительные удары по живой силе и технике противника.
3 февраля во время завтрака в столовую вбежал запыхавшийся комэск Наумчик. Лицо Николая Кузьмича
сияло. Сбросив намокшую под дождем шинель, он радостно возвестил:
— Капитулировала сталинградская группировка немцев! Паулюс взят в плен!..
Громовое «ура!» сотрясло стены столовой. Суровые люди, фронтовые летчики, привыкшие ежеминутно
смотреть в глаза смерти, бросились друг другу в объятия. Кто-то обнял комэска, троекратно, по-русски,
расцеловал его.
— Да подождите же, черти! — весело отбивался от нас Николай Кузьмич. — Дайте же досказать.
Я постучал вилкой о тарелку:
— Давай, Николай Кузьмич, говори!
У Наумчика была превосходная память, и он чуть ли не дословно пересказал сообщение
Совинформбюро о разгроме отборной фашистской армии, пытавшейся взять Сталинград. Мы узнали об
огромных трофеях, захваченных советскими войсками в ходе беспримерной битвы за город на берегу
великой русской реки, ставшей для всего мира символом мужества и отваги.
— В Германии объявлен трехдневный траур по битому фашистскому воинству, — заключил Николай
Кузьмич. — В общем, хоронит Гитлер свою шестую армию. [122]
Кто-то принес бутылку красного вина, разлил его в стаканы. Мы выпили за героических защитников
Сталинграда, за быстрейший разгром фашистской Германии.
На улице стоял промозглый, пасмурный день. Над аэродромом висело тяжелое свинцово-серое небо. Под
ногами чавкала размокшая земля, не успевавшая впитывать в себя обильную влагу. Временами срывался
снег — февраль давал знать о себе и здесь, на юге. Но и наскучившее затяжное ненастье не могло
омрачить нашего приподнятого, весеннего настроения, и, возвращаясь мысленно к февралю далекого
1943 года, невольно думаешь о том, что память о больших, волнующих событиях не подвластна времени.
В небе Кубани
Весна на Кубани брала свое. Потеплело, распогодилось, ярко заголубело апрельское небо. В зеленый
наряд одевалась земля. Все сильнее пригревало солнце, и наш аэродром быстро подсыхал. С утра до
позднего вечера мы несли дежурства у истребителей, надежно замаскированных комуфляжными сетками
капониров. Вместе с нами безотлучно находились техники, механики, оружейные мастера, инженеры.
Они не упускали возможности еще и еще раз проверить материальную часть боевых машин, осмотреть
пушки и пулеметы, выверить различные приборы, навигационное оборудование.
Командный пункт полка поддерживал бесперебойную связь со штабом дивизии, постами воздушного
наблюдения, оповещения и связи. В небе над аэродромом, сменяя друг друга, бдительно несли
патрульную службу [123] звенья то одной, то другой эскадрильи. Все были готовы по первому сигналу
вступить в бой с врагом.
Мы жили ожиданием больших, важных событий, непоколебимо уверенные в том, что победа в
предстоящей битве за Кубань будет за нами. Фронт чувствовал несокрушимую, крепнущую мощь
советского тыла, который поставлял войскам все больше самолетов, танков, артиллерийских орудий,
стрелкового вооружения, бесперебойно обеспечивал боеприпасами, снаряжением, продовольствием.
На фронте установилось относительное затишье. Воздушная разведка доносила, что немцы продолжают
концентрировать свою авиацию на юге. Показания пленных, перебежчиков свидетельствовали о том, что
гитлеровское командование, рассчитывая взять реванш за Сталинград, за крупные неудачи на целом ряде
других участков советско-германского фронта, будет не только упорно оборонять «Голубую линию»
западнее Краснодара, но и планирует наступательные операции.
В погожий апрельский день противник перешел в наступление против наших войск, оборонявшихся у
Новороссийска. С воздуха гитлеровцев поддерживало большое количество самолетов. В отличие от
нашей авиации, сосредоточенной в основном на отдаленных аэродромах, фашистские воздушные армии
базировались в непосредственной близости от линии фронта, и это на первых порах давало немцам
значительное тактическое преимущество.
Завязалось ожесточенное сражение на Кубани.
Над «Малой землей» с утра до ночи не прекращались упорные воздушные схватки. Тучи пыли, гарь, дым
пожаров заволокли небо, затмили солнце. Положение советских солдат и офицеров, продолжавших под
непрерывными массированными бомбежками и обстрелом врага удерживать плацдарм, было тяжелым.
Фашистские сухопутные части предпринимали атаку за атакой, рвались [124] вперед, и мы, летчики,
непрерывно наносили удары по воздушному и наземному противнику, изматывали его силы, вынуждая
перейти к обороне.
В море падали пылающие желтобрюхие «мессершмитты», уходили под воду сбитые советскими
истребителями тупорылые «юнкерсы», Но и мы не обходились без серьезных потерь, хотя на каждый
погибший в боях советский самолет приходилось по нескольку уничтоженных фашистских
стервятников. Темп воздушной битвы был настолько высоким, напряженным, что даже такой
первоклассный летчик, как капитан Наумчик, и тот не сразу освоился в новой обстановке. Нам же,
рядовым летчикам, в первые дни приходилось особенно трудно.
В непрерывных схватках с противником то и дело складывалась исключительно сложная, быстро
меняющаяся обстановка, и комэск предоставил нам широкую свободу маневра, позволяющую драться
парами, звеньями, располагаясь поэшелонно, но не в скученных боевых порядках.
Накопленный за время пребывания на фронте немалый боевой опыт позволил нам быстрее
сориентироваться в новых условиях, приспособиться к ним. Мы подняли «потолок» своих «ястребков»,
стали смелее действовать мелкими группами, усилили бдительность, и первый, кто убедительно показал,
что труды наши не напрасны, был Иван Михайлович Горбунов.
Случилось это ранним утром. Наша эскадрилья получила очередное боевое задание. Самолеты один за
другим поднимались в небо. Первым взлетел Наумчик, за ним я — его ведомый. Едва мы легли на
боевой курс, как в лучах апрельского солнца над взлетной полосой засеребрился «як» Горбунова. Летчик
набрал высоту, подождал, пока к нему пристроился ведомый, и только развернул машину в сторону
передовой, как вблизи [125] мелькнул гитлеровский воздушный «охотник», который высматривал
советские истребители. Продолжая наблюдать за обстановкой, Горбунов обнаружил, что «охотник» не
одинок. Одновременно с ним соседние участки неба «прощупывали» другие немецкие самолеты.
Фашисты шли выше советского истребителя, и Горбунов, не упуская из поля зрения противника, стал
набирать «потолок». Один из гитлеровцев неожиданно бросил свою машину колесами вверх. Было ясно,
что он ищет удобное положение для обзора неба на все 360 градусов. Маневр этот для немца был по
меньшей мере рискованным. Не видя того, что делается наверху, он тем самым превращал свою машину
в верную, притом безопасную мишень для первого же советского истребителя, идущего над «мессером».
Горбунов пожал плечами: то ли фашист — зеленый новичок, то ли, набрав внушительную высоту, он
просто не допускал мысли, что в воздухе над ним может оказаться советский самолет.
Впрочем, обо всем этом Иван Михайлович подумал позже. Пока же он без риска попасть под огонь
противника, спикировал на немца и всадил очередь в брюхо его самолета.
В этот день в летную книжку Ивана Горбунова было записано два уничтоженных вражеских
истребителя.
На следующий день три пары «яков» во главе с Горбуновым охраняли с воздуха наши наземные войска.
Вблизи Новороссийска мы встретили восьмерку фашистских истребителей. «Мессеры» поджидали свои
бомбардировщики. Под их прикрытием «юнкерсы» должны были сбросить бомбы на позиции советских
войск. Наше появление спутало планы немцев. Воздушная обстановка складывалась теперь не в их
пользу. Тогда гитлеровские истребители предприняли попытку с ходу оттеснить нас в сторону,
расчистить небо и обеспечить безопасность своим бомбардировщикам. [126]
И тут прозвучала команда Горбунова. Он приказал старшему лейтенанту Шевченко атаковать
«мессеров», связать их боем, отогнать противника от вероятного места появления гитлеровских
бомбардировщиков.
— Задача ясна! — доложил Шевченко и подал команду ведомому: — Атакуем!
Такого немцы не ожидали: пара «ястребков» атакует восьмерку «мессеров»! Внезапная атака вызвала
замешательство среди фашистских летчиков. В результате один «мессер» был сбит, остальных мы
разогнали.
А в район боя уже подходила большая группа «юнкерсов». Вместо «мессеров» их встретили советские
истребители. Не дав врагу опомниться, Горбунов повел нас в атаку. Мы врезались в боевые порядки
фашистских бомбардировщиков, рассеяли их. В течение 10—15 минут фашисты потеряли три самолета.
Наши истребители благополучно приземлились на своем аэродроме.
К этому времени относится моя первая встреча в воздушном бою с разрекламированными фашистами
«Фокке-Вульфом-190».
Наши летчики-истребители, убедившись в определенных достоинствах этой машины, сумели увидеть и
ее недостатки, уязвимые стороны, и это помогло нам выработать надежную тактику борьбы с хваленым
самолетом.
«Фокке-Вульф-190» обладал мощным вооружением, превосходил Як-1 в скорости, и догнать его,
особенно в момент пикирования, чтобы атаковать фашиста с близкой дистанции, мне вначале не
удавалось. Непривычной была необходимость уклоняться от лобовых атак ФВ-190. Однако другого
выхода в ту пору у нас не было: как бы умело ни вел бой советский воздушный воин, такие атаки
ставили его Як-1 в неравное, проигрышное положение перед фашистским самолетом. В данном случае я
имею в виду не только огневую мощь и высокую скорость «Фокке-Вульфа-190», но и его крупный
звездообразный [127] мотор воздушного охлаждения, который служил одновременно и двигателем, и как
бы щитом, прикрывавшим летчика спереди от огня советских истребителей. У нас на «яке» такой
защиты не было.
И пусть на первый взгляд покажется парадоксальным, но именно сильное вооружение и мощный,
тяжелый мотор являлись слабой стороной ФВ-190. И мы использовали это уязвимое место. Энергично
атакованные сверху в момент выхода из пикирования, «Фокке-Вульфы-190» становились верной
добычей советских летчиков-истребителей. Летая на Як-1, мы успешно отражали атаки крупных групп
ФВ-190, сбивали их, обращали в бегство. Так было и в том бою, когда я впервые не только встретился,
но и успешно атаковал «фоккера».
Воздушные сражения принимали все более острый, напряженный характер. В воздухе сражались сотни
самолетов. Количество истребителей, одновременно участвовавших в бою, доходило до пяти-шести
десятков.
Гитлеровцы несли огромные потери. За восемь дней непрерывных боев мы сбили над «Малой землей»
свыше сотни фашистских самолетов. Советские летчики стали полными хозяевами воздуха в этом
районе. Серьезных успехов добились наши наземные войска. В боях произошел крутой перелом. Планы
гитлеровцев уничтожить защитников плацдарма у Новороссийска потерпели крах, и враг, прекратив
атаки наших позиций, перешел к вынужденной обороне.
Однако и после провала гитлеровского наступления над Таманским полуостровом ожесточенные
воздушные бои не стихали. Центр их в конце апреля переместился в районы станиц Крымской и
Киевской, где развернулось небывалое по размаху и продолжительности воздушное сражение.
Поддерживая перешедшие в наступление советские сухопутные войска, мы наносили массированные
удары по противнику, которого не спасли ни мощные укрепления [128] «Голубой линии», ни выгодные
естественные рубежи.
В ночь на 29 апреля на оборонительные сооружения гитлеровцев обрушился удар сотен
бомбардировщиков.
Наступление началось. Вместе с наземными войсками шла в бой и краснозвездная авиация.
Бомбардировщики и штурмовики не давали врагу ни минуты покоя. Атакуя противника, они сметали с
лица земли узлы сопротивления гитлеровцев, выводили из строя его дальнобойную артиллерию,
уничтожали живую силу.
В бой, завязавшийся неподалеку от станицы Варениковской, я повел группу из двенадцати «яков».
Поднялись в воздух вскоре после захода солнца. На земле сгущались сумерки, но на высоте 3000 метров
было еще светло. Взяли курс на северо-запад, перелетели линию фронта, и тут над ближним тылом
гитлеровских войск обнаружили в воздухе 81 фашистский бомбардировщик. Под прикрытием 32
истребителей «юнкерсы» и «хейнкели» направлялись к переднему краю советских войск.
Связавшись по радио со станцией наведения, я доложил обстановку и получил приказ вступить в бой с
противником. Перед нами была поставлена задача разогнать вражеские бомбардировщики, лишить их
возможности сбросить смертоносный груз на позиции наших наземных частей.
Отдаю команду лейтенанту Глядяеву, ведущему одной из четверок «яков».
— Свяжите боем «мессеров». Отсеките их от бомбардировщиков.
— Вас понял, — доложил Глядяев, и звено его рассредоточилось на две пары.
Ситуация сложная: четверо против тридцати двух! У противника восьмикратное численное
превосходство. Обеспечить успех при таком соотношении сил могут только внезапность атаки, высокое
тактическое мастерство летчиков. Одним словом, экзамен ребятам предстоит [129] серьезный. «Яки»
стремительно падают с высоты на «мессеров». В воздухе завязывается ожесточенное, сражение.
Восемь остальных самолетов четырьмя парами веду навстречу фашистским бомбардировщикам. Они
идут четким кильватерным строем, тремя группами, по три девятки в каждой.
— Ты только погляди, каковы наглецы, — слышу в наушниках голос моего ведомого Александра
Кислицы. — Летят, как на параде.
— Погоди немного, мы им устроим парад! Атакую! Прикрывай!
Выжав до отказа сектор газа, атакую командира головной девятки фашистских бомбардировщиков.
Драться с «юнкерсами» — занятие для меня не новое, но такое численное преимущество противника в
воздухе встречаю впервые — 81 самолет! Зная «мертвые» сектора вражеских машин, их пушек и
пулеметов, подхожу к бомбардировщикам с такого ракурса, где я недоступен для огня немецких
самолетов. Из пушки бью по наиболее уязвимым местам фашиста — по моторам и бензобакам. С
радостью убеждаюсь в том, что снаряды израсходованы не напрасно. «Юнкерс» вздрагивает, на какое-то
мгновение бессильно замирает, затем круто опускает нос и, дымя правым мотором, устремляется к
земле.
— Бей ведущего второй девятки! — отдаю распоряжение капитану Зайцеву.
И сразу же приказываю лейтенанту Кузьменко:
— Атакуй ведущего третьей!
— Понял! — почти одновременно докладывают Зайцев и Кузьменко.
Под прикрытием своих ведомых они устремляются наперерез бомбардировщикам, а я тем временем
набираю высоту и бросаю машину на ведущий «юнкерс» второй фашистской эскадрильи. [130]
Бомбардировщики сбиты с курса, стремясь уйти от огня наших истребителей, они парами, тройками,
пятерками беспорядочно мечутся на разных высотах, петляют из стороны в сторону, сбрасывают бомбы
на свои войска.
Атакую следующего фашиста. Пикируя, он надеется увернуться от снарядов моей пушки. Длинная
очередь. Снаряды ложатся в цель и «юнкерс» вспыхивает, будто сноп соломы. Далеко ему не уйти, в
лучшем случае протянет километр — второй и врежется в лес, темнеющий западнее места боя.
— Потрошим еще одну девятку! — командую ведущим пар. — Не жалейте, ребята, огня.
Набираю высоту, с пяти тысяч метров пикирую на третий фашистский бомбардировщик.
Сегодня мне определенно сопутствует ратное счастье: сбил три фашистских самолета! По «юнкерсу»
уничтожили Зайцев, Кузьменко, Щербак, Коновалов. Но бой еще не закончен. Надо помочь Коле
Глядяеву. Звено его дерется отлично. Метким огнем летчики успели «откомандировать» на землю один
«мессер». Но остальные фашистские истребители наседают на отважную четверку. Шесть «мессеров»
разбиваются на три пары: одна заходит слева, вторая справа от Николая, третья падает вниз. Похоже, что
сами немцы создали благоприятную обстановку для того, чтобы атаковать последнюю пару. Но Глядяев
— бывалый летчик-истребитель, его не проведешь. Он понимает, что третья пара «мессеров» — это
приманка, своеобразный капкан, рассчитанный на простачков. Брось свой «як» на легкую с виду добычу,
и нависшие над тобой остальные четыре «мессера» немедленно возьмут тебя в клещи. Вырваться из них
почти невозможно. Видя, что маневр не удался, фашисты прибегают к новой уловке, пытаясь отсечь
истребитель Николая от остальных «яков», но и это им не удается. [131]
Наша восьмерка вовремя подоспела к месту боя Глядяева с «мессерами». Двумя звеньями одновременно
атакуем правую и левую пары гитлеровских истребителей.
— Спасибо, братцы! — благодарит Николай. Разгоряченный боем, он весело добавляет: — Теперь
вплотную займусь «своими»...
Глядяев имел в виду третью пару фашистских истребителей, которая пыталась увлечь его в западню. Но
после нашего вмешательства обстановка в воздухе резко меняется. Преследуемые нами «мессершмитты»
спешат покинуть место воздушного боя. Спасаясь, они бросают находящихся внизу под их прикрытием
еще двух своих истребителей.
Лишенные защиты сверху, оба «мессера» попадают в клещи, которые они только что готовили Глядяеву.
Атакованный Глядяевым первый «мессер» вспыхивает оранжевым пламенем, падает на головы
фашистской мотопехоты. Второй истребитель сбивает кто-то из нашей восьмерки.
Гитлеровские летчики полностью деморализованы, уцелевшие «мессеры» уже не оказывают серьезного
сопротивления, и мы продолжаем преследовать фашистские бомбардировщики. «Яки» обрушивают на
противника ливень пуль и снарядов. Достаточно лишь одной нашей пуле угодить в бомбу, чтобы она,
разорвавшись на борту самолета, превратила не только его, но и соседние машины в груду
искореженного металла. Вот почему фашистские экипажи, стремясь освободиться от опасного груза,
спешат сбросить фугаски. Они падают на боевые порядки немецких войск. В воздухе не стихает
пронзительный вой бомб. Землю сотрясают мощные взрывы. В расположении вражеской пехоты
вспыхивают пожары. Молчавшая до этого батарея фашистской зенитной артиллерии, приняв свои
«юнкерсы» за советские бомбардировщики; открывает по ним ураганный огонь. [132]
Не стесняясь в выборе выражений, командиры гитлеровских наземных войск разносят по радио
«взаимодействующих» с ними авиаторов, подвергших опустошительной бомбардировке немецкую
оборону. В долгу не остаются и фашистские летчики. Они поносят своих зенитчиков, которые, не
разобравшись в обстановке, не жалеют снарядов для обстрела бомбардировщиков с опознавательными
знаками немецких военно-воздушных сил.
Наши ребята сражаются умело, храбро, как и всегда, в минуты боя не думают об опасности. Но и не
подвергают себя неоправданному риску. В этом сказывается высокая культура боевой работы. На земле
пылают сбитые фашистские самолеты. У нас же потерь нет, и настроение у меня, молодого заместителя
командира эскадрильи, превосходное.
А бой продолжается. Я атакую следующий «юнкерс». Снаряды, выпущенные из пушки, рвутся у его
винтомоторной группы, не причиняя машине особого вреда. Вражеский бомбардировщик продолжает
уходить. Вывожу «як» из пикирования. Набираю высоту, увеличиваю скорость. И все равно опаздываю.
Пока я готовился к атаке, на вражеский бомбардировщик обрушилась ведомая пара первой моей
четверки. Волоча за собой хвосты черного дыма, «юнкерс» несется к земле...
Слышу в наушниках голос капитана Коновалова:
— Атакую «юнкерс». Прикройте!
Ведомый капитана не медлит с ответом:
— Вас понял! Есть прикрыть!
Коновалов — превосходный летчик-истребитель. За плечами у этого мужественного, сосредоточенноспокойного в бою командира большой опыт службы в военной авиации. На фронте Коновалов с начала
войны. Он досконально изучил тактику воздушного противника, в схватках с врагом навязывает ему
свою волю, бьет его безошибочно. [133]
Густо дымит еще один фашистский бомбардировщик. Это работа Коновалова. Поврежденный снарядом
правый мотор «юнкерса» сдает обороты. Самолет не слушается рулей, кренится в сторону. Немецкие
летчики выбрасываются из горящей машины на парашютах.
Бросаю взгляд на приборную доску. Надо поторапливаться. Горючее на исходе. Кончаются боеприпасы.
Да и драться больше не с кем — в небе ни одного фашистского самолета. Связываюсь по радио с
командным пунктом, докладываю обстановку. Получаю приказ следовать на аэродром.
Под крылом «яка» плывут хорошо знакомые ориентиры. Вот мы и дома. Один за другим заходим в створ
посадочной полосы. Сбрасываем газ. Выпускаем тормозные щитки. Перед тем как выпустить шасси,
каждый из нас внимательно оглядывается, всматривается в небо сзади. Надо проверить, не пристроился
ли тебе в хвост «мессер». Все благополучно. Небо чисто, но мы не забываем о том, что «Голубая линия»
рядом... Приземлившись, «яки» быстро освобождают полосу, заруливают в отведенное место,
укрываются в капонирах.
Техники, механики осматривают еще не остывшие боевые машины, от которых пахнет бензином и
смазочным маслом, радостно улыбаются:
— Все двенадцать! Молодцы! Не иначе, Василий Васильевич, как вы в рубашках родились.
— Насчет рубашек точно сказать не могу. Но дрались ребята в самом деле здорово.
— Это по машинам видно. Пробоин почти нет. На пальцах пересчитать можно.
— Не хотелось, хлопцы, утруждать вас лишней работой, — смеется Николай Глядяев.
На автомашине к нам подъезжает инженер полка Михаил Федорович Курочкин. Он совсем молод, но
опыт у него немалый. На инженере синяя рабочая форма без знаков различия, запыленные сапоги.
Стихают [134] разговоры. Техники и механики вытягиваются перед инженером.
— Вольно, товарищи, — говорит Михаил Федорович, энергично пожимает мою руку, и я слышу
обычный в таких случаях вопрос: — Возвратились? Все двенадцать?
— Так точно. Все двенадцать.
— Как работала материальная часть?
— Отлично работала. От души благодарим инженерно-техническую службу.
Эти слова — наивысшая награда инженеру, техникам, механикам за их нелегкий, ответственнейший
труд, за бессонные ночи. И когда они только отдыхают, эти неутомимые люди. Каким бы напряженным,
насыщенным ни выдался боевой день, мы, летчики, с наступлением темноты уходим в землянки,
заваливаемся спать. Порой успеваем еще даже почитать книгу, пойти в кино, сыграть в шашки... У
работников же технической службы нет покоя круглые сутки, даже в нелетную погоду.
Пока мы спим, Михаил Федорович Курочкин, техники и механики ревниво проверяют и ремонтируют
самолеты, готовят их к предстоящим боевым вылетам. На рассвете мы заводим машины, улетаем в бой,
унося с собою в небо частицу сердца друзей, оставшихся на земле. Волнуясь за летчиков, за исход
каждого боя, они и после того, как мы взлетим, ляжем на курс, не уходят с аэродрома, напряженно
вглядываются в голубые воздушные просторы, с нетерпением ждут нашего возвращения.
Так было вчера, сегодня, так будет до последнего дня войны. Да и может ли быть иначе, если наш полк
— единая, дружная семья, если в битвах с противником участвуют не только те, чье место за штурвалом
в кабине истребителя, но и воины наземных служб, которые готовят машины к бою.
Мы прощаемся с техниками, механиками, и они остаются священнодействовать у самолетов. [135]
В столовой нас ждет с ужином немолодая, дородная казачка с тяжелой черной косой, подчеркивающей
белизну ее по-девичьи чистого, свежего лица. Ее муж и сын на фронте, и она охотно отдала свой
опустевший просторный дом под нашу столовую, поселившись в маленьком флигеле у свекрови.
В горнице стоит длинный обеденный стол, застланный свежей скатертью. Горит потрескивая
керосиновая лампа с прикрученным фитилем. Простенок между окнами увешан фотографиями. Пахнет
свежим ржаным хлебом, разогретой жареной картошкой с мясом, солеными огурцами. И эти уютные
домашние запахи, как и фикус в кадке у окна, навевают мысли о довоенной жизни, воспоминания о
семье. Судьба ее мне по-прежнему неизвестна. Тоска. Приумолкли задумавшись и мои боевые друзья.
Тишину прерывает голос нашей заботливой хозяйки:
— Давайте, хлопцы, ужинать. Простынет картошка-то.
Ночь по-летнему тепла. В небе, за окном, занавешенным черной светонепроницаемой бумагой, слышится
густой, басовитый гул авиационных моторов. Это наши ночные бомбардировщики идут на штурм
вражеских укреплений. Гул удаляется, напоминая теперь рокот морского прибоя.
Женщина тревожно прислушивается. В комнате полутемно, но я вижу настороженное лицо казачки,
встречаю глазами ее неспокойный вопросительный взгляд. Я отвечаю ей улыбкой, и она тоже улыбается.
— Никак наши?
— Наши!
Женщина облегченно вздыхает, хочет что-то сказать, но ее голос тонет в нарастающем могучем рокоте
моторов очередных эскадрилий бомбардировщиков, пролетающих над ночной станицей. [136]
— Большая нынче сила в ваших руках, — говорит казачка. — Быстрее бы гнали фашистов.
Сколько раз за время войны приходилось нам слышать этот наказ советских людей. Но если прежде, в
горькие дни отступления под натиском бронированных гитлеровских полчищ, эти слова звучали для нас
как тяжелый укор, то теперь, после Сталинграда, они стали добрым, вдохновляющим напутствием.
Час-полтора назад я со своими одиннадцатью товарищами возвратился из нелегкого воздушного боя. Мы
уничтожили тринадцать вражеских самолетов, и теперь, живые и невредимые, в дружеском кругу
обмениваемся мыслями и впечатлениями о перипетиях недавней воздушной схватки, перебираем в
памяти мельчайшие подробности совместных воздушных атак. Беседа носит характер своеобразной
боевой учебы: мы добились победы, но не избежали отдельных промахов, просчетов, и основательный
критический разбор их помогает каждому летчику осмыслить ошибки свои и товарищей.
Но вот деловой разговор закончен, и зайди сейчас в горницу посторонний человек, он подумает, что за
столом собрались не летчики-фронтовики, а люди самых мирных профессий. Мы молоды, самому
старшему среди нас нет и тридцати. Вся наша жизнь впереди, и мы делимся планами на будущее. Эти
планы неразрывно связаны с долгожданной порой, когда отгремят последние победные залпы Великой
Отечественной войны, и матерям, женам, невестам солдат не придется больше получать похоронки.
Служат в нашем полку и девушки. В трудный для Родины час они вместе с отцами и братьями стали в
строй защитников Отчизны. Среди тех, кто в тяжелом 1942 году отбивал атаки гитлеровских танков и
пехоты, прорывавшихся к нашим полевым аэродромам, были и вчерашние школьницы. [137]
Разными дорогами пришли они в полк. Многие девушки месяцами обивали пороги военкоматов,
настойчиво добиваясь отправки на фронт. И каждый раз им отказывали. Уж слишком молоды были
девчата, и, казалось, не по плечу им суровые испытания, тяжкое бремя войны. Но они не сдавались. Вот
и Вере Дерканос, упорно «осаждавшей» военкомат, комиссар ответил категорическим отказом, но она
решила обойти непреклонного майора.
Вера пришла в наш полк сама, без назначения. У нее были маленькие, нежные руки с голубыми
прожилками и тонкая талия. Короткая стрижка, худые, длинные ноги придавали ей сходство с
подростком.
— Тебе что, милая? — с отцовской интонацией в голосе спросил Веру седоватый солдат, стоявший на
часах у штаба. — Тут у нас не Дворец пионеров, а воинская часть.
— Я взрослая, не пионерка, — зардевшись, сказала Вера и прибавила себе два года. — Воинская часть
мне и нужна.
В штабе поинтересовались:
— А что ты умеешь делать?
— Все! — коротко сказала девушка и пояснила: — Например, чистить картошку.
Боевые офицеры сдержали улыбку. Им не хотелось обидеть Веру.
— Это хорошо, — поощрительно заметил один из командиров, вспомнивший собственную дочку. — Но,
понимаешь, какое дело: солдату приходится не только чистить картошку. Он должен еще и воевать.
— Я понимаю.
— Стрелять умеешь?
— Нет! Буду учиться.
Взгляд у девушки был прямой и открытый. Подкупали ее искренность, простота, решительность, и Вере
выдали солдатскую форму. [138]
Вместе с полком Вера прошла долгий путь к Победе. Не раз побывала под жестокими бомбежками, под
вражеским обстрелом. Работала почтальоном, машинисткой в штабе, со временем стала
парашютоукладчицей. И когда перед боем мы надевали парашюты, приготовленные ее заботливыми
руками, то твердо знали, что в грозную минуту они не подведут. На Кубани и в Крыму, в сражениях над
Одером и Балтийским морем уложенные Верой парашюты спасли жизнь не одному летчику,
потерявшему в бою свой самолет.
Мария Ясинская, Ася Миледина, Ада Щербина и Мария Зубан прибыли в полк из Лебединской школы
младших авиаспециалистов. Они не только безукоризненно выполняли обязанности радиомастеров и
электриков, но и несли караульную службу на полевых аэродромах, в мороз и метели бдительно
охраняли самолеты.
Вскоре после того как девушки прибыли к нам, в полку произошло одно из самых трагических событий
за всю его боевую историю. В течение дня мы потеряли 29 боевых друзей. Гибель товарищей потрясла
самых мужественных бывалых воинов. Весь полк был в глубоком трауре. И когда летчики, склонив
боевое гвардейское знамя, прощались с погибшими, отдать последние почести героям пришли и
недавние выпускницы Лебединской школы.
Помню скорбные лица девушек, слезы на их глазах. Вместе с закаленными в боях воинами они
поклялись неустанно мстить фашистам за погибших. И девушки сдержали свое слово. Они были
стойкими воинами, мужественно сражались с врагом, не посрамили высокого звания гвардейцев.
Отлично готовила к боевым вылетам самолеты неразлучная подруга Марии Зубан и Аси Милединой
улыбчивая Катя Свирекова. Ее ставили в пример многим другим мастерам по вооружению. И Катя этого
заслуживала. Она чистила пушки и пулеметы, готовила ленты [139] с патронами, умело ремонтировала
наше грозное оружие. За время войны девушка обслужила сотни боевых вылетов, и не было случая,
когда бы оружие, находящееся на Катином попечении, подвело в бою. За образцовую службу в полку
гвардии сержант Свирекова была отмечена четырьмя правительственными наградами.
Летчики-истребители гордились своими однополчанками Аней Звягинцевой, Верой Авдеевой, Катей
Григорьевой, Шурой Бурдасовой и другими девушками-фронтовиками.
Все мы были одеты в солдатские шинели, обуты в грубые армейские сапоги, но в душе мы оставались
мирными людьми. Война не ожесточила наши сердца: мы взялись за оружие, чтобы выполнить свой
священный долг перед народом, отстоять Родину от посягательств врага, защитить ее свободу и
независимость.
Под койкой Николая Глядяева стоит небольшой фибровый чемодан. В нем он хранит все свое имущество
— смену нательного белья и верхнего обмундирования, свежие подворотнички, бритву и томик
Лермонтова. С любимым поэтом Николай неразлучен и в бою. Отправляясь на боевое задание, сунет
книжку в планшет или спрячет ее в укромное место где-нибудь под приборной доской.
Ничто так часто не встречается среди личных вещей моих товарищей, как книги, учебники русского
языка и сопромата, физики и агрономии, вырезанные из иллюстрированных журналов репродукции
картин Репина, Сурикова, Левитана.
Мне приходилось видеть ранцы, баулы, бездонные саквояжи убитых фашистских солдат и офицеров.
Вместе с награбленным женским бельем, детскими распашонками гитлеровские мародеры хранили
семейные фотографии и порнографические открытки. Среди прочего скарба часто встречались дневники.
Авторы их педантично вели счет убитым беззащитным людям, обесчещенным [140] советским
девушкам, заживо сожженным младенцам. И содержимое чемоданов фашистов, и циничные записи в их
дневниках создавали своеобразный автопортрет взращенных Гитлером «сверхчеловеков», собравшихся
поработить советский народ, и в наших сердцах кипела неукротимая ненависть к врагу.
В мирное время возможную в будущем войну с фашистской Германией называли «войной моторов». Это
было верно, но верно лишь отчасти, потому что Великая Отечественная война явилась прежде всего
войной идеологий, войной света, прогресса, гуманизма против тьмы, оголтелого варварства и
мракобесия.
«Урожайные» дни
Над станицей — поздняя весенняя ночь. Полное безветрие. Капает с крыш. Пахнет влажной древесной
корой и набухшими почками. В ночную тишину снова и снова врывается деловитый гул
бомбардировщиков. Где-то вдали бьет артиллерия. Утром пойдут в наступление наши танки, советская
пехота, и летчики, взаимодействуя с ними, будут громить фашистскую оборону, расчищать путь
наземным войскам. Спать не хочется. Прибавив свет в керосиновой лампе, Саша Кислица выкладывает
на стол костяшки домино.
Не успеваем мы сыграть и двух партий, как перед нами нежданно-негаданно предстает начальник
санитарной части полка Исаак Львович Литманов. Глаза его мечут громы и молнии:
— Немедленно прекратить безобразие! — приказывает он строгим голосом, который не вяжется с его
добрым, [141] уступчивым характером, хотя иной раз Исаак Львович может и вспылить. — Пять минут
времени, и всем быть в постелях.
Смерив меня осуждающим взглядом, он обращается ко мне как к старшему по должности среди игроков:
— Ничего не скажешь, Исаев, содержательное занятие для серьезных людей. Хочешь, чтобы я подал
рапорт командиру полка?
Наш полковой врач отлично знает и любит свое дело. Он неустанно заботится о летчиках, об их
физической подготовке, стоит на страже нашего здоровья. Мы знали, что Исаак Львович увлекается
гомеопатией, верит в целебные свойства трав.
Однажды я попал под холодный дождь, вымок до нитки, продрог и простудился. Исаак Львович
немедленно дал выпить мне щедрую порцию бурого, мутноватого зелья. По его вкусу можно было
предположить, что это полынный отвар, но я мужественно выпил до дна в прямом смысле слова горькую
чашу. При этом Исаак Львович смотрел на меня не только одобрительно, но и с дружеским
состраданием.
Вечером я доложил врачу о своем выздоровлении. Не полагаясь на мои слова, Литманов ткнул мне под
мышку градусник. Температура оказалась нормальной. Это обрадовало Исаака Львовича. На моем
примере он лишний раз доказал могущество гомеопатических средств. Впрочем, лечебный успех нужно
было закрепить, и Литманов тут же приказал мне принять дополнительно еще полстакана
чудодейственного зелья.
Я выпил лекарство, поморщился. Начальник санчасти удовлетворенно улыбнулся. Он позвал девушкусанинструктора, потребовал принести чистый стакан, плеснул в него спирта, долил воды и по-братски
хлопнул меня по плечу:
— На вот, Вася, выпей. [142]
Я с готовностью выполнил приказание. Выстукав тонкими, длинными пальцами мою грудь, врач
выписал мне освобождение от строя:
— Двое суток постельного режима.
— При нормальной температуре?
— Да, два дня полежишь. А там посмотрим, как быть с тобой дальше. Никому не позволю разводить
грипп в полку.
Неутомимый страж порядка, Литманов был нетерпим к малейшим нарушениям режима,
регламентирующего боевую работу и отдых летчиков. Особенно ревностно следил он за тем, чтобы мы
хорошо высыпались. Не только ночью, но и днем, когда мы были свободны от службы, Исаак Львович
укладывал нас в постель, как малых детей:
— После войны нагуляетесь и наговоритесь, сколько душе угодно. А на войне извольте беречь время.
Для боев и для сна. Возвратились с задания, зарулили самолеты на стоянку — шагом марш в столовую, а
затем — на боковую! Машины и без вас проверят, заправят, если нужно, отремонтируют. Для этого есть
специальные люди. А вы спите, отдыхайте, набирайтесь сил.. Потребуетесь — вас поднимут. Сон —
лучшая подготовка к бою. Неужели вам это непонятно?
Летчики молчат, хитро переглядываются, неопределенно хмыкают, пожимают плечами.
Литманов прибегает к последнему средству:
— Кто не выспится, отстраню от полетов. Вот вам и весь сказ.
Бывало, мы с видом любознательных людей спрашивали Исаака Львовича, сколько времени требуется
спать человеку, давно вышедшему из детского возраста, и он отвечал:
— В зависимости от рода его деятельности. У вас, друзья мои, работа не только опасная, но и тяжелая:
летай, стреляй, выполняй команды. И все время напряженно [143] думай, предугадывай действия врага,
приспосабливайся к ежесекундно меняющейся боевой обстановке.
Трудно было тут что-нибудь возразить. В бой надо идти со свежей головой. Физическое состояние
летчика, его настроение во многом предопределяли исход воздушной схватки. Это показал и вчерашний
бой. Накануне нам предоставили хороший, продолжительный отдых.
И я приказываю подчиненным:
— Кончай игру! Всем отдыхать!
Саша Кислица недовольно сгребает со стола кости, швыряет их в коробку.
Мы расходимся на ночлег. Литманов молчит, провожает нас хмурым взглядом. А потом мы слышим его
слова:
— Вообще-то, ребята, вы славно воюете...
***
На западе полыхают багровые отблески рвущихся тяжелых снарядов. Это работает наша дальнобойная
артиллерия. За садами, подступающими к нашему аэродрому, глухо фырчат грузовые автомашины. Под
покровом ночи они скрытно от противника подвозят к передовой боеприпасы и продовольствие.
...Какой уже день над Кубанью идет грандиозная воздушная битва. Нередко в боях участвуют
одновременно до полутора тысяч наших и вражеских самолетов. Немало бывалых фашистских летчиков,
прибывших на восточный фронт из оккупированных гитлеровцами стран Западной Европы, вместо
ожидаемых железных крестов получили осиновые. Пытаясь восполнить потери в летных кадрах,
фашистское командование бросает в бой наскоро обученных желторотых юнцов. Тактически они
подготовлены слабо, в воздухе чувствуют себя неуверенно. Ежедневно наша эскадрилья совершает 5 —
6 боевых вылетов, уничтожает 4—5 фашистских самолетов. [144]
Интенсивная боевая работа требует полной отдачи сил, к вечеру мы едва передвигаем ноги от усталости.
Словно налитые свинцом, смыкаются веки. Иной раз отказываешься от ужина. Зарулишь самолет на
стоянку, снимешь парашют и, не ожидая, как бывало, увещеваний начальника санчасти, сразу же на
боковую. Едва опустишь голову на подушку, как погружаешься в глубокий сон. Чуть ли не рядом ревут
проверяемые техниками моторы истребителей, где-то неподалеку бьет полевая артиллерия, грохочут
зенитки, но ты ничего не слышишь, спишь беспробудно до утра, словно находишься не на фронте, а в
санатории.
Вчера поздним вечером меня долго тормошил дежурный по полку.
— Ну, и здорово же ты, Вася, спишь, — сказал он не то с укором, не то с восхищением. — Домкратом не
поднимешь.
В ответ я промычал что-то неопределенное, повернулся было на другой бок. Дежурный принялся снова
трясти меня за плечо:
— Да проснешься ли ты наконец, Исаев! Срочно на КП полка, к подполковнику Горбарцу!
Слова эти возымели действие. Я вскочил с койки, стал одеваться.
Подполковник Григорий Кузьмич Горбарец — командир нашего полка, недавно сменивший Якова
Архиповича Курбатова, получившего новое назначение. Человек строгий, требовательный,
немногословный. Дважды говорить об одном и том же не любит.
Гляжу на часы. Без четверти десять. В чем же дело? Будить летчика в позднее время, тем паче перед
боем, командир полка напрасно не станет.
Перебираю в памяти события минувшего дня. Вроде все было в порядке, ни в чем не проштрафился.
Дважды сопровождал штурмовики, три раза прикрывал наши бомбардировщики. Над расположением
гитлеровских [145] войск сбил «хейнкель». Вражеский самолет упал на территорию, занятую немцами,
взорвался. Экипаж фашистского бомбардировщика успел покинуть горящую машину, выбросился с
парашютами. Ветром немецких летчиков отнесло на юго-восток. Они приземлились в ближнем тылу
советских войск и были взяты в плен нашими солдатами.
Уничтожив фашистский самолет, я прибыл на свой аэродром, посадил машину, укрыл ее в капонире.
Какие могут быть ко мне претензии?
— Эх, Вася, Вася. — повел густой бровью Николай Глядяев. — И до чего ты недогадливый человек!
Никак не поймешь, что начальник санчасти выполнил свое обещание. Нацарапал-таки рапорт командиру
полка. В общем, представил тебя к «благодарности».
— Пожалуй, ты прав, — согласился я без особой радости.
— Пойдешь на КП, — домино захвати непременно. — Может, сыграешь с самим командиром полка.
Мне было не до шуток:
— Угомонись ты, наконец, и так тошно.
Литманов был отходчивым человеком. Нередко он устраивал летчикам «разнос» за то, что они, как
казалось ему, недостаточно пеклись о своем здоровье, но никто не помнил случая, чтобы Исаак Львович
написал командиру полка рапорт на провинившегося, ходатайствовал о наложении на него взыскания.
Я сказал об этом Николаю, но тот только вздохнул.
— Бывает, Вася, и на старуху проруха. Недаром существует такая поговорка...
— Думаешь, и в самом деле Литманов подал рапорт?
— Как пить дать, подал. Это точно. Душой чую.
Лицо Николая хмуро и сосредоточенно, в его больших, умных глазах дружеское сочувствие, и не
поймешь, шутит Глядяев или говорит серьезно. И, словно для того, [146] чтобы окончательно рассеять
мои сомнения на сей счет, он негромко, как бы про себя, рассуждает:
— Десять суток на первый случай, пожалуй, многовато. Но пять суток с удержанием двадцати пяти
процентов денежного содержания имеешь определенно.
Он стоит передо мной широкоплечий, выше среднего роста, прекрасно сложенный, сокрушенно
покачивает головой с густыми, вьющимися темно-каштановыми волосами. По прекрасной шевелюре
Глядяева, его голубым глазам и обворожительной улыбке в полку вздыхает немало девушек, но он
словно не замечает женского внимания.
Оперативный дежурный по командному пункту полка расстроил меня окончательно:
— Только что, Исаев, подполковник о вас спрашивал. И строго глядел на часы. Сейчас доложу.
Не успел я подумать о себе: «Ну, держись, лейтенант Исаев. Влип ты по милости врача в историю!», —
как в проеме двери кабинета командира полка показался сам Горбарец, и я услышал его добрый,
обнадеживающий голос:
— Прошу вас, Исаев. Заходите.
Я шагнул в комнату, хотел было по-уставному доложить подполковнику, что прибыл по его вызову, но,
увидев вдруг рядом с собой немецкого генерала, от неожиданности растерялся.
Тучный генерал с холеным лицом, седыми висками и толстой бычьей шеей был при железных крестах и
прочих регалиях. Положив короткопалые волосатые руки на колени, немец сидел на стуле в нескольких
шагах перед столом командира полка и нервно покусывал нижнюю губу. На меня гитлеровский генерал
не обратил никакого внимания, даже не взглянул в мою сторону.
Усадив меня рядом с собой, подполковник обратился к находившемуся в комнате авиационному
технику, владевшему немецким языком: [147]
— Переведите пленному, что лейтенант Исаев и есть тот летчик, который сбил его «хейнкель».
Услышав обращенную к нему немецкую речь, генерал поднял голову. Фашистский ас, наконец,
посмотрел на меня удивленно.
— Мой самолет сбил этот очень молодой офицер? — недоверчиво переспросил немец авиатехника,
полагая, что, возможно, он неправильно понял переводчика.
— Совершенно верно, вас сбил советский летчик-истребитель лейтенант Исаев, — подтвердил техник.
— Подполковник удовлетворил вашу просьбу, предоставил возможность увидеть лейтенанта Исаева, и
он перед вами.
Генерал поднялся.
— Очень приятно познакомиться, — сказал он, назвал свое имя, перечислил свои титулы и шагнул мне
навстречу.
Генерал, несомненно, кривил душой: едва ли он испытывал большую радость от того, что попал в плен.
Однако он выдавил из себя жалкое подобие улыбки, театрально снял с руки золотые часы:
— Я старый немецкий ас. Воевал в Польше, во Франции, водил воздушные полки на Англию, я прошу
молодого советского аса принять мой подарок. В знак глубокого уважения к вам и вашему летному
искусству, господин лейтенант...
Подарок я не принял, подумав: «Как бы ты разговаривал со мной, если бы я оказался у тебя в руках?»
В течение двух дней, предшествовавших бою, в котором я поджег «хейнкель» с фашистским генералом,
мне удалось сбить «юнкерс» и «мессершмитт». Первый, вспыхнув, упал в районе населенного пункта
Кеслерово; второй врезался в землю в 2 — 3 километрах западнее станицы Киевской.
В бою с «мессером» мой «як» получил серьезные повреждения. С большим трудом я дотянул до
аэродрома, [148] ценой больших усилий благополучно посадил машину. Несмотря на то что, уничтожив
вражеский истребитель, я сохранил собственный «як», настроение было вконец испорчено. Самолет
нуждался в ремонте. А машина для летчика — верный боевой друг, и ты к нему привыкаешь, как к
живому существу, дорожишь им, постоянно заботишься о нем.
Днем и ночью не прекращаются жаркие воздушные схватки с противником, и легко понять моральное
состояние пешего авиатора, которому до тех пор, пока он не получит новый или отремонтированный
самолет, только и остается, что наблюдать с земли, как дерутся в небе его товарищи по оружию.
Какова же была моя радость, когда в результате буквально героических усилий старшего авиационного
механика Анатолия Васильевича Графова пострадавший «як» на следующее утро был возвращен в строй.
Не теряя времени, я повел в бой свою четверку. Над занятой противником территорией наша эскадрилья
атаковала полсотни гитлеровских бомбардировщиков. Под прикрытием двенадцати «мессеров» они
пытались нанести удар по боевым порядкам советских войск. Вот тогда и подбил я головной самолет
фашистского аса.
Через два дня в моей летной книжке, как и в книжках моих ведомых, было записано еще по сбитой
фашистской машине. «Урожайным» для нас оказался и следующий день. Прикрывая наземные войска в
районе Молдаванской, я в паре с ведомым Николаем Васильевичем Буйновым вступил в бой с четырьмя
«мессерами». Один из них, поврежденный мною, стал «клевать» носом, загорелся, и я видел, как он упал
в поле вблизи станицы Троицкой.
Мой скромный вклад в дело Победы был отмечен двумя орденами Красного Знамени и орденом
Отечественной войны I степени. Высокие награды обязывали еще беспощаднее громить врага. А для
этого нужно [149] было постоянно совершенствовать летное мастерство. Я упорно овладевал огромным
боевым опытом лучших летчиков-истребителей, учился у них новаторским тактическим приемам,
которые они в совершенстве отработали в ходе воздушной битвы в небе Кубани.
Одним из важнейших среди этих приемов был принципиально новый метод эшелонирования
патрулирующих в воздухе истребителей не только по горизонтали, но и по высоте. В истории советской
истребительной авиации он известен под названием «кубанской этажерки». Смысл этого тактического
приема состоял в том, (что каждая «ступенька» «этажерки», выполняя свою четко определенную
функцию, находилась на строго заданной высоте, и если вражеским самолетам удавалось уйти из-под
удара одной «ступеньки», они становились объектом атаки наших истребителей, составляющих вторую
или третью «ступеньки».
Много нового было внесено на Кубани и в тактику воздушной разведки. Я имею, в частности, в виду то,
что здесь мы стали вести разведку с высоты 8 — 9 тысяч метров. Такой «потолок» обеспечивал
воздушным разведчикам двойной выигрыш. Он как бы раздвигал горизонты, радиус обзора местности, и
мы, хорошо видя фашистские аэродромы, сами оставались вне поля зрения наземных наблюдательных
постов противника.
Патрулируя над местами базирования бомбардировочной авиации, мы зорко наблюдали за фашистскими
аэродромами. Как только над ними начинала клубиться пыль, поднятая взлетающими
бомбардировщиками, советские воздушные разведчики докладывали об этом по радио командованию и
оно немедленно связывалось с аэродромами «подскока», на которых стояли наготове истребителиперехватчики. Наши машины взмывали в небо, устремлялись навстречу ничего не подозревавшим
гитлеровским бомбардировщикам и с большими потерями [150] для противника отражали его налеты
прежде, чем он подходил к намеченным объектам атаки.
Наше командование постоянно совершенствовало тактику борьбы с фашистскими бомбардировщиками.
Успешному решению этой задачи в определенной мере невольно способствовал... сам противник,
действовавший в большинстве случаев шаблонно, по неизменным стандартным схемам.
За косность, рутину, консерватизм немецкие летчики неизменно расплачивались дорогой ценой. Разве не
об этом свидетельствует, например, воздушный бой 12 «яков», ведомых Героем Советского Союза
Иваном Михайловичем Горбуновым, с численно во много раз превосходящим противником.
Бой этот развернулся в полдень, в районе станицы Крымской. Наши наземные войска перешли в
наступление, и гитлеровское командование, стремясь во что бы то ни стало удержать занимаемые
позиции, предприняло серию контратак танками и пехотой. Все они оказались безуспешными.
Фашистская оборона трещала под могучим натиском наступавших. Тогда немцы решили испытать
последнее средство: нанести массированный воздушный удар по переднему краю советских войск на
участке, который прикрывала группа Ивана Горбунова. В составе ее были замечательные летчикиистребители Григорий Павлов, Федор Калугин, Алексей Приказчиков, Николай Печеный, Николай
Глядяев, Ахмет Канкошев, Николай Куничев, Юрий Сорокин, Михаил Шевченко, Петр Челомбитько и
Александр Зайцев.
Приняв по радио сообщение, что к линии фронта приближаются фашистские бомбардировщики,
Горбунов и его боевые друзья устремились навстречу противнику. «Хейнкели» и «юнкерсы» шли
четырьмя группами по двадцать машин в каждой. Прикрывали их до четырех десятков «мессеров». [151]
Внезапная, стремительная атака привела гитлеровцев в замешательство, полностью их деморализовала.
В завязавшемся скоротечном бою наши летчики не дали противнику опомниться, оказать
организованное сопротивление. Пытаясь прикрыть бомбардировщики от атак советских истребителей,
«мессеры» судорожно метались от одной группы своих самолетов к другой, действовали разобщенно. И
это решило исход боя в нашу пользу. На земле запылали вражеские бомбардировщики. Преследуемые
«яками», уцелевшие фашистские самолеты повернули на запад.
В этом бою немцы потеряли 14 бомбардировщиков и два «мессера». По три гитлеровских самолета
сбили Иван Горбунов и Григорий Павлов. По две вражеских машины уничтожили Федор Калугин и
Алексей Приказчиков.
Не потеряв ни одного истребителя, летчики нашего полка благополучно прибыли на свой аэродром.
Мои учителя
У меня не было недостатка в хороших воспитателях, наставниках, замечательных учителях летного дела.
В первый воздушный бой меня повел первоклассный летчик-истребитель Николай Кузьмич Наумчик,
преподавший мне уроки стойкости, мужества. Впоследствии, весной и летом 1943 года, на Кубани мне
выпало счастье сражаться с немецко-фашистскими захватчиками крылом к крылу с прославленным
летчиком-истребителем нашего времени Александром Ивановичем Покрышкиным.
Среди тех, вместе с кем я бил на Кубани фашистских воздушных пиратов, были известные советские асы
— [152] братья Дмитрий Борисович и Борис Борисович Глинки.
Словно живой, стоит перед моими глазами незабываемый фронтовой друг Михаил Михайлович Осипов.
Замечательный человек, бесстрашный воздушный воин, первым среди летчиков нашего полка
удостоенный звания Героя Советского Союза, он пал смертью храбрых, выручая товарища в неравном
бою с гитлеровцами в небе Кубани.
До последних своих дней я свято буду чтить светлую память превосходного летчика-истребителя Героя
Советского Союза Алексея Лукича Приказчикова, который щедро делился со мной богатым опытом
стремительных и метких воздушных атак. Алексей Лукич погиб над «Голубой линией». У могилы
товарища мы поклялись жестоко отомстить гитлеровцам за смерть Алеши, и в первом же бою с
«мессерами», завязавшемся после похорон Алексея Приказчикова, его однополчане уничтожили
несколько вражеских самолетов.
Моими воспитателями, учителями, наставниками были одаренные военачальники генерал-майоры
авиации Дзусов, Якишин, Дадонов; с комэском Героем Советского Союза Григорием Родионовичем
Павловым, сменившим на этом посту Николая Кузьмича Наумчика, откомандированного на учебу в
Военную академию, я воевал сравнительно недолго, но успел многому у него научиться. Как и Наумчик,
Павлов был направлен в Военно-воздушную академию. Это был вдумчивый, образованный, офицер,
служивший для всех нас примером высокой летной культуры. Передавая мне эскадрилью, он пожелал
хранить и умножать ее боевые традиции.
И если среди нас выросли новые Герои, кавалеры многих боевых орденов, достойные продолжатели
ратного труда погибших друзей, то этим личный состав полка, эскадрильи во многом обязан тому, что
воспитывались мы и учились на примере лучших летчиков, прославивших наш полк, дивизию,
воздушную армию. [153]
Особое место среди этих людей принадлежало Александру Ивановичу Покрышкину.
С Александром Ивановичем я познакомился в разгар Кубанской воздушной битвы на полевом аэродроме
в станице Поповичской. Это был пышущий здоровьем, широкоплечий, до застенчивости скромный
человек с добрыми глазами. С самого начала меня, как и всех нас, пленили в Александре Ивановиче его
сердечность, душевность, удивительная простота.
Мы находились в столовой, которая в послеобеденное время часто служила нам импровизированным
клубом. Кто-то из летчиков завел разговор о Кубани, о ее щедрой природе, садах, тучных черноземах.
— Благодатный край! — сказал Покрышкин и улыбнулся: — Но признаться, друзья, по ночам мне все
снится родная Сибирь. Разве ее забудешь!
Имя командира эскадрильи, а затем заместителя командира гвардейского истребительного авиаполка,
уничтожившего за полтора месяца кубанского воздушного сражения 120 фашистских самолетов,
Александра Покрышкина не сходило со страниц печати. Не проходило дня, чтобы Александра
Ивановича не «атаковали» многочисленные корреспонденты центральных газет и журналов, радио,
фронтовой и нашей армейской газеты «Крылья Советов». О Покрышкине писали статьи, очерки,
корреспонденции, печатали стихи, и мы удивлялись, каким образом удается журналистам добывать
обширный материал об Александре Ивановиче. Он охотно рассказывал о боевых подвигах своих
товарищей: Григория Речкалова, Дмитрия и Бориса Глинки, Павла Крюкова, Владимира Семенишина и
других, но только не о себе.
К началу воздушного сражения на Кубани Александр Покрышкин имел почти двухлетний боевой опыт.
Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз застало его полк на одном из участков
[154] советско-румынской границы, и уже в самом начале войны он открыл счет сбитым гитлеровским
самолетам.
Покрышкин стал грозой фашистской авиации. Имя его наводило панический страх на гитлеровских
летчиков. Всем, кто сражался в одном строю с Александром Ивановичем, нередко приходилось слышать
предупреждения, которые противник передавал по радио с прифронтовых аэродромов своим пилотам:
— Ахтунг, ахтунг! Ин дер люфт ист Покрышкин!{2}
Александр Покрышкин внес большой творческий вклад в развитие тактики истребительной авиации,
обогатил ее новыми методами борьбы с воздушным противником. В разгар боев на Кубани фашисты
стали бросать против советских сухопутных войск одновременно до двухсот и более бомбардировщиков.
Мы же, летчики-истребители, в ту пору действовали в основном четверками, реже — шестерками, и
перед нами встала неотложная задача разработать высокоэффективные приемы атаки больших масс
вражеских самолетов до их подхода к цели, надежно оградить наши наземные части от массированных
воздушных ударов врага.
Как-то к нам на аэродром прибыл тогдашний командующий 4-й воздушной армией генерал Н. Ф.
Науменко. В беседе с Покрышкиным он подчеркнул, что новые методы ведения воздушной войны
требуют новых средств борьбы с противником. Выслушав командующего, Александр Иванович высказал
интересную мысль. В создавшихся условиях, по его мнению, следовало действовать не разрозненно, а
сообща, крупными силами истребителей, причем с таким расчетом, чтобы встречать «юнкерсов» не над
расположением наших войск, а подальше, за линией фронта.
— Только для расчистки воздушного пространства перед приходом своих бомбардировщиков
гитлеровцы [155] направляют, как правило, до двадцати истребителей, — говорил Покрышкин. — Еще
более многочисленны у них группы сопровождения. А что мы противопоставляем противнику?
Сменяющие друг друга четверки.
Генерал Науменко пообещал изучить предложения Александра Покрышкина со своим штабом, лично
позаботиться о том, чтобы внести в тактику наших истребителей подсказанные жизнью коррективы.
***
В районе Крымской не прекращались упорные воздушные бои. Пока еще мы вылетали четверками, но
действия лх А. И. Покрышкин обогатил тактическими новшествами, которые стали достоянием многих
летчиков-истребителей, в том числе и нашей эскадрильи.
Как нам стало известно несколько позже из рассказа Александра Ивановича, перед очередным вылетом в
район Крымской он предупредил ведущего своей второй пары Григория Речкалова, что на этот раз
намерен встретиться с фашистскими бомбардировщиками не над указанной станицей, а значительно
дальше, над территорией, занятой противником — у Керченского пролива.
...Покрышкин и его боевые друзья увидели вражеские бомбардировщики на фоне облаков. «Юнкерсов»
было много. Они летели в четком строю, по девять машин в группе. Истребители их не сопровождали.
Скорее всего, «мессеры» прикрытия ушли вперед, как и предполагал Покрышкин, ищут советские
истребители, в районе линии фронта, уверенные, что их бомбардировщикам, находящимся далеко от
цели, ничто не угрожает.
Прозвучала команда Александра Покрышкина:
— Атакуем!
Вслед за этим Покрышкин перевел свой истребитель в пике. Изготавливаясь для атаки, он вел машину
под таким углом к немецким самолетам, который позволил бы ему сразить поочередно несколько
бомбардировщиков. [156]
Не успел подожженный Покрышкиным первый «юнкерс» грохнуться на землю, как огнем своей пушки
он сбил следующий. За вторым «юнкерсом» вспыхнул третий.
Видя гибель «юнкерсов» головной группы, немецкие летчики начали сбрасывать бомбы на свои войска и
обратились в бегство. Несколько бомбардировщиков, проскочивших под машиной Покрышкина,
угодили под огонь настигшего их Речкалова. Число сбитых «юнкерсов» возросло до пяти. Тем временем
остальные фашисты, — к моменту их неожиданной встречи с четверкой Покрышкина в небе было до
полусотни гитлеровских бомбардировщиков, — продолжали уходить восвояси. В любую минуту могли
появиться немецкие истребители. И они не заставили себя ждать. «Разделившись на две группы, они
устремились ко мне слева и справа, — вспоминал впоследствии этот бой Александр Иванович
Покрышкин. — Но Речкалов со своим ведомым уже успел выскочить на высоту и стремительно атаковал
их. При таком умении взаимодействовать, каким обладает Речкалов, нам нечего было бояться
численного превосходства гитлеровцев. Смело идем в лобовые атаки, делаем крутые «горки»,
оттягиваясь на свою территорию, Там, над передним краем, наверняка есть наши «лагги», и они нам
помогут».
Говорят, сколько в коллективе людей, столько в нем и характеров, и слова эти полностью относятся к
моим боевым товарищам. Но, вместе с тем, всем летчикам, военнослужащим наземных подразделений,
независимо от их ранга, опыта, занимаемой должности, была присуща общая черта — инициатива,
изобретательность, которые помогали преодолевать любые трудности и препятствия на пути к победе
над хорошо обученным, первоклассно вооруженным противником. Командиры и политработники
всячески поддерживали и развивали в солдатах и офицерах творческое отношение к делу, не [157]
оставляли без внимания их полезных советов, разумных пожеланий. Так было и на этот раз.
Предложения, высказанные А. И. Покрышкиным и другими опытными летчиками в беседе с
командующим армией, были учтены. Прошло немного времени, и советские Военно-воздушные силы,
действовавшие на нашем участке фронта, были пополнены крупным соединением истребительной
авиации, оснащенным новой техникой, и это позволило организовать в широких масштабах перехват
вражеских бомбардировщиков на подступах к линии фронта мощными группами истребителей.
Большую роль в пропаганде предложенных коммунистом Александром Покрышкиным новых
тактических приемов, в обучении летчиков новым методам боя крупных групп истребителей с
фашистскими бомбардировщиками сыграла наша печать. У меня сохранился зачитанный в свое время до
дыр номер армейской газеты «Крылья Советов» со статьей прославленного аса «Атака большой группы
бомбардировщиков противника», в которой А. И. Покрышкин обстоятельно изложил существо
предложенного им метода. Принятый нами на вооружение, он сыграл немалую роль в обеспечении
успеха кубанской воздушной битвы, и мне хочется рассказать о нем словами самого автора,
уничтожившего на Кубани более 20 фашистских самолетов:
«Бой с большими группами бомбардировщиков, прикрытых большим числом истребителей, — писал на
страницах газеты А. И. Покрышкин, — мы проводим следующим образом. Вначале ударная группа идет
в лобовую атаку сверху на ведущие вражеские самолеты. Это особенно важно. Немцы, как правило,
бомбят по ведущему. И если наш истребитель сбивает ведущего или заставляет его вынужденно
сбросить бомбы, остальные вражеские экипажи в большинстве своем по примеру ведущего также
освобождаются от бомб. После первой [158] атаки часть наших истребителей связывает боем вражеские
самолеты, а остальная группа продолжает атаку бомбардировщиков с задней полусферы. Если
бомбардировщики противника следуют без прикрытия, их атакуют все наши самолеты, за исключением
одной пары, которая прикрывает атакующих. Во всех случаях мы стараемся не только разбить вражеский
строй, но и нанести бомбардировщикам наибольший урон до подхода немецких истребителей».
В тревожные осенние дни 1942 года, готовясь к решающим битвам с наступавшими в ту пору немецкофашистскими войсками, мы упорно овладевали новой техникой. Занятия проводились на прифронтовых
аэродромах, чаще всего непосредственно у закомуфлированных самолетов. Как-то на занятиях в одной
из истребительных авиационных частей, дислоцированных по соседству с нами, появился ее командир И.
М. Дзусов. У Дзусова была превосходная зрительная память, он хорошо знал в лицо не только
командиров, но и солдат своего полка. Каково же было удивление Дзусова, когда среди летчиковистребителей, обступивших новую машину, он увидел незнакомого молодого офицера с упрямым
подбородком, крупным лицом. И. М. Дзусов незаметно отозвал в сторону начальника штаба:
— Кто такой?
Начальник штаба вздохнул:
— Борис Глинка.
— Кто, кто? — переспросил командир полка.
— Борис Борисович Глинка.
— Я знаю Дмитрия Глинку, — строго возразил Дзусов.
— Борис его старший брат. Совершенно случайно встретился с Дмитрием. Вот и решили воевать вместе.
— То есть, как это так решили? Что за самоуправство! [159]
— Говорят, что Борис случайно отстал от своей части. Поневоле был вынужден проситься в наш полк.
Дзусов посмотрел на начальника штаба, и, делая ударение на слове «случайно», сказал:
— Чудеса в решете да и только: случайно встретился, случайно отстал. А не известно ли вам, случайно,
куда отправилась часть этого волонтера? Не в тыл ли, случайно?
— Так точно. В глубокий тыл. За Каспий.
Теперь, в свою очередь, вздохнул Дзусов:
— Ума не приложу, что делать с людьми, которые дезертируют из тыла... на фронт, рвутся в бой.
В беседу вмешался замполит:
— Говоря откровенно, я бы вручал им самолеты. Ведь это, товарищ командир полка, будущие Герои
Советского Союза.
— Верю! — согласился Дзусов. — Только прежде чем посылать подобных добровольцев на фронт, их
следовало бы отдать под суд трибунала. За вопиющее нарушение воинской дисциплины.
Как и можно было предполагать, Борис Глинка оказался парнем не робкого десятка. Несмотря ни на что,
он упорно стоял на своем:
— А что, разрешите спросить, товарищ командир полка, делать мне за Каспийским морем? Примите
меня в свой полк. Век буду благодарен.
Стремясь сгладить острый разговор, замполит вслед за командиром полка обрушился на Бориса:
— Это верно, судить тебя надо за самоуправство. Судить по всей строгости законов военного времени,
— и, обратившись к Дзусову, вполголоса заметил: — А вообще-то говоря, трудно судить человека,
который спешит грудью встать на защиту Родины.
— Что правда, то правда! — улыбнулся Дзусов и удовлетворил просьбу Бориса Глинки, принял его в
свой полк. [160]
В воздушных боях за Кубань неразлучные братья-коммунисты Дмитрий и Борис Глинки снискали
заслуженную славу отважных, превосходно подготовленных летчиков-истребителей. Незаменимые
ведущие групп, они в то же время проявили себя примерными свободными «охотниками» за
фашистскими воздушными асами. Действуя «дуэтом», норой в одиночку, но чаще всего совместно с
однополчанами, они сбили в кубанском небе немало фашистских самолетов.
Минули десятилетия, но и сегодня я помню популярные в грозные военные годы среди наших летчиков
стихи неизвестного мне автора, посвященные «дуэту» братьев-истребителей Дмитрия и Бориса, их до
совершенства «сыгранной» боевой работе:
Летают Глинки, как кометы,
Врагов разносят в пух и прах,
И знаменитые «дуэты»
Внушают немцам жуткий страх.
Заводит песню Глинка младший,
Ему подтянет старший брат.
Глядишь, — и носом землю пашет
Очередной фашистский гад.
И славный композитор Глинка
Однофамильцам шлет привет:
«Умело очень, без запинки
Вы исполняете «дуэт».
Врагов вы бьете, как по нотам,
Славна богатырями Русь.
Я вашей мастерской работой
И вашим именем горжусь.
Невозможно перечислить всех боевых друзей, которые отличились в грандиозном кубанском воздушном
сражении, завершившемся крупной победой советского оружия. На Кубани гитлеровцы потеряли
огромное количество самолетов; мы прочно завоевали господство в воздухе, и оно оставалось в наших
руках до конца войны. [161]
Но нелегкой ценой далась победа! Сколько незабываемых фронтовых товарищей, верных сынов
Коммунистической партии и советского народа пало смертью храбрых в боях с фашистскими
захватчиками, сколько дорогих могил оставили мы на освобожденной кубанской земле. Отдавая
последние воинские почести тем, кто не пожалел жизни во имя Победы, однополчане героев снова
уходили в небо на своих быстрокрылых машинах, чтобы беспощадно громить врага.
Наш путь лежал дальше, на запад.
Впереди были бои за освобождение Таманского полуострова, битва за Крым.
В бой иду коммунистом
Вскоре после окончания воздушного сражения на Кубани, в один из знойных летних дней 1943 года меня
вызвали на заседание партийного бюро полка. Я с радостным нетерпением ожидал этого события,
старательно к нему готовился. Как только выдавалось свободное время, перечитывал Устав ВКП(б),
открывал тетради, в которых законспектировал учебник истории партии.
И вот теперь, когда должно было свершиться то, к чему я давно стремился, о чем не переставал мечтать,
я так разволновался, что, представ перед партийным бюро, не узнал собственного голоса.
Партбюро заседало на полевом аэродроме у капониров, в которых стояли самолеты. Члены бюро, такие
же, как и я, летчики-истребители, поглядывали в небо, готовые в любую секунду прервать заседание,
сесть за штурвалы своих машин, уйти в бой. Но воздушная обстановка оставалась спокойной.
Обескровленная в предыдущих [162] сражениях фашистская авиация присмирела, гитлеровские летчики
предпочитали не появляться в зоне наших аэродромов, над которыми патрулировали советские
истребители.
Секретарь партбюро зачитал мое заявление, — ознакомил присутствовавших с моей биографией, назвал
имена бывших командиров нашей эскадрильи майора Николая Кузьмича Наумчика, капитана Григория
Родионовича Павлова и заместителя командира полка по политчасти майора Сергея Михайловича
Щербака, рекомендовавших меня в члены партии.
— Скажи, Исаев, какое поручение ты выполняешь как кандидат партии? — услышал я вопрос.
— Я агитатор. Провожу беседы и политинформации с личным составом эскадрильи.
— Совершенно верно, — подтвердил Щербак. — Исаев неплохо справляется с обязанностями
агитатора... Только хотелось бы, Василий Васильевич, чтобы ты рассказал партбюро о своем главном
партийном поручении.
— Главное мое партийное поручение — беспощадно бить фашистских гадов...
Мой ответ дополнил замполит:
— Позвольте мне, как рекомендующему, дать точную справку, полученную в штабе полка. На
сегодняшний день на личном счету Исаева двенадцать сбитых «мессеров», «хейнкелей», «юнкерсов».
— Немало! — сказал секретарь партбюро. — Но хотелось бы, товарищ Исаев, чтобы было больше.
Я ответил по-военному:
— Есть больше!
Спустя несколько дней я получил партийный билет, спрятал его в нагрудный карман гимнастерки и
взволнованный зашагал к себе в эскадрилью.
Над недавно освобожденной прифронтовой станицей серебрились в воздухе наши истребители, и
вихрастые мальчишки, вглядываясь в небо широко открытыми, [163] слезящимися от солнца глазами,
восхищенно наблюдали за их полетом.
— Попадись им «мессеры», — только перья от них полетят, — сказал старший, черноволосый паренек в
выцветшей красноармейской пилотке с новенькой малиновой звездочкой.
— Еще бы! — согласился один из приятелей. — «Миг» это тебе не «чайка»!
— Эх, Серега, Серега, — назидательно заметил черноволосый, глядя на дружка и поправляя огромную,
не по размеру пилотку, которая то и дело съезжала ему на глаза. — Не «миги» это, а «яки». А еще
летчиком быть собрался.
— А вот и выучусь на летчика! — горячо возразил Серега. — Думаешь, не примут в училище? Директор
школы сказал, что поможет подготовиться к экзаменам.
Потом он мечтательно добавил:
— Только бы малость подрасти. А то никуда и не сунешься с моими годами.
Прислушавшись к диалогу подростков, я вспомнил собственное детство, сухое, знойное лето, одинокий
самолет над Хатмыжеском, и с теплым чувством подумал о добрых и славных людях, которые были
моими воспитателями, наставниками, помогли мне найти свое место в жизни, стать летчикомистребителем.
В самый горький период войны, в грозные дни лета 1941 года я часто получал письма от Пустовойта.
Гитлеровские танковые корпуса рвались на восток, форсировали Днепр, оккупировали Полтаву,
приближались к Харькову. Но Пустовойт не дрогнул, не растерялся. «Нет силы, способной сломить наш
народ, — читал я и перечитывал его письма. — Главное сейчас — стойкость и организованность,
организованность и стойкость. Попадешь на фронт, — днем и ночью бей врага, забудь об усталости. А
пока готовься бить его умело, бить без промаха». О будущей Победе Павел Тимофеевич писал как [164]
о само собой разумеющемся деле. В одном из писем, заставившем меня улыбнуться, он сообщал мне о
том, что надумал после войны раздобыть саженцы яблонь и слив, заняться садоводством.
Второй год я воюю. Бывает, в самые напряженные, критические минуты воздушного боя, находясь под
огнем «мессеров», под обстрелом вражеских зенитных орудий, я мысленно советуюсь с коммунистом
Пустовойтом. И кажется мне, будто я слышу в кабине своего истребителя его спокойный
рассудительный голос:
— Не легок, Вася, наш путь к победе. Но мы не отступим...
Я уверен, что эти, и только эти слова сказал бы мне в решающую минуту боя Павел Тимофеевич, и я
воспринимаю их как отцовскую волю, волю самой Родины. И яснее становится моя голова, зорче глаз,
тверже рука, сжимающая штурвал боевой машины. Я бросаю самолет на врага, атакую его в лоб. Через
какую-то долю секунды мой истребитель врежется в «мессер». Поглядим, у кого крепче нервы: у меня
или у гитлеровского пилота! Не выдерживает фашист. Боясь тарана, он круто отваливает в сторону, но,
не успев развернуться, уйти, попадает под огонь моей пушки.
Как счастлив был бы я сейчас увидеть Пустовойта, сказать ему лишь несколько слов:
— Есть еще один, Павел Тимофеевич!
Мне не привыкать смотреть смерти в глаза, и я не верю людям, хвастающимся тем, что она им нипочем.
Человек хочет жить, тем более, когда ему нет и тридцати, и все у него впереди. Но любовь к Родине,
чувство долга перед ней у советских людей сильнее страха смерти, и главное для меня — драться с
врагом так, как это делали Николай Кузьмич Наумчик, Алексей Лукич Приказчиков, Михаил
Михайлович Осипов и другие воины-коммунисты, которые стали моими первыми фронтовыми
наставниками. [165]
Многих из них уже нет в живых, но их дело продолжают молодые летчики, занявшие в рядах партии
место тех, кто не вернулся из воздушных сражений. В свой следующий бой я впервые пойду
коммунистом, и я дал себе слово до конца выполнить партийный долг, достойно пронести сквозь пламя
сражений ратную эстафету, принятую из рук павших друзей. У меня есть на кого равняться, есть с кого
делать свою жизнь, потому что с первого дня пребывания на фронте рядом со мной были коммунисты.
Несколько дней назад к нам в эскадрилью пришло молодое пополнение. Выпускникам военного
училища летчиков по девятнадцать — двадцать лет. Подготовлены ребята основательно, но на фронте
они впервые. По собственному опыту знаю, как трудно приходится поначалу необстрелянному воину, и
неизвестно, как сложилась бы моя боевая судьба, не служи я в эскадрилье Наумчика. В первых же боях,
атакованный фашистскими летчиками, я не раз попадал в безвыходное, казалось бы, положение. В такие
критические моменты боя он неизменно приходил мне на помощь, рискуя жизнью, принимал удар врага
на себя. А сколько раз выручал меня из беды бесстрашный воздушный воин Михаил Осипов!
Несколько дней назад солдат наземной службы, неплохо владеющий кистью, изобразил на фюзеляже
моего самолета очередную алую звездочку. Звездочки — это сбитые гитлеровские самолеты. В штабе
полка они занесены на мой счет, но я далек от мысли, что это мои личные трофеи. Ведь каждая моя
победа над врагом — это одновременно победа моих боевых друзей, которые водили меня в первые
воздушные атаки, надежно прикрывали и прикрывают мой «як» от «мессершмиттов». По
установившейся традиции, подобно тому, как еще недавно меня опекали коммунисты Наумчик и
Осипов, теперь я передаю свой опыт молодым летчикам-истребителям. [166] Вчера это было моей
обязанностью как комэска, сегодня же это, прежде всего, — мой партийный долг.
Занятый своими мыслями, я не заметил, как пересек из конца в конец станицу, миновал заросшее осотом
и лебедой непаханное поле, добрался до своих. Эскадрилья не только боевой коллектив, но и моя семья.
И как это заведено в хороших, дружных семьях, здесь каждый живет жизнью своих близких, их делами,
радостями, заботами. Дежурный по эскадрилье бежит мне навстречу, лихо берет под козырек,
обращается ко мне с лаконичным рапортом. И сразу же по-братски меня обнимает, крепко пожимает
мою руку:
— Поздравляю, Вася. От души поздравляю с получением партийного билета!
— Тебе, собственно, откуда известно, что я получил партийный билет?
Дежурный улыбается:
— По глазам твоим вижу.
Со всех сторон меня обступают боевые товарищи. У ребят приподнятое, праздничное настроение.
Только что радио передало очередное сообщение Совинформбюро, и друзья спешат поделиться со мной
радостными известиями. Разгромив немецко-фашистские войска на Курской дуге, Красная Армия
продолжает стремительно продвигаться на запад, освобождая от гитлеровских захватчиков все новые и
новые города и села. По хорошо мне знакомым названиям населенных пунктов, которые перечисляет
Левитан, видно, что войска Степного фронта подошли вплотную к Харькову.
Авиамеханик Николай Пивовар, с которым я крепко подружился за время совместной службы в
эскадрилье, угадывает мои мысли:
— Пора бы вам, товарищ комэск, написать жене. Пока письмо дойдет до места, наши будут в Харькове.
[167]
Николай прав. С письмом надо поторапливаться. Линия фронта, которую Николай Пивовар ежедневно
отмечает на карте, подступает все ближе к Днепру.
Активные боевые действия ведут и войска нашего Северо-Кавказского фронта. Но засевшая в районе
«Голубой линии» крупная вражеская группировка оказывает яростное сопротивление советским
войскам. Стремление фашистов во что бы то ни стало удержать «Голубую линию» понятно. Само
название, которым противник окрестил созданный им на Тамани мощный оборонительный рубеж,
напоминает гитлеровцам о том, что в тылу у них воды Керченского пролива, угрожающие фашистам
малоприятным купанием.
Наши наземные войска, военные моряки Азовской флотилии и Черноморского флота готовились к
генеральному штурму «Голубой линии». Тем временем Военно-воздушные силы продолжали наносить
удары по оборонительным рубежам и вражеским тылам с воздуха. Летчики-истребители тесно
взаимодействовали со штурмовой и бомбардировочной авиацией, и не проходило дня, чтобы мы не
совершали несколько боевых вылетов по прикрытию «илов», СУ, Пе-2.
Штурмовики и бомбардировщики обычно базировались в 50 — 60 километрах от линии фронта; наш же
истребительный авиаполк стоял не далее чем в 10—15 километрах от передовой. Надежная связь между
аэродромами, которую поддерживали радисты, дежурившие у своих раций на командных пунктах,
обеспечивала четкую, слаженную работу летчиков-истребителей со штурмовыми и бомбардировочными
подразделениями.
Во время одного из вылетов в тыл фашистских войск я во главе шестерки «яков» сопровождал
двенадцать «илов», которым предстояло нанести удар по предварительно разведанным вражеским
колоннам, продвигавшимся к линии фронта. [168]
В районе нашего аэродрома «илы» появились в точно назначенное время. Немедленно взлетаем, слева и
справа пристраиваемся к штурмовикам; два истребителя прикрывают их сверху. В небе плывут тучи, и
мы с особым вниманием наблюдаем за воздухом, готовые отразить возможное нападение «мессеров».
В воздухе спокойно. Моросит дождь. Видимость ограничена. В такую погоду немецкие летчики
неохотно поднимаются в небо, да и наших вылетов, судя по всему, они не ждут. Все складывается
наилучшим образом, летим безо всяких происшествий, и вот мы уже над передовой.
Здесь картина резко меняется. Тучи остаются позади, и мы попадаем в зону ураганного огня зенитной
артиллерии противника. Немцы не жалеют снарядов. Многочисленные зловещие облачка разрывов
свидетельствуют о том, что нас обстреливают одновременно несколько батарей.
Прорываться сквозь огонь зенитной артиллерии нам не впервые, но сегодня он особенно плотный, и я с
волнением слежу за штурмовиками. Но все в порядке. Не отклоняясь от заданного курса, «илы» умело и
хладнокровно маневрируют по высоте, лишая тем самым вражеских зенитчиков возможности вести
точный, прицельный огонь.
Снаряды рвутся слева, снизу и сверху, спереди и сзади, но ни один из них, к счастью, не достигает цели.
Благополучно проходим над линией фронта. Фашистские зенитные батареи остаются позади, разрывов
снарядов в небе больше не видно. Все штурмовики в боевом строю. Я перевожу дыхание, словно
освобождаюсь от тяжелой ноши. Вытираю потный лоб, слышу в наушниках шлемофона нетерпеливый
знакомый голос:
— Сто двадцатый, Сто двадцатый! Я — Восьмой, я — Восьмой! Доложите обстановку. [169]
Сто двадцатый — мой позывной. Восьмой — это полковник И. М. Дзусов, назначенный недавно
командиром нашей истребительной авиадивизии.
В то время, как эскадрильи и полки дивизии ведут воздушные сражения, полковник Дзусов безотлучно
находится на своем командном пункте, и поскольку бои не прекращаются с рассвета до позднего вечера,
на протяжении всего долгого летнего дня его можно застать на КП, у рации. Связываясь с командирами
групп, Дзусов тщательно анализирует воздушную обстановку в зоне действия дивизии, оперативно, с
глубоким знанием дела руководит летчиками, координирует их боевую работу со штурмовыми и
бомбардировочными подразделениями, наземными войсками.
Значение всего этого, тем более в условиях наступательных операций советских сухопутных частей,
трудно переоценить. Положение то на одних, то на других участках фронта быстро меняется. Нередко
бывает так, что позиции, на которых лишь полчаса назад оборонялись фашисты, уже заняты нашими
войсками. В это время мы находимся в воздухе, и КП Дзусова, работая в контакте с командирами
стрелковых и механизированных частей, немедленно сообщает нам по радио об изменениях,
происшедших в наземной обстановке, предотвращая возможность нанесения ошибочного воздушного
удара по своим танкам и пехоте, успевшим продвинуться вперед, выйти на новые рубежи.
— Я — Сто двадцатый, Сто двадцатый! — откликаюсь я на вызов Дзусова. Группа пересекла линию
фронта, вышла без потерь из зоны массированного зенитного огня, продолжает полет по курсу.
— Добро! — коротко отвечает командир дивизии. — Выполняйте задание. Будьте внимательны. Желаю
удачи.
На коленях у меня разложена карта. На ней отмечены ориентиры, по которым я сверяю курс. Позади, под
крылом самолета осталась какая-то безвестная [170] речушка, промелькнул жидкий лесок. С северной
стороны к нему подступает маленький безлюдный хуторок. А вот и грейдер. Он-то нам и нужен. Сквозь
густую пыль вижу колонну фашистских танков, десятки автомобилей с вражеской пехотой и грузами. И
танки, и автомашины движутся на минимальном отдалении друг от друга. Ясно, что гитлеровцы не ждут
удара советской авиации. К тому же, они нас пока не видят, во всяком случае не проявляют ни малейших
признаков беспокойства. Что ж, тем лучше! Облегчая выполнение боевого задания, внезапность
нападения чревата для противника особенно тяжелыми последствиями.
— Атакуем с головы! — отдает команду штурмовикам ведущий группы «илов». — По танкам и
мотопехоте «эрэсами»{3} и бомбами!
С пологого планирования штурмовики обрушивают на врага всю свою огневую мощь. Оглушительно
ревут моторы. «Илы» сбрасывают на дорогу бомбы, обстреливают вражескую технику реактивными
снарядами, поливают оккупантов беспощадным пулеметным огнем.
Атака следует за атакой. Взглянул вниз и мысленно поздравил летчиков-штурмовиков с крупным
успехом. На дороге творится что-то невообразимое. На протяжении сотен метров она объята огнем,
густым черным дымом. Горят танки, разбитые автомашины. Воздух сотрясается от взрывов — рвутся
ящики со снарядами и минами, цистерны и баки с горючим, и кажется, что сама земля горит под ногами
у фашистских захватчиков. Мечутся обезумевшие от ужаса солдаты и офицеры. Бросая оружие, они
бегут к придорожной роще, но немногим удается укрыться от пушечно-пулеметного огня.
Наши «яки» попарно ходят над «илами», прикрывают их с боков. Бдительно наблюдаем за воздухом: в
любую секунду в небе могут появиться «мессеры». [171]
Меня снова вызывает по радио полковник Дзусов. Я докладываю ему о ходе боя.
— Молодцы! — говорит командир дивизии. — В оба смотрите за штурмовиками! Отвечаете головой!
— Ясно, товарищ комдив, — в обиду их не дадим!
Эфир, как и обычно в разгар боевого дня, до предела заполнен звуками. Назойливо пищат морзянки,
слышны чьи-то позывные, команды, распоряжения. Какой-то «Лотос» упорно ищет в эфире «Ромашку».
«Орел» сообщает «Иволге», что он атакует «мессера», просит прикрытия. Некий Вася приветствует
некоего Стасика, сбившего «хейнкель». И вдруг я слышу в наушниках голос моего ведомого Героя
Советского Союза Ахмета Канкошева:
— Право на девяносто! Дюжина «мессеров»!
Славный сын Кабардино-Балкарии
Любимец эскадрильи и полка, чудесный летчик и замечательный товарищ, кареглазый, широкоплечий
Ахмет в прошлом был начальником Йошкаролинского аэроклуба. Старый горец Тала Эльмурзович
Канкошев гордился своим младшим сыном — летчиком.
Однажды из кабардино-балкарского селения Дейское от Тала Эльмурзовича пришло необычное письмо
однополчанам Ахмета. Заместитель командира полка по политчасти Щербак зачитал его на митинге
перед строем летчиков, и оно нас глубоко взволновало, прозвучав как священное отцовское напутствие:
«Сыновья мои! Я стар и сед. Мне многое выпало перенести и увидеть в жизни, но то, что пришлось
пережить под фашистом, тяжелее, чем взвалить на спину [172] Казбек. Только ветер осыпает с гор
холодный пепел. А ведь совсем недавно здесь цвели богатые колхозы. Тяжелую тризну справляют над
тысячами убитых и замученных кабардинцев вечно шумливые, бурные горные реки. Опустел наш край,
обезлюдел.
Фашисты убили у меня старшего сына Шамауле — родного брата Ахмета. Как герой, он пал с автоматом
около деревни Каменки; от рук фашистских убийц погибли двоюродные сестры Ахмета — Фатимат и
Абчара.
Один сын остался у меня для кровной мести. Он моя надежда. Вы, друзья его, горные орлы, выполните
просьбу старика: бейте осквернителей нашей земли, наших законов, нашей старости. Правда на нашей
стороне, дети мои, вы победите. Так пусть же ваше оружие никогда не высыхает от подлой крови
вражеской».
Мы написали коллективный ответ отцу Ахмета, поклялись Тала Эльмурзовичу выполнить его наказ:
«Пока в груди бьется сердце, пока глаза видят врага, пока есть сила в руках, до тех пор будем жестоко
мстить фашистам!»
Гибель брата и сестер потрясла Ахмета. Но мужественный человек не уронил ни единой слезы, лишь на
худом, осунувшемся лице резче обозначились острые скулы, упрямый подбородок.
Командир полка предложил Канкошеву краткосрочный отпуск, думал, пусть съездит на родину, в
недалекую Кабарду повидаться с отцом. Ахмет поблагодарил, от отпуска отказался.
— Буду бить гадов, мстить за брата и сестер, — коротко сказал он и нахмурил густые брови. — Ничто не
поддержит так отца, который потерял на старости лет любимых детей, как известие о сбитых мною
фашистских самолетах.
На счету у Ахмет-хан Таловича их было немало. О безукоризненном, орлином зрении Канкошева в
эскадрилье и в полку ходили легенды. Говорили, что обнаруживать [173] в воздухе вражеские самолеты
ему помогает какое-то шестое чувство. И действительно, немногим летчикам удавалось так быстро и
безошибочно находить воздушного противника, как это делал Ахмет. «Шестое чувство» и на этот раз не
подвело Канкошева, первым среди нашей шестерки заметившего «мессеров».
Вражеских истребителей ровно вдвое больше «яков». Но бесспорное тактическое преимущество на
нашей стороне, поскольку немцы идут ниже. По строю гитлеровских самолетов догадываемся, что
противник не видит нас. Это создает вдвойне выигрышные условия для нападения на врага, и я
немедленно принимаю решение: «Атака!»
Бросаемся сверху на «мессеров», связываем их боем, но ведем его в стороне от сопровождаемых нами
«илов». Это и есть то, что нужно штурмовикам, которые громят гитлеровцев на дороге.
Атакую головного фашиста. В то же время наблюдаю за «илами». Двум «мессерам» удается вырваться из
клещей и они предпринимают отчаянную попытку атаковать наши штурмовики. Но не тут то было! В
паре с Ахметом режем воздух под острым углом к курсу гитлеровских самолетов, пушечно-пулеметным
огнем отсекаем их от «илов», прикрываем штурмовиков сверху, и те, находясь под нашей защитой,
завершают разгром наземного противника.
Рвутся бомбы, «эрэсы», вижу пламя, полыхающее над фашистской колонной. Все это происходит на
глазах у гитлеровских летчиков, но они скованы боем, навязанным «яками», и не могут помешать работе
«илов».
Из наушников шлемофона доносится возбужденный радостный голос капитана Зайцева, увидевшего
горящий «мессер»:
— Молодчина, Ахмет! Бей следующего, левого. Того, что справа, беру на себя! [174]
— Горит, гад, горит! — вторит Зайцеву Николай Глядяев.
— Сам вижу, что горит, — спокойным, как всегда, слегка певучим голосом невозмутимо отвечает
Канкошев. — Принимаюсь за очередного...
— Вижу, прикрываю! — отвечает Ахмету его ведомый.
Канкошев наваливается на второго «мессера», а тем временем подожженный им первый фашистский
истребитель врезается в землю неподалеку от дороги, превращенной «илами» в кладбище гитлеровских
танков и автомашин, вражеских солдат и офицеров.
Но Ахмет всего этого не видит. Набрав высоту и скорость, он заходит сзади на «мессера»,
ускользнувшего от его первой атаки. Фашист уходит от преследователя поворотом в пике и не замечает
устремившегося к нему сверху «яка» Глядяева. Эта оплошность стоит вражескому летчику жизни.
Настигнутый снарядом глядяевской пушки, «мессер» разваливается в воздухе. Горящие обломки
самолета падают на головы фашистских солдат, укрывшихся в придорожной рощице.
Еще одного «мессера» сбивает Зайцев. Вслед за этим он делает боевой разворот, готовится атаковать
следующего гитлеровца, но воевать Зайцеву уже не с кем. В течение немногих минут немцы лишились
трех истребителей, и уцелевшая девятка «мессеров» предпочла оставить поле боя.
Связываюсь по рации с ведущим группы штурмовиков, пристраиваемся к «илам», сопровождаем наших
подопечных до их аэродрома, ходим над ними, пока не приземляется последний самолет.
Задание выполнено: «илы» целы и невредимы. Да и у нас нет потерь.
Вечером мы усадили Канкошева за стол, поручили ему от имени личного состава эскадрильи написать
Тала Эльмурзовичу. Пусть знает старик о том, что [175] Ахмет и его боевые друзья беспощадно мстят
гитлеровцам за смерть Шамауле, Фатимат и Абчары, за горе и слезы, принесенные фашистскими
оккупантами на родную советскую землю.
Встреча с семьей
В освобожденном Харькове я побывал совершенно неожиданно. В свое время я последовал доброму
совету Николая Пивовара и. несмотря на то, что Харьков был еще оккупирован врагом, во второй
половине августа написал жене.
Спустя несколько дней наши войска освободили мой родной город. Продолжая теснить противника, они
продвигались на запад, и в одной из очередных сводок Совинформбюро среди многих других
населенных пунктов, освобожденных из фашистской неволи, был назван и поселок Коротич, в котором
оставалась моя семья.
Прошла неделя, вторая. По нескольку раз на день я бегал на полевую почту, но долгожданный ответ от
жены ни на первое, ни на последующие мои письма все не приходил. Своими тревогами я поделился со
Щербаком. Тот посоветовал запросить о судьбе семьи Коротичанский поселковый Совет, что я и сделал.
Шли дни. Неожиданно меня вызывают в штаб. Начальник штаба Умар Ибрагимович Петижев,
оторвавшись от бумаг, сказал:
— Собирайся, Василий Васильевич, в поездку. Иди к начпроду. Выписывай сухой паек.
Распоряжение Петижева меня нисколько не обрадовало. Не хотелось даже ненадолго расставаться со
своей полковой семьей, с эскадрильей, боевыми друзьями. [176]
— Ни к чему мне эта командировка, — хмуро сказал я Петижеву.
— Поедешь! — строго возразил начальник штаба. — Не в моей воле отменять приказы командующего
армией. Отправляю тебя по приказу генерал-полковника Вершинина.
— В какие же края мне ехать?
— Не ехать, а лететь. В Харьков. На два дня. Попутным транспортным самолетом. Кстати, он и назад
тебя доставит.
Я не поверил своим ушам. Не разыгрывает ли меня, часом, Петижев? Вроде на него не похоже, Умар
Ибрагимович — человек деловой, серьезный. Но чтобы не попасть впросак, я на всякий случай сказал:
— Даром людей от службы отвлекаешь. Или, думаешь, мне нечего делать в эскадрилье?
Теперь возмутился Петижев:
— Занятно ты, дорогой, рассуждаешь! Комэск, оказывается, занятый человек, а начштаба погибает от
скуки. — И уже примирительно добавил: — Выполняй, Вася, приказ командующего. Самолет уходит
через полтора часа.
— За что же мне такая награда?
— За обеспечение удара штурмовиков по немецким танкам и автоколонне. Вот приказ по Четвертой
воздушной. Возьми, почитай.
Лететь предстояло более двух часов. Попытался задремать, но разве уснешь, когда только и думаешь о
том, застанешь ли родных на месте, живы ли они...
Харьков было не узнать. Гитлеровцы уничтожили не только сотни зданий, но и целые улицы, кварталы.
Не работал трамвай, бездействовал водопровод, не было электроэнергии, с наступлением сумерек город
погружался в густую, непроницаемую тьму.
Пешком, на попутных машинах добрался, наконец, до Коротича. Заколоченный досками,
полуразрушенный [177] дом был пуст. Не зная, что делать дальше, я вышел на безлюдную улицу. Мое
внимание привлекла пароконная бричка, выехавшая из переулка на разбитую танками и тягачами
немощеную улицу.
Поравнявшись со мной, возница, старик с густой, прокуренной бородой, придержал лошадей. Притушив
пальцами махорочную самокрутку, он приложил руку к выгоревшей на солнце военной фуражке с синим
кавалерийским околышем:
— Здравия желаю, товарищ летчик. Никак ждешь кого?
Старик прищурился, смерил меня неторопливым, изучающим взглядом, и его серые колючие глаза с
розовыми прожилками смягчились. Дед вылез из брички, снова пристально вгляделся в мое лицо, и губы
его, обнажившие рот с прокуренными коричневыми зубами, растянулись в улыбке:
— Погоди, погоди, мил человек, товарищ летчик. Вроде ты мне знаком. Никак Даниле Антоновичу и
Зинаиде Серапионовне зятьком приходишься. Старуха с дочкой все глаза по тебе выплакали. А ты,
оказывается, звон какой: в плечах — косая сажень, жив, здоров, при орденах и медалях. Видать,
посбивал кучу фашистских аэропланов, будь они трижды прокляты. У меня от них по сей день в ушах
гудит.
— Живы? — нетерпеливо перебил я разговорчивого старика.
Мой собеседник не спешил с ответом. Он посмотрел на мою шерстяную диагоналевую гимнастерку,
пощупал ее пальцами и, восхищенно цокнув языком, заметил:
— Материя — высший сорт. Значит, не обеднела наша держава, коль на третий год войны ровно
женихов вас одевает. Не то, что фашисты. Те вконец пообносились, пообовшивели и рожи немытые.
Насмотрелся на них, когда с Харьковщины драпали. Не войско, а рвань, нечисть сплошная. Хоть и при
танках еще, при орудиях. [178]
Старик снова потрогал мою гимнастерку:
— Так о чем ты меня спрашиваешь, а? — И не дав сказать слова, ответил: — Жива, вся твоя родня
жива... А теперь уж извиняй — поеду. Некогда мне с тобой разговоры тут разговаривать, будто делов в
совхозе у меня нету.
Для порядка дед состроил зверское лицо и прикрикнул на спокойно стоящих, подремывающих лошадей:
— Ну, не балуй!
Он было шагнул к телеге, но вдруг его осенила новая мысль:
— Оно, конечно, не дело оставлять приезжего военного человека посреди дороги. Чего топчешься на
месте! Давай, присаживайся. Через полчаса в аккурат тебя к Даниле Антоновичу доставлю.
Слева от дороги потянулось унылое, запустевшее поле, и я спросил деда, уцелел ли в хозяйстве после
оккупации хоть какой-нибудь инвентарь, как живут люди при непаханной земле.
— Живут небогато. А если прямо сказать, бедно живем. Да и откуда взяться, мил человек, богатству,
коль немец все пожег, все порастаскивал. И некому в совхозе добро наживать. На все хозяйство ни
одного стоящего мужика — все на фронте. Остались, скажу тебе, вот такие парубки, как я, да сплошные
бабы. Как при такой кадре землю поднимать, чьими руками? И ни единого трактора на весь совхоз. Да и
коней — раз, два и обчелся.
— Не горюй, папаша, — сказал я старику. — Добьем Гитлера, вернемся с войны, будет у тебя рабочая
сила.
— А я и не горюю. С какой-такой стати буду я горевать. Народ нынче на вас не нарадуется. Исправно
гоните немца. Закончишь войну, — пиши заявление в наш совхоз. Найдется тебе работа. Летчик, я так
думаю, в мирное время — тот же тракторист, потому как и аэроплан и трактор — оба они при моторе.
[179]
Бричка въехала в поселок. На краю его, в лощинке, стоял одинокий столб с оборванными телеграфными
проводами. На высоте человеческого роста к столбу был приколочен обрезок фанеры, на котором чья-то
рука вывела химическим карандашом: «Райеленовка».
Мы миновали несколько улиц, свернули в узкий переулок, и дед остановил лошадей у неогороженного
подворья.
— Тут, значит, и находится твое семейство, — сказал старик и показал хворостиной на дом, стоявший
посреди двора. — А теперь прощай. Поклон ребятам на фронте от меня передашь.
В конуре вяло залаяла неправдоподобно тощая собака. Дверь из сеней отворилась, и на порог вышла моя
жена. На руках она держала Светлану. Увидев меня, она от неожиданности вскрикнула, едва не уронив
дочку. На ее голос во двор выбежали старики. Зинаида Серапионовна заохала, запричитала, Данила
Антонович обнял меня, потащил в дом.
Я очутился в маленькой, словно игрушечной, комнатушке. Было так тесно, что мы сидели касаясь друг
друга коленями. Украдкой я разглядывал бледные, изможденные лица близких. Увидел на столе хлеб,
нарезанный тончайшими ломтиками. Старые газеты заменяли на окнах занавески, вся мебель состояла из
нескольких ящиков. Закопченные стены выглядели сиротливо, и мне вспомнились недавние слова
совхозного ездового: «Если прямо сказать, бедно живем».
И, будто угадывая мои мысли, Данила Антонович сказал:
— За нас волноваться теперь не приходится. Самое страшное позади. Спасибо добрым людям, приютили
нас в Райеленовке, спрятали от немецких облав. В Коротиче жить негде. Сам видел, как полстены снаряд
немецкий разворотил. Будем в Райеленовке зимовать. Жизнь налаживается и работы хватает. Я здесь, в
поселке, [180] по бухгалтерской части, а жена твоя в Харьков ездит — поступила медсестрой в больницу.
Я слушал не перебивая.
— Разыскивали тебя, а ты сам объявился.
— Главное, Вася, что ты жив, здоров, — вздохнула Зинаида Серапионовна. — Чего мы только о тебе не
передумали, вспомнить страшно. Не успели ворваться немцы в поселок, тотчас же объявили, что русская
авиация уничтожена. Дальше хуже пошло: взяли, мол, они Москву и Ленинград. Сама не своя была. А
Антоныч с дочкой шумят на меня: «Не больно молода, а не поймешь, что все это враки, геббельсовская
болтовня. И самолеты наши почти каждую ночь над поселком пролетают, идут на бомбежку фашистских
тылов. И Москва с Ленинградом как стояли, так и стоят, и вечно стоять будут».
Данила Антонович ласково погладил супругу по седеющей голове.
— Не на нашей ли с дочкой стороне правда была?
— Втроем правы были. Не верила я фашистским россказням. Тоже скажешь.
Жена осторожно забрала уснувшую на моих коленях Светлану, уложила ее в постель. Разговаривали
теперь вполголоса.
Данила Антонович спросил:
— Войну скоро кончать будете?
— Как возьмем Берлин, так и кончим.
— Далековато еще.
— Это смотря по тому, каким ходом идти.
— Тоже верно.
Во сне дочка сладко посапывала, и я невольно подумал, что каждый мой воздушный бой имеет прямое
отношение к будущему моего ребенка.
Данила Антонович приподнял Светланину голову, поправил подушку, простлал поверх одеяла свою
меховую безрукавку. [181]
— Кончайте войну, Вася. Всем народом будем браться за мирные дела.
Из Райеленовки в Харьков я возвращался вдвоем с женой. Она торопилась на работу, я спешил на
военный аэродром, чтобы не опоздать к самолету. Стояло прозрачное, погожее утро, и израненный
город, щедро залитый солнечным светом, производил особенно тяжелое впечатление.
Перед решающим боем
Утром в полк прибыли заместитель начальника оперативного отдела и главный инженер воздушной
армии. Они побывали в эскадрильях, побеседовали с людьми, проверили, насколько боевые
подразделения обеспечены кадрами и материальной частью. В ожесточенных воздушных сражениях мы
понесли чувствительные потери, и поверяющие от имени командования армии пообещали пополнить
полк летчиками, доукомплектовать его техникой.
Затем представители армии внимательно ознакомились с положением дел в наземных службах,
поинтересовались, достаточно ли у нас боеприпасов, горючего. Все, в чем полк ощущал нужду, было
получено в ближайшие дни.
Чувствовалось, что на фронте назревают большие события, и события эти не заставили себя долго ждать.
После мощной артиллерийской подготовки, удара по противнику с моря и воздуха началась высадка
десанта в новороссийском порту. Одновременно с высадкой войск с десантных кораблей перешла в
наступление наша ударная группа восточнее Новороссийска. [182]
Наш полк вместе с тремя другими истребительными полками 229-й авиадивизии, удостоенной звания
Таманской, прикрывал войска десанта и переправы через Керченский пролив от фашистских
бомбардировщиков. Одновременно мы вели усиленную воздушную разведку тактической обороны
гитлеровцев, скоплений вражеской техники и живой силы.
Как правило, боевые вылеты не обходились без воздушных схваток. Гитлеровская авиация несла в них
большие потери. В один из дней, например, мы провели 15 боев, сбили 18 самолетов противника.
Неплохую встречу истребители-таманцы подготовили Новому, 1944 году. 28 декабря мы отправили на
дно Керченского пролива дюжину «юнкерсов» и «мессеров». Еще два десятка немецких
бомбардировщиков и истребителей было уничтожено 30 и 31 декабря. От всего сердца поздравляли мы
своих боевых друзей майора Кулякина, капитана Горбунова, старшего лейтенанта Камозина,
лейтенантов Кулагина и Щеблыкина, особенно отличившихся в предновогодних боях.
Новый год мы встречали в маленьком саманном домике, оборудованом под жилье летчиковистребителей эскадрильи. Домик стоял почти на самом побережье, и по ночам, когда ненадолго стихал
грохот боя, со стороны моря доносились глухие всплески волн неспокойного в эту пору года
Керченского пролива.
Ближе к полночи мы сдвинули вплотную два небольших стола, нарезали хлеб, колбасу, наполнили миски
солеными, вялеными и жареными бычками, которыми по случаю предстоящего праздника нас в
изобилии обеспечили станичные рыбаки и их хлебосольные жены. Они же преподнесли нам добрый
кувшин красного домашнего «каберне». Не хватало только деда Мороза и новогодней елки.
До двенадцати оставались считанные минуты. У всех было приподнятое, торжественное настроение. И
только [183] горечь невозвратимых утрат, скорбь по павшим друзьям, которых не было среди нас за
фронтовым новогодним столом до боли сжимали наши солдатские сердца.
Радио донесло в саманный домик голос родной Москвы, дыхание Красной площади. Кремлевские
куранты отсчитывали последние минуты уходящего боевого сорок третьего. Мы наполнили кружки
вином, с двенадцатым ударом курантов подняли тост за новый, сорок четвертый, за торжество нашего
правого дела.
Не успели мы прожить и десяти минут в 1944 году, как к нам заглянул Сергей Михайлович Щербак. Он
домовито вытер у порога сапоги, снял шинель, повесил ее на гвоздь. Обменявшись поздравлениями, мы
усадили его за стол.
Сергей Михайлович, как и я, харьковчанин. Родился в пригородном поселке Дергачи. Окончил ФЗУ
Харьковского вагоноремонтного завода, работал слесарем в одном из цехов этого старейшего в городе
предприятия, известного славными революционными традициями. Работу на заводе Щербак совмещал с
учебой на рабфаке. Затем учился в Харьковском институте инженеров железнодорожного транспорта,
сдал экзамены за первый курс. Но ему не было суждено стать железнодорожником. По комсомольскому
набору он был призван в авиацию, направлен в школу военных летчиков, в которой впоследствии и мне
довелось учиться.
Незадолго до Великой Отечественной войны Сергей Михайлович закончил Военно-политическую
академию.
Военная судьба бросала Щербака в разные уголки страны. Но родного города он не забыл, все собирался
побывать в Харькове, да осуществить давнюю мечту мешали разные обстоятельства, и теперь Сергей
Михайлович откладывал эту поездку до победы над гитлеровской Германией. [184]
В каждом харьковчанине Щербак видел не только земляка, но чуть ли не родственника. Несмотря на
разницу в возрасте — Сергей Михайлович лет на шесть старше меня — мы крепко подружились.
И, как это обычно бывает, когда соберутся люди, спаянные фронтовым братством, общими интересами,
за нашим новогодним столом завязывается теплая, непринужденная беседа. Кто-то декламирует стихи,
кто-то рассказывает занимательные истории, веселые анекдоты.
Анатолий Графов неутомимый шеф моего самолета с первых дней нашего совместного пребывания на
фронте, вполголоса затягивает:
Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море...
На глазах Анатолия — слезы. Видать, вспомнил Севастополь.
— Не ко времени песня, дорогой Анатолий! — по-дружески хлопает по плечу Графова Николай Глядяев.
— Не прощай, а здравствуй, любимый город. Так-то! Не сегодня-завтра брать его будем. Некоторые
ребята — сам видел — уже написали на своих машинах: «Даешь Севастополь!»
Щербак просит минуту внимания. Лицо его становится серьезным и скорбным. За столом воцаряется
тишина, и в ней торжественно, неторопливо звучит голос замполита:
— Почтим, дорогие друзья, светлую память погибших боевых товарищей. Вечная им слава!
Летчики встают со своих мест, склоняют головы, и ни один мускул, ни одна жилка не дрогнут на
застывших, словно высеченных из камня, суровых лицах воздушных воинов, отдающих почести тем,
кого нет за новогодним столом, кто не вернулся из своего последнего боя. [185]
На столе перед Щербаком лежат часы. Вороненая иссиня-черная секундная стрелка завершает полный
круг по белому полю циферблата. Истекла минута молчания, и замполит, тяжело вздохнув, едва
заметным кивком головы приглашает нас сесть.
Как и всегда, при встрече со мной Сергей Михайлович заводит разговор о Харькове, и я едва успеваю
отвечать на его вопросы.
— Тракторный видел?
— Видел, товарищ майор.
— Ну, как? — спрашивает Щербак. В голосе замполита слышатся тревога, глубокая озабоченность,
будто речь идет о дорогом, близком ему человеке.
— Одни руины.
— Мерзавцы! А Госпром цел? Дом проектов? Дворец пионеров?
Здания, которые называет Щербак, олицетворяли наш город, были его визитной карточкой, являлись
предметом гордости каждого харьковчанина. И они были взорваны, разрушены.
— А Южный вокзал?
К сожалению, я снова не могу сказать Сергею Михайловичу ничего утешительного.
С первых дней переезда из Хатмыжеска в Харьков вплоть до призыва в Красную Армию я жил вблизи
вокзала, привык к нему, знал все его углы и закоулки. И каждый раз, входя под высокие своды этого
просторного и светлого здания, любовался нарядными залами. Теперь же на том месте, где стоял
железнодорожный вокзал, — ворота города, остались груды черного обгоревшего кирпича,
обезображенные взрывами перекрытия, куски ржавого железа.
...Новогодняя ночь сменилась мглистым зимним рассветом, а Сергей Михайлович Щербак все еще
расспрашивал меня о поездке в Харьков. [186]
На Керченском плацдарме
Наш полк, переброшенный в начале Великой Отечественной войны из восточных районов страны на
фронт, отмечал вторую годовщину своей боевой деятельности. Эта торжественная дата совпала с
незабываемым, большим и радостным событием в нашей жизни — вручением части Гвардейского
знамени.
За два года полк прошел большой ратный путь. Наши эскадрильи провели 1100 воздушных боев с
противником, уничтожили 261 фашистский самолет, 39 вражеских танков, более 1350 автомашин,
вывели из строя 6700 гитлеровских солдат и офицеров.
Начав войну на устаревших истребителях, полк продолжал ее на новейших боевых машинах, и каждый
из нас испытывал чувство горячей признательности советским авиаконструкторам, труженикам
авиационной промышленности, которые в предельно короткое время создали и наладили производство
первоклассных самолетов.
Отличный истребитель дал нам конструктор С. А. Лавочкин. Обладая высокой горизонтальной и
вертикальной скоростями, превосходной маневренностью, вооруженный синхронными пушками, этот
самолет по всем летно-тактическим данным оставил далеко позади фашистские истребители, в том числе
и новейший из них «Фокке-Вульф — 190».
Заслуженную популярность среди летчиков завоевали модифицированные «яки», совмещавшие в себе
такие ценные качества, как предельно малый полетный вес, непревзойденную по тому времени скорость,
достигавшую 700 километров в час, и мощное вооружение. 37-миллиметровые пушки, которыми
оснащались истребители, стали грозой фашистской авиации. Достаточно [187] было лишь одного
снаряда, метко выпущенного этим орудием, чтобы превратить немецкий бомбардировщик, не говоря уже
о более легких машинах, в груду металлолома.
Не оставались в обиде на конструкторов, рабочих, инженеров и техников авиационной промышленности
и наши штурмовики, летчики бомбардировочной авиации. На вооружение штурмовых и
бомбардировочных авиаполков, с которыми взаимодействовала наша эскадрилья, поступало все больше
усовершенствованных самолетов Ил-2, модернизированных пикирующих двухмоторных
бомбардировщиков Пе-2, двухмоторных бомбардировщиков дальнего действия Ил-4 и других отличных
машин. Мне часто приходилось прикрывать эти самолеты, сопровождать их на выполнение боевых
заданий, и я с радостью убеждался, что в своем развитии наша штурмовая и бомбардировочная авиация
не отстают от истребительной.
Высокие летно-тактические качества советской авиационной техники в сочетании с постоянно растущим
мастерством летных кадров способствовали тому, что в грандиозной воздушной битве на Кубани, в
сражении за Крым мы теряли значительно меньше людей и машин, чем противник. Как правило, на один
вышедший из строя советский истребитель приходилось не менее 3 — 4 уничтоженных фашистских
самолетов. Часто в боях с гитлеровскими летчиками мы вообще не имели потерь.
Летчики и солдаты наземных служб восхищались мастерской боевой работой Героев Советского Союза
капитанов Василия Александровича Князева и Алексея Алексеевича Постнова. Однажды две группы
истребителей, ведомые этими замечательными асами, перехватили на подступах к переправам через
Керченский пролив 24 бомбардировщика Ю-87, следовавших под усиленной охраной «мессеров». Наши
летчики навязали бой численно превосходящему противнику. [188]
Завязалась жаркая воздушная схватка. Инициативой с самого начала овладели советские летчики.
Гитлеровские пилоты не устояли перед дружными атаками краснозвездных истребителей. Спасаясь
бегством, они стали беспорядочно сбрасывать бомбовой груз на свои же войска. Капитаны Князев и
Постнов, старший лейтенант Герой Советского Союза Евгений Алексеевич Пылаев уничтожили в этом
бою по «юнкерсу». Четвертый вражеский самолет — «Мессершмитт-109» был сбит ведомым комэска
Князева лейтенантом Ивановым. Наши летчики потерь не имели.
Спустя недолгое время Князев и Постнов одержали новую воздушную победу. Во главе двух шестерок
ЛаГГ-3 они в течение дня провели над Керченским полуостровом по три воздушных боя с «юнкерсами»
и прикрывавшими их «мессерами». В итоге гитлеровцы потеряли дюжину бомбардировщиков и
истребитель. «Лагги» благополучно возвратились на свой аэродром.
С первых дней нового, 1944 года на наш полк была возложена задача прикрывать наземные войска и
переправы через Керченский пролив на одном из участков фронта. И ни один немецкий самолет не
прорвался к охраняемым объектам.
Говорят, что тринадцать — несчастливое число. В старые времена в иных гостиницах за двенадцатым
номером сразу же следовал четырнадцатый, поскольку суеверные постояльцы наотрез отказывались от
комнат, на дверях которых красовались таблички с «чертовой дюжиной». Смело берусь утверждать, что
число «13» незаслуженно попало в немилость: именно оно принесло мне одну из первых побед над
противником в начавшемся 1944 году.
13 января во главе четверки «яков» я прикрывал с воздуха от ударов немецко-фашистских
бомбардировщиков нашу пехоту, закрепившуюся на Керченском плацдарме. Было солнечно, повесеннему тепло. Внизу, [189] под крылом самолета лежало Азовское море. Оно успокоилось после
недавнего затяжного шторма и теперь, казалось, отдыхало. Голубая водная гладь, отражавшая залитое
светом небо, поблескивала, будто гигантское зеркало. Кое-где поверхность моря бороздили редкие
катера, моторные лодки; ближе к извилистому таманскому берегу жались одинокие рыбацкие баркасы.
Стояло, полное безветрие; немецкие самолеты в это утро над проливом не появлялись, и только гул
советских истребителей, патрулировавших в воздухе на разных высотах, нарушал тишину погожего дня.
Но летчики не полагались на эту обманчивую тишину. Вчетвером мы настороженно вглядывались в
горизонт, следили за воздухом. Но вот над побережьем, в юго-западной части неба появились едва
заметные светлые точки. Было их не меньше двадцати. Приближаясь к проливу, они становились
крупнее, и, пока наша четверка набирала высоту, готовясь к атаке, я насчитал в воздухе 16 «юнкерсов» в
сопровождении восьми «мессеров».
Наша четверка, находясь над гитлеровскими самолетами, имела тактическое преимущество. Не дать
противнику опомниться, прийти в себя — таково было единственно правильное решение.
— Атакуем! — коротко командую ведомым и устремляюсь к головной машине.
«Яки» с пикирования врезаются в строй «юнкерсов», открывают по ним губительный огонь.
Бомбардировщики не выдерживают стремительного натиска, бросаются в разные стороны. Уклоняясь от
лобовых атак «яков», «мессеры» держатся от нас на почтительном расстоянии. Умелый маневр по высоте
надежно предохраняет наши машины от неточного, рассеянного огня вражеских истребителей, и мы
продолжаем разгонять противника, с лихорадочной поспешностью сбрасывающего бомбовой груз на
территорию, занятую фашистской пехотой. Лишь самое незначительное количество бомб [190] падает в
Азовское море. Не знаем, как гитлеровское командование, но мы удовлетворены работой немецких
летчиков: не причинив вреда нашим переправам, они чувствительно потрепали свои наземные части.
Среди нескольких «юнкерсов», проворно уходящих в направлении населенного пункта Тархан, узнаю
своего «знакомого» — самолет командира группы. Четверть часа назад он возглавлял строй
бомбардировщиков, собравшихся бомбить наши переправы. Надо ему «отдать должное»: и сейчас, после
атаки советских истребителей, он по-прежнему впереди... покидающих поле боя бомбардировщиков.
Осматриваюсь по сторонам. «Мессеров» в небе не видно. Воспользовавшись преимуществом в скорости,
они оторвались от «юнкерсов», торопятся на свой аэродром. Но не исключена возможность, что это
уловка, хитрость противника, замышляющего с дальнего разворота, со стороны солнца внезапно
атаковать нашу четверку. Во избежание неприятных неожиданостей передаю по радио ведомым:
— Бью первого. Прикрой, Коля, атаку.
— Бей его, подлеца! — не совсем по-уставному отвечает Николай Куничев.
«Юнкерс» чуть в стороне и ниже меня. Доворачиваю машину вправо, пикирую, ловлю и не выпускаю из
перекрестья прицела кабину бомбардировщика с хищной паучьей свастикой. С дистанции около пятисот
метров открываю огонь. Прямое попадание первой же очередью. Но мой «знакомый» продолжает
уходить. Странно! Однако мне не до размышлений, дорога каждая секунда. Надо повторить атаку, пока
не вышли боеприпасы. Но не успела в голове промелькнуть эта мысль, как фашистский
бомбардировщик, какое-то мгновенье продолжавший полет по инерции, ложится на правое крыло и,
грузно перевернувшись в воздухе, объятый дымом, камнем падает с высоты, врезается в землю. [191]
Гляжу на стрелку бензомера. Она неумолимо приближается к нулевой отметке. Горючее на исходе.
Отдаю команду всей группе:
— Бой прекратить! Идем на аэродром.
Слышу в наушниках шлемофона, как чертыхается Коля Куничев. Разгоряченный боем, он едва не плачет.
— Останься у нас хоть по четверти бака! Даже по осьмушке! Мы бы им дали...
Вот мы и на аэродроме. Сбросили парашюты, сидим у капониров. Пока инженер Михаил Федорович
Курочкин и техники осматривают самолеты, обсуждаем недавний бой, дотошно анализируем все его
перипетии.
На автомашине подъезжает замполит полка. Оживленный, радостный, взволнованный. Щербак
стискивает меня в объятиях, крепко пожимает мою руку.
— Молодцы, хлопцы, — говорит Сергей Михайлович. — Славно воюете. Командующий армией генералполковник Вершинин наблюдал с КП за вашим боем. Не щедр на похвалы, а похвалил. Всем вам объявил
благодарность.
Севастополь наш!
11 апреля наши войска полностью освободили Керчь, 13 апреля взяли Феодосию, Коктебель, Старый
Крым, а спустя еще несколько дней вышли к полосе заграждений севастопольского оборонительного
района противника.
Отступая под ударами советских войск, гитлеровцы создали на подступах к городу мощные рубежи
обороны.
Местность вокруг Севастополя, особенно в районах господствующих высот — Мекензиевых гор, Сапунгоры, — была густо насыщена огневыми средствами, начиная от многочисленных противотанковых и
зенитных [192] артиллерийских батарей до врытых в землю танков, самоходных орудий.
Достаточно было появиться в небе над городом советскому самолету, как удерживаемая гитлеровцами
севастопольская земля ощетинивалась многоярусным частоколом зенитных пушек, лесом пулеметных
стволов. Враг открывал ураганный огонь, и наша авиация несла большие потери.
В битве за Крым погиб мой славный друг и коллега, командир первой эскадрильи нашего полка Герой
Советского Союза Алексей Лукич Приказчиков. Сопровождая штурмовиков, группа ведомых им
истребителей была атакована шестьюдесятью «мессершмиттами». Храбрый советский воин принял
неравный воздушный бой, до последнего удара сердца сражался с фашистами, не подпускал их к «илам».
Смертельно раненый в воздухе осколком вражеского снаряда, разорвавшегося в кабине истребителя,
Алексей Приказчиков умер как настоящий рыцарь неба, за штурвалом боевой машины. Товарищи по
оружию видели, как его пылающий самолет упал в море.
Не суждено было больше обнять отца и Ахмету Канкошеву. Славный наш Ахмет был на редкость
общительным, обаятельным человеком. Куда бы не занесли его воздушные трассы войны, неспокойная
фронтовая жизнь, он быстро находил друзей, буквально обрастал ими. Полк перелетал все дальше на
запад, но Канкошев не забывал людей, с которыми успел подружиться на прежнем месте, поддерживал с
ними переписку.
За несколько дней до нового, 1944 года по дороге из эскадрильи в штаб полка я заглянул в
гостеприимную землянку Ахмета. Было холодное, пасмурное утро. Как из ведра, лил дождь. Я сбросил у
порога разбухшую от воды брезентовую плащ-накидку, шагнул в маленькие, уютные «покои»
Канкошева. В жестяной печурке весело потрескивали дрова. В котелке закипела вода. Ахмет [193] сидел
у оконца за столиком, наскоро сбитым из шершавых сосновых досок, расположившись спиной к входу в
землянку. В руке его поскрипывало перо. Меня он не заметил.
— Здорово, Ахмет! — приветствовал я друга. — Как живешь-можешь?
— Хорошо живу. Садись, Вася. Гостем будешь. Жена к новому году подарок прислала. Чай. Грузинский.
Байховый. Высшего сорта. Сейчас заварим.
Чай — любимейший напиток Ахмета. В холод, ненастье он пьет его, чтобы согреться; в зной, жару —
чтобы вкусить прохладу.
Я присаживаюсь на край койки.
— Что, Ахмет, мемуары пишешь? Не рановато ли в твои тридцать лет?
— Какие там мемуары, — улыбается Канкошев. — Пишу родным и знакомым новогодние поздравления.
На столе лежит толстая пачка конвертов с четко надписанными адресами:
— Человек двадцать поздравляешь?
— Почему двадцать? Написал тридцать пять писем. А отправить нужно по меньшей мере семьдесят.
— В общем, не оставляешь без работы почтовое ведомство.
— На то, Вася, и нелетная погода, чтобы не обойти вниманием семью, близких, друзей, пожелать им
победы, счастья в Новом году.
— Ну, пиши, пиши, — сказал я Ахмету, когда мы выпили по три кружки терпковатого, душистого
напитка. — Не буду отвлекать тебя от приятного занятия.
Мог ли я знать, что это была моя последняя встреча с прекрасным человеком Ахмет-хан Таловичем
Канкошевым, что больше мне не суждено его увидеть! Даже мысль об этом показалась бы дикой,
нелепой.
На следующий день, 28 декабря, погода несколько улучшилась. В группе с Иваном Михайловичем
Горбуновым, [194] Николаем Николаевичем Печеным и еще одним летчиком нашей эскадрильи,
фамилию которого м.не не удается припомнить, Канкошев вылетел прикрывать транспортные средства в
Керченском проливе.
По пути в заданный район Горбунов и его ведомые Канкошев и Печеный остались втроем. Видимость
была ограниченной, к тому же у четвертого летчика, по всей вероятности, отказала рация, и он отстал от
своей группы, потерял ее из виду.
Вблизи побережья Азовского моря наша тройка встретила более двух десятков «юнкерсов». Горбунов
принял было решение атаковать фашистские бомбардировщики, но сразу же отдал новую команду
ведомым:
— Отставить!
Слева от «яков» показалась пара «мессеров», пытавшихся незаметно зайти в хвост истребителям. По
приказу командира Ахмет Канкошев и Николай Печеный резко развернули машины. Ахмет рванулся в
сторону одного из немцев, но в это мгновенье «як» Печеного, атакованный вторым «мессером», потерял
скорость и, резко снижаясь, вышел из боя.
Канкошев подошел поближе к Горбунову и пристроился в хвост ведущему. Подбив фашистскую машину
из подоспевшей к месту сражения второй пары «мессеров», Горбунов продолжал преследовать
противника. Судьба гитлеровского летчика, казалось, была предрешена, но тут летчики услышали в
наушниках незнакомый, взволнованный голос:
— В одиночку отбиваюсь от «мессеров». Выручайте, братцы!
— Ясно, Ахмет? — спросил Иван Горбунов.
— Ясно.
У летчиков, как и у всех советских воинов, есть священные правила. И первое из них гласит: «Сам
погибай, но выручай товарища!» [195]
— Делай, как я! — приказал Горбунов и начал набирать высоту...
Развернувшись, Горбунов и Канкошев увидели двух «мессеров», атаковавших с хвоста «як» с
незнакомым номерным знаком. Положение советского летчика было трудным.
— Кто он? — спросил Ахмет.
— Не знаю. Выясним позже.
Горбунов и Канкошев открыли огонь по ведомому «мессеру», подожгли его, и фашистская машина
отправилась на морское дно.
Ведущий «мессер», подбив тем временем неизвестный «як», стал уходить. Иван Горбунов бросился в
погоню, выпустил очередь и снова увидел фашистский истребитель, несколько раньше повредивший
самолет Печеного. Горбунов с ходу атаковал «старого знакомого», а Канкошев перехватил у него
фашиста, удиравшего в сторону территории, занятой вражескими войсками.
Ахмет настигал противника. Расстояние между Канкошевым и немецким самолетом сокращалось. Ахмет
еще раз нажал гашетки. «Мессер» густо задымил, заклевал носом, резко пошел на снижение. И в эту
секунду в полуметре от «яка» разорвался снаряд фашистской зенитки. Осколки его повредили плоскости,
мотор, пробили кабину.
174-й боевой вылет отважного летчика оказался последним. В ожесточенных схватках с врагом он сбил
12 самолетов, повредил 13 машин, а три уничтожил совместно с однополчанами.
В оперативной сводке штаба нашего гвардейского истребительного авиаполка за 28 декабря 1943 года
сообщалось:
«14 — 05—14.50. 4 ЯК-1 вылетели на прикрытие плавсредств в Керченском проливе и действий своих
войск в районе поля боя. Задание выполнили... [196]
С задания не вернулся Герой Советского Союза гвардии старший лейтенант Канкошев Ахмет-хан
Талович.
Начальник штаба гвардии подполковник Токарев».
Так оборвалась жизнь верного сына Коммунистической партии Канкошева, о котором кабардинобалкарский литератор Хачим Кауфов, автор изданной в Нальчике документальной повести об Ахмете,
очень метко сказал: «Орел умирает в полете».
В кровопролитных сражениях с фашистами мы жестоко мстили им за смерть боевых друзей, за
израненный, объятый огнем город русской славы — Севастополь.
За время Великой Отечественной войны я совершил 388 боевых вылетов, провел 105 воздушных боев,
уничтожил сам 17 вражеских самолетов, пять — совместно с летчиками нашей эскадрильи и восемь
повредил. Немало было в моей жизни смертельных схваток с превосходящим противником. Не раз я
бывал ранен и часто, возвратившись с боевого задания, насчитывал в своем самолете десятки больших и
малых пробоин. Но два боя выдались особенно тяжелыми, и один из них произошел в Крыму, в небе над
Севастополем.
Было это в начале мая, в напряженнейший период боев за город. К этому времени советские войска
почти полностью освободили Крым. Только в Севастополе все еще хозяйничали фашисты. Надеясь на
мощь своих укреплений, засевшая в городе крупная группировка гитлеровцев продолжала оказывать
яростное сопротивление.
Наши наземные войска готовились к решающему штурму Севастополя, и мы, летчики-истребители,
прикрывали «илы», которые наносили удары по вражеской обороне. Бои принимали все более
ожесточенный характер. Особенно напряженная обстановка сложилась в районе Сапун-горы, которую
пядь за пядью отвоевывала [197] у гитлеровцев наша пехота. Фашистское командование, возглавлявшее
остатки своих войск в Крыму, не жалело ни людей, ни снарядов. Гитлеровцы все время переходили в
контратаки.
В районе Сапун-горы бушевало море огня, вся она была затянута дымом, и трудно было найти на ее
выжженных склонах клочок земли, не перепаханный снарядами и минами. Жарко было и в небе над
Севастополем.
В составе восьми «яков» летчики нашей эскадрильи сопровождали группу «илов» на штурмовку
фашистских войск в районе Севастополя. Оставив позади линию фронта, мы попали в зону насыщенного
зенитного огня противника. Удачный противозенитный маневр помог нам избежать прямых попаданий
вражеских снарядов. Правда, некоторые самолеты были повреждены осколками. Но, к счастью, не
настолько серьезно, чтобы свернуть с курса.
Идем в четком боевом строю. Держим радиосвязь с летчиками-штурмовиками. Голоса их мне знакомы
— сообща действуем не впервые. Вижу, как приоткрывается левая форточка фонаря кабины идущего
рядом со мною «ила». За фонарем улыбающееся лицо молодого летчика, в форточке — его рука. Он
показывает мне большой палец: все, мол, в полном порядке! Я делаю штурмовику ответный знак: ни
пуха ни пера!
Но нам не до шуток. Под нами лежит многострадальный Севастополь. Над улицами клубы дыма, тучи
гари, облака рыжей пыли, и самого города во всем этом мареве почти не видно, лишь смутно
угадываются его границы. Все это затрудняет обнаруживание целей, усложняет работу штурмовиков.
Ориентируемся по прибрежной полосе, четко очерченной морем, поглядываем в сторону мыса Херсонес,
где базируются немецкие истребители.
— Вижу вспышки батарей! — слышится в шлемофоне голос ведущего группы «илов». — Атакуем! [198]
Сбросив с пикирования бомбы на позиции дальнобойной артиллерии, «илы» принимаются штурмовать
зенитные орудия противника, бьют по ним реактивными снарядами, поливают пулеметным огнем.
Все наши самолеты, действующие в грозовом севастопольском небе, держат радиосвязь на одной волне.
На сравнительно небольшом по протяженности участке фронта сражаются сотни истребителей,
штурмовиков, и эфир наводнен голосами. Сквозь треск и шумы в наушниках слышу неизвестные мне
позывные, чьи-то властные команды, указания, предостережения, возбужденные, взволнованные
возгласы. Но среди моря звуков я безошибочно узнаю спокойный басок Щербака. Его «як» идет рядом с
моим самолетом в составе ударной группы прикрытия штурмовиков.
— «Гвоздики», «Гвоздики», будьте внимательны! На подходе сзади большая группа неопознанных
самолетов, скрывшихся в облаках.
На земле видны результаты работы «илов»: жирное багровое пламя, охватившее артиллерийские
позиции гитлеровцев.
Но не бездействуют и вражеские зенитчики. Их огонь становится все более угрожающим. Снаряды
рвутся рядом с нашими штурмовиками и истребителями. Осколки стучат по моей кабине, капоту мотора,
хищно, будто разъяренные осы, впиваются в плоскости самолета. Особенно тяжело приходится «илам»,
их немцы стараются сбить в первую очередь. Один штурмовик гитлеровцам удается поджечь. Машина
пытается уйти на восток, в хвост к ней пристраивается «як», но штурмовик, не протянув и нескольких
километров, взрывается в воздухе. Обломки его падают в море. На этом самолете погиб летчик, который
только что делал мне знаки из открытой форточки фонаря кабины. Сколько раз я встречался с ним в
воздухе! Но познакомиться на земле нам так и не удалось. [199]
А бой продолжается и надо приготовиться к отражению возможной атаки самолетов, о которых
оповестил нас Щербак.
И снова я слышу голос Сергея Михайловича:
— Самолеты наши!
Теперь я и сам вижу эти машины: три девятки родных «Петляковых». В сопровождении «лаггов» они
возвращаются на аэродром после нанесения бомбового удара по фашистским войскам.
Прикрываемые нами «илы» выходят из очередного пикирования. Полностью израсходовав боезапас, они
оставляют цель. И тут на наших глазах загорается второй штурмовик. В последнее мгновенье перед
выходом из пике в него угодил зенитный снаряд. Объятый огнем и дымом, «ил» врезается в фашистскую
батарею.
Ложимся на обратный курс; доведем штурмовики до аэродрома, а там и нам недалеко домой. Зенитный
огонь стихает. Кажется, можно перевести дух, смахнуть пот с лица. Увы, сделать это не удается. Со
встречного курса к нам устремляются несколько звеньев «мессеров» и четыре «Фокке-Вульфа-190», с
двух сторон атакуют нашу группу. Вступаем в бой с вражескими истребителями. В паре с ведомым
Дмитрием Максимовичем Саратовым ввязываюсь в воздушную «карусель», чтобы отвлечь немцев от
«илов». Головной «фоккер» все же прорывается к штурмовикам, атакует одного из них, на какое-то
мгновенье зависает в зоне его огня. Оценив обстановку, «ил» бьет по гитлеровцу из пулеметов. Грязножелтый «фоккер» теряет управление, падает на землю.
Со своим ведомым продолжаю крутиться в «карусели». Отбиваемся от «мессеров», сковываем их боем.
В перекрестье моего прицела — вражеский истребитель. Жму гашетку, выпускаю длинную очередь из
пулемета. Трасса прошивает обшивку фашистского самолета, но и сам я попадаю под огонь второго
«мессера». Сильный [200] удар обрушивается на правую плоскость «яка», и его резко бросает в сторону.
Выравниваю машину, до упора отжимаю сектор газа, продолжаю полет. Чувствую, что слабеет мотор,
слышу, как он «чихает» — в бензобаке почти сухо. Бездействует рация, видимо, она повреждена. Иду со
снижением: по прямой мотор уже не тянет.
Что делать? До своих мне, пожалуй, не добраться. Лучше смерть, чем фашистский плен. В голове
молнией проносится мысль: почему, собственно, я должен погибнуть или, выбросившись с парашютом,
попасть в лапы к гитлеровцам? А если попытаться дотянуть до своих, спасти самолет.
Главное сейчас не угодить под огонь вражеских истребителей. Оглядываю небо, немцы меня не
преследуют. Центр воздушной схватки переместился в сторону. Догадываюсь, что друзья не забыли
меня, не оставили в трудную минуту. Поняв, что с моим самолетом неладно, они прикрыли мой выход из
боя.
Местность под крылом хорошо просматривается. Вся она густо изрыта окопами, разветвленными ходами
сообщения. Передовая. Выжимаю из машины последнее. Сотня, даже несколько десятков метров решат
мою судьбу. До своих не дотягиваю, но и фашистские позиции оставляю позади. Благополучно сажусь
на ничейной полосе, и тут же убеждаюсь, что благополучие это весьма относительное. Не успел
остановиться самолет, как к нему, строча из автомагов, бросается до полусотни гитлеровских солдат.
Положение мое критическое: «Ничего, — думаю, — еще повоюю. Живым меня не возьмете...»
Разворачиваю пушку. Первый же снаряд заставил немцев залечь. Но выпустил пять-шесть снарядов:
стрелять больше нечем. Пулеметы пустые — в воздушном бою израсходовал патроны до последнего.
Есть еще пистолет. На худой конец...
Вдруг слышу сзади рокот моторов, лязг металла. Ударили пушки, застрочили пулеметы. Оглянулся, от
радости [201] закричал «ура!» На помощь мне спешат три «тридцатьчетверки».
Наши танкисты, замаскированные со своими машинами вблизи переднего края, видели, как тянет из
последних сил мой истребитель, как он приземлился. Вот и решили ребята выручить меня из беды. Вслед
за танками двинулась пехота. Гитлеровцы, пытавшиеся меня пленить, сами попали в плен.
Через час, приведя себя в порядок, я сидел в землянке у танкистов. Пора возвращаться и в свой полк.
Задача эта не простая: я не один, со мной самолет. В бою он сильно пострадал: к тому же с того места,
где он чудом приземлился, не взлетишь. В довершение всех бед негде взять ни грамма авиационного
бензина.
Стал я советоваться с танкистами, как быть, как доставить в свою часть истребитель, но тут зазуммерил
полевой телефон. Трубку снял старший лейтенант, командир танковой роты. Разговор был короткий. Из
того, что доложил он командиру батальона, я понял, что тот интересуется мною.
— Сейчас прибудет командир батальона, — объяснил старший лейтенант. — Тогда и решим, как
поступить с самолетом.
У молодого рослого капитана было красивое обветренное лицо и потрескавшиеся от ветра губы. Он
сказал, что успел побывать у моего «яка» и что бортовой номер самолета ему знаком:
— Знаю твою машину с Таманского полуострова. Много раз прикрывала нас над полем боя.
Капитан внимательно всматривался в мое лицо. Его крупные голубые глаза прищурились: что-то в них
показалось мне знакомым, но вспомнить, когда, где, при каких обстоятельствах встречался я с этим
человеком, не удавалось.
Мы долго смотрели друг на друга, и капитан узнал меня первым. Он радостно заулыбался, обнял меня и,
[202] обращаясь не столько ко мне, сколько к танкистам, которые с удивлением наблюдали всю эту
сцену, сказал:
— Ну и встреча! Бывают же удивительные истории на войне. Как живешь, друг-харьковчанин? Воюешь?
— Воюю, — ответил я бывшему лейтенанту, ныне капитану, сыну харьковской учительницы, с которым
накануне войны свела меня судьба в черниговской военной комендатуре. — И ты, земляк, вижу воюешь.
На Т-34. Получил-таки «тридцатьчетверки»!
— Давно получил.
В заключение комбат посоветовал:
— Пока добирайся в полк без самолета. У «яка» выставлю охрану. Будет цел.
Полк наш стоял на аэродроме под Керчью. К своим я добрался на третьи сутки.
Однополчане встретили меня как пришельца с того света.
— Ты уж извини, Вася, но, знаешь, мы тебя тут отпели, — чистосердечно признался Сергей Михайлович
Щербак.
На следующее утро вместе с авиамехаником Анатолием Графовым я выехал к танкистам.
— Потрепали твой «як» изрядно, — констатировал Анатолий осмотрев самолет. — Но не горюй,
подремонтирую, подлатаю.
Он сдержал слово. Спустя два дня мой самолет был приведен в порядок, подкрашен свежей краской, и я
повел в бой восьмерку «яков». В районе Херсонеса мы атаковали группу истребителей, прикрывавших
эвакуацию гитлеровских войск морем. Одного «мессера» я сбил первыми очередями. По машине
отправили на морское дно Николай Глядяев, Даниил Кузьменко, Николай Соболев, Николай Куничев.
Это был наш последний бой за Крым. 10 мая Родина салютовала доблестным советским воинам,
освободившим Севастополь. [203]
В резерве
После освобождения Крыма наш 42-й гвардейский истребительный авиаполк отозвали в резерв, и мы
перелетели на один из подмосковных полевых аэродромов. По тому, как основательно устраивали нас на
новом месте, было видно, что полк прибыл сюда надолго. Мы отдыхали, отсыпались после бессонных
фронтовых ночей, любовались Красной площадью и, случалось, посещали столичные театры и музеи.
Фронт уходил все дальше, на запад, в небе столицы и Подмосковья было спокойно. Ничто не нарушало
ритма жизни огромного города. По утрам москвичи торопились на работу, и я в роли отдыхающего
человека рядом с людьми, которые неустанно трудятся во имя победы, чувствовал себя крайне неловко.
Это же чувство испытывали и мои друзья, привыкшие к напряженной боевой жизни. Вот почему всех так
обрадовало известие о том, что с понедельника мы займемся наконец долгожданным делом. В чем
конкретно оно будет заключаться, никто из летчиков не знал, поскольку в разговорах с подчиненными
вопрос о предстоящей боевой работе командир части, замполит, начальник штаба обходили молчанием.
Полное неведение на этот счет порождало различные догадки. Некоторые летчики высказывали
предположение, что нас перебросят на один из центральных фронтов; другие утверждали, что отныне мы
будем воевать на севере; третьи же — таких было немного — поговаривали, что в полк прибудет
необстрелянная молодежь, а боевые его эскадрильи будут откомандированы во фронтовые
истребительные авиачасти.
Впрочем, последнюю версию почти никто не принимал всерьез, настолько нелепой была мысль будто
наш кадровый, гвардейский полк, прославившийся в битвах [204] на Кубани и в Крыму, будет, по сути
дела, расформирован. И хотя я полностью исключал такую возможность, мое настроение было вконец
испорчено, когда в понедельник перед строем эскадрилий командир полка в присутствии незнакомого
пожилого полковника приказал летчикам-истребителям совместно с инженерно-техническим составом
подготовить «яки» к сдаче специальной комиссии.
— То есть как это сдать матчасть? — непроизвольно вырвалось у меня. — А воевать на чем будем?
— Выполняйте, Исаев, приказ, — несвойственным ему сухим официальным тоном сказал замполит
Щербак, стоявший перед строем личного состава нашей эскадрильи.
Сказал и заулыбался. Я знал, что ничем на свете он не дорожит так, как своим полком, и поведение
Щербака было по меньшей мере странным. Но еще больше удивляло то, что не только замполит, но и
сам командир полка, которого в разговорах между собой мы называли «батей», пребывает в самом
лучшем расположении духа, хотя приказ о сдаче материальной части едва ли мог служить поводом для
этого.
Вскоре все выяснилось, и дальнейшие события показали, что тревожился я напрасно. С боевыми,
израненными в воздушных сражениях истребителями ЯК-1, на которых полк прошел ратный путь от
предгорий Кавказа до Севастополя, мы и в самом деле расстались. Их приняли представители запасной
авиачасти, готовящей в глубоком тылу кадры военных летчиков для действующей армии.
Отрываясь один за другим от взлетной полосы, самолеты, верой и правдой служившие нам в битвах с
фашистской авиацией, ложились на курс, уходили на восток. Мы не без грусти провожали их в дальнюю
дорогу. Вот поднялся в воздух и мой истребитель. Я пожелал «яку» счастливого пути; как надежному,
доброму [205] другу помахал ему вслед фуражкой. В скольких боях мы вдвоем побывали, сколько тысяч
километров налетали под огнем противника! Передавая истребитель новому владельцу, я взял с него
слово, что он не забудет истории алых звездочек на фюзеляже «яка».
После того, как в голубую высь ушел последний истребитель, на аэродроме воцарилась непривычная
тишина. Лишь за чертой летного поля, у врытых в землю баков, урчал двигатель автоцистерны,
пополнявшей полковой запас горючего.
Но пустовал аэродром недолго. Выехав поездом на один из недалеких авиационных заводов, мы
перегнали в полк 60 новейших яковлевских машин Як-9У. Эти первоклассные скоростные истребители
дальнего действия, вооруженные 37-миллиметровой пушкой и двумя крупнокалиберными пулеметами,
успешно прошли государственные испытания, и теперь дело было за нами, летчиками-фронтовиками.
Осваивая Як-9У, показавший себя в полетах с самой лучшей стороны, мы вместе с тем высказали
представителям завода, безотлучно находившимся на нашем аэродроме, несколько замечаний. Наиболее
существенные из них были учтены в процессе производства последующих партий новых истребителей.
Наступил декабрь. Считанные недели оставались до Нового, 1945 года, а полк наш все еще находился в
глубоком тылу, и это волновало летчиков-истребителей, мечтавших поскорее возвратиться на фронт.
Но мечты — мечтами, а служба — службой. Однажды после обычных ежедневных полетов в зоне я
проводил с личным составом эскадрильи итоговые занятия по тактике взаимодействия истребительной
авиации с наступающими наземными войсками. Я был доволен прочными знаниями летчиков, их
умением зрело подходить к решению сложных боевых задач.
Зачеты подходили к концу, когда в эскадрилью прибыли командир полка, замполит и начальник штаба.
[206]
Командир полка, уделявший много внимания теоретической подготовке личного состава подразделений,
поинтересовался, насколько основательно мои слушатели усвоили материал. Я доложил, что летчики
успешно сдают зачеты, но добавил, что главный экзамен военные летчики держат в бою.
— В самом ближайшем будущем вам представится такая возможность, — заметил подполковник. —
Получен приказ. Вылетаем на фронт.
— Разрешите, товарищ подполковник, обратиться с вопросом...
— Предугадываю, Исаев, ваш вопрос. Есть основания предполагать, что полк возвращается в отчий дом.
В армию генерала Вершинина. На 2-й Белорусский.
— Значит, не забыл нас командующий!
— Значит, не забыл.
Над фашистским логовом
19 декабря полк перелетел в Польшу, расположился на аэродроме в районе города Вышкув. Здесь мы с
радостью узнали, что по ходатайству генерала Вершинина вместе с нашей 229-й Таманской
истребительной авиадивизией в 4-ю воздушную армию возвращены и некоторые другие авиационные
части, сражавшиеся, в свое время в ее рядах.
Волнующими были наши встречи на освобожденной польской земле со старыми боевыми друзьями.
Вместе с ними мы защищали родную землю в самые трудные дни войны, громили гитлеровцев на
Кубани и в Крыму, а теперь снова в одном строю будем добивать врага на его территории.
Прошло три дня и мы включились в боевую работу. Прикрывали от вражеских самолетов наземные
войска [207] и аэродромы, сопровождали «илы» на штурмовку техники и живой силы противника,
наносили удары по его коммуникациям.
В воздухе безраздельно господствовала наша авиация. В отличие от недавних сражений на Кубани и в
Крыму немецкие летчики действовали в основном немногочисленными группами. Полеты их носили
преимущественно разведывательный характер. Встречаясь с нами в воздухе, гитлеровцы неохотно
вступали в бой.
С часу на час мы ожидали приказ о генеральном наступлении. И вот, наконец, могучий грохот
артиллерийской канонады возвестил о наступлении войск 2-го Белорусского фронта.
В сражение были введены все роды наземных войск, кроме... авиации. Вместо того, чтобы поддерживать
наступавших с воздуха, летчики оставались на земле, вступив в единоборство... со снегом.
Разбушевавшаяся вьюга замела аэродром, толстой белой пеленой укрыла взлетно-посадочную полосу.
Все далеко вокруг находилось во власти снега, ветра и мороза. На помощь советским воинам пришло
местное польское население. Однако, как мы ни старались, сколько сил ни прилагали, чтобы расчистить
взлетную полосу, метель сводила на нет всю нашу работу.
И все-таки бойцы батальона аэродромного обслуживания, летчики, наши польские друзья не сдавались,
продолжали упорно орудовать огромными деревянными лопатами. Расшвыривая снег, мы обменивались
нелестными замечаниями в адрес синоптиков, будто метеорологическая служба была виновата в том, что
ее прогнозы и на ближайшее время не сулили ничего обнадеживающего.
Между тем обстановка на фронте усложнялась. Гитлеровцы, подтянув крупные резервы, бросили их в
бой, и это сказалось на темпах наступательных операций [208] наших войск. Их продвижение на запад
замедлилось, а на ряде участков было приостановлено. Чтобы ускорить прорыв обороны противника,
советское командование ввело в сражение дополнительные механизированные и танковые силы, и перед
авиацией была поставлена задача обеспечить поддержку наземных войск, нанести удары по резервам
врага.
В ночь на 16 января солдаты и офицеры батальона аэродромного обслуживания, личный состав
вспомогательных служб полка продолжали расчищать снег. Работа подвигалась медленно, с большим
напряжением. К рассвету взлетная полоса была, в полном смысле этого слова, вырвана из снежного
плена. Утро выдалось пасмурным, холодным, неприветливым. Низко в небе по-прежнему темнели тучи,
но снегопад прекратился. Кое-где среди облаков проглядывало солнце. Видимость несколько
улучшилась. Впрочем, даже при полете по кругу над аэродромом было трудно не потерять его из виду.
Теплая, уютная землянка не скрашивала в это затяжное ненастье наш вынужденный досуг. В качестве
метеорологов-добровольцев мы то и дело покидали землянки, выходили на улицу, прикидывали, каковы
виды на улучшение погоды.
Ненастье отступало медленно, как бы нехотя. Утром меня вызвал командир полка, потребовал доложить
о состоянии дел в эскадрилье. В ответ на мой рапорт о полной готовности к полетам он одобрительно
заметил:
— Знаю, не подведете.
Запускаем моторы. Настроение у летчиков праздничное. Каждому не терпится увидеть под крылом
машины вражескую землю. Вслед за моим «яком» взлетают истребители Федора Калугина, Даниила
Кузьменко, Александра Быстрицкого, Петра Челомбитько, Александра [209] Кислицы, Николая
Глядяева, Дмитрия Саратова. Над районом, указанным офицером станции наведения, встречаем
восьмерку «илов», вместе с ними спешим к линии фронта.
На карте по трассе полета обозначены населенные пункты, но с борта истребителя их не разглядеть. В
снежном мареве, словно сквозь расфокусированный бинокль, смутно угадываются лишь отдельные
ориентиры. От слепящей белизны режет глаза, будто они запорошены песком.
В наушниках шлемофона голос старшего группы:
— Подходим к цели!
Мне и самому это известно, но нелегко точно выйти на цель, когда под крылом самолета лежит
застланная вьюгой незнакомая местность.
Внизу все та же однообразная, внешне безобидная белая равнина. Но по данным разведки именно в этих
местах противник концентрирует крупные резервы, готовясь контратаковать наступающие советские
войска.
Под плоскостью самолета, будто остров среди снежного моря, обозначилась серовато-зеленая хвойная
роща. Лучшего убежища для техники и живой силы противнику не придумать.
От вековых сосен веет миром, спокойствием, и это особенно настораживает. Развернувшись, «илы»
двумя четверками пикируют на рощу. Пронзительно завыли бомбы. И тотчас же вокруг штурмовиков и
истребителей прикрытия забушевал свирепый зенитный огонь. Круто сбавив высоту, «илы» мастерски
выходят из зоны артиллерийского обстрела, пускают в дело свое грозное оружие — реактивные снаряды.
Взрывы, багрово-черное пламя, заполыхавшее в «мирной» роще, свидетельствуют о том, что искусная
маскировка не спасла танки и самоходки от меткого воздушного удара.
Роща горит, как гигантский костер. Спасаясь от пожара, гитлеровцы поспешно выводят уцелевшие танки
и [210] самоходные орудия на открытое место. Вражеская техника, живая сила противника становятся
объектом новых атак «илов».
Огонь зенитных орудий резко слабеет: оборудованные в роще позиции гитлеровской противовоздушной
артиллерии пылают вместе с танками и самоходками. Разворачиваем машины, ложимся на обратный
курс. Не встретив в воздухе ни единого фашистского самолета, доводим штурмовиков до их аэродрома.
На прощанье приветственно покачиваем боевым друзьям плоскостями самолетов и летим домой.
Метель разыгрывается с новой силой. Высота — тысяча метров. Приближаемся к аэродрому. Он уже под
нами, но его не видно. Смотрю на бензомер. Горючего достаточно. По радио предупреждаю ребят о том,
что садиться буду первым. Снижаюсь. Перевожу машину на бреющий полет. Справа под крылом —
посадочная полоса, заветный знак «Т», предусмотрительно выложенный темными полотнищами, и они
четко вырисовываются на фоне голубовато-белого поля. Из-за ухудшившихся метеорологических
условий о дальнейших полетах в этот день не могло быть и речи.
Утро нас радует. Полное безветрие. Стоит легкий бодрящий мороз. Ярко голубеет высокое, прозрачное
небо. Под ногами весело поскрипывают протоптанные в снегу дорожки.
На аэродроме гудят прогреваемые моторы. Бензозаправщики с низко просевшими рессорами
перекачивают содержимое своих цистерн в баки боевых машин. Грузовики подвозят к истребителям
бомбы, «эрэсы». Техники, мотористы, девушки-оружейницы, мастера по приборам старательно готовят к
бою наши самолеты.
Получаю метеосводку. Прогноз обнадеживающий. На ближайшие несколько суток синоптики
предсказывают хорошую, устойчивую погоду. Она всегда радует летчиков, но нынче эта радость особая:
настал час бить [211] врага в его логове. Несколько дней назад у развернутого знамени полка, перед
строем личного состава эскадрилий нам зачитали обращение Военного Совета 2-го Белорусского фронта
к воинам. Задача летчиков четко определена: всемерно содействовать наземным войскам в прорыве
немецко-фашистской обороны, в развитии наступления в глубину. Отныне театром военных действий
станет территория фашистской Германии; добивать противника будем на его земле.
Трудно примириться с тем, что в начале наступления мы работали не в полную силу, и хотя в этом была
повинна разгулявшася непогода, летчики чувствовали себя в долгу перед танкистами, артиллеристами,
стрелками. Наконец-то есть возможность сполна оплатить этот долг...
Несколько минут полета, и «яки» в зоне аэродрома штурмового авиаполка. В небо взлетают «илы».
Справа и слева попарно пристраиваемся к шестеркам штурмовиков. Всей группой разворачиваемся на
запад, к линии фронта.
Высота — полторы тысячи метров. В небе ни облачка. Видимость безупречная. Местность под
маршрутом просматривается до мельчайших подробностей. Достигаем переднего края. На земле идет
танковый бой. Пылают подбитые фашистские машины. Запах гари чувствуется даже в небе, проникает в
кабину.
С юго-запада к месту боя примыкает израненный артиллерией лесок. Словно спасаясь от снарядов, он
уходит в лощину. Склоны ее поросли высоким кустарником. Неуклюже переваливаясь с боку на бок, из
леска в лощину вползают три «фердинанда», подбираются поближе к месту боя. Невидимые с земли,
самоходки направляют стволы в сторону наступающих советских танков. Судьбу головных
«тридцатьчетверок» решают секунды. Наших танкистов выручают штурмовики. Они стремительно
атакуют «фердинандов», обстреливают их [212] «эрэсами». Со второго захода, снизившись до бреющего
полета, «илы» обрушивают огонь на фашистские танки.
Воздушный противник не оказывает нам почти никакого сопротивления. Молчат зенитки. Должно быть,
у немецких артиллеристов вышли снаряды. Пользуясь отсутствием в воздухе вражеских самолетов, часть
истребителей вместе со штурмовиками атакует наземные цели. Остальные «яки» во избежание
неожиданных «сюрпризов» со стороны гитлеровской авиации ходят над нашей группой, надежно ее
прикрывая.
Боеприпасы штурмовиков полностью израсходованы. Разворачиваем машины на сто восемьдесят
градусов, возвращаемся домой.
Во время второго боевого вылета атакуем крупное подразделение фашистской мотопехоты. Продолжаем
полет за линией фронта.
Под ударами советских войск вражеская оборона трещит по всем швам, рвется то в одном, то в другом
месте, и противник не в силах латать бесчисленные прорехи. На дорогах хаос, смятение, неразбериха.
Сбитые с толку лживой геббельсовской пропагандой, и денно и нощно трубящей о «зверствах красных»,
тысячи немцев устремляются в глубь Германии.
По радио слышу позывные пункта наведения:
— Примите благодарность танкистов и пехоты за разгром фашистской засады... Доложите обстановку...
— По одной из дорог отходит колонна противника. До сотни автомашин и бронетранспортеров, десятка
два стволов полевой артиллерии среднего калибра.
— Атакуйте!
Чтобы парализовать отход гитлеровцев, «илы» штурмуют колонну с головы. Расположенные неподалеку
зенитки открывают огонь по самолетам. Багровое пламя, вырывающееся из пушечных жерл, демаскирует
вражескую батарею. «Илы» с пикирования обстреливают ее [213] «эрэсами». На батарее вспыхивает
пожар. Пушки смолкают.
На дороге пробка из разбитых пылающих автомашин. В огне рвутся боеприпасы. Бросая технику,
стрелковое оружие, гитлеровцы скатываются с асфальта, бегут прочь от дороги. Уйти от огня наших
пулеметов удается немногим. Тем временем «илы» уничтожают уцелевшую во время предыдущих атак
фашистскую технику.
Бой закончен. Дан приказ следовать на свой аэродром.
Наступление продолжается
Вечером в сопровождении Щербака в эскадрилью приходит незнакомый капитан. Замполит представляет
меня военному журналисту, корреспонденту армейской газеты «Крылья Советов».
— Извините за то, что нарушил ваш отдых, — виновато улыбается капитан и вытаскивает из кармана
измятый блокнот. — Но ничего не поделаешь. Позарез нужна статья о летчиках-истребителях. В
очередной номер. Из политотдела меня направили в дивизию полковника Волкова. В дивизии
посоветовали побывать в вашем полку...
— И наконец в полк пригласили, как видишь, корреспондента в твою эскадрилью, — закончил за
капитана Щербак.
Рассказываю, как мы поддерживали сегодня наступление наземных войск.
Капитан интересуется, кто из моих подчиненных отличился в первых боях над Восточной Пруссией.
[214]
Называю Федора Калугина, Андрея Калинина, Даниила Кузьменко, Николая Глядяева, Николая
Куничева; Александра Быстрицкого, Дмитрия Саратова.
— В общем, славно воюет вся эскадрилья! — говорит Щербак.
— Совершенно верно. Ребята действуют отлично. И не только в воздухе, но и на земле. Я имею в виду
техников, нашего инженера.
— Согласен с вами, Василий Васильевич. Напиши в газету обо всех.
Военный журналист, который с начала Восточно-Прусской операции дневал и ночевал в частях
воздушной армии, с восхищением рассказал нам о лейтенанте Зайцеве.
Знакомство корреспондента с Героем Советского Союза Борисом Зайцевым состоялось накануне в одном
из полков 4-го штурмового авиакорпуса. Командовал им выдающийся летчик нашего времени, участник
легендарного чкаловского перелета через Северный полюс, один из первых в стране Героев Советского
Союза Г. Ф. Байдуков.
В составе 4-й воздушной армии корпус генерала Байдукова сражается сравнительно недавно, но о его
сокрушительных ударах по противнику знаем не только мы, летчики-истребители, постоянно
взаимодействующие со штурмовиками, но и каждый солдат 2-го Белорусского фронта.
И среди тех, кто с первых дней наступления советских войск в Восточной Пруссии умножал славу
корпуса генерала Байдукова, был Борис Зайцев. В сильный снегопад он повел четверку «илов» на
разведку тылов противника в район Дзялдово, Цеханув, Млава.
Метель, низкая облачность вынуждали штурмовиков прижиматься чуть ли не вплотную к земле, и
летели они без истребителей прикрытия. Внезапно в снежном мареве по курсу «илов» блеснули провода
электролинии. [215]
Беда была рядом, но отважные летчики не потеряли самообладания. Молнией скользнув вниз,
штурмовики прошли под проводами. Целые и невредимые, они продолжали выполнять боевую задачу.
На железнодорожном узле Дзялдово гитлеровцы приготовили штурмовикам немало работы. Перед
семафорами стояли готовые к отправке составы с танками, бронетранспортерами, артиллерийскими
орудиями. Вокруг сновали гитлеровские солдаты и офицеры. На запасных путях пыхтели резервные
паровозы.
Первая пара «илов» атаковала платформы с техникой, вторая — обрушилась на входные и выходные
стрелки узла. Железнодорожные эшелоны оказались запертыми на станции, словно в мышеловке, и дело,
начатое четверкой Бориса Зайцева, завершили последующие группы «илов». Фашистские поезда,
военная техника были уничтожены, превращены в груды бесформенного металла.
По пути в наш полк корреспондент заехал еще в одну авиачасть, побывал на аэродроме, встретился с
летчиками, только что возвратившимися с боевых заданий.
Часть входит в нашу 229-ю дивизию, и мы подробно расспрашиваем капитана о том, как сражаются
соседи. Со многими из них и Щербак, и я лично знакомы: вместе шли в воздушное наступление на
Кубани, встречались на учениях, семинарах, на собраниях партийного актива дивизии. Соседи, как и наш
полк, взаимодействуя со штурмовиками и бомбардировщиками, громят гитлеровцев в районе реки
Нарев.
Щербак приглашает капитана на ужин, тот было соглашается, но, взглянув на часы, хватается за голову,
торопливо пожимает нам руки, на ходу надевает дубленый полушубок. С улицы доносится шум
отъезжающей редакционной «легковушки». Нелегка жизнь военного журналиста: и днем, и ночью в пути
по фронтовым дорогам, всегда в поисках материала для газеты! [216]
Наши войска продолжают развивать наступление в глубь Восточной Пруссии. В сводках
Совинформбюро мелькают названия все новых и новых населенных пунктов: Аленштейн, Ортельсбург,
Мариенвердер, Остероде, Дейтч-Айлау, Грос-Козлау, Грос-Шиманен... Незнакомые до недавнего
времени, непривычные слуху названия трудно удержать в голове, и нам вспоминаются милые сердцу
бесчисленные Ивановки, Николаевки, Петровки, Ольховки. Сколько осталось позади нескончаемых
верст, истерзанных и истоптанных гитлеровцами родных деревень и городов, прежде чем мы пришли
сюда, в фашистское логово.
Завершен разгром противника в Восточной Пруссии. Войска 2-го Белорусского фронта развертывают
Восточно-Померанскую наступательную операцию.
Противник терпит очередное жестокое поражение. Его крупные силы окружены в районе Данцига и
Гдыни. Часть разбитой группировки немецких войск отрезана на косе Хель. Попытки врага вырваться из
сжимающего железного кольца приводят лишь к новым бесцельным жертвам. Военный Совет фронта
предлагает немецкому командованию сложить оружие, прекратить бессмысленное кровопролитие,
избавить от страданий мирное население, сохранить от разрушения крупные портовые города, но
фашистские маньяки отвергают капитуляцию.
Штурму Данцига и Гдыни советскими войсками предшествуют воздушные удары по врагу, нанесенные
нашей 4-й армией. Более 230 штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей атакуют аэродром Данциг,
где базируются значительные силы гитлеровской авиации.
Немецких истребителей над полем боя по-прежнему мало. Действуют они чаще всего мелкими группами
или в одиночку, не оказывая серьезного сопротивления. Но фашистская зенитная артиллерия
активничает. Во многих жестоких воздушных боях довелось мне побывать [217] за годы воины, не раз
мой самолет возвращался на аэродром, изрешеченный пулями и осколками снарядов, но под такой
массированный, неистовый огонь, как под Данцигом, я попадаю впервые. Над портом, городом, его
предместьями беснуется море огня. От дыма разрывов темнеет небо. Можно подумать, что вражеские
зенитчики состязаются, кто быстрее израсходует снаряды до последнего.
На ближних подступах к городу тяжелые бои ведут наши наземные войска. Удерживая небольшой
прибрежный район, немцы стянули сюда с оставленной территории большое количество техники,
цепляются за каждый рубеж, оказывают упорное сопротивление наступающим советским воинам.
Ожесточенная борьба идет за каждую пядь земли, за каждый дом, и мы, летчики-истребители совместно
со штурмовиками поддерживаем наших пехотинцев, танкистов, артиллеристов, атакуем фашистскую
оборону с воздуха.
Зенитный обстрел не ослабевает. Шквальный огонь с земли лишает нас возможности действовать в
обычных боевых порядках. «Илы» заходят на цель с короткого курса, размыкаются, сбрасывают
бомбовой груз и, в зависимости от обстановки, выполняют тот или иной противозенитный маневр. Затем
штурмовики кратчайшим путем, на высоких скоростях преодолевают зону заградительного огня,
сосредоточиваются в группу, и каждый из нас занимает свое место в общем боевом строю.
Штурмуя наземные позиции гитлеровцев, мы не обходим «вниманием» и военно-морские силы
противника. Чтобы облегчить бедственное положение своих солдат и офицеров, обороняющих Данциг,
немецкое командование сосредоточило в бухте немало кораблей, в том числе крейсеры и эсминцы.
Отстаиваясь на недалеком рейде, они ведут обстрел советских войск, штурмующих город. Вместе с
нашей военно-морской авиацией мы берем «шефство» над фашистскими кораблями. Уходя [218] из-под
бомбежек, немецкие моряки поспешно снимаются с якорей, маневрируют в море. Им уже не до обстрела
наших войск.
Советские войска штурмом берут Гдыню. Прекращает свое существование данцигская группировка
гитлеровцев.
Летчикам представляется возможность лично ознакомиться с результатами недавних воздушных налетов
на данцигский аэродром. На изрытом взрывами летном поле более сотни уничтоженных и серьезно
поврежденных вражеских истребителей.
Стоит апрель. С Балтийского моря дуют теплые, влажные ветры. Мы давно сбросили унты, сдали на
склад подбитые мехом летные куртки. Но здешняя пасмурная весна не похожа на наши солнечные,
погожие весны. Над Балтикой клубятся густые молочно-белые туманы. Часто выпадают дожди, и
изрытая окопами, обезображенная пожарищами земля, на которой отгремели бои, одевается в зеленый
наряд, словно залечивает свои тяжкие раны.
Неподалеку от нашего аэродрома раскинулся лиственный лес, и когда этому благоприятствует погода,
мы проводим в нем свой недолгий солдатский отдых. Лес наполнен смолистым ароматом
распустившихся почек, запахами грибов, влажного дерна, прошлогодней жухлой травы. Звонко и
дробно, словно топор дровосека, стучит дятел. Из подлеска доносятся голоса мелких певчих птиц. На
полянах желтеют первые весенние цветы. Над ними снуют золотисто-мохнатые пчелы, добродушно
жужжат бархатные шмели. Лес уводит меня в далекое детство, воскрешает в памяти картины былой
деревенской жизни. Перед мысленным взором предстают весенние российские пашни, тугоколосые
августовские нивы, душистое зерно на токах. От всего этого веет таким миром, спокойствием, что
кажется, будто нет на свете никакой войны. [219]
А фронт рядом, он все время находится в постоянном стремительном движении, и мы, летчики,
привыкли к частой смене аэродромов. Еще недавно полк базировался в Вышкуве, Затем мы ненадолго
обосновались в Грислицсах. Отсюда наш дальнейший путь лежал в Гринлицен, Гуйск, Кильницы,
Липняк. 27-ю годовщину Красной Армии и Военно-Морского Флота мы отмечали в Бронбурге. Не
прошло и месяца, и полк уже действовал из района Хамерштейна.
Нынче мы снова покидаем едва обжитое место, перелетаем на полевой аэродром к востоку от Штеттина,
заблаговременно подготовленный солдатами и офицерами строительных подразделений воздушной
армии.
Трудовой героизм военных строителей вызывает глубокое восхищение. Их энергия, трудолюбие,
изобретательность не знают границ. Полки пополняются новыми самолетами: аэродромов в районах
нашего нынешнего базирования мало, и строители работают без сна и отдыха. Местность незнакомая,
территория огромная, ее надо обследовать, скрупулезно изучить множество участков, из которых далеко
не каждый отвечает предъявляемым требованиям, годится под аэродром. Строителям помогают воины
других тыловых служб.
За несколько дней до начала наступления были сооружены и введены в строй десятки полевых
оперативных аэродромов. На один из них перелетают эскадрильи нашего полка.
На карте находим место, где мы базируемся, и Николай Глядяев, который старательно подсчитывает
километры, оставшиеся до Берлина, радостно восклицает:
— До Одера рукой подать!
Николай прав: до Одера — несколько десятков километров. А там уже недалеко и до Берлина.
19 апреля. Медленно догорает весенний день. Полк в полной боевой готовности. Все мы в расположении
эскадрильи, вблизи самолетов. Тепло, словно летом. [220]
В душных землянках не сидится. В тишине слышен негромкий, приятный голос авиамеханика Николая
Пивовара. Самого певца в темноте не видно:
Розпрягайте, хлопцi, конi,
Та й лягайте спочивать...
Говорят, что в песнях отражен характер народа, который их создал, и я люблю украинские песни,
светлые, жизнерадостные, проникнутые глубоким лиризмом. С волнением слушаю Николая, вспоминаю
милую Украину, родных, близких.
Почти рядом возникает чья-то крупная фигура. Меня окликает командир полка:
— Ты — Исаев?
— Так точно, товарищ подполковник!
— Хорошая песня. Вот только момент для нее не подходящий, — смеется командир полка. — Не время
твоим хлопцам распрягать «коней». Да и «вiдпочинок» в ближайшие часы не предвидится. Готов
выполнять боевую задачу?
— Ждем приказа.
В полночь боевой приказ об авиационной подготовке наступления получают штурмовые и
бомбардировочные полки. Утром вступают в дело летчики-истребители.
Погода испортилась. Облачность низкая, видимость ограничена. Хлещет дождь. Вода — в небе, вода —
на земле: под нами Одер. «Илы» поддерживают пехоту. Река, ее широкая пойма форсированы в
нескольких местах, и наступающие закрепляются на левом берегу, ведут бои за расширение плацдармов.
На следующий день небо проясняется. Наша авиация работает с удвоенной силой. Над полем боя
крупные группы штурмовиков, множество истребителей. Гудят бомбардировщики. Наносим
концентрированные удары по фашистским танкам, артиллерии, пехоте. Взаимодействуя [221] с
наземными войсками, отражаем десятки контратак противника.
В начале боев на Одере гитлеровская авиация несколько активизировалась, но после того, как мы
атаковали аэродромы в районах Гарц, Пазевольк, Пренслау, уничтожили здесь много фашистских
самолетов, она по существу прекратила организованное противодействие нашему воздушному
наступлению.
Вражеские бомбардировщики над Одером, в небе на подступах к Берлину я встречал не часто, хотя
немецкие истребители появлялись над своими войсками то на одном, то на другом участках. Полеты эти,
конечно, не могли оказать какого-либо влияния на общий ход событий. Преследовали они не столько
военные, сколько пропагандистские цели, и были направлены на то, чтобы хоть немного поддержать
окончательно упавший дух отступающих гитлеровских вояк.
И вот — канун Первомая. Наши войска штурмуют столицу фашистской Германии. Мы поддерживаем их
с воздуха. Утром веду на Берлин четверку «яков». Летим двумя парами. Сопровождаем «илы».
Погожий день, но огромного города почти не видно. Объятый пожарами, сотрясаемый мощными
взрывами, весь он окутан густым темным дымом.
В небе снуют «мессершмитты» и «фоккеры». Несколько вражеских истребителей пытаются атаковать
наши штурмовики. В паре с Даниилом Кузьменко иду на сближение с головным «Фокке-Вульфом-190».
Его ведомые ведут себя очень странно. Вместо того чтобы поддержать ведущего, они наблюдают за
событиями со стороны. По поведению «фоккера» вижу, что им управляет летчик, не знающий основ
тактики воздушного боя. Стремясь уйти от советского истребителя, «фоккер» круто разворачивается в
зоне огня моего «яка», услужливо подставляет брюхо машины под огонь пушки. Это равносильно
самоубийству, и гитлеровский [222] истребитель, пробитый 37-миллиметровым снарядом, мгновенно
вспыхивает, разваливается в воздухе. Его горящие обломки падают на улицы Берлина.
Последний бой
Весенним утром звеном взлетаем с аэродрома, в заданном квадрате встречаем девятку наших
бомбардировщиков, попарно пристраиваемся к ним слева и справа. Курс — на северо-запад от Берлина,
туда, где, по данным воздушной разведки, гитлеровцы сосредоточили большое количество техники.
В паре со мной идет молодой летчик Клаптий. Ведомым у Глядяева — Иванов. Однокашникам Клаптию
и Иванову по двадцать лет. В разгар боев за Данциг они прибыли в полк из училища, получили
назначение в мою эскадрилью. На фронте ребята впервые. Рвутся в бой, но я не спешу отправлять их на
задание. Пусть немного привыкнут к обстановке, ближе познакомятся с ветеранами эскадрильи, их
опытом.
— Где же, товарищ комэск, изучать этот опыт, как не в бою, — какой уже раз взывают ко мне Клаптий и
Иванов. — Так и война без нас закончится. Выходит, напрасно торопились со сдачей экзаменов, за
тысячи километров спешили на фронт.
Доводы ребят основательны. Накануне вечером приказал им готовиться к боевому вылету, и теперь, в
воздухе, убеждаюсь, что в эскадрилью прибыло отличное пополнение.
Поддерживаю радиосвязь с летчиками-бомбардировщиками, с Николаем Глядяевым. Интересуюсь,
каково настроение у Клаптия. Отвечает он бодро, его машина [223] идет ровно, уверенно. Вижу, что
воздух для парня — родная стихия, чувствует он себя как рыба в воде.
Проходим над незнакомой местностью. Но делу это не помеха. Приборы функционируют безотказно. На
штурманских картах точно обозначены объекты бомбовых ударов. Мотор тянет вовсю. Системы
самолета работают слаженно, как хороший часовой механизм. Молодец Николай Пивовар! Мой самолет
он обслуживает недавно, и с первого дня показал себя отличным авиамехаником. Молодцы наши мастера
по навигационному оборудованию, девчата-оружейницы. Досконально знают и любят технику, умеют
по-настоящему о ней заботиться.
Объекты бомбометания обнаруживаем визуально задолго до подхода к цели. Земля хорошо
просматривается, да и ориентиры, расположенные по соседству с объектами, достаточно крупны для
того, чтобы издали их увидеть. Ведущий девятки бомбардировщиков дает сигнал к атаке.
Могучая взрывная волна резко подбрасывает мой «як». Выравниваю самолет. Ходим над
бомбардировщиками. Работа их приближается к концу. Еще один заход, и всей группой повернем домой.
...Внезапно нашу группу атакуют две дюжины «фоккеров», нас — всего четверо. И двое летчиков
впервые в бою. Завязывается напряженная схватка. В нее втянуты все «фоккеры». В небе — клубок
дерущихся самолетов. Вдвоем с Глядяевым принимаем на себя главный удар. Клаптий и Иванов стойко
нас прикрывают.
Гитлеровцы сочли, что наше положение безнадежно, и они стремятся быстрее покончить с «яками»,
чтобы броситься в погоню за бомбардировщиками.
Один из фашистов атакует меня в лоб. Я успеваю увидеть искаженное гримасой ненависти лицо летчика,
выбившиеся из-под шлема рыжие волосы. Гитлеровец [224] не молод. Должно быть, всю войну
отсиживался где-то на западе, и на восточный фронт угодил лишь к развязке. Не могу сказать, что
фашист — летчик высокого класса: сбиваю его вторым снарядом.
Наседает второй «фоккер». Расстояние между нами быстро сокращается. Подпускаю его поближе,
открываю огонь. Противник уклоняется от атаки, опускает нос своего истребителя, пытаясь
проскользнуть подо мной. Маневр этот можно было предвидеть. Отжимаю ручку, иду навстречу
гитлеровцу. Левое крыло моей машины, словно бритвой, под самый корень срезает правую плоскость
«фоккера», вражеский самолет падает на землю.
И тут ко мне в кабину влетает снаряд третьего «фоккера», разрывается на множество осколков. Самолет
в штопоре; мотор работает, но машина не слушается рулей. Причина ясна: нанеся удар немецкому
самолету, я и сам потерял добрую треть крыла. На меня бешено несется земля. В небе надо мной ходят
Клаптий и Иванов, прикрывают от вражеских истребителей. Глядяев, сбивший одного «фоккера»,
упорно охотится за вторым.
Человек я не суеверный, но, видимо, родился под счастливой звездой. Об этом, правда, я подумал не
тогда, а значительно позже. А в те минуты смерть была рядом. Изо всех сил тяну ручку. Земля все
ближе... Преодолел-таки штопор! Выровнял машину, перевел в горизонтальный полет.
Чувствую, что осколками ранен в голову, грудь, руки, ноги. Со лба лоскутом свисает сорванная кожа.
Один глаз затек, ничего им не разглядеть. Да и второй, залитый кровью, видит плохо. Сухо во рту.
Кружится голова. Весна, теплынь, а меня бросает в дрожь, знобит. Понимаю, что все это от сильной
потери крови. Ручка окончательно выходит из повиновения. Однако сообразил взять ее на себя, прочно
закрепить ремнями. [225]
— Совсем плохо мое дело, Николай, — обращаюсь по радио к Глядяеву. — Весь изранен. Расскажешь
ребятам, как умирал командир эскадрильи...
— Брось, Вася, глупые разговоры! — сурово прерывает меня Николай, и я слышу, как от волнения
дрожит его голос. — И поживем еще, и довоюем!
Слева и справа от меня идут Клаптий и Иванов:
— Держитесь, товарищ комэск! Аэродром рядом!
Легко сказать «рядом». Я понимаю ребят: они хотят подбодрить раненого командира. Но сути дела это, к
сожалению, не меняет. Тянуть еще далеко. Пытаюсь прибавить обороты мотора, но при увеличении
скорости машину резко кренит. С превеликим трудом держу ее на курсе. Стучит в висках. В мышцах
непреодолимая слабость. Непослушные, они кажутся чужими. В первые минуты после ранения не
чувствовал боли, а теперь болит и ломит все тело.
Что делать? Попытаться посадить изувеченную машину? Выброситься с парашютом? Но внизу
противник.
И вдруг в наушниках шлемофона слышу позывные подполковника, его озабоченный голос:
— Держись, Исаев! Приказываю держаться!
Успели, значит, сообщить обо мне!
Гудит в голове, звенит в ушах. К чему в кабине ни прикоснешься, все липкое от крови... А «ястребок»
мой между тем делает свое дело — тянет вперед. Медленно, со скрипом, но тянет. Хорошо еще, что от
нас отстали «фоккеры». Иначе пришлось бы совсем плохо. Лишившись четырех самолетов, немцы
потеряли охоту продолжать бой.
— Дотянули-таки, Вася! — обрадовал меня Николай. Свои под нами! Выбрасывайся с парашютом...
— Нет, теперь уж извини. Буду лететь до конца.
— Силенок хватит?
— Хватит, не хватит, а дотяну. [226]
Вытираю кровь с лица. Смотрю вниз. Знакомые ориентиры. Приближаемся к аэродрому.
Захожу на посадку. Выпускаю шасси. Одна «нога» сработала, стала на свое место, со второй — ничего не
могу поделать: заклинило! На полу кабины хлюпает кровь. Вот-вот потеряю сознание. Решаю садиться
на одну «ногу». Выключаю мотор. Слышу резкий толчок. Значит, «як» уже на земле. Нажимаю тормоза.
Самолет сбавляет бег. Останавливается, завалившись на целое крыло.
Настолько обессилел, что не могу пальцем пошевелить. Клонит ко сну, и я проваливаюсь в бездну.
...Просыпаюсь, и ничего не могу понять: где я, что со мной? Вокруг все белое: стены, стулья, койка. И
девушка, которая сидит у моего изголовья, тоже в белом.
Пахнет лекарствами, и запах этот возвращает меня к действительности. С головы до ног я в бинтах.
Позже из рассказов друзей я узнал, что меня полуживого вытащили из самолета. Оперировали в
дивизионном лазарете; часть осколков вытащили, но немало их и сегодня сидит в моем теле.
Дивизионный хирург, немолодой осанистый мужчина с длинными пальцами, порыжевшими от йода,
сказал:
— Счастливый вы человек, товарищ Исаев! Даже не представляете, как вам повезло. Один из осколков
был в двух миллиметрах от сердца.
— Невелико везение — валяться на больничной койке. Особенно, когда война подходит к концу. И долго
мне отлеживаться?
— Время покажет. Здоровье у тебя, брат, богатырское. Не Василий Исаев, а Василий Буслаев!
Вскоре меня навестили боевые друзья, но в палату впустили одного Николая Глядяева, да и то на
считанные минуты.
Осторожно ступая, он подошел к койке, поглядел на меня, вздохнул, покачал головой: [227]
— Выздоравливай, дорогой Василий Васильевич. А мы уж, видать, без тебя довоюем.
И вдруг спохватился, расправив могучие плечи, радостно тряхнул шевелюрой, по-военному коротко
сказал:
— Взят Берлин!
Через годы, расстоянья
По-разному сложились судьбы людей, о которых я рассказал. Живет и здравствует Павел Тимофеевич
Пустовойт. Он по-прежнему остается одним из самых близких, родных мне людей. Как и в годы моей
молодости, я испытываю к нему чувство глубокой сыновней любви и признательности.
Тревожной осенью 1941 года Павел Тимофеевич до последних дней оставался в осажденном врагом
Харькове, принимая участие в эвакуации из города советских людей, организовывал перевозки в глубь
страны различных машин, станков и другого заводского оборудования, колхозного и совхозного скота,
сельскохозяйственной техники.
В Челябинске Павел Тимофеевич возглавил контору контейнерных перевозок и транспортнозкспедиционных работ Южно-Уральской железной дороги.
В Харьков Павел Тимофеевич возвратился вскоре после того, как город был освобожден от фашистских
захватчиков. В период оккупации Украины Южная железная дорога подверглась варварскому
разрушению. Отступая под ударами советских войск, враг планомерно уничтожал путевое хозяйство,
выводил из строя подвижной состав, взрывал мосты, депо, вокзалы. Но, [228] несмотря на разруху, на
трудности военного времени, коллектив Южной обеспечивал надежную железнодорожную связь тыла и
фронта, добивался того, чтобы вслед за наступавшими советскими войсками на запад двигались эшелоны
с военными грузами. Во всем этом была доля усилий и коммуниста Пустовойта. Родина высоко оценила
многолетний самоотверженный труд старого железнодорожника, наградив его орденом Ленина.
В 1962 году Павел Тимофеевич ушел на заслуженный отдых. Однако почтенный возраст не мешает ему
принимать активное участие в работе Харьковского областного комитета народного контроля,
возглавлять на общественных началах один из секторов нештатного отдела транспорта и связи.
Сын Павла Тимофеевича — Владимир стал ученым. Кандидат технических наук, доцент, он работает в
Харьковском институте инженеров коммунального строительства, готовит высококвалифицированные
кадры для народного хозяйства.
Многие из моих боевых друзей не увидели светлого Дня Победы, но они продолжают жить в
благодарной памяти народа, в сердцах однополчан. Павшие Герои, навечно зачисленные в свои полки, и
сегодня несут службу в боевых эскадрильях, охраняют солнечное небо Отчизны, ее мирный,
созидательный труд.
Большинству ветеранов, здравствующих поныне, далеко за пятьдесят. Время посеребрило наши виски.
Порой пошаливает здоровье, дают знать о себе старые солдатские раны. Вспоминая свою неспокойную,
боевую молодость, мы задумываемся о прожитых годах, о том, какой след оставим после себя на родной
земле.
...По улицам города-героя возрожденной Керчи деловито шагает немолодой энергичный человек, его
широкая грудь украшена многими боевыми наградами. На крупном, загоревшем под южным солнцем
лице живые проницательные глаза, над высоким лбом серебрятся зачесанные [229] назад мягкие волосы.
Он подходит к мемориальному комплексу в сквере на улице Кирова и склоняется в низком поклоне, чтя
память фронтовых друзей-летчиков, погибших в сражении за Крым. Человека этого часто можно
встретить у обелиска Славы на горе Митридат, на кладбище у братской могилы героев обороны
Аджимушкайских катакомб и воинов Советской Армии, у памятника в селе Героевское, там, где глухой
ноябрьской ночью 1943 года высаживался легендарный Эльтигенский десант.
Того, о ком идет речь, иные горожане называют живой историей Керчи. Освободитель города-героя от
немецко-фашистских захватчиков, он поселился в нем после войны. Летом 1974 года на правах местного
старожила принимал в Керчи ветеранов нашего полка.
Для многих однополчан эта встреча была первой за мирные послевоенные десятилетия. Но каждый легко
узнал в бодром, жизнерадостном человеке бывшего боевого комиссара Сергея Михайловича Щербака.
Он мало изменился: те же живые, чуть прищуренные глаза, та же энергия, тот же добрый юмор. И когда
Федя Калугин, прибывший из Подмосковья, встретился с сорока пятью фронтовыми друзьями, он не
долго искал среди них комиссара, четким строевым шагом, как бывало когда-то на фронте, подошел к
Щербаку:
— Летчик-истребитель Герой Советского Союза Федор Калугин прибыл на встречу ветеранов 42-го
гвардейского Краснознаменного Танненбергского!
— Вольно! — сказал Сергей Михайлович. — Давай-ка, милый Федор, мы с тобой поцелуемся.
После войны Сергей Михайлович продолжал службу в Советской Армии. Готовил молодые летные
кадры для военно-морской авиации. В 1950 году уволился в запас в звании капитана первого ранга, но не
стал сидеть дома. Сначала работал научным сотрудником в Керченском историко-археологическом
музее, позднее возглавил [230] Музей обороны знаменитых Аджимушкайских каменоломен, подземной
крепости партизан в трудные дни фашистской оккупации.
Сергей Михайлович — автор нескольких трудов о боевом прошлом города-героя, составитель и редактор
сборника «В катакомбах Аджимушкая», он принимает самое горячее участие в общественной жизни
города: посещает предприятия, стройки, встречается с молодежью, выступая перед ней с лекциями и
докладами на военно-патриотические темы.
Жена Щербака — Мария Михайловна — методист городского экскурсионного бюро. Впрочем, для нас,
ветеранов полка, Мария Михайловна, разменявшая шестой десяток, все та же Маша Ясинская, юная,
звонкоголосая девушка-радиомастер с тремя сержантскими полосками на голубых погонах и со значком
«Гвардия» на груди. Стройная, подвижная, энергичная, в ладно пригнанной гимнастерке, источавшая
запах земляничного мыла, она, казалось, ни днем, ни ночью не расставалась с тазом для стирки. И врач
Исаак Львович Литманов, ревностно заботившийся о внешнем виде гвардейцев, бывало, кивком головы
приглашал летчиков взглянуть на Машины белоснежные носовые платки и подворотнички. Мысль
Литманова мы понимали без слов и покорно выстраивались в очередь у Машенькиного таза, в котором,
сверкая на солнце, пузырилась голубоватая мыльная пена.
На встрече в Керчи высокий, сухопарый ростовчанин Литманов по-братски обнял несколько
располневшую Машеньку. После первых приветствий, отвечая на нетерпеливые вопросы фронтового
друга, она с гордостью рассказала ему о детях: старшей — Нине и младшем — Александре. Нина с
отличием окончила Ждановский металлургический институт, работает инженером в Минске; Саша —
студент Политехнического института.
На здоровье муж и жена не жаловались, и это особенно обрадовало Исаака Львовича, не упустившего
[231] случая напомнить Марии Михайловне и Сергею Михайловичу о благотворном влиянии
деятельного образа жизни и морского воздуха на человеческий организм.
К Щербакам и Литманову подошли Даниил Емельянович и Анна Ивановна Кузьменко. В годы войны
Даниил сбил лично четыре фашистских самолета; такое же количество вражеских машин он уничтожил в
группах с однополчанами.
Истребитель Кузьменко к боевым вылетам готовила мастер по вооружению Аня Звягинцева.
Впоследствии они поженились. До 1958 года Даниил Емельянович служил в военной авиации.
Уволившись в запас, стал строителем.
Супруги Кузьменко немало поездили по родной стране. Жили в Белоруссии, на Урале, в суровом
Заполярье. Потом поселились в Донецке. Здесь Даниил Емельянович долгое время работал лаборантом и
мастером в Институте взрывозащитного электрооборудования, ушел из лаборатории, когда стало
подводить здоровье. Но без дела жить на пенсии не мог — принял под свое начало институтскую базу
отдыха на Азовском море. В том же институте продолжает трудиться Анна Ивановна.
На всю жизнь сохранил верность любимому делу Николай Глядяев. Он 29 лет прослужил в военной
авиации, почти четверть века отлетал на боевых самолетах. В послевоенные годы Николай Андреевич
закончил Военно-воздушную академию, командовал истребительным авиаполком. В 1969 году гвардии
подполковник Глядяев по состоянию здоровья уволился в запас. С женой Валентиной, которая в годы
войны служила в нашей эскадрилье медицинской сестрой, переехал в Херсон. С авиацией Николай
Андреевич не расстался. Работает диспетчером в херсонском аэропорту. Кавалер многих боевых
орденов, за доблесть на мирном фронте [232] он награжден юбилейной Ленинской медалью, удостоен
звания ударника коммунистического труда.
Немало способных военных летчиков выпестовал в послевоенное время Герой Советского Союза
Николай Кузьмич Наумчик, мой верный друг и наставник, который вел меня в первый воздушный бой.
После окончания Военно-воздушной академии он командовал истребительными авиаполками, работал
преподавателем в Военно-авиационном училище...
К сожалению, старый мой товарищ по оружию не мог похвастаться хорошим здоровьем. Долго болел,
лечился, но в 1957 году пришлось-таки оставить военную службу. Теперь Николай Кузьмич живет в
Чернигове, часто мне пишет. Николай Кузьмич — активный лектор городского общества «Знание». Его
хорошо знают на заводах, фабриках, в рабочих общежитиях, учебных заведениях, в колхозных селах
Черниговщины. Затаив дыхание, слушают молодые люди воспоминания Героя о былых сражениях, о
ратном подвиге советских солдат в годы Великой Отечественной войны.
У Николая Кузьмича замечательная, дружная семья. Супруга его Наталия Афанасьевна — врач, дочь
Ольга — преподаватель английского языка. Сын Владимир пошел по пути отца — офицер, служит в
авиации.
В Новоград-Волынске на Житомирщине живет и работает бывший старший авиационный механик
Николай Кузьмич Пивовар. После войны Николай сыграл свадьбу с нашей однополчанкой Катей
Свирековой. Демобилизовавшись из рядов Советской Армии, супруги обосновались в Москве, но
прожили в столице недолго. По приглашению родителей Николая молодые приехали в отпуск в
Новоград-Волынск.
Некогда уютный, живописный городок был варварски разрушен гитлеровцами, и немало людей ютилось
в разбитых фашистскими снарядами домах, в сараях, землянках. [233] Город ждал молодых, крепких рук,
и Николай сказал жене:
— Работы здесь, Катюша, непочатый край. Сил у нас с тобой много. Будем восстанавливать город.
Екатерина охотно согласилась. Работать стали оба. На стройках Пивовар трудится почти тридцать лет.
Прошел путь от рабочего до начальника крупного строительного участка. Коммунисты не раз избирали
Николая Кузьмича секретарем первичной партийной организации, членом парткома.
***
Во многих городах и селах необъятной Отчизны живут ветераны нашего полка. Его бывший командир
Яков Архипович Курбатов — ленинградец. Летчик-истребитель Александр Ефимович Бочкарев —
москвич. Техник Антонин Алексеевич Николаев — киевлянин. В Алма-Ате живет бывалый воздушный
боец Николай Васильевич Куничев. Работает он в аэрофлоте, на встречу прибыл в синем кителе
гражданского летчика, украшенном орденскими планками и гвардейским значком.
После войны долгие годы проработал в гражданской авиации Александр Иванович Быстрицкий,
отмеченный почетным званием «Заслуженный летчик ГВФ». Теперь он на пенсии, живет в Москве.
В солнечный Азербайджан возвратился после демобилизации из Советской Армии адъютант командира
эскадрильи Гарегин Апетмагович Петросян. За плечами у него большая, славная жизнь. Комсомолец
двадцатых годов, старый коммунист, он в первый же день Великой Отечественной войны вступил в ряды
защитников Родины. Служил в 265-м истребительном авиаполку мастером-оружейником, техником по
авиафоторазведке, участвовал в героической обороне Севастополя.
При отступлении из Крыма в 1942 году Гарегин Апетмагович в числе последних покинул аэродром [234]
«Семь колодезей», под жестоким огнем противника вплавь переправился через Керченский пролив на
Таманский полуостров, доставил командованию важные документы. Отсюда во главе группы из
двадцати добровольцев Петросян прибыл в наш фронтовой 42-й истребительный авиаполк.
Потомственный нефтяник, ветеран труда, Гарегин Апетмагович, несмотря на пенсионный возраст,
продолжает трудиться на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе. За послевоенные годы к семи
боевым солдатским орденам и медалям у него прибавилось еще две — Юбилейная Ленинская медаль и
медаль «За трудовое отличие», которыми отмечен достойный вклад бывшего воина-фронтовика в
осуществление планов коммунистического строительства.
Из Ростова-на-Дону пишет боевым друзьям бывший командир нашей эскадрильи Герой Советского
Союза Григорий Родионович Павлов. В предгорьях Кавказа, на Кубани и в Крыму мне довелось
участвовать в схватках с фашистской авиацией, когда нас вел в бой Григорий Родионович. Как и другие
летчики, я неизменно восхищался его мужеством, хладнокровием, отличной боевой выучкой, умением
быстро и безошибочно ориентироваться в самой сложной воздушной обстановке.
Строгий и требовательный командир, Павлов по-отечески заботился о подчиненных, уделял много
внимания их учебе, культурному росту, и неслучайно, что по уровню боевой и политической подготовки
личного состава его эскадрилья была одной из лучших в полку и дивизии.
В Советской Армии Григорий Родионович прошел путь от рядового летчика-истребителя до крупного
военачальника.
Ветеран нашего гвардейского Краснознаменного полка Павлов вместе с Сергеем Михайловичем
Щербаком и другими товарищами приложил немало труда к [235] тому, чтобы спустя десятилетия после
заключительных залпов Великой Отечественной войны организовать встречи боевых друзей, и все мы
глубоко признательны инициаторам этого замечательного начинания за то, что благодаря их энергии
такие встречи стали традиционными.
Волнующей была встреча ветеранов нашего гвардейского полка в дни празднования 30-летия
исторической победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В эти радостные майские дни в Ростов съехалось сто двадцать друзей-фронтовиков. Со многими из них я
не виделся с той далекой поры, когда над поверженным рейхстагом взвилось знамя Победы.
Три десятилетия — срок не малый, но я сразу же узнавал дорогие черты близких людей, товарищей по
былым воздушным сражениям.
Весенний день выдался солнечный, по-летнему знойный, и организаторы юбилейной встречи ростовчане
бывший комэск Григорий Родионович Павлов, бывший главный инженер полка Михаил Федорович
Курочкин и приехавший из Керчи член комитета ветеранов полка Сергей Михайлович Щербак, Исаак
Львович Литманов позаботились о том, чтобы быстрее доставить нас к Дону, на прохладный Зеленый
остров и разместить в уютных домиках.
Трогательной была моя встреча с Григорием Родионовичем Павловым. Передо мной стоял энергичный,
подтянутый генерал. На груди его сверкали орден Ленина, Золотая Звезда Героя, ордена Красного
Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды и другие боевые награды. Обнялись мы, как братья. Что
скрывать, ком к горлу подступил, глаза мои увлажнились, и, кажется, Григорий Родионович тоже
смахнул слезу. Мы заговорили о нашей далекой боевой молодости, о кровопролитных боях с
фашистскими воздушными разбойниками. [236] Все вопросы, которые мы задавали друг другу,
неизменно начинались со слов: «А помнишь?»
Мы все хорошо помнили. Помнили ясно, отчетливо, ибо память о долгой и трудной войне не подвластна
десятилетиям.
К нам подошел седовласый генерал-гвардеец с голубыми авиационными лампасами, кавалер двух
орденов Ленина, четырех орденов Красного Знамени, многих других боевых орденов и медалей. Мы
сразу узнали первого командира 42-го истребительного авиационного полка Якова Архиповича
Курбатова. Он приехал из Ленинграда. Я не видел Курбатова более тридцати лет. Но по-прежнему
молоды глаза Якова Архиповича; пытливые, умные, внимательные, они смотрели на меня так же прямо,
открыто, дружелюбно, как и в тот день трудного сорок второго года, когда я, совсем еще молодой и
необстрелянный летчик, приехал в 42-й полк.
...Я стою на берегу Дона среди боевых друзей, и круг этот становится все более многолюдным: автобусы,
курсирующие между центром Ростова и Зеленым островом, доставляют сюда новых и новых участников
встречи... Крепкие мужские рукопожатия, объятия, радостные возгласы, поцелуи. И люди, ежедневно и
ежечасно смотревшие смерти в глаза, не стыдятся невольных слез.
— Давненько, Вася, тебя не видел, — слышу я голос Николая Кузьмича. — И, знаешь, ты почти не
изменился!
Я крепко обнимаю своего первого комэска.
Наумчик, по-дружески похлопывая меня по плечу, шутливо замечает:
— А ты молодец! По-прежнему силен! Только разве пополнел малость.
— Есть такой грех. Пожалуй, в кабине нашего «яка» было бы мне нынче тесновато.
Узнаю и Михаила Федоровича Курочкина. Рядом с ним улыбающаяся женщина с большими
выразительными [237] глазами. Я сразу узнал ее, а она молча подает мне руку, и глаза ее смеются.
— Узнаешь, Василий Васильевич, эту девушку? — спрашивает Михаил Федорович.
— Как же не узнать боевую полковую подругу Полину. Лучшей жены на свете не сыщешь!
— И знаешь, Вася, ты не ошибся.
Вокруг Курочкина собирается чуть ли не весь технический состав гвардейского 42-го: механики,
техники, инженеры. Среди них Петр Васильевич Галицкий, Василий Сергеевич Михайлов, Аркадий
Сергеевич Богдалевский, Николай Кузьмич Пивовар. А вот и Сергей Алексеевич Непрокин. Он долгое
время служил в эскадрилье, которой я командовал. Ко многим боевым наградам Сергея Алексеевича в
послевоенное время прибавились ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, которыми отмечены
его заслуги на трудовом фронте. Живет Сергей Алексеевич в станице Николаевской Ростовской области,
работает в колхозе водителем степного корабля. Отличный комбайнер, он щедро передает свой богатый
опыт молодым земледельцам Дона, готовит достойную смену старшему поколению сельских
механизаторов.
Ветеранов глубоко тронула встреча с женой нашего боевого друга, отважного летчика-истребителя Героя
Советского Союза Ахмета Канкошева — Зулихан, которая живет и работает в Нальчике. Зулихан мы
принимали как любимую сестру, окружили ее братским вниманием, и вдова Героя растроганно сказала,
что в кругу однополчан Ахмета она чувствует себя, словно в родной семье.
С болью в душе вспоминали бывшие летчики-истребители героев-однополчан, павших в борьбе с
фашистскими захватчиками. К памятнику погибшим воздушным воинам от имени ветеранов полка мы
возложили венок. [238]
Два дня мы провели в Ростове, допоздна засиживаясь на берегу тихого Дона, вспоминая славный боевой
путь полка, который воспитал десять Героев Советского Союза, целую плеяду неустрашимых летчиковистребителей, беспощадно громивших врага. Характерно, что кто бы из фронтовых друзей ни выступал
перед однополчанами с воспоминаниями о былых боях, жарких воздушных схватках, никто ни слова не
сказал о себе. Каждый говорил лишь о своих боевых товарищах, их отваге, мужестве, душевной
щедрости.
В Ростове мы будто снова встретились со своей молодостью, и, покидая гостеприимный город, каждый
увозил сердечное тепло однополчан.
...Как и мои однополчане, я нашел место в мирной жизни, в меру своих сил и способностей продолжаю
служить Отчизне. Работаю директором Харьковского ордена «Знак Почета» протезного завода. Член
Ленинского райкома партии Харькова, председатель районной комиссии содействия Советскому Фонду
мира.
Мой скромный вклад в осуществление планов послевоенных пятилеток отмечен Юбилейной Ленинской
медалью и орденом Октябрьской Революции.
Фронтовой дружбе однополчан, скрепленной кровью, пролитой в битвах за Родину, не страшны ни годы,
ни расстояния. Мы и сегодня в едином, монолитном строю, в строю бойцов пятилеток, делаем одно
большое общее дело.
Многотрудным, тернистым был путь советских людей к Победе. И тем дороже нам завоеванный мир,
голубое чистое небо над Родиной, над нашими мирными городами и селами.
Примечания
{1}Капонир — земляное сооружение для укрытия самолета от воздушного противника.
{2}Внимание, внимание! В воздухе Покрышкин!
{3}«Эрэсы» — реактивные снаряды.