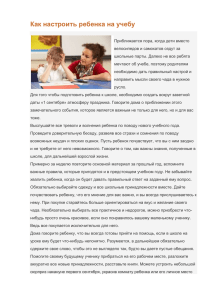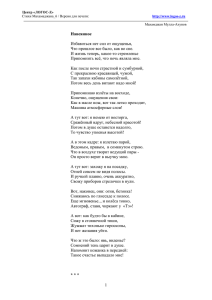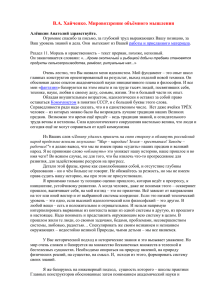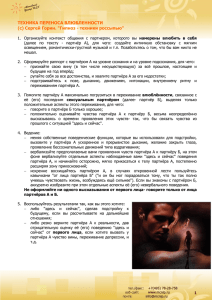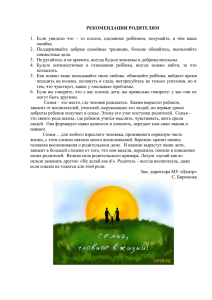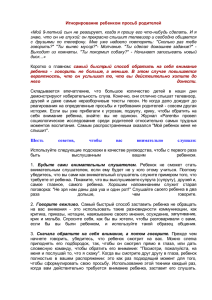Bert Hellinger Gabrieile ten Hovel
advertisement

Bert Hellinger Gabrieile ten Hovel EINLANGERWEG Gespriiche uber Schicksal Versohnung und Gluck Берт Хеллингер Габриэле тен Хёвель ДОЛГИЙ ПУТЬ Беседы о судьбе, примирении и счастье Munchen Kbsel 2005 Институт консультирования и системных решений Москва 2009 УДК 159.9 ББК88 Х36 Перевод с немецкого: Диана Комлач Научный редактор: к.п.н. Михаил Бурняшев Редактор: Людмила Карпенко Хеллингер Берт, тен Хёвель Габриэле X 36 Долгий путь. Беседы о судьбе, примирении и счастье. консультирования и системных решений, 2009. — 167с. — М.: Институт ISBN 978-5-91160-021-1 Спустя почти десять лет после выхода бестселлера «Признать то, что есть» («Anerkennen, was ist») Берт Хеллингер и Габриэла тен Хёвель снова встретились для беседы. Берт Хеллингер впервые подробно говорит о своей жизни. Он рассказывает, как он пришел к своим открытиям, как за последние годы изменилась и развилась системная работа, а также о своем отношении к критике. Кроме того, в интенсивном диалоге читатель узнает много интересного о пяти кругах любви и о связанном с ними балансе «давать» и «брать», о совести и вине, а также о примирении и счастье. Берт Хеллингер произвел переворот в терапевтической работе. За последние несколько лет он интегрировал в системную и семейную терапию новые аспекты, которые получили широкое признание у одних терапевтов и клиентов, но в то же время стали поводом для недовольства других. В данной книге затронуты самые личные аспекты жизни Берта Хеллингера. Беседуя с Габриэлей тен Хёвель, он описывает самые важные этапы в своей жизни, начиная с детства и заканчивая новейшим развитием системной работы — движениями души. Это интересная и живая книга, которая будет одинаково полезна как терапевтам, так и всем интересующимся расстановочной работой. Все права защищены Любая перепечатка издания является нарушением авторских прав и преследуется по закону. Опубликовано по соглашению с автором ISBN 978-5-91160-021-1 © Институт консультирования и системных решений, 2009 © Bert Hellinger, 2005 Содержание Предисловие ..................................................................................................................................................8 «Для меня речь всегда шла о внутреннем росте». Жизненные ситуации ..........................................15 «Я никогда не хотел стать учителем» .................................................................................................... 20 «В принципе у меня не было юности». Война ....................................................................................... 24 «There is a fucking German somewhere». Бегство .................................................................................. 25 «Это решение не было свободным». Орден.......................................................................................... 27 «Я не имел ни малейшего понятия». В Африке в качестве миссионера ордена Марианхиллер .... 32 «Люди или идеалы — что ты приносишь в жертву чему?». Групповая динамика ............................. 39 «Я ухожу». Уход из Ордена ..................................................................................................................... 42 «До 50-ти я не чувствовал себя целостным». Вехи развития .............................................................. 47 «Мне отказывают в праве на ошибку». О работе перед большой аудиторией, прояснении запроса и обхождении с иммигрантами .......................................................................................................................55 «Рост требует противостояния». О жесткости в терапевтическом процессе ..................................... 57 «Я не говорю, что иммигранты должны вернуться на Родину» ........................................................... 59 «Я работаю со всей группой» .................................................................................................................. 61 «Я не делаю политических заявлений» ................................................................................................. 62 «Я не механик». Прояснение запроса .................................................................................................... 63 «Я не борюсь с сопротивлением». Прерывание работы ...................................................................... 66 «Это понимание спасает жизнь»............................................................................................................. 67 Пять кругов любви. О родителях, пубертате, партнерстве и об искусстве принимать ...................69 Первый круг: родители ............................................................................................................................. 71 Медитация для первого круга любви ...................................................................................................... 71 Второй круг: детство и пубертат ............................................................................................................. 72 Медитация для второго круга любви ...................................................................................................... 75 Третий круг: давать и брать ..................................................................................................................... 78 Медитация для третьего круга любви .................................................................................................... 79 Вторая медитация для третьего круга любви ........................................................................................ 80 Четвертый и пятый круги любви: согласие со всеми людьми и с миром ............................................ 81 «Выигрывает тот, кто может радоваться своей матери». О счастье и радости ................................. 82 «Отцу больше не нужно бороться». Об отчужденности детей ........................................................... 85 «Я почитаю матерей с философской позиции». О матерях и отцах ................................................... 87 «Персты на мошной руке». Связь между преступниками и жертвами ................................................89 «Я принимаю в свое сердце всех исключенных» .................................................................................. 92 «Мы должны дать жертвам право на Родину в наших сердцах» ......................................................... 95 «Я держусь в стороне от преступников» ................................................................................................ 96 «Я отношусь к Гитлеру как к человеку, не снимая при этом с него вины за то, что он совершил» .................................................................... 97 «...и распяли тогда христиане евреев». Об антисемитизме, евреях и христианах ........................... 101 «В любви я в одно и то же время связан и свободен». Об автономии и пубертате взрослых ......105 «Воодушевление содержит в себе что-то бредовое». Об энтузиазме и собранности ...................... 111 «Тот, кто делает добро, не ссылается на свою совесть». О детскости «чистой совести» ................ 113 «Знающее и страдающее участие». О неизбежной вине ..................................................................... 118 «Это конечная точка индивидуализации». Об архаической совести и о поле ................................... 121 «Я — немец, но не горжусь этим». О примирении и патриотизме ...................................................... 124 «С любовью смотреть на мертвых, вместо того чтобы взывать к совести живых». О памяти и вытеснении.................................................................................................................................127 «Прошлое должно иметь возможность остаться в прошлом в наших сердцах». Об уравновешивании в виде мести и негодования ............................................................................... 131 «Негодованию не знакомо сострадание». О мире и чистой совести .................................................. 133 «Будущее есть тогда, когда прошлое получает возможность пройти». Политические расстановки ...................................................................................................................... 135 «Будут ли тогда поляки больше любить немцев?». О требованиях репарации ................................ 142 «Я не претендую на истину». О движении души и о непостижимом ................................................... 144 «...что непостижимое станет видимым». Об информации и поле ....................................................... 152 «Если я буду наводить справки, значит, у меня эгоистические намерения». О контроле успешности и доказательствах эффективности ............................................................................................................ 154 «Все, что движется, приводится чем-то в движение». О других силах, религии и свободном принятии решения ................................................................... 158 «Мы должны идти дальше...» О границах решений .............................................................................. 162 Предисловие Это было в феврале. Мы покинули здание Баварского радио и вместе шли по снежной каше в направлении Мюнхенского железнодорожного вокзала. Я спросила его: «Как долго Вы еще будете работать?» «Ах, — сказал он, — я думаю, скоро я закончу». В то время ему было 70. В свет вышла одна его книга, и мы как раз сделали первую программу на радио. «Берт Хеллингер? Кто это такой?» — спросил у меня тогда редактор. Только после того, как я заверила его, что этот человек производит переворот в терапевтическом мышлении, он доверился мне — с болью в животе. Когда дипломированный теолог прослушал записи готовой программы, он сказал: «Я постоянно вскакивал и ходил взад-вперед из-за жуткого беспокойства, возмущения и из-за того, что меня разрывало на части». Моя подруга, которой я дала прослушать отрывки из аудиозаписей работы Хеллингера, сказала только: «Во что ты опять ввязалась, Габриэла!» И когда я хотела вместе с другой подругой посмотреть первые видеозаписи работы Хеллингера, она через непродолжительное время встала: «Я не могу на это смотреть. Он говорит, как нацист Фрайзлер». С тех пор прошло десять лет. Мужчина, который якобы говорил как Фрайзлер, знаменит во всем мире. Его книги читают миллионы людей во всем мире — на 19 языках, начиная с китайского и заканчивая сербским. Его метод семейных расстановок предлагается в глянцевых журналах, в объявлениях в биомагазине, и в образовательных программах для взрослых. И он недоверчивый. Он уже тогда сломал многие табу и бросил вызов каждому борющемуся, бьющемуся сердцу, которое улыбалось либеральным идеям 1968-го года. Автономия и эмансипация являются теми «священными словами», которые многие выдвигали в качестве возражения этому мужчине, говорившему о привязанности и порядках любви, самоопределении, свободе, сопротивлении. Но это было еще безобидно. Хеллингер продолжал делать свою работу. В скором времени он начал работать с большими группами, что до сих пор остается камнем преткновения. И все чаще в расстановках проявлялось то, насколько радикально до сих пор действует национал-социализм в семьях — возможно, это была только его фокусировка, которая постепенно изменялась. НСДАП" или сопротивление, убийство инвалидов и неполноценных, смерть при штурме Дрездена, Дортмунда или Гамбурга — в какой из немецких семей нет преступников или жертв? Расстановки выявили новые, для многих шокирующие, явления. Например, то, что преступники и жертвы связаны друг с другом. Такая фраза, как «Я принимаю преступников в свое сердце», являлась провокацией для немцев, которые за последние 30 лет после экономического чуда и смуты 1968-го года только-только научились хотя бы воспринимать жертв. Тем временем Хеллингер объездил весь мир — от Израиля, Китая, Японии, Сербии, Австралии и вплоть до Южной Америки. Не было практически ни одной страны, в которой бы он не работал с вопросами войны и пыток, сопротивления и изгнания. Работа с партизанами, индейцами, убийцами, фашистами и антифашистами, борцами сопротивления и прислужниками других сил — изменила его. Вдруг стало совершенно ясно: изменение начинается именно в душе — и только в душе. Но мир возможен только тогда, когда засыпаются старые окопы — и больше не исключают преступников. В результате эти высказывания приобрели окончательно политический оттенок. Говорили, что Хеллингер оскорбляет жертв, насмехается над ними. В Германии этот человек попал в «ахиллесову пяту» духа времени. В его распоряжении еще было «политически корректное»: сделать то, что на первый взгляд было совершенно очевидным — стать на сторону жертв, против преступников. А потом еще было происшествие в Лейпциге — кошмар для любого терапевта. Одна клиентка, которая делала у него расстановку, покончила с собой. Я не знаю, сколько терапевтов пережили подобное — это, конечно, хорошо охраняемая тайна. Так человек оказался у «позорного столба». В терапевтических кругах ползли слухи. Весь метод подвергся дискредитации — прежде всего, в СМИ. ' Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (нем. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP) ~ политическая партия в Германии, просуществовавшая с 1920 по 1945 год. В 1933 году по итогам выборов стала правящей, лидер партии Адольф Гитлер занял должность рейхсканцлера. После этого партия установила диктаторский режим. После поражения Германии в войне в 1945 году распущена союзниками по антигитлеровской коалиции. На Нюрнбергском процессе руководящий состав партии был объявлен преступным, а идеология НСДАП названа одной из главных причин Второй мировой войны, Статья в «Шпигеле» послужила началом нападок на Хеллингера. Какое у него вообще образование? Ну, да, единожды миссионер, всегда остается миссионером! Эзотерическая чепуха! Те, кто этим занимается, — куча дилетантов! Католик с фантазиями, который проповедует реакционные «порядки» и принуждает к покорности! Человек, который в кризисные времена хочет управлять безвольными овцами, людьми, которым нужны ориентиры. К тому же еще и враг женщин — и сюда еще добавляется умершая! Позже распространялся текст, в котором Хеллингер назвал Гитлера человеком. Ко всему прочему на время он поселился в здании бывшего отделения рейхсканцелярии в Берхтесгаден, потому что рабочие не успели вовремя закончить ремонт его нового дома, и невозможно было поблизости найти другую съемную квартиру. Когда я приехала к Берту Хеллингеру для того, чтобы взять у него интервью для этой книги, он встретил меня в аэропорту Зальцбурга. Мы ехали по деревням и разговаривали на разные темы. Вдруг он сказал: «Сейчас я покажу Вам, где я жил», и направил машину по боковой улице, обсаженной елями, к маленькой рейхсканцелярии. Она была превращена в обыкновенный жилой дом. Затем он рассказал историю о вагоне-ресторане Гитлера: «Сначала его использовал Монтгомери, затем Аденауэр, затем Вилли Брандт, когда он впервые ехал в ГДР в Эрфурт, и королева Елизавета тоже путешествовала в нем по Германии». Он сказал только это — и ничего больше. Кампания в прессе против Берта Хеллингера внесла огромную смуту. Учреждения, обучающие взрослых, все союзы дистанцировались от Хеллингера. Были мобилизованы уполномоченные лица, занимающиеся сектами, в срочном порядке отменялись запланированные семинары. Клиенты, которые были обязаны работе Хеллингера или семейным расстановкам улучшением здоровья и новым смыслом жизни, люди, относящиеся с симпатией и восторгом к расстановкам, терапевты и педагоги — все они были в один момент сбиты с толку. «Неужели мы все вдруг стали «коричневыми»?» — спрашивали они себя. Потому что эмансипация и антифашистские убеждения относятся к основополагающим добродетелям порядочного человека! Неужели я на самом деле превратился в затуманенного эзотерика? Неужели мы — сумасшедшие реакционеры? Аполитичные фанатики? Живем ли мы в мире радости, в соответствии с порядками любви? Неужели это было неправильно позволить затронуть себя? Неужели мы отключили свой ум? Неужели мы являемся глупыми овечками, которые не могут видеть, с каким совратителем они связались? Неужели мы стали слепыми попутчиками, «верующими»? Каждый оказался один на один с этими вопросами. Многие были шокированы, онемели, когда их заодно дискредитировали. Некоторые испугались и стали задавать вопрос: почему Хеллингер ничего не говорит по этому поводу? Наш пубертат давно в прошлом, мы стали взрослыми — бунтарские идеи прежних лет утвердились и стали политическими канонами. И давно ли мы знаем в своей душе, что автономия — это догма, и что свобода подчас пишется с маленькой буквы? У нас есть дети, обязанности, жизненные кризисы — это нас перемололо и сделало мягкими — к счастью. Что мы потеряем из проверенного автономией, если согласимся с тем, что наша семья важнее, чем мы бы хотели? Что произойдет с нами, если мы в большей степени направим свое внимание на позицию, противоположную автономии — на привязанность, и признаем, что наша жизнь висит на многих ниточках, и не мы ими управляем и контролируем? Является ли это утверждением «фашистского толка»? Оплакивать убитых — вместо того, чтобы замещая жертв, бороться с преступниками из прежних времен — неужели это действительно реакционно и обращено назад? Неужели мы никогда не должны касаться табу и не видеть в Гитлере также и человека? И принимая во внимание, что между Небом и Землей есть нечто большее, чем то, что мы можем познать — неужели это уже устарело, и является антипросветительским? Длящаяся всю жизнь самореализация, эмансипация, формирование мышления — являются сегодня обязанностью. При этом темой расстановочной работы являются белые пятна в этой концепции. Системные связи определяют нашу профессиональную и личную жизнь зачастую больше, чем нам бы хотелось (и чем мы осознаем). Является ли подобное понимание еретическим? Возможно. Ведь оно задевает. И так же, как моралисты и зависимые от власти люди ничего не хотели знать о теории влечения 3. Фрейда, так и сегодня представители политически корректной господствующей тенденции выставляют артиллерию на огневые позиции для того, чтобы дискредитировать выводы, полученные в расстановочной работе, и задвинуть их в «коричневый» угол. Почему это происходит? Хеллингер обидел гладкое антифашистское мышление тезисом о том, что почти все немцы находились в те времена в одной лодке — вне зависимости от того, что они думали. И этим он резко обошелся с общепринятой точкой зрения «хороших» немцев, согласно которой преступниками всегда являются другие. Историк из Франкфурта, Гетц Али, называет это одной из защитных стратегий, которую до сих пор с удовольствием холят и лелеют. В своей впечатляющей книге «Народное государство Гитлера» об «обходительной диктатуре» национал-социализма, он подсчитал, какую все немцы получали из этого выгоду — в особенности рабочие и простые люди. Полученные Гетцем Али данные разрушают концепцию возложения вины на «буржуазию» или «расовых идеологов», «империализм» или приближенных Гитлера. Немцы жили — потеряв жилье при бомбежках — в еврейских квартирах, они спали в бывших ранее еврейскими постелях и сидели на еврейских диванах. Они ели хлеб, выпеченный из польской пшеницы, в то время как жители Польши умирали от голода. Они распаковывали пакеты с солью и яйцами, птицей и медом из Украины и радовались кофе, утренним халатам и шоколаду из Бельгии — все это благополучное существование было куплено или украдено немецкими оккупантами у других народов. Гетц Али показал, что в Германии во время войны почти никто не голодал, но, при этом все немецкое потребление, все, что было на немецких столах, было приправлено убийством. Маленькие подъемы, большие реформы и социальные льготы были оплачены грабежом, голодной смертью и убийством других людей. А это означает нечто совершенно иное: многие из нас существуют благодаря тому факту, что не мы и не наши матери, а другие женщины, мужчины и дети должны были умереть от голода и других причин. Плакать вместе с жертвами, вместо того чтобы, подменяя их, бороться против «этих» (и каких это?) преступников, — что может быть неправильным в этой скромной скорби? И последний вопрос: что же такого опасного в том, чтобы рассматривать национал-социализм тоже как движение, которое управлялось неизвестными нам Высшими силами? Что такого невозможного в том, чтобы говорить о Гитлере: «он тоже был взят на службу», то есть о том, что ужасное, брутальное зло тоже является частью необходимой реальности? Конечно, это вызов. «Все рухнет, больше не будет опоры», — сказала одна моя подруга. Возможно, это то, что в одних вселит неуверенность, а других превратит в преследователей, поскольку прежняя картина мира отпадет как некогда корсет. Объединив разъяснение причин войны и фашизма с позицией, в которой утверждается, что мы не всё можем контролировать, определять, предотвращать и изменять, — Берт Хеллингер бросает всем нам вызов. Сам Хеллингер с 20-летнего возраста шел путем созерцания и внутреннего очищения. Он не придерживается никакой идеологии — это может заметить каждый, кто действительно изучает его работу. Возможно, это был его путь, не заблудиться в мире, состоящем из добра и зла. И он может не нравиться многим в наше время — но зачем дискредитировать этого человека? Хеллингер требует от нас умственной и душевной работы в том, чтобы видеть и преступления, и людей; видеть того, кого мучили, и, в то же время, человека в мучителе, оставляя ему, тем не менее, ответственность за его деяния. Разве это не является также прояснением? Прощанием с магическим прогрессивным мышлением, или просто скромностью? В любом случае, его подход ставит под сомнение господствующую фантазию о том, что нам нужно. Только ли достаточно исследовать, бороться и знать, — конечно, находясь на «правильной стороне», — как отстаивать свои права и протестовать для того, чтобы всё в мире изменилось к лучшему. Конечно, есть и справедливая критика в отношении Хеллингера. Он груб и своенравен, непредсказуем, непреклонен, провокационен. И он абсолютно не позволяет себя учить. Ну, хорошо. Он — учитель, и его ученики выросли и идут своим путем. Но даже, если кто-то со временем внутренне или внешне дистанцировался от этого старого человека, одно остается практически для всех ясным: он со своим пониманием глубин системной динамики принёс в мир нечто новое. Эти выводы уже сегодня являются частью терапевтических стандартов и входят в арсенал каждого хорошо подготовленного организационного консультанта. При помощи расстановки систем в пространстве Хеллингер нашёл диагностический инструмент, который является состоятельным перед лицом стандартов научного исследования. Такого раньше не было. То, что в прошлом столетии было «изменением», в этом столетии является «переплетением». Благодаря Берту Хеллингеру мы больше знаем о том, что происходит в системах — о совести и вине, связи и решении, душе и бытии, Системные расстановки получили мощное эмпирическое обоснование и подтверждение в связи с тем, что Хеллингером было расширено и углублено терапевтическое пространство работы с клиентами —• намного более, чем было охвачено в своё время психоанализом 3. Фрейда. И оно увеличивается изо дня в день, благодаря сотням хороших терапевтов, консультантов и педагогов, использующих расстановки в своей работе. Примечательно также то, что в противовес ворчливой критике в Германии, за границей Хеллингер получает степени доктора наук и большое уважение. Этого немца, который расширяет души вне зависимости от того, кто перед ним, — ценят и почитают. Полярность мнений по отношению к Хеллингеру остаётся, но он не обращает на это внимания. И когда ему говорят: «Может быть, стоило бы по-другому сформулировать некоторые из его тезисов — было бы меньше криков и раздражения?» — он отвечает: «Что имеет больше силы?» В этой книге обсуждаются многие критические доводы, неоднократно высказываемые оппонентами. Берт Хеллингер, как всегда, отвечает на них так, как считает нужным. В книге затрагиваются ситуации из его жизни и освещаются важнейшие из сделанных им выводов. Так возникает целостный портрет человека, который хочет что-то привести в действие — но не в политике, а в душе. Габриэла тен Хёвель «Для меня речь всегда шла о внутреннем росте». Жизненные ситуации В этом году Вам исполняется 80лет. Когда Гитлер пришел к власти, Вам было семь. Помните об этом? Конечно. Однажды вечером мой отец пришел с работы домой и, переступив порог, сказал моей маме: «Гитлер стал рейхсканцлером». Он был очень подавлен. Он предчувствовал, что это может означать. Чуть позже мы узнали это на собственной шкуре. Мы жили в Кёльне и в одно из воскресений хотели выехать на природу в горы. Мы пошли на утреннюю мессу и, затем, выйдя из церкви, стояли на остановке и ждали трамвай. Тут к моему отцу подошел человек из СА и сделал замечание. Мой отец ответил ему. На это человек из СА заорал на него и хотел его арестовать. В этот момент подошел трамвай, мои родители и мы, трое детей, быстро сели в него. Вагоновожатый сразу же закрыл дверь и трамвай тронулся. Но человек из СА вскочил на свой велосипед и с воплями поехал за трамваем. Водитель трамвая проехал, не останавливаясь, мимо следующих остановок, пока человек из СА не отстал. Пассажиры зааплодировали ему. Тогда это еще было возможно в Кёльне. Позже это прекратилось. Уже в возрасте десяти лет Вы покинули свой дом и стали жить в интернате. Почему? Одна знакомая моей мамы слышала об этом интернате. Она знала, что я хочу стать священником. Я решил это еще в возрасте пяти лет. И она сказала моей маме: «Это неплохая возможность». Интернатом управляли миссионеры Марианхиллер. Это было в городе Лоор на Майне. Мы жили в интернате и посещали государственную гимназию. То, что родители сделали возможной мою жизнь в интернате, было для меня большим подарком. Это был важное событие в моей жизни. Мне как раз исполнилось десять лет, и я вдруг оказался в совершенно ином мире. Но благодаря этому у меня было намного больше возможностей и свобод. Дома это было бы невозможно. Оба родителя были однозначно «за»? Моя мама была полностью «за», а мой отец вел себя скорее сдержано, если можно так сказать. Но он также дал свое согласие и оплатил расходы. Вы прибыли в этот католический интернат в 1936 году. Какую позицию занимали святые отцы в отношении национал-социализма? Вы вообще заметили что-нибудь, касающееся их позиции? Я расскажу маленький эпизод. После присоединения Австрии в Германии состоялись всеобщие выборы. Очевидно, некоторые из святых отцов в интернате и некоторые сестры, которые занимались там кухней, проголосовали «против». Но выборы не были тайными, бюллетени были перехвачены. Вечером после выборов было большое факельное шествие СА. В заключение несколько членов СА остановились перед нашим интернатом и большими буквами написали на стене дома: «Здесь живут предатели» и «Мы голосовали «против»». Затем они разбили около 200 оконных стекол, и булыжники влетали, в том числе, в нашу спальню. На следующее утро двоих из святых отцов взяли под арест, а мы поехали на каникулы. В десять лет Вы в известной степени покинули родительский дом. Были ли у Вас в интернате примеры для подражания, на которые Вы ориентировались? Святые отцы, которые руководили интернатом, были очень хорошими. Они предоставили нам все возможности: спорт, путешествия, уроки музыки, театральные представления. Я учился играть на скрипке, играл в местном оркестре и пел в хоре. У нас также была большая библиотека. Вы не скучали по дому? Вы были достаточно далеко от дома. Нет. На каникулах я ездил домой. Время в интернате было для меня прекрасным временем. Я чувствовал поддержку во всех отношениях. Святые отцы хорошо к нам относились и поддерживали нас. Мы постоянно были чем-то заняты. Скучать было некогда. Когда я думаю, как много значения Вы придаете семье в терапевтической работе и как мало Вы сами наслаждались семейными радостями, — не было капли горечи? В интернате я чувствовал себя как дома. Но в 1941 году этот интернат был закрыт. Тогда я снова приехал домой и два года жил в Касселе со своими родителями. Они переехали туда из Кёльна. Мне тогда было 15. То есть в середине пубертата. Я помню, когда я долгое время была далеко от дома и затем вернулась, я получила от своего отца хорошую затрещину, потому что не хотела никого слушать. Как это было у Вас? Ах, знаете что, на дворе уже была война. У нас, в общем-то, не было времени на подобные вещи. Мой отец поощрял и поддерживал все, что я хотел, концерты или театр. Тогда не было ограничений. Он работал по десять-двенадцать часов в день в качестве инженера на одном военном заводе и приходил домой поздно. И у нас были интересные соседи. Рядом с нами жила семья Вюрмелинг. Их отец позже при Аденауэре стал министром по делам семьи. Я хорошо помню об этом. У нас в семье было шесть детей и льготы на проезд в поезде для многодетных семей были названы в его честь «Вюрмелинг». Его старший сын был моим другом. В их доме часто бывали иезуиты. И на меня, 15-16-летнего парня, их беседы оказали огромное впечатление. Слушать их было одно удовольствие. Они были открыты миру. Совершенно другие, чем национал-социалисты. Те из них, с кем мне пришлось там столкнуться, были высокообразованными, очень духовными и дисциплинированными людьми. Они излучали что-то, от чего мне просто становилось хорошо. «Я никогда не хотел стать учителем» Это вид духовной, интеллектуальной дисциплины, которая не имела ничего общего с послушанием? Они послушны не в этом смысле. Ведь там каждый самостоятелен. Они показывают определенный тип духовной свободы и возможностей развития, которые я больше нигде не мог найти. Я с большим уважением относился к этим иезуитам. Я даже подумывал о том, чтобы самому стать иезуитом. Но одна вещь удержала меня: многие иезуиты должны стать учителями. Я никогда не хотел быть учителем. В одной школе на протяжении 20-ти лет учить учеников — я думал, что для этого мне совсем не обязательно становиться священником и вступать в Орден. Поэтому я пошел к марианхиллерам. Позже я все равно стал учителем в Южной Африке. Так оно и бывает: то, чего человек пытается избежать, в один прекрасный момент настигает его. То есть лучше быть миссионером, чем учителем, идти не в школу, а дальше в широкий мир? Да, примерно так. Конечно, я понятия не имел, что это значит быть миссионером в далекой стране. У меня был идеальный образ этого, связанный с определенным желанием приключений. Я находился в этом поле уже благодаря этому интернату. Я принадлежал к этому еще с тех самых пор. Итак, после интерната я ходил в гимназию в Касселе и присоединился к маленькой группе молодежного католического движения. Оно было запрещено, и, скорее всего, гестапо вело за нами наблюдение. После окончания седьмого класса гимназии нас всех привлекли сначала к выполнению трудовой повинности, а затем в вермахт. Однажды вечером, в самом начале исполнения трудовой повинности, к нам зашел один из руководителей трудовой повинности. Он целенаправленно подошел ко мне и втянул меня в разговор. Он был из гестапо. Но тогда я еще не знал этого. Он беседовал со мной о Ницше и Гегеле. Я, будучи 17-летним юношей, конечно, знал об этом очень мало, но кое-что я все-таки знал. Он сказал: «Гегель предсказал нынешнее государство». Я ответил: «Гегель ненавидел государство». В ответ на это из него непроизвольно вырвалось: « Они ненавидели государство». И тут я понял: это был допрос. Через год — к тому времени я уже служил в вермахте и находился во Франции — наш класс получил по почте аттестат зрелости. Последний класс нам подарили, так как мы все служили в вермахте. Но требовалось представить характеристику с места прохождения трудовой повинности. В моей характеристике было написано, что я являюсь «потенциальным врагом народа». В то время это означало: его можно посылать на смерть. После этого мне было отказано в аттестате зрелости. Когда моя мама узнала об этом, она пошла к директору школы и потребовала от него объяснений: «Мой сын сейчас служит в вермахте. Он рискует своей жизнью, а Вы отказываете ему в аттестате зрелости»? Директор устыдился и выдал ей аттестат. Моя мама боролась за меня, как львица. Я уже тогда мог отграничиться от национал-социализма — ведь я был в христианском интернате. И моя семья также жила в определенном поле, что позволяло ей дистанцироваться от НС. Мою маму невозможно было ничем прельстить. Только позже я смог понять, каким невероятным достижением было то, что она могла тогда держаться в стороне. Она могла делать это, опираясь на свою веру. Мой отец точно так же до конца противостоял давлению вступить в партию. В этом отношении мои родители придавали мне силы. И я очень высоко ценю это. Это было не мое собственное достижение — я получил эту силу от отца и матери. Это поведение — отграничивание от всеобщего восторга и давления, исходившее от родительской силы, — позже продолжилось в различных сферах жизни. Например, в Южной Африке. Эта сила проявляется также и в моей нынешней жизни. Я держу дистанцию и уважаю свою свободу. Благодаря этому я передвигаюсь в более широком поле. Вы говорите, что существует определенное поле, от которого невозможно убежать. Сейчас Вы сказали, что есть личная свобода — при условии, что человек отграничивается, не позволяет себя соблазнить. Я только описываю это. Могу ли я это приписать свободе, это уже другой вопрос. Я воспринимаю это как подарок, как то, что часто в своей жизни я вдруг просто знаю: сейчас что-то закончилось и осталось в прошлом. Это озарение. Тогда у меня есть сила действовать. А не потому, что я сам что-то решил, выдумал себе это и преследую какую-то цель. Я следую за внутренним движением. В случае подобных значительных решений нет никакой свободы выбора. Я просто не могу по-другому. Иначе я предам и потеряю самого себя. Так все-таки существует распутье. Отделение — это так, как Вы отделились от своего Ордена и стали терапевтом? Конечно. Человек следует за своим предназначением — даже, если это требует мужества. С одной стороны, Вы говорите, что все мы взяты на службу. А сейчас Вы сказали: «Я могу принять решение в пользу своего предназначения, или в пользу остановки». Это противоречие. Хорошо. Для меня речь идет о чем-то важном в душе, о точке, в которой мы чувствуем свою значимость, о нашем сущностном ядре. Там нам предписано: где для нас что-то продолжается, а где — нет. Если я следую за этим движением, я не могу отклониться. В нем я получаю силу и остаюсь связанным с этим глубинным ядром. Это философское рассуждение, которое невозможно доказать. Ну и что? Оно оказывает определенное воздействие на душу — для меня только это является важным. Я предполагаю, что это сущностное ядро является бессмертным. Мое сущностное ядро не прекращает свое существование после смерти. И мое отклонение от него тоже не прекращает своего существования после смерти. Это предположение находит свое подтверждение в некоторых примерах из опыта семейных расстановок. Например, то, как умершие влияют на настоящее, потому что они что-то не завершили, потому что они еще не нашли пути к своей сущности. Как Вы чувствуете «предназначение»? Если я нахожусь в созвучии, для меня больше ничто не может складываться неправильно. В этой точке нас захватывает созидательное движение, которое несет нас. Я несвободен и в то же время я не хочу ничего другого, потому что это соответствует моей сущности. Это тот путь, на котором приходят самые важные озарения. Не является ли это скорее мистическим измерением? Юнг говорит: «Стань тем, кто ты есть» («Стань самим собой» — прим, переводчика). В этом направлении. Во все времена люди говорили об этой внутренней истине. Маленькие дети, например, с самого начала связаны с ней. Лишь позже они отклоняются от нее. Значит, человек может быть связан со своим сущностным ядром, хотя он системно переплетен? Благодаря пониманию, переплетения до определенной степени устраняются. Освободившись от переплетения, человек не выходит из системы. А что? Через некоторое время он принимает того, с кем был переплетен, с любовью в своё сердце. Тогда он становится связанным с ним вместо того, чтобы быть разделенным, но больше не переплетен. Благодаря этой связи он растет. Когда Вы рассказываете о своей юности, Вы больше говорите о своей матери и меньше об отце? В последнее время я все более ясно вижу, что самое главное для нас начинается с матери. Тогда я, конечно же, еще не понимал, что на самом деле моя мать значила для меня. Я понял это только через много лет во время одной терапии. До меня дошло, что моя мама всегда была рядом. Только тогда я осознал, что это значит. Она готовила, стирала и шила, делала все — без жалоб, как само собой разумеющееся. И она боролась за меня. Мой отец был очень строг. Для меня как для ребенка это иногда было слишком тяжело. Только позже я смог понять, насколько важным он был для меня как раз благодаря своей строгости. В связи с этим со мной произошло одно интересное событие. Я рассказал одному известному терапевту, Стэнли Келеману в Беркелейе, что в этом отношении у меня была тяжелая юность. Он посмотрел на меня и только рассмеялся. Он сказал мне: «Но ты ведь сильный». Вдруг я понял, какую силу я получил от своего отца и насколько важным он был для меня благодаря своей строгости. Я тесно связан с ним. А это не всегда было так? Нет, это было развитие, как у всех детей. «В принципе у меня не было юности» Война Итак, когда Вам было 17лет, Вас считали потенциальным врагом народа, и Вы пошли служить в армию. Как это было для Вас? Это, наверное, было сильным урезанием Вашей свободы, по сравнению с представителями современной молодежи, которые, окончив школу, ездят за границу, проходят практику, учатся в вузах или год проводят в Южной Америке на социальной работе. У меня вообще не было времени особо задумываться о моей «самореализации», как это сегодня принято называть. В принципе у меня не было юности. В то время ее не было. Этой фазы у меня не было. Когда я в возрасте 20-ти лет вернулся с войны, около половины моих товарищей были мертвы. Мой брат тоже не вернулся с войны. И города лежали в руинах. Сегодня невозможно прочувствовать, что это означает. Это было совершенно иное ощущение жизни. Но из него проистекает также особая сила. В это время я был взят на службу. Я не знаю, какими силами. Меня для чего-то использовали. В каждой системе существует определенное давление, которое хочет завершить что-то незаконченное. Например, система оказывает давление на потомка, чтобы он, возможно, решил чтото для своих предков. Система толкает его в так называемом позитивном направлении или в негативном направлении, и при этом человек не может принимать решение. Что здесь означает «позитивное», а что — «негативное»? Позитивное — это, когда один человек может сделать что-то хорошее для других, то, что сохраняет обычную жизнь. Человек женится, у него появляются дети, он растит и поддерживает детей, и они становятся самостоятельными. Это — нечто Величественное. Он находится в созвучии с хорошим, позитивным движением. А другой человек, возможно, станет в своей ситуации убийцей. Он не может этого избежать, он несвободен в принятии решения. И он тоже взят на службу какой-то Высшей силой. Вы говорите «позитивное» и «негативное». Это звучит как оценка, что, конечно, в том контексте, в котором Вы говорите об убийце, понятно. Я говорю это только потому, что мы так часто делаем. Дня меня это один и тот же процесс. Они оба несвободны. Они несвободны как в хорошем, так и в плохом. Поэтому я никому из них не отдаю предпочтения. Все просто такое, какое есть. Это судьбы, которые настигают отдельного человека. Это собственная система, которая принуждает человека к чему-то. Кроме этого, есть более мощные движения, которые захватывают человека и тянут за собой, или — как национал-социализм или коммунизм — захватывают весь народ. И Вы это ощутили тогда на себе? В этой войне человек, конечно, не владел собой. Я был вплетен во что-то, чего я не мог избежать. С постоянной угрозой для жизни. Иногда я еще и сегодня удивляюсь, как мне удалось выйти из этой ситуации. «There is a fucking German somewhere» бегство Как это Вам удалось? Я служил в вермахте на западном фронте в боевом подразделении. Многие мои товарищи погибали или получали тяжелые ранения. И часто я тоже едва уходил от смерти. Например, когда нам пришлось идти по минному полю, потому что не было другого пути. Затем, возле Аахена, я попал в плен к американцам и был интернирован в один из лагерей в Карлруэ в Бельгии. Нас было 1600 пленных, и мы работали каждый день по десять часов в огромном лагере службы снабжения американской армии. Но, по распоряжению Эйзенхауэра, мы получали только половину калорий, необходимых организму при такой тяжелой работе, в качестве наказания. Мы загрузили и выгрузили миллион тонн продовольствия для американской армии. Так как мы получали недостаточно питания, воровали самое необходимое. Кого ловили за этим делом, тот получал тяжелое наказание: 30 дней работы на стройке. Там на ночь 50 человек впихивали в маленькое помещение, где они не могли ни сесть, ни лечь. А днем нужно было 12 часов работать. Они получали пять крекеров утром, четыре в обед и пять вечером. Это было все. Когда меня поймали в первый раз, меня по непонятным мне причинам через пять дней отпустили со стройки. Я не знаю, почему. Никто на этой стройке не выдерживал 30 дней. Большинство было сломлено через 10-14 дней. Это были драконовские меры. Пятеро товарищей решились однажды на побег. Они попытались сбежать через забор. Их обнаружили, просто поставили к стенке и расстреляли. Позднее меня опять поймали при попытке украсть продукты. На этот раз я попал в барак без окон. В качестве еды мы получали только хлеб и воду. Была зима, и у нас не было одеял. К. этому времени, когда кого-нибудь ловили при попытке кражи, ему приходилось выкапывать яму и затем его избивали. После этого он возвращался в барак и его брили наголо. Я тоже должен был вырыть свою яму, и один американский солдат все время ходил вокруг меня. И меня не избивали. Я вернулся в барак, и без какого-либо допроса через семь дней меня выпустили оттуда. И меня не брили наголо. Это было странно. Как Вы себе это объяснили? Тогда я не мог себе этого объяснить. Один мой друг, который еще долго оставался в лагере, после того как я сбежал, позже объяснил мне, как это получилось. «Американец», мой надсмотрщик, был немецким евреем. Он, конечно, понимал по-немецки, но не показывал этого. Многие из пленных насмехались над этим охранником, они, например, говорили: «Он наверняка гей» или что-нибудь подобное. Я сказал им: «Вы не имеете права так говорить» — мы все думали, что он ничего не понимает. Но он все понял, и поэтому позже он защитил меня. Когда я затем вернулся со стройки и меня не побрили наголо, я подумал: это знак. Для меня плен закончился. В течение пяти дней, после того как я вернулся со стройки, я сбежал. Вы тоже попытались перелезть через забор? Или как иначе Вам удалось бежать? Я спрятался в поезде с продовольствием, который ехал в Германию. В одном вагоне мои товарищи сделали для меня под ящиками тайник, чтобы меня было не так просто найти. Вагоны были полностью загружены и, конечно, никто не стал разгружать весь поезд только потому, что пропал один пленный и, возможно, он спрятался в поезде. Поезд еще целый день стоял на этом продовольственном складе. Ночью американские охранники прошли по вагонам в поисках меня. Я слышал, как они говорили: «There is a fucking German somewhere in the train» («В этом поезде где-то спрятался долбанный немец»). Но они не нашли меня. Поезд шесть дней ехал из Карлруэ в Германию. Недалеко от Вюрцбурга я вышел из своего укрытия и выпрыгнул с поезда. Так война и мой плен остались для меня в прошлом. Подобное часто происходило со мной в моей жизни. Я следовал за внутренним руководством и принимал решение, потому что я знал: сейчас пришло время для этого шага. Как Вы это замечаете? Благодаря полной внутренней уверенности. Я знаю: этот отрезок жизни остался в прошлом. Тогда я не колеблюсь ни одной секунды. «Это решение не было свободным» Орден В то время Вы были совсем молодым парнем, 19-ти лет от роду. Была ли у Вас та же уверенность при выборе своей профессии? Это было ясно для меня с очень раннего возраста, с пяти или шести лет. Я хотел стать священником. Когда я вернулся с войны, я через шесть недель вступил в один Орден. И не было никого, кто сказал:« Ты станешь священником?» Нет. Но, конечно, я жил в религиозном поле. Глядя назад, я знаю, что это решение также связано с моим переплетением в семье. Поэтому это решение не было свободным. Оно было предопределено моей системой. Я предполагаю, что многие люди, взглянув назад, видят, что их жизнь, как они ее проживали, тоже имела руководство. Вы говорите это сейчас в возрасте восьмидесяти лет. Но чувствовали ли Вы это сами в той ситуации? Нет, человек этого не чувствует. В семейной системе восприятие ограничено. Оно задано при помощи поля. Но, когда я оглядываюсь, я не сожалею об этом. Эти пути имеют свое значение. Я ничего не хочу об этом знать. То, что я пережил, сделало меня тем, кем я сейчас являюсь. Итак, Вы вступили в Орден. Как это было? Мало кто имеет представление о том, как человек учится для того, чтобы стать монахом? Я вступил в Орден и на протяжении года был, так называемым, послушником. Этот первый год является введением в духовную, спиритуалистическую жизнь. Человек не делает ничего другого, кроме медитации, общего моления, духовного чтения и прослушивания лекций. В то время я много занимался западноевропейской мистикой. Медитируют ли там так, как мы это себе сегодня представляем? Или в чем состоит отличие? В христианской медитации человек имеет дело с текстами из Библии — без мантр и без молитв. Или — с притчей, историей или страстями Христовыми. Для меня это также было введением в историю и духовные практики. Речь здесь идет о внутреннем очищении. Человек упражняется в том, чтобы полностью оставаться сосредоточенным на чем-то одном. Это была строгая школа. Через некоторое время человек отходит от многих упражнений. Например, он больше не читает молитвы. Он просто спокойно и внимательно смотрит в пустоту. Это и есть собранность. Она, в определенном смысле, сравнима с основной позицией для феноменологического восприятия. Как проходил тогда Ваш день? Утром было полчаса совместной медитации, затем церковная служба, несколько раз в день совместное моление, а в промежутках каждый медитировал в одиночку, У меня был целый год времени, и я не занимался ничем другим. Это было как продолжительные упражнения — мое введение в духовность. По истечении этого года я принял решение вступить в Орден и дал так называемые временные обеты на три года. Это были обеты бедности, воздержания и послушания. Через три года человек дает эти обеты на всю жизнь. Изменился ли тип медитации? Конечно, человек прогрессирует. В чем проявляется прогресс? В собранности. Человек, ставший монахом, делает это всю свою жизнь. В то же время это является подготовкой к более глубокому познанию. Глубокое познание требует собранности. Феноменологический образ действий, наблюдение происходит из собранности. Это значит оставаться сконцентрированным на чем-то одном до тех* пор, пока перед внутренним взором как будто откроется что-то скрытое — и покажет свою суть. Вы очень часто используете это слово во время расстановок. Когда Вы, например, говорите: «А теперь расставь, очень собранно». Как человек становится «собранным»? Подобной собранности мы достигаем через очищение. В принципе это относится и к буддистской медитации — здесь нет никакой разницы. Собранность проявляется по другую сторону от намерений. В этом смысле она нам тоже подарена. Очищение начинается с «ночи» органов чувств. Человек отводит свое внимание от чувственных впечатлений так, что он больше не позволяет зрению, слуху, нюху отвлекать себя. Тогда начинается очищение духа. Закрыв глаза, человек выключает зрительные ощущения. Он идет в тишину для того, чтобы больше ничего не слышать. Что означает очищение духа? Очищение духа означает на самом деле то, что я отказываюсь от знания, я отказываюсь от любопытства, я отказываюсь также от всех стремлений. Это очищение дает возможность подставить себя какой-то ситуации без чужого влияния — то есть без влияния через органы чувств, и без влияния через дух. Что это значит: без влияния через дух? Без влияния через страх или теории, или через идеологии, или через веру — это подразумевает полное очищение духа. Это очищение духа можно упражнять до определенной степени. Но затем из-за жизненных обстоятельств наступает темная ночь, ночь покинутости Богом, где сам Бог больше не играет никакой роли. Где человек оказывается брошенным в полную темноту — что бы с ним в жизни ни произошло. Темная ночь является решающим очищением. Это жизненные уроки, которые невозможно запланировать и хотеть, и заранее им научиться. Являются ли нападки, которым Вы подверглись здесь, в Германии, чем-то подобным? Иногда я понимаю это так. Темной ночью разбивается временное. Я хотела бы лучше понять это. Темная ночь не имеет ничего общего с покинутостью Богом в смысле «остаться беззащитным». Нет, именно это в том числе — быть беззащитным. Человек больше не может ни на что положиться, он остается без привычной надежды. Человек проходит очищение, как от своих образов Бога, так и от надежды на Бога. Благодаря этому он выходит на совершенно другой путь, на другой уровень. На этом пути большого очищения органов чувств, духа, а также воли мы в конце концов достигаем глубокого понимания, инсайта. То, что я здесь описываю, конечно, является не только христианской практикой. Это является общим достоянием человечества. Во всех религиях есть люди, которые решаются на этот путь, и их ведут по нему. В буддизме много говорится о том, чтобы «стать пустым». Как это соотносится с тем, что Вы называете «собранностью»? Собранность и пустота составляют одно целое. То, что я описал, и есть на самом деле «становление пустым». Что-то становится пустым. Но как это происходит? Человек приходит к пустоте через согласие со всем таким, какое оно есть. Это согласие является движением любви. Ваша первая книга называлась «Признать то, что есть». Сейчас Вы говорите: «Согласиться со всем таким, какое оно есть». В чем разница? Это согласие отказывается от проведения различия между «хуже» или «лучше». Оно без сожаления — сожаления о вине, например. Оно без требования, без надежды, без обвинения. Это согласие с миром таким, какой он есть. Только тогда собранность, пустота и наполненность собираются воедино. Когда я становлюсь пустым, исчезает что-то, что мешает мне быть в согласии. И наоборот: благодаря согласию я становлюсь пустым. В этой позиции полного согласия и отказа от всех своих собственных желаний или стремлений я полностью отдаюсь реальности. И тогда реальность начинает говорить сама по себе. Если я хочу от нее чего-то своего, она отстраняется от меня. Но если я больше не возвышаюсь над ней, она открывает мне что-то важное. С греческого слово «истина» переводится как «нескрытое». То есть, истина находится снаружи, вовне, не во мне, не в моих умозаключениях. Она идет мне навстречу. Но она проявляется только частично, не вся, То, что Вы сейчас описываете, уже является феноменологическим образом действий. Это звучит очень по-философски, не совсем конкретно, не ориентировано на действия. То, что проявляется на этом пути познания, всегда проявляется в отношении возможного действия. Благодаря полученному на этом пути пониманию становится возможным новое действие. Без применения — понимание остается пустым, оно снова закрывается. Относительно семейных расстановок, что это означает в этом контексте? Семейные расстановки являются применённым пониманием. При помощи метода семейных расстановок раскрылись многие важные моменты для понимания. Например, то, что мне часто ставят в упрек, — что преступникам нужно давать место в семье, вместо того чтобы проклинать их, — является результатом понимания, которое проявилось благодаря семейным расстановкам. Если я соглашаюсь со всем таким, какое оно есть, без осуждения, тогда моя позиция в отношении преступников является только следствием этого пути познания. Вам тогда только исполнилось 20 лет. Вы вернулись с войны и пошли по этому пути. Сегодня это можно себе с трудом представить. Вам всегда это нравилось? Упражнения, созерцание, тишина. Это ведь очень специфично. Да, всегда. Я остался на этом пути на всю свою жизнь, в том числе когда стал изучать философию и теологию. В монастыре я каждое утро медитировал и молился вместе с другими. Затем я стал посещать занятия в университете. То, что Вы рассказываете, немного противоречит тому образу, который возникает у многих, когда речь идет о каком-нибудь Ордене. Люди думают, что члены Ордена постоянно зубрят и молятся, стараясь обратить людей в свою веру. Их — грубо говоря — учат для того, чтобы они собирали паству и присматривали за ней. Люди имеют об этом неправильное представление и странные образы. При этом Ордены следуют старой, испытанной духовной традиции, которая на сегодняшний день в некоторых Орденах, судя по всему, оказалась утерянной. Многие забыли корни христианской духовности. Ее существенные моменты совпадают с другими крупными религиями. Для меня эта жизнь была очень ценной. И я с благодарностью вспоминаю это время. «Я не имел ни малейшего понятия» В Африке а качестве миссионера ордена Марианхиллер А как было в Африке? Вы сохранили там тот же образ жизни? Да. Это значит, что Вы в течение 25 лет вели подобный образ жизни — до тех пор, пока в возрасте 45-ти лет не покинули Орден. Это, конечно, такая школа жизни, которую не так-то легко повторить. Да, это я тоже понимаю. И это требует высокой дисциплины. Когда Вы решили пойти к марианхиллерам, а не к иезуитам, потому что там Вас манил широкий мир, Вы это связывали с тем, в чем упрекают миссионеров: Я проповедую учение Христа и обращаю в веру темнокожих язычников? Я не имел ни малейшего понятия о том, что на самом деле меня ждало. На практике всё, в любом случае, происходит иначе, чем человек это себе представляет. Только когда я приехал в Южную Африку, я увидел, что это на самом деле означает — «быть миссионером». Там я вел, прежде всего, культурную деятельность. Миссионеры Марианхиллер получили свое развитие на основе монастыря траппистов. Один южноафриканский епископ предложил одному аббату из Австрии создать в Южной Африке монастырь. Этот аббат, Франц Иосиф Пфаннер, был траппистом. Марианхилл — это название монастыря, который он основал. Трапписты только молятся и работают. Это очень строгий созерцательный Орден. Им чужда пасторская работа. Каждый монастырь экономически независим. Это значит, что они все делают сами. В те времена они занимались сельским хозяйством и ремеслом. У них была своя собственная электростанция, собственное водоснабжение, собственные мастерские, собственное сельское хозяйство. И каждый должен был что-то делать? Трапписты следовали правилам святого Бенедикта. Основное положение бенедиктинцев звучит так: «Ora et labora», — молись и работай. У траппистов работа играла большую роль, и именно тяжелая работа. Так монастырь Марианхилл очень быстро превратился в самый крупный монастырь траппистов в мире, в нем было около 300 монахов. Большинство из них было братьями Ордена без теологического образования. Они были, прежде всего, ремесленниками, только некоторые были священниками. Через некоторое время они начали налаживать контакт с местными жителями. Они учили их вести сельское хозяйство и открывали школы. Так, однажды началась миссионерская работа. Многие из местных жителей прошли крещение, и начали возникать христианские общины. Трапписты, ставшие миссионерами, больше не могли придерживаться своих строгих правил. Поэтому этот монастырь траппистов был преобразован в миссионерское братство, правила которого были приведены в соответствие с миссионерской работой. Что означает миссионерская работа, я понял только на месте: Создавались школы, и людям что-то показывали, например, как что-нибудь выращивать. Зулусы в Южной Африке изначально были скотоводами и кочевниками. Сельское хозяйство было им совершенно чуждо. Миссионерская работа была, в первую очередь, культурной работой. Вместе с ней провозглашалось христианское послание. Так повсеместно росли христианские общины. И поэтому им были нужны священники? Так Вы туда попали? Сначала в Южной Африке меня послали на три года в университет для того, чтобы я смог работать учителем в средней школе. Затем я некоторое время был директором школы, а затем попал в миссионерское отделение. Миссионерское отделение соответствует у нас церковному приходу. У этого миссионерского отделения было десять внешних отделений, разбросанных на обширной территории. Нужно было регулярно их посещать. У каждого внешнего отделения была своя школа. Вы не работали в сельском хозяйстве, а были учителем и священником? Что хорошего или удовлетворительного в этой работе? Я мог привести что-то в движение. Люди были благодарны. Они могли чему-то учиться и развиваться. Отношения между верующими и священниками были очень доверительными, просто прекрасными. Когда я время от времени приезжал в Германию, мне очень сильно бросалась в глаза разница. Здесь, кроме богослужения, было очень мало других точек соприкосновения. Иногда это было для меня тягостно по сравнению с опытом, который у меня был в миссии. Там была работа, которая наполняла. Я вспоминаю людей, которые были в Африке помощниками по развитию для организации «Хлеб для всего мира» или «Служба за океаном». В конце 1970-х годов я брала у некоторых из них интервью для радио. Их рассказы были похожи на Ваши. Их глаза блестели, когда они рассказывали о своей жизни там, и потом им было трудно найти себе место в скучной немецкой жизни в общине. В Африке жизнь более живая. В моей первой миссии нас было двое. Мы регулярно посещали наши филиалы. Сначала мы ходили пешком, иногда ездили верхом. Позже я получил мотоцикл, тогда стало легче. Местность была очень труднопроходимая. Когда я приходил в филиал, собирались христиане, и мы все вместе устраивали богослужение. Для них это был праздник. Подобное посещение длилось целый день. На следующий день я шел в следующий филиал. По воскресеньям сначала было богослужение в основной миссии, а затем еще одна служба в одном из ближайших филиалов. Я был полностью вплетен. Позже я стал священником в приходе кафедрального собора. Когда я начал там работать, то за год посетил все семьи. Я посещал каждую семью и лично знакомился с ними. Это было хорошо и живо. В этом приходе насчитывалось более 10 000 христиан. Какие там христиане? Была ли разница между христианами и нехристианами? Можно было легко отличить христиан от «язычников», как мы их тогда называли. У них было более открытое лицо. Многие нехристиане были боязливыми и закрытыми. Они боялись колдовства. В этом было что-то тягостное. Христиане были намного более свободными и самостоятельными. Они работали вместе с нами в школе и в церкви, участвовали в составлении планов. Это были живые общины. Не попадали ли они в конфликт с ритуалами своего племени из-за своей изначальной принадлежности к какому-либо клану? В регионах, в которых я работал, большинство уже было христианами — и не только католиками. Было ведь много протестантских миссионеров. Изначального языческого оставалось уже очень мало. Многие получили свое развитие, потому что ходили в школу. В Ваших рассказах всё всегда выглядит очень гладко. Итак, Вам скоро исполнится 80 лет, и Вы примирились со своей жизнью. Иногда хорошо узнать от людей также об их заблуждениях и ошибках, потому что из этого тоже можно извлечь урок. И поэтому я спрашиваю себя, какие заблуждения были в жизни миссионера Берта Хеллингера? В Южной Африке все было гладко. Там я был просто вплетен в работу. Позже я курировал все школы епархии и проводил курсы по повышению квалификации учителей этих школ. К концу своей деятельности в Южной Африке я стал директором элитной школы для местных жителей в Марианхилле. Это была одна из лучших школ для местных жителей в Южной Африке. И это стало для меня еще одним важным опытом. Тогда же я познакомился с групповой динамикой. Она мне очень помогла и невероятно продвинула мое собственное развитие. Как получилось, что Вы вернулись в Германию, если Вам так нравилось в Африке? В то время я очень интересовался теологией и, в общем-то, находился на самом новом уровне её развития. Соответственно этому — преподавал теологию на своих уроках. В этой связи, меня стали упрекать в том, что я больше не преподаю в смысле церкви. Мой епископ прислушивался к этим упрекам. И тогда я сказал: «Если мне не доверяют, тогда я отказываюсь от всех своих обязанностей». Современная теология, что это означало в те времена? Моей специальностью было библейское учение. Благодаря современному толкованию многое проявилось в новом свете. Например, вся история Рождества Христова имеет мало общего с исторической правдой. То же самое касается, например, многих писаний Павла. Многие из них даже не он писал. Сегодня это всеобщее достояние. С сегодняшней точки зрения эти разногласия кажутся безобидными и отсталыми. В любом случае тогда я сложил с себя все свои обязанности. И, несмотря на это, Вам предложили место ректора духовной семинарии Марианхшглер в Германии? Это было странное противоречие. В Южной Африке я был наполовину еретиком, а в Германии я должен был давать образование будущим священникам. Так я вернулся в Германию. В это время я стал изучать психоанализ, так сказать, в смысле: «Вперед, к новым берегам». И я занялся вообще психотерапией. Моя жизнь продолжала органично развиваться. Частью этого является то, что я позже покинул Орден. Для кого Вы были еретиком в Южной Африке? Конечно, только для немногих. Но они были влиятельны. В то же время местное население очень хорошо ко мне относилось, меня любили. У меня была ясная позиция в отношении апартеида — было видно, что я не лицемерю. Я действовал так, как считал нужным, не приспосабливался и не набивался в друзья. В то время я, как миссионер, работал в другом «поле». Даже, если в те времена я ничего не знал о полях, я все-таки чувствовал, что не имею права вторгаться в другое поле. Белый — в черном поле. Как удавалось действовать без колониальных или миссионерских установок? Мы встречались и относились друг к другу со взаимным уважением. Я, как белый, никогда не хотел быть и говорить, как чернокожий. Они высоко ценили это. В то же время я многому у них научился. Я был исполнен уважения и многое впитал в себя. Что было для Вас таким впечатляющим? Во-первых, уважение, которое люди, живущие там, испытывают по отношению к своим родителям. Это очень сильно впечатлило меня. Еще уверенность, с которой матери там обходятся со своими детьми, является удивительной. Им не знакомы трудности с детьми. Они просто знают, что нужно детям. Матери всегда были расположены к детям. Что я еще впитал, так это уважение к другим людям. Там каждый может сохранить свое лицо. Или как, например, люди разговаривают друг с другом на собраниях общины. Они действительно живо обмениваются мыслями друг с другом до тех пор, пока не найдут решение. И этот способ обхождения друг с другом также меня сильно впечатлил. Вы являетесь человеком, который 55 лет своей жизни провел в созерцании, медитации, обучении и терапии. Что было самым важным для Вас в Вашей жизни? Для меня речь всегда идет о внутреннем росте. Мой опыт в Африке внес в это большой вклад. Как Вы реализовывали свой теологический интерес в Африке? Меня всегда интересовало то, как человек передает послание. И я кое-что сделал в этом направлении. Я подготовил для уроков религии много вспомогательных средств, а также много других вспомогательных средств, чтобы литургия была понятна. Еще я с помощью местных священников и учителей написал новые церковные песни на зулу — их поют и сегодня. В то время Вы были убеждены, что внутреннего роста можно достичь только при помощи христианской веры? Я быстро заметил, что другие люди тоже являются хорошими людьми. И что «быть хорошим» зависит не от одной только веры, а, прежде всего, приходит из жизненного опыта. Есть ли в Вашей жизни моменты, где Вы говорите: «Здесь я заблуждался, этот путь был ошибочным»? Вы встречали кого-нибудь, кто никогда не заблуждался? Мои заблуждения связаны с духом, а не с моим жизненным путем. Я, скорее, спрашиваю себя: «Есть ли вообще неправильный путь»? В Африке я чувствовал себя на правильном пути и никогда не сожалел о нём. В то время я думал, что навсегда останусь в Южной Африке, и у меня никогда не было намерений вернуться в Германию. Обстоятельства, так сказать, вынудили меня сделать это. Прощание было трудным для Вас? Мне никогда не было трудно прощаться. Я сразу же ориентировался вперед. В 1964 году Вы познакомились в Южной Африке с групповой динамикой. Это была Ваша первая встреча с миром терапии. Было ли это поворотной точкой в Вашей жизни? В любом случае это было важным аспектом в моем развитии. Подобные курсы организовывали англиканские священники. На эти группы приходили чернокожие, белые, индусы, мулаты, католики и протестанты, все учились вместе. Это были вселенские группы без расовых различий. В то время подобное было неслыханно. Почему? Все расы и конфессии собирались вместе в стране апартеида — невероятный опыт для меня. Здесь полностью отсутствовало представление, что людей делят по расам или религиям. Я был католиком, я еще не был знаком с англиканцами и не имел к ним никакого отношения. И в один прекрасный момент я попал туда и увидел, насколько они духовные — действительно духовные. Меня это очень впечатлило. В какой-то момент я заметил, что все мы сидим в одной лодке, и что совершенно не важными являются внешние различия в цвете кожи или в вере. В то время я жил в католическом, герметически закрытом обществе. Я до сих пор точно знаю, как это было, когда я приехал в Южную Африку и начал там получать свое второе образование. Я приехал из такого университета как Вюрцбург, где в конце 1950-х годов теологов уважали и высоко почитали. Это было привычно для меня. В Южной Африке я вдруг оказался одним из многих, и ко мне относились без всяких привилегий. В то время я еще считал, что действительно хорошим может быть только верующий человек. Потом я заметил, что некоторые профессора не были верующими. И это были такие хорошие люди! Это был первый важный поворотный момент, когда я вдруг понял: у каких представлений я был в плену! Когда я познакомился с групповой динамикой, я уже руководил крупной школой для чернокожих, выходцев из всей Южной Африки. «Люди или идеалы — что ты приносишь в жертву чему?» Групповая динамика Моим ключевым переживанием непосредственно на первом тренинге был вопрос тренера: «Что тебе важней?» «People or ideals? What do you sacrifice for what? Ideas to people or people to ideas»? То есть, что для тебя важней, люди или твои идеалы? Чем ты жертвуешь, ради чего? Людьми ради своих идеалов, или идеалами ради людей? Тогда мне стало ясно, что я в своей работе в качестве миссионера часто терял людей из своего поля зрения. Это понимание стало для меня решающим. С тех пор у меня всё поменялось в обратном направлении. Я сразу же на практике применил групповую динамику в школе. Это был для меня переход к терапии. Я вступил в пространство душевного опыта. Какой была Ваша работа до того? Вы были больше «женаты» на идеалах? Позиция церкви состоит ведь в том, что одна вера и одна мораль провозглашаются так, как будто они являются действительными для всех. Человека загружают тем, что он должен вести себя соответствующим образом для того, чтобы быть спасенным. После встречи с этими англиканскими тренерами человек опять попал в поле моего зрения, как самое важное. Я очень благодарен им. Как в Вашей работе проявлялось то, что Вы были заняты идеалами? Вы можете привести примеры? Могу Вам сказать, что во мне изменилось благодаря этому. Когда я вернулся в Германию, я вел в Вюрцбурге семинар, который готовил студентов к профессии священника. Для меня он больше не был прежним. Когда смотришь на людей, все меняется. Я посоветовал всем студентам, чтобы они наряду с теологией освоили еще какую-нибудь другую профессию для того, чтобы они были свободны в своем профессиональном выборе. Я больше не хотел «делать» из студентов священников, у каждого еще должна быть альтернатива для того, чтобы он мог на самом деле свободно выбирать. То же самое касается и психотерапии. Когда человек получает психотерапевтическое образование, иногда возникает опасность того, что он будет принесен в жертву какому-нибудь идеалу. Он должен вести себя определенным образом для того, чтобы соответствовать идеалу этой терапевтической школы. Он не имеет права от него отклониться. Но это относится ко всем профессиям. То оке самое касается юристов, врачей, учителей и т.д. Там часто бывает по-другому. У учителей или юристов, или врачей это скорее обучение тому, как делать то или иное, при этом ничего не надо менять в душе. В терапевтических школах специалист часто обязан придерживаться определенной точки зрения, и новый способ восприятия исключается или даже запрещается. Поэтому я не принадлежу ни к какой школе. Я время от времени хотел принадлежать к той или иной школе, но, слава Богу, мне это не удалось. Благодаря этому я свободен от сужения восприятия в сторону одной определенной области. Можно сказать, что Вы создали что-то свое. Не в качестве школы. Но благодаря своему пути Вы внесли вклад в то, что существует «школа». Это не мои школы, даже если они, возможно, носят мое имя. Я не создавал ничего собственного, я только следовал за своим пониманием. И ничего более! Я рассказал об этом понимании и продемонстрировал его применение. Вы распространили понимание. Это для меня слишком. Я рассказал о нем. В чем для Вас состоит разница? При распространении примешивается миссионерское рвение. В то время как при сообщении есть только сообщение. Это большая разница. В этом отношении я очень точен. Когда Вы вернулись в Германию в духовную семинарию в качестве ректора, Вы уже были не только миссионером и священником, но и специалистом по групповой динамике. Что это изменило? Я предлагал в Германии курсы по групповой динамике. В то время групповая динамика была в Германии делом новым. А у меня уже был большой опыт в этой области, и, прежде всего, в практическом применении. В скором времени я стал известен как специалист по групповой динамике и пользовался большим спросом. Благодаря этому у меня появилась новая опора. Я вдруг стал независимым от своего Ордена и церкви. В случае необходимости я мог самостоятельно зарабатывать деньги. Это было для меня важным и новым моментом. Учиться терапии в группе в качестве католического миссионера, да еще в начале 1970-х годов — это должно было быть как культурный взрыв. Сегодня нет ничего особенного в том, чтобы пойти на групповые занятия — это в порядке вещей. Но тогда, да еще и в Южной Африке, в качестве миссионера. Чему это Вас научило, что Вы узнали о самом себе? Я был частью группы. Я был зависим от нее и в то же время я имел на нее влияние. Мои представления о «Я» и о личной свободе в принятии решения были откорректированы. Это был важный процесс роста. Когда получаешь профессию священника, попадаешь в привилегированную, избранную роль, по крайней мере, это было так в то время. Легко теряешь связь с другими, потому что каким-то образом всегда стоишь впереди. В групповой динамике все по-другому. Ты находишься в середине. Ты вдруг становишься частью другого поля, в котором все одинаково важны. Это невероятно расширило мой духовный и душевный горизонт, когда я пошел на это и также применил в повседневной жизни. Чему Вы там научились относительно обхождения с людьми? Групповая динамика — это великолепный метод. Но успех очень сильно зависит от внутренней позиции ведущего. Каким образом? Вопрос состоит в том, обращен ли он к людям с любовью, болеет ли он душой за то, чтобы они развивались. Для меня это было важной вехой. Это до сих пор проявляется в том, как я веду группы. Я овладел умением. Новым умением. Как это проявилось в Вашей повседневной жизни? Однажды во время семинара ко мне подошли будущие священники и спросили — скорее в шутку и чтобы проверить меня, — что я скажу, если к ним в комнату придет женщина. Тогда это было предосудительно не только для будущих священнослужителей, но для них, конечно, в особой мере. Это было бы нарушением табу. Я сказал им; «Я с удовольствием разрешаю это, с условием, что вы сможете убедить в этом плане других участников семинара». То есть, я передал им ответственность, не взяв ее на себя. Они сразу же заметили, что их наглость не имела успеха. С другой стороны, они поняли, что не смогли меня «запрячь» в свою повозку. Другой пример. Мои начальники из Рима иногда давали мне определенные указания, которые я должен был передать студентам. Я сказал начальникам: «Приглашаю Вас самих сказать им это». Никто из них не приехал для того, чтобы самим это сделать. Итак, когда я видел у кого-либо попытки переложить на других свою ответственность, и распознавал приёмы, с помощью которых люди увиливают от своей ответственности, перекладывая её на других, я вёл себя соответствующим образом. Это избавило меня от кучи работы. «Я ухожу» Уход из Ордена Меня интересует вопрос, как продолжалось Ваше превращение в терапевта? Вскоре я заметил, что для моего внутреннего душевного развития групповой динамики уже мало, что мне нужно делать что-то еще. Я занялся психоанализом — сначала для себя, а потом продолжил в качестве образования. В этом не было конфликта с моим орденом, мне это было позволено, потому что я вел себя ясно, и я был финансово независим. Мое руководство в Ордене заметило, что в этом отношении у них нет никакой власти надо мной. Я жил в Вене и начал учиться психоанализу. Вы еще состояли в Ордене? Да, мне позволили сделать это. И кто это оплачивал? Оплачивал я сам. Я был специалистом по групповой динамике и был финансово независимым. К тому же в то время у меня еще было согласие моего начальства. Следующим важным шагом для меня была встреча с Рут Кон. В одной группе для терапевтов она немного рассказала о гештальт-терапии. В то время ни один человек не знал, что это такое. Она сказала, что "хочет нам это продемонстрировать и спросила: «Кто сядет на "горячий" стул?» Что такое «горячий стул»? «Горячий стул» — это стул для клиента, с которым работает терапевт. На нем человеку может стать очень даже «горячо». Итак, я сел на «горячий» стул, и Рут Кон сделала со мной прекрасную работу. С её помощью я заглянул в свое будущее. Мне стало совершенно ясно, что я покину Орден, сложу с себя сан священника и женюсь. Затем она попросила меня пройтись по группе и сказать кому-нибудь: «Я ухожу». Это было очень побудительно для меня. Я принял это решение тогда, но еще не пришло время для его выполнения. Около четырех месяцев я продолжал все делать как прежде, несмотря на мою уверенность в том, что работа в качестве священника для меня закончилась. Затем я поехал в Рим на курс по групповой динамике, который я должен был проводить для членов ордена. Там я встретил одного американского священника. Мы поговорили друг с другом и обменялись нашим опытом. Во время нашего разговора мне вдруг стало совершенно ясно — пришло время действовать. Еще находясь в Риме, я заявил о своем выходе из Ордена, и тогда все прошло быстро и четко. В скором времени я познакомился со своей женой, и мы решили пожениться. Я продолжил свое психоаналитическое образование, а также работу в качестве специалиста по групповой динамике. Через год я закончил свое обучение психоанализу, сдал все необходимые экзамены и переехал со своей женой в Германию, недалеко от австрийской границы в районе Зальцбурга. Там я присоединился к объединению коллег, занимающихся глубинной психологией. Незадолго до этого мне в руки попала книга Артура Янова «The primal scream» («Изначальный крик»). Я был поражен и сразу же испробовал его методы в своих группах по групповой динамике. Это произвело на меня сильное впечатление, и я думал: «Невероятно, какие это открывает возможности». В то время я должен был делать доклад в Зальцбургском объединении коллег, и я рассказал там об этой книге. Просто рассказал. После этого руководитель объединения коллег, профессор Карузо, позвал меня к себе. Он сказал мне, что я не могу больше оставаться членом их объединения, и что они не могут признавать меня в качестве психоаналитика. А затем — дословно: «Я, как епископ православной церкви, не могу принять кого-то из числа "людей Христа"». Таким образом, они меня выкинули. Это ведь был конец 1960-х, начало 1970-х годов? В то время «люди Христа» были первым христианским базисным движением. В то время они впечатляли многих. И на смену психоанализу пришли последователи Вильгельма Райка, представители 1968-го, и затем гуманистические формы терапии, составившие им огромную конкуренцию. Это немного похоже на то, как если бы Вы попали из огня да в полымя. Так оно и было. Затем я продолжил свои поиски. И долгое время мне было неясно, к чему они приведут. Но каждая форма терапии, с которой я впоследствии познакомился, обогатила меня. Я полетел в Америку и обратился к Янову для того, чтобы получить образование в области первичной терапии. Но еще до поездки в Америку, благодаря Фаните Инглиш, я познакомился с трансактным анализом. Она показала нам анализ жизненного сценария. Л что такое «анализ жизненного сценария»? Это понятие ввел Эрик Берн в рамках трансактного анализа. Он заметил, что каждый человек в своей жизни следует скрытому сценарию. Можно выяснить содержание этого сценария и затем изменить его. Сценарий скрыт в историях или сказках, которые трогают и задевают нас. Например, человек выбирает одну историю из своей жизни до пятилетнего возраста и одну за последние два года. Если сравнить эти две истории друг с другом, в них найдется что-то общее. Это и есть сценарий. Я испробовал этот метод в своих группах и весьма успешно. Анализ сценария наглядно описан в книге Эрика Берна: «Что Вы говорите после того, как сказали "Добрый день"?» («What do you say after you say hello?») А конкретнее, как выглядит анализ жизненного сценария? Вы можете привести пример? Одна участница в качестве первой истории, которая ее трогала, назвала песню «Добрый вечер, доброй ночи, покрытый розами». В качестве второй истории она назвала новеллу: «Черный паук». В этой книге рассказывается о том, как наркоманы в поисках наркотиков проникли на химический завод. Они опрокинули какую-то емкость, поднялось ядовитое облако и уничтожило все живое на обширной территории. Эта участница происходила из семьи, члены которой страдали от гемофилии. Три ее брата умерли от потери крови в возрасте нескольких недель. Песня «Добрый вечер, доброй ночи» была для нее похоронной песней для ее братьев. Я этого не знала. Я тоже пела ее своим детям. Правда, со своим собственным текстом. Как там поется? В последней строфе поется: «Добрый вечер, доброй ночи, охраняемый ангелами, которые во время сна трясут для тебя дерево младенца Христа. Спи спокойно и сладко, чтобы тебе приснился рай». В действительности, это похоронная песня, которую поют умершему ребенку. В сочетании со второй историей «Черный паук» на свет выходит сценарий этой женщины. Она в себе носит зародыш смерти и боится принести смерть другим. Она этого боится, потому что у нее было два сына. Так проявляется вся серьезность этого сценария. Как Вы в то время обходились с этим, не имея никакого понятия о семейных расстановках? Я спросил женщину о том, что говорит ее муж по поводу того, что она является носителем этой наследственной болезни. Она сказала: «Мой муж любит меня такой, какая я есть». «А сыновья?», — спросил я. «Они тоже любят меня такой, какая я есть». Она внутренне поблагодарила их за то, что они любят ее, хотя она передала этот зародыш дальше. Это был для нее большой шаг на пути выхода из сценария. Этот шаг сделал для нее возможным больше не смотреть на яд, а признать: так оно и есть, я соглашаюсь с судьбой такой, какая она есть. Эрик Берн предложил особые разрешающие фразы, которые выводят из сценария. Я тоже использовал их в группах. Но через некоторое время это стало для меня слишком зловещим. Тогда я перестал это делать, хотя фразы, которые приходили на ум, были на самом деле хороши. Намного позже, в семейных расстановках, я опять стал использовать фразы. Что тогда было в них зловещим для Вас? Когда я делал это, я брал на себя что-то, что было для меня слишком большим. Поэтому я отошел от такого способа их использования. Много лет Вы использовали анализ жизненного сценария. Чему еще, кроме фраз, Вы научились там для работы с семейными расстановками? Через некоторое время я заметил, что некоторые из этих сценариев не являются индивидуальными, что они связаны не с личным опытом, как в том примере, который я привел. Эрик Берн исходил из того, что сценарии формируются в детстве из-за негативных посланий родителей, из-за, так называемых, «Injunctions» («директив», «указаний»). И я заметил, что это не совсем так. Большинство сценариев переняты от других членов семьи. Они появляются из переплетений. То есть сценарии переняты от кого-то другого, а не от родителей? Как Вы это заметили? Пример: у меня в группе был один участник, сценарием которого был Отелло. Но ребенок сам не может знать, что содержит в себе Отелло. Тогда я спросил у него: «Кто в твоей семье кого убил из ревности?» И он ответил: «Мой дед убил своего соперника». Так мне стало ясно: многие сценарии связаны с чем-то другим, с тем, что произошло в семье. Это был для меня первый шаг к пониманию переплетений. Поэтому анализ жизненного сценария был для меня важной вехой. Что Вам дал психоанализ? Благодаря психоанализу у меня в крови есть умение правильно обходиться с сопротивлением или проекциями. В этих случаях я действую, не раздумывая. Во время моей учебы психоанализу я за один год с большим успехом прочитал всего Фрейда. От корки до корки. Это большая работа. Но по сравнению с психоанализом анализ жизненного сценария является намного более широким, очень ярким, многогранным и богатым. Благодаря этому результаты познания жизненных судеб были для меня несравнимо более глубокими, чем этого можно достичь при помощи психоанализа. «До 50-ти я не чувствовал себя целостным». Вехи развития В групповой динамике Вы познали себя как индивидуума в группе и познакомились с тем, как обходиться с группами. В психоанализе Вы вернулись к индивидуальной истории жизни, анализ жизненного сценария открыл Вам глаза на переплетения. А какую роль играла для Вас терапия изначального крика? Я был пять месяцев у Артура Янова (Дженова) в Лос-Анджелесе и еще четыре месяца у одного из его учеников в Дэнвере. Я с начала до конца насладился первичной терапией. Это было для меня невероятно важным опытом, но все равно я заметил, что это ведет к «узкому месту». Существует опасность того, что человек застрянет в регрессии и не будет расти дальше. Хотя большая часть этих чувств очень драматична, но они не имеют силы. Сейчас я их называю вторичными чувствами. Но это я понял только позже. Как конкретно это тогда проходило? Человек ходил по два раза в неделю на терапию? Нет, нет, каждый день я ходил в центр и проводил там много часов. Человек возвращается в свое детство и к своим чувствам в детстве. Терапевт помогает человеку в этом. Под его руководством человек выражает эти первоначальные чувства громким и сильным криком. Это имеет освобождающее воздействие до тех пор, пока чувства важны. Но при определенном упражнении можно туда также врасти. Тогда эффект становится противоположным. Это поддерживает регрессию и препятствует прощанию с детством. Вы на протяжении девяти месяцев каждый день ходили туда и кричали? Это ведь невероятно долго, ISO дней. Это соответствует какой-нибудь многолетней терапии? Так оно и было. Я принял всю эту процедуру. Потом я заметил: сейчас это больше ничего не дает и может легко превратиться в театр. Как Вы это заметили? Когда у клиента был день рождения, он или она получал (-а) торт. И тогда он, конечно, должен был плакать. И почему это? Это было обязательно. Потому что сейчас он получил что-то, чего он в детстве не получал. Однажды одна женщина получила после занятий такой торт. Она была терапевтом, и плакала она душераздирающе. После этого я подошел к ней и спросил: «Вы ведь играли?» Она сказала: «Да, ведь здесь так принято». Это было как кодекс поведения, который уже не имел ничего общего со свободой и ростом. Позднее я сам предлагал первичную терапию. Исходное представление и указание состояли в том, что такая терапия должна длиться девять месяцев. Я ее сразу уменьшил до четырех месяцев. Как Вы работали? В группах? Один уикэнд в месяц? Нет, нет, каждый день, кроме субботы и воскресенья. Это показывает, как изменились времена. Сегодня вряд ли кто-то пошел бы на это. Что соседи говорили по этому поводу? У меня в доме был звуконепроницаемый подвал. Я специально построил свой дом таким образом, чтобы там можно было проводить первичную терапию. Каждый день мы проводили групповые занятия для десяти участников на протяжении трех часов, а затем моя жена и я, каждый еще по два часа индивидуальных консультаций. Мы провели два курса первичной терапии, каждый по четыре месяца. Затем мы подумали: четырех недель будет достаточно. И мы проводили занятия два раза в год по четыре недели. С тем же эффектом. Позже я стал комбинировать первичную терапию с анализом жизненного сценария. В итоге во время пятидневного курса по анализу жизненного сценария я оставлял один день на первичную терапию. Со временем я заметил, что основная первичная боль проистекает из рано прерванного движения любви — оно всегда играло большую роль в первичной терапии. Терапевт помогает клиенту еще раз пройти процесс рождения. Затем он помогает ему в процессе движения к матери, а затем к отцу, и, собственно говоря, это было все. Позже я понял, что важные проблемы клиента, с одной стороны, имеют системную подоплеку, а с другой — имеют отношение к личным травмам. Для работы с системным я предлагал семейные расстановки, для работы с личной травмой — первичную терапию. Вы очень долго занимались терапией. Психоанализ, гештальт-терапия, первичная терапия — зачем Вам это вообще нужно было, если Ваша жизнь текла так гладко? Те формы терапии, которые Вы выбирали, способствовали самопознанию? Все эти терапии я испытал на себе. Не потому, что я хотел передать их дальше. Это было для меня как новое послушничество, которое длилось долгое время, до тех пор, пока я не понял себя. До 50-ти лет я не чувствовал себя целостным. Я был еще в поиске. Только после 50-ти я разобрался в себе. Какие вопросы стояли перед Вами в этом длинном терапевтическом процессе? Я шел на это, не имея вопросов. Я просто пошел навстречу этому. Я хотел учиться, хотел заняться самопознанием, хотел понять, что со мной происходит. Если что-то мне не подходило, я сразу же прекращал это. Если человек обращается к Вам как к терапевту и говорит: «Я хочу только испробовать чтонибудь». Разве Вы не спросите его: «Есть ли у него сила?» Ведь к терапевту приходят с запросом? Для меня это было личное обучение — без ясных вопросов. Ясно сформулированные вопросы в любом случае не являются подлинными вопросами. Я сразу же замечал, задевает ли меня что-то. Отчетливей всего это было с анализом жизненного сценария. Это меня воодушевило, я почувствовал: здесь возможно развитие — в то время я сам был еще незрелым. С первичной терапией сначала все было так же. Но в один прекрасный момент я почувствовал: это осталось в прошлом. Как только что-то становится школой, и человек должен учиться и осваивать определенные каноны поведения, как только человека начинают контролировать, что-то умирает. Тогда я пошел дальше. Это значит, что из огромного числа новых форм терапии и инновационных подходов мышления, которых было навалом как раз в 1970-е годы, Вы брали для себя то, что было для Вас интересно? Точно. Я испробовал это на себе, с другими и на других и углубил это. Отсюда вытекает мой ценный принцип — никаких сертификатов и никакого членства в союзах и объединениях. Это меня никогда не интересовало. И поэтому сейчас появляются некоторые «критические психологи», которые сами никогда не отдавались процессу самопознания и ничего не понимают в гуманистических формах терапии, и начинают ругать «эзотерическое» и кричат на всех углах: «У Хеллингера нет ни одного сертификата!» Это не лишено определенного комизма. Так и есть. Вы занимались также гипнотерапией по Милтону Эриксону и НЛП. Что вам так понравилось у Эриксона? Меня впечатлило уважение к клиенту и то, что он следует за движением клиента. Вы имеете в виду за телесными движениями? Да. Я многому научился у него. Например, если человек что-то рассказывает и при этом легко качает головой, то часто то, что он говорит, неправда. Или он кивает, а в заключение отрицает все, что я сказал. Тогда я понимаю, что я попал в точку. Или человек отодвигается немного назад, или в семейных расстановках один человек смотрит мимо другого. Тогда я знаю, туда нужно кого-то поставить. То есть такие мелкие движения часто являются самыми важными. И Милтон Эриксон сразу же соглашался со всем, что показывал клиент. Он обращал внимание на самые мелкие сигналы тела и считывал с них подлинный запрос клиента. Ведь часто это было что-то совершенно иное, чем то, что говорил клиент. И он вел его обходными путями, сразу не показывая, куда ведет путь, к тому, что отвечало глубинным потребностям клиента. Можно немного подробнее? Что Вы имеете в виду под обходными путями? Например, однажды к нему пришла одна пара, потому что у них были проблемы. Эриксон ничего не сказал. Он отправил их в горы. Когда они вернулись, он спросил их: «И как это было?» Мужчина сказал: «Прекрасно. Этот вид, этот ландшафт». А жена возразила: «Как ты можешь такое говорить, ведь было ужасно скучно». Эриксон ничего не сказал по этому поводу и отправил их домой. Через две недели они развелись. Это типично для Эриксона. Как Вы относитесь к гипнотерапии? Используете ли Вы ее сегодня? Редко, но иногда это возникает как будто само по себе. Например, у меня был в Шанхае курс в одной психиатрической клинике. Неожиданно рядом со мной сел мужчина и сразу же погрузился в глубокий транс. Через пятнадцать минут он открыл глаза и поблагодарил меня. Не было произнесено ни единого слова. Я часто говорю однотонным голосом, который способствует собранности, и я использую только простые слова. И этому я тоже научился благодаря Эриксону. • НЛП, в принципе, является комбинацией «лучших практик» разных терапевтов. Чему Вы научились там? В НЛП учатся выводить из застоя застопорившуюся позицию и сопровождающие ее внутренние образы при помощи минимальных изменений. НЛП — это, прежде всего, прикладная и расширенная гипнотерапия. Я сам проводил курсы по НЛП и даже написал целую книгу, руководство по НЛП, главным образом, с историями. Я никогда ее не публиковал. Благодаря гипнотерапии и НЛП я научился использовать истории в терапевтическом контексте. Как Вы находите терапевтические истории? И что Вы имеете в виду, когда говорите, что используете их в терапевтическом контексте? Большинство терапевтических историй приходят мне в голову спонтанно в какой-то определенной ситуации. На одном семинаре, например, человек рассказал, что у него астма. В ответ на это я рассказал ему следующую историю: Живет человек в своем маленьком доме, и с годами в комнатах накапливается великое множество всякого хлама. Не раз к нему приходили гости и приносили с собой свои вещи, и, отправляясь дальше, так и оставляли у него некоторые чемоданы. Такое ощущение, что они все еще здесь, хотя уже давным-давно ушли, и ушли навсегда. Хранится в доме и накопленное самим владельцем. Ничто не должно кануть в прошлое, ничто не должно пропасть. С поломанными вещами тоже связаны воспоминания, поэтому они остаются здесь и не дают места чему-то лучшему. Только когда хозяин уже почти начал задыхаться, он принялся за уборку. И начал с книг. Есть ли у него желание по-прежнему рассматривать старые образы и разбираться в чужих наставлениях и историях? И он выбрасывает из дома все, с чем давно уже покончено, и в комнатах становится светло и легко дышать. Затем он открывает чужие чемоданы и смотрит, нет ли там чего-нибудь, что может ему пригодиться. И обнаруживает несколько настоящих драгоценностей, которые откладывает в сторону. Остальное он выносит на улицу. Он бросает все это старье в глубокую канаву, аккуратно засыпает землей и поверх засеивает травой. Как это происходит, что Вы вдруг рассказываете историю? И почему Вы любили их рассказывать? Потому что я заметил, насколько элегантными и насколько эффективными являются истории. Сначала я подумал, что хочу научиться делать это. Но я не умел. Тогда я пошел на один семинар. Вдруг кто-то сказал: «Так расскажи же нам какую-нибудь историю». И мне на ум пришла история о большом и маленьком Орфеях. Она была опубликована под названием «Два рода счастья» в моей книге «И в середине тебе станет легко». И после этого плотина была прорвана. С тех пор я нашел и рассказал много историй. Собственных? Да, конечно. Они просто приходили в голову. Но часто я рассказывал их не тем, кому они предназначались, а всем. Однажды в группе, в которой я принимал участие, руководительница рассказывала метафору для каждого в отдельности. Моя мне совершенно не подходила, но подошла история, которая предназначалась кому-то другому. Поэтому я часто рассказываю истории, ничего не говоря об этом тем, для кого я это делаю. Они для всех. Раньше, когда я, порой, на каком-нибудь семинаре злился, я тоже рассказывал истории. Мстительные истории. Это элегантный способ отомстить. Например, история о прокаженном, который пришел к целителю, а тот не заботится о нем и говорит ему: «Искупайся в Иордане». Он сделал это, приехал домой и сказал своей жене: «Я снова здоров, я искупался, а в остальном не произошло ничего особенного». Тогда все усмехаются. Или история о помощи. Я иногда рассказываю: «Иисус сказал одному человеку: «Встань, возьми свою постель и иди домой». Но тот ответил: «Нет, я не хочу». На что Иисус сказал своим ученикам: «Возможно, есть Бог более уважаемый, чем я». Это история о том, насколько важным является сопротивление, и что я его уважаю. Не существует помощи любой ценой. Говорят, истории гораздо быстрее находят путь к бессознательному, чем многое другое. Как точно воздействуют подобные истории? И почему это иногда лучше, чем давать много советов? У родителей, например, бывают проблемы с тем, что их уже подросшие дети мочатся в постель. Таким детям можно рассказывать истории, в которые вплетают маленькие сцены о том, как закручивается водопроводный кран, или ремонтируется водосточная труба. Например, Красная Шапочка приходит к бабушке, хочет зайти в дом и замечает, что протекает водосточная труба. Тогда она говорит себе: «Сначала я приведу это в порядок». Она идет в сарай, берет там немного дегтя, ставит лестницу, забирается наверх, ремонтирует водосточную трубу, чтобы не капало на крыльцо, и тогда заходит в дом к бабушке. Или к Белоснежке, которая живет у гномов, утром приходит один из гномов и жалуется, что ночью во время дождя на него капало с крыши, и что он утром проснулся совершенно мокрый. Белоснежка сказала ему: «Я первым делом приведу это в порядок». Когда гномы были на работе, она взобралась на крышу, увидела, что только одна черепица сдвинулась с места, поставила ее на место. Когда вечером гном вернулся домой, он был настолько уставшим, что совсем забыл спросить о крыше. Утром он тоже забыл спросить, потому что все было в порядке. Отец одной девочки, которая мочилась в постель, рассказал ей вечером такие сказки, и они сразу же подействовали. На следующее утро ее постель была сухой. И при этом он заметил еще коечто необычное. Раньше, когда он рассказывал своей дочери сказки, она всегда точно следила за тем, чтобы он всегда рассказывал их одинаково, ничего не прибавляя и не пропуская. Но, когда он отклонился в этот раз, она не протестовала, а восприняла все как само собой разумеющееся. Это показывает нам, что знающая душа ребенка переплетена с рассказчиком. Душа хочет найти решение, чтобы ей на него не указывали напрямую, так, чтобы ребенок мог делать что-то новое с позиции понимания и ободрения. Конечно, ребенок воспринял то, что сказал отец, иначе это не имело бы никакого воздействия. Но так как отец не назвал проблему прямо, он с уважением отнесся к стыду ребенка. Ребенок чувствовал, что его уважают, что отец обращается с ним бережно, и смог отреагировать. Ведь ребенок знает, что он мочится в постель. И нам не нужно рассказывать ему об этом. И он также знает, что он не должен мочиться в постель. И ему не нужно рассказывать об этом. Если мы будем давать ему советы или тыкать его носом в его проблему, он будет чувствовать себя повергнутым. Если он последует совету, самооценка у родителей поднимется, а у ребенка она упадет. Ребенок защищает себя от потери чувства собственного достоинства тем, что он отвергает совет. Как раз потому, что мы дали ему совет, он должен сделать все наоборот, чтобы защитить свое достоинство. Достоинство — это самое важное для каждого человека, в том числе и для ребенка. Только если ребенок чувствует в совете глубокую любовь, он может с удовольствием последовать ему. Это, что касается историй. Они помогают людям сохранить свое чувство собственного достоинства, и при этом что-то исцеляется. Вы ведь также занимались семейной терапией и посещали в Америке семинары Лес Кадис и Рут Мак Клендон. Там тоже расставлялись семьи? От случая к случаю. Тогда я подумал: за этим будущее. Но сначала я продолжал работать с группами, как и прежде. А через год это переросло в семейную терапию, и я напал на след семейных расстановок и стал развивать их дальше. Вдруг все каким-то образом соединилось. «Мне отказывают в праве на ошибку» О работе перед большой аудиторией, прояснении запроса и обхождении с иммигрантами «Рост требует противостояния» О жесткости в терапевтическом процессе Многие считают Ваше обхождение с клиентами порой излишне жестким. Как Вы объясняете себе протесты против Вашего стиля работы. Многие понимают духовный рост только односторонне: что для роста необходимо питание. Для роста требуется питание, а также противостояние. Любой рост происходит при преодолении противостояния. Терапевт, который избегает противостояния, потому что он хочет быть милым, является самым жестоким. Рядом с тем, кто идет на противостояние, клиент может расти. Возможно, он может на него злиться, — многие злятся на меня. Некоторые из них пишут потом через два года письма и благодарят меня за это. Это пример, касающийся индивидуальной работы. Я имею в виду большую группу. Раньше Вы работали в маленьких группах два-три дня. Клиент имел возможность несколько раз поработать с Вами. Иногда Вы в первый день работали с кем-нибудь, вступали с ним в конфронтацию или прерывали расстановку, и таким образом запускали процесс. На второй или на третий день он снова выходил для работы, и процесс приходил к своему завершению, становился законченным. Сейчас уже долгое время все по-другому. Есть ли разница в том, когда Выработаете с 500участниками или с 40-ка? Когда я работаю перед большой аудиторией, я работаю более сосредоточенно. И я прерываю работу, когда замечаю, что ничего не получается, даже если у меня больше не будет возможности еще раз взять этот случай. Хотя это выглядит жестко, однако это шанс для клиента. Если бы я не делал этого, я потерял бы свою силу и свою достоверность. Я не буду приносить это в жертву какому-то критику или какому-то представлению о том, что кого-то это может шокировать или раздражать. Когда я работаю, я совершенно забываю о публике. Я работаю с тем, что требуется для души клиента, и не делаю ничего сверх того. Как это воспринимают другие, совершенно другое дело. Два года назад я работал в Вюрцбурге с одной женщиной из Эритреи. Я сказал этой женщине, что ей нужно вернуться в Эритрею. Некоторые сказали: Как он может говорить такое? Это враждебно по отношению к иностранцам. Эта женщина жила в Германии! Терапевт Петер Левин, специалист по работе с травмой, сидел в первом ряду, и он сказал одному моему другу: В тот самый момент, когда я это сказал, он увидел движение энергии от ягодиц вверх. При помощи моей интервенции произошло исцеление травмы. Это выглядит жестко сказать человеку: «Ты должен вернуться в свою страну», но именно это запустило что-то. Терапевт этой женщины позднее написала мне, что за это время она много раз летала в Эритрею. То есть, она опять наладила связь со своей родиной. Есть ли разница в том, скажете ли Вы: « Ты должна вернуться в Эритрею», или если Вы скажете: «Наладь контакт со своей Родиной»? Прикиньте сами: Сколько силы есть в первой фразе и сколько — во второй? Нет, она, конечно, должна вернуться. Это совершенно ясно. И если она согласится с тем, что должна сделать это, тогда что-то изменится в ее душе. Но ей не нужно буквально делать то, что я говорю. Может быть, тогда Ваша фраза «Ты должна вернуться в Эритрею» является всего лишь большим недоразумением? Это не является недоразумением, потому что я именно это имел в виду. Водной книге Вы сказали: «Иногда люди, которые отвернулись от своей Родины, могут выздороветь только в том случае, если они вернутся на Родину и будут готовы разделить судьбу своего народа», И затем Вы сказали: «Некоторые сбегают оттуда и пытаются найти себе другую Родину, которая совсем не является их Родиной, и которой они совершенно не нужны. На основании какого опыта, Вы пришли к подобному заключению? Я встречал людей, которые перебрались сюда и заболели. Я наблюдал, что их болезнь связана с тем, что они отвернулись от своей Родины. В принципе это означает, что они отвернулись от своей матери. Я рассматриваю это системно. И я отношусь эмпатически к их Родине и их матери. Я слежу не только за тем, чтобы лично человек чувствовал себя хорошо. Я держу его страну в уме. Тогда я ставлю, например, Германию и Родину и наблюдаю за движениями. Часто они чувствуют себя хорошо только на Родине. То есть из расстановки становится ясно, что они должны вернуться на свою Родину. Тогда я говорю то, что сказал женщине из Эритреи: Ты должна вернуться на Родину. Недавно у меня была женщина из Косово, чей муж сидит в тюрьме, потому что он преступник. Я сказал ей: «Ты должна вернуться в Косово. Только там ты и твои дети будут на самом деле в безопасности. Вы должны это сделать». Я слышал, она вернулась на Родину. Женщина получила силу. «Я не говорю, что иммигранты должны вернуться на Родину» Как Вы пришли к такому однозначному выводу? Мы, люди, можем раскрыться только в определенном поле, в том поле, к которому мы принадлежим. Конечно, есть случаи, когда человеку приходится уехать. Я также не говорю, что иммигранты должны вернуться к себе. Но я вижу: некоторые люди заболевают, потому что они уехали, они чувствуют себя плохо или не интегрируются в другой стране. Мир велик, и глобализация открывает его все больше. Ведь это часть нашей свободы? Человек должен нести вместе с другими судьбу своей собственной группы, точно так же, как он должен нести судьбу своей семьи. Этого нельзя избежать. Когда человек несет ее, он растет и, конечно, приобретает Родину. Давайте, еще раз вернемся к Вашему примеру. Зрители слышат только то, что Вы говорите, но они не видят то, что увидел специалист по травме. И, конечно, есть разница в том, стоит ли человек, как Вы, в поле расстановки, является ли он в ней заместителем, сидит ли он непосредственно в ближнем круге, в первом ряду в зале, в последних рядах или смотрит видеозапись. В какой-то момент энергия поля больше не доходит. Многие вообще не смотрят. У них есть представление: нужно быть дружелюбными к иностранцам, помогать им в том, чтобы они остались здесь и т.д. И они совершенно не видят, что я помогаю женщине. Мой способ является для них красной тряпкой. Я не могу обращать на это внимание. Я имел в виду именно то, что сказал: «Ты должна вернуться в Эритрею». Как это выглядит на практике, зависит от обстоятельств и от много другого. Но, несмотря ни на что, это «заякорилось» в душе: «Я должна вернуться на Родину». Это исцеляющая интервенция. Почему Вы работаете перед такой большой аудиторией? Когда я впервые работал с большой группой, я планировал провести семинар для 35 участников, и вдруг пришло 350 человек. Тогда я начал работать перед такой аудиторией, и это было классно. Я бы никогда не сделал это по своей воле. Иногда человека толкают на что-то. Там я увидел, что это возможно. С теоретической точки зрения это было невозможно. А мне показали, что я могу на это отважиться. Каждый контекст является шансом, и он устанавливает границы. И я спрашиваю тех, кто говорит, что я не имею права работать перед большим количеством людей, что это уж слишком: «Что стало бы с семейными расстановками? Знали бы о них, если бы я продолжал работать в маленьких группах?» Взглянув на это целостно, становится понятно, что подобный способ работы был решающим прорывом. И то, что некоторых это раздражает, относится к риску. Для меня это не является риском. «Я работаю со всей группой» Я спрашиваю себя: есть ли для клиента защищенное пространство, или это публичное пространство? Что происходит, когда терапевтическое пространство становится публичным? Тогда что — терапевтическая интервенция вдруг становится политическим высказыванием? И вдруг это превращается в то, что: «Хеллингер говорит, что иностранцы должны вернуться на свою Родину...» Этот вывод нельзя воспринимать как закон. Он был действителен для конкретного случая. В других случаях все по-другому. Я не обобщаю это. В подобных случаях я работаю со всей группой, не с одним человеком, как это многие воспринимают. Это недоразумение. Я не хочу демонстрировать людей. Я работаю с ними, всегда держа в поле зрения всю группу. Все одновременно могут чему-то научиться. Они внутренне находятся в движении и, возможно, решают собственную проблему, не делая расстановки. Даже если это 1500участников? В Вюрцбурге было 2300 человек. Нельзя сказать, что это норма, я бы сказал, что 500 человек — приемлемое число. Все остальное — это исключение. Вернемся еще раз к слову «демонстрировать»: Есть ситуации, в которых Вы говорите публике: «Видите, что он сейчас делает?» Вы говорите с публикой о своем клиенте. Для многих это скандально. Это групповая динамика. Я использую группу как инструмент. Таким образом, клиент попадает под огромное давление. Это целенаправленное, терапевтическое мероприятие. Группа знает: здесь не играют. Когда я представляю себе, что сижу там впереди как клиент, меня бы это невероятно напугало. Я сразу же почувствовала бы себя в публичном, а не в терапевтическом пространстве. Потому что я ведь хотела бы попасть не на групповую динамику. Я не привожу клиентов в эту группу. Они сами приходят в эти группы. Берта Хеллингера практически невозможно увидеть где-то еще, кроме как в больших группах. Как бы то ни было, приходя ко мне, человек идет на этот риск. Он знает, что это публичная встреча. Впереди меня шествует репутация о том, что я так делаю. И есть разница между тем, как клиентка реагирует в данный момент, и тем, что затем происходит в ее семье. Это я тоже держу в поле своего зрения. Нельзя оценивать расстановочную работу только с точки зрения настоящего момента. Даже если клиент, возможно, разозлился. Иногда так проявляется истинное лицо — люди показывают себя «сладкими» или жалкими, и когда я противопоставляю им своё видение (конфронтирую), они вдруг становятся агрессивными. Иногда я делаю так для того, чтобы другие это увидели. То, что я иногда захожу слишком далеко, — ну, хорошо, это бывает. Что, я единственный должен быть совершенным? Это бесчеловечно. Мне отказывают в праве на ошибки. «Я не делаю политических заявлений» Итак, насколько я Вас поняла, терапевтическое пространство не является для Вас вопросом количества. Существует представление, что терапия проходит в отдельном помещении или, возможно, в группе от 15 до 30 человек. Вы расширяете терапевтическое пространство до публичности. Туда приходят разные люди, мнения, идеологии, и вдруг больше нет различий между душевным процессом и идеологией, между, возможно, исцеляющими интервенциями и политикой. Тогда люди говорят: Хеллингер враждебно настроен по отношению к иностранцам, потому что он говорит, что они должны вернуться домой. Хеллингер враждебно настроен против женщин, потому что он говорит, что женщина следует за мужчиной и что женщина является соучастником изнасилования. Хеллингер патриархален, потому что дети должны почитать и уважать своих родителей, Хеллингер антисемит, потому что он говорит, что жертвы связаны с преступниками, и он нацист, потому что он говорит, что Гитлера тоже вела какая-то Большая Сила. Эту критику высказывают люди, которые не захотели или не смогли войти в терапевтическое поле — которые не смогли интегрироваться в Вашей большой группе. Обнаруженные Вами и другими системные параметры, такие как порядок, привязанность и уравновешивание превращаются в нормативные предписания для отдельно взятого человека. Так терапевтические интервенции превращаются в политические высказывания. За этим стоят идеологии. Я не делаю политических высказываний. Я делаю свою работу и позволяю вести себя тому, что я вижу в расстановке. «Я не механик». Прояснение запроса Из лагеря терапевтов можно услышать критические вопросы: «Куда у Берта Хеллингера девалось прояснение запроса? Кто является Вашим заказчиком, когда к Вам приходит клиент? Куда девается Ваше прояснение запроса, когда Вы, например, говорите клиенту, что ему ничего не нужно Вам говорить, что Вы поймете, о чем идет речь?» Если я буду прояснять запрос принятым способом, я буду как проститутка. Приходит человек и говорит: «Я требую этого, за это я плачу». Что это за образ терапевта, его достоинства, его компетентности? Приведу пример. Во время моего доклада, в перерыве, ко мне подходит семейная пара и спрашивает, смогу ли я с ними поработать. Я посмотрел на женщину и сказал: «Ясно, что женщина хочет уйти». Я понял это. Она говорит: «Да», и мужчина тоже подтверждает это. Много лет они были счастливы в браке, а потом за его мамой потребовался уход, и он взял её в свою семью. С тех пор между мужем и женой испортились отношения. Я спросил, что произошло в ее родительской семье. У нее был брат-инвалид, который рано умер. Я спросил: «Вы хотите поработать со мной?» Позже она поднялась на сцену. Какой у меня сейчас был заказ? Вы, вообще, можете мне сказать, какой у них был заказ? Или в чем состояла проблема? Они не могли. Но Вы спросили, и проблема выкристаллизовалась, так что Вы смогли сделать расстановку. Но это нечто другое, чем когда Вы говорите: «Мне совсем не нужно спрашивать, я и так уже знаю». Клиент приходит ко мне, потому что он считает меня компетентным. Я не просто исполнитель, я не механик, который ремонтирует автомобиль. Клиент ждет от меня другую компетентность, например, что я вижу из того, чего он не видит. Но все-таки относительно его запроса? Запрос! Каждый знает, что тот запрос, который формулируется, не является истинным запросом. Если я остановлюсь на том, что он мне говорит, я не займусь тем, что находится за этим. Так часто начинается игра между клиентом и терапевтом. И это обречено на провал, потому что речь идет не об истинном запросе. Первой компетентностью терапевта является то, что он насквозь видит эту игру. Если он видит ее насквозь и говорит об этом клиенту, а тот не хочет это признавать, тогда клиент может уходить. Но многие остаются, и они благодарны за то, что на свет вышла тема, лежащая за запросом. Вопрос состоит в следующем: могу ли я доверять своему восприятию или кто-то может сказать: «Ну, хорошо, я обведу тебя вокруг пальца». Многие приходят, и я вижу, что они совсем не готовы делать что-то. Тогда я говорю: «Я не могу с тобой работать*. У меня в Голландии был такой пример. Пришла одна женщина и сказала, что ее сын шизофреник. Я сказал ей: «Дело не в сыне, на самом деле это ты шизофреник». Это ее возмутило. Я сказал: «Хорошо, тогда я прерву работу». Через несколько часов она опять обратилась ко мне, но она уже изменилась. Тогда я поработал с ней. Часто я моментально понимаю, переносит ли человек свою проблему на другого, принимает ли он вызов или, возможно, он хочет использовать меня в своем переносе. Вопрос состоит в следующем: могу ли я позволить ввести меня в заблуждение? Должен ли я остановиться на его определении проблемы? Тогда это было бы подтверждением заказа с его стороны. Или я могу увидеть игру насквозь и отказаться от нее? Когда человек приходит с запросом, который Вы увидели насквозь, ведь он все-таки пришел. Кто знает, всегда ли человек осознает, что он делает? Есть только одно решение. Состоит оно в том, чтобы я доверял своему восприятию, нес свою ответственность, и конечно, иногда заблуждался. Другого пути для меня не существует. Во время операции нож находится только у одного, и он должен вести операцию. Поэтому все эти утверждения, что кто-то должен был сделать по-другому, несут только видимость служения на пользу клиенту. В действительности, они оказывают плохое воздействие. В этой сфере есть только одно решение: я уважаю другого человека в том, что он делает, и я также уважаю себя в том, что я делаю. Но Вы своим, часто не терпящим возражения, способом работы пугаете многих людей. Если я поставлю себя на службу этим людям для того, чтобы удовлетворить их, тогда я больше не буду тем, кем я являюсь. Все эти требования направлены на то, чтобы я действовал противоположно своему внутреннему видению, чтобы кому-то понравиться. Я не готов идти на это. Что бы Вы сделали, если бы кто-то пришел и сказал: «Я хочу сделать семейную расстановку и больше ничего». Я сказал бы: «Пока что я не буду этого делать». Он пытается использовать меня. Терапевт же находится на уровне за пределами оказания услуг. В терапевтическом контексте — я прихожу, плачу и хочу услугу. То есть, ты обязана слушать меня один час, потому что я заплатил? Ведь это все искажает. Тот, кто платит, получает контроль и говорит: «Сейчас делай так, как я хочу». Но тогда больше нет никакой терапии -— и уважения тоже. В поле зрения терапевта находится кое-что другое, например, семья клиента. Тогда всё сразу же меняется. И он приходит к Вам именно потому, что знает, что Вы так работаете? Многие приходят потому, что хотят получить подтверждение своей проблемы, а также потому, что хотят узнать, что ее нельзя решить. Например, многие больные раком занимают в душе подобную позицию. Тот, кто примет участие в подтверждении этого тайного желания, у того нет любви. «Я не борюсь с сопротивлением». Прерывание работы Благодаря тому, что клиент смотрит на расстановку со стороны, часто минимизируется сопротивление против изменений. Проявляется что-то, на что раньше не смотрели. Таким способом клиенту показывают что-то важное. После этого становится видно, есть у него сопротивление или нет. Если он противится этому, тогда я прерываю работу, потому что мне не нужно идти против его сопротивления. Если клиент видит что-то, но внутренне еще не готов сделать это, или у него внутри нет на это разрешения его системы, я уважаю это и ничего больше не делаю. То есть прерывание является не наказанием для клиента, а интервенцией? Точно. Иногда это действует иначе. В этом нет моего умысла. Одна клиентка в Берлине сказала после расстановки: «Это не было моим запросом». Вы ответили: «Перед лицом такой расстановки — как банально!» Я еще раз просмотрел эту интервенцию по видео. То, что я сделал, было абсолютно корректно. Она хотела увести меня в сторону. Речь шла о большой расстановке русских и немцев. Когда она сказала, что это не было ее запросом, она отомстила мне за то, что я вынес кое-что на свет. Это была часть игры. Можно также сказать, что Вы вышли за пределы заказа, Вы пошли дальше, чем мог идти клиент. Какой смысл это имеет для клиентки, если она не может больше следовать за расстановкой? В Берлине речь шла об отце этой женщины. Он покончил с собой. Он женился на жене своего друга, который погиб на войне, и последовал за этим другом. А за этим стояла вина. Расстановка показала, что эта клиентка втянута во что-то очень глубокое, например, что ее отец мог стать ее отцом только потому, что его друг погиб. Тогда она сказала: «Ах, это не было моим запросом», хотя расстановка проявила для нее что-то очень важное. Можно также сказать, что она не могла или не хотела понять это, то есть послание до неё не дошло, даже если там было что-то глубокое. В этой расстановке я сделал для всей группы и для ее системы что-то очень побуждающее. Она примерила это на себя и спросила: «Но, где же я во всем этом?» В этот момент клиентка является только человеком, дающим ключевую информацию? Да, так оно и было. Когда я представляю себе, что я Ваша клиентка, пришла с запросом и в итоге не нахожу никаких упоминании о себе, мне это было бы неприятно. Я чувствовала бы, что меня использовали. Я работаю со всей группой. Она хотела все иметь только для одной себя, не считаясь с группой. Так не пойдет — это можно понять с разных позиций. Но кто из тех, кто меня критикует, выдержит, чтобы следовать за заказом клиента — и только за ним? «Это понимание спасает жизнь» Вы очень критично выступаете против психотерапии. Еще десять лет назад Вы сказали, что Вы считаете себя больше учителем, и все равно работали терапевтически. Сейчас Вы говорите о себе, что Вы помощник, который находится на службе у жизни. Что же изменилось? В принципе, то, что я делаю, является заботой о душе, или лучше так: заботой о жизни. Психотерапия считает клиента больным. Когда ко мне приходит человек, и я предлагаю что-то для помощи жизни, я не лечу его. На его примере я рассказываю что-то о жизни. Поэтому я больше похож на учителя. Я что-то знаю и передаю это дальше. Часто ни один из тех, кто слушает, не является больным. Часто людям не нужна психотерапия. Они получают ориентир и могут делать с этим, что захотят. Они не втягиваются в процесс длительной работы с ориентирами. Еще и поэтому «прояснение запроса» является мне чуждым. Иногда я работаю всего пять минут. Для этого мне не нужен запрос. За этим стоит модель, которая сужает. Я хочу донести до людей то, что сделает их счастливыми в семье и в отношениях. И я демонстрирую, что такое эти переплетения и как они действуют. Благодаря этому я многим облегчаю их ситуацию. Я получаю много сообщений от родителей о свершившихся изменениях. Например, такие письма: «В 1996 году ты спас жизнь мне и моему сыну». Я сделал их счастливыми. И иногда я спрашиваю себя: кто из тех, кто нападает на меня, сделал стольких людей счастливыми, как я? Меня удивляет, что Вы вообще задаете этот вопрос. Я хочу это сопоставить. Здесь речь идет не столько обо мне лично. Эта работа и это понимание спасают жизнь, они вернули многих людей из переплетений обратно в жизнь. Является ли еще психотерапией то, что Вы делаете сегодня? Нет. Сначала семейные расстановки были одной из форм психотерапии. Я предлагал их людям, которые искали психотерапию — часто тем, кто был физически и душевно болен. Семейные расстановки помогли им. Наша позиция была такова: здесь есть клиент, нуждающийся, а здесь есть терапевт — так нас учили. Я расставлял и много узнавал о порядках и об отношениях в системах и искал решение. Это принесло много счастья. Сейчас я знаю, что заместители намного важнее, чем мы считали сначала. Они связаны с Большим Полем. Другая сила берет здесь на себя руководство — это движение души. Что это значит для Вашего отношения к клиенту? Пример. Клиент жалуется на своих родителей или рассказывает, что такого плохого он пережил в детстве. Изначально мы сочувствовали ему и думали: «Сейчас мы ему поможем». Сегодня я знаю: нет здесь ничего плохого, потому что за всем этим действует созидательная сила. То есть я смотрю на эту ситуацию философски, и от клиента так же требую, чтобы он посмотрел на нее по-другому и сказал: «Что бы это ни было — спасибо, я беру это как силу». Как я себя тогда веду? — Не как терапевт, а как философ. Без сожаления — напротив, я соглашаюсь со всем таким, каким оно было или есть. Благодаря этому высвобождается сила. Это выходит далеко за рамки психотерапии. Пять кругов любви О родителях, пубертате, партнерстве и об искусстве принимать Вы проводили семинар, в котором речь шла о «кругах любви». Что это за круги? Первый круг: родители Первый круг любви начинается с любви наших родителей друг к другу как паре. Из этой любви появились мы. Они зачали и приняли нас как своего ребенка. Они кормили, оберегали, защищали нас на протяжении многих лет. С любовью принимать от них эту любовь — это и есть первый круг любви. Он является условием всех остальных видов любви. Как человек сможет позже любить других, если он не прожил эту любовь? К этой любви относится и то, что мы любим предков наших родителей. Потому что наши родители тоже когда-то были детьми и принимали от своих родителей и бабушек и дедушек то, что они затем передали нам. И они тоже через своих родителей, бабушек и дедушек вплетены в особую судьбу, так же как мы в их судьбу. И с этой судьбой мы соглашаемся с любовью. Мы смотрим на наших родителей и на наших предков и говорим им с любовью: «Спасибо». Это первый круг любви. Медитация для первого круга любви Я закрываю глаза и возвращаюсь в свое детство. Я смотрю на начало моей жизни. Началом была любовь моих родителей как мужчины и женщины. Сильное влечение соединило их друг с другом, и что-то Большое, что действовало за ними, притянуло их друг к другу. Я смотрю на это Большое, что соединило моих родителей, и склоняюсь перед ним. Затем я с благодарностью и любовью смотрю на своих родителей, как они стали единым целым и как из этого единения возник я. Затем мои родители ждали меня, с надеждой, а также со страхом, все ли пройдет хорошо. А затем моя мама родила меня в муках. Мои родители посмотрели друг на друга и удивились: это наш ребенок? Затем они сказали: «Да, ты — наш ребенок, а мы — твои родители». Они дали мне имя, дали мне свою фамилию и рассказали всем: «Это наш ребенок». С тех пор я принадлежу к этой семье. Я принимаю свою жизнь как член этой семьи. Что бы потом ни было тяжелого, прежде всего, в моем детстве, это не препятствует самой жизни. Это тяжелое может очень многого требовать от меня. Но, когда я смотрю на это тяжелое, — например, быть отданным на усыновление или не знать своего отца, — я соглашаюсь с тем, как это было, и благодаря этому я получаю особую силу. Тогда я смотрю на своих родителей и говорю: «Самое главное я получил от вас. Вне зависимости от того, что вы еще сделали, в том числе, если это связано с виной, я признаю, что это тоже является частью моей жизни, и я соглашаюсь с этим». Я чувствую внутри себя, что я — это мои родители, я знаю их изнутри. Я могу, например, представить себе: где в себе я чувствую свою маму? Где в себе я чувствую своего отца? Кто из них больше находится на переднем плане? А кто больше на заднем плане? Я разрешаю обоим выйти на передний план и соединиться во мне как мой отец и моя мать, и остаться вместе. Во мне они всегда будут вместе. И я рад этому. Они на самом деле во мне. Вне зависимости от того, что произошло в моем детстве, я говорю этому «да». В итоге все сложилось хорошо, я смог вырасти на этом. Наряду с моими родителями мне помогали еще многие другие люди. Например, когда мои родители были недосягаемы, вдруг появлялся учитель или тетя. Или кто-то на улице спрашивал у меня: «Что с тобой, малыш»? Он помог мне и, например, отвел домой. Я принимаю их всех, вместе с моими родителями в свою душу и в свое сердце. И вдруг я чувствую себя наполненным. Когда я принимаю все это с любовью, я чувствую себя наполненным и в созвучии. Эта любовь находится во мне, и она раскрывается во мне. Второй круг: детство и пубертат Вторым кругом любви является детство. Я с любовью принимаю от родителей все то, что они мне дали, то, как они день и ночь думали обо мне и спрашивали себя: «Что нужно ребенку?» Ведь это же невероятно, как много хорошего родители дают детям. Родители знают, чего это им стоило и что это для них значит. Я признаю это. Я соглашаюсь сейчас со всем, что произошло в детстве. В том числе с тем, что родители чего-то не замечали, что они делали что-то неправильно, и что-то, возможно, было даже перевернутым с ног на голову. Всему этому есть место. Я расту, идя навстречу этой многогранности вызовов, а также страданию и боли, и необходимости выдержать испытания, при этом я соглашаюсь с этим и принимаю это. Иногда ребенок хочет избежать принятия и благодарности тем, что он сам начинает давать. Но часто он дает неправильное, или он дает слишком много, например, когда хочет взять на себя что-то за своих родителей, то, что он как ребенок не имеет права брать на себя. Некоторым детям бывает трудно принимать, потому что то, что идет от родителей, настолько велико, что они не могут вернуть ничего равноценного. Тогда они предпочитают брать меньше для того, чтобы им не нужно было так много уравновешивать. Откуда Вы это знаете? Я наблюдал это в сотнях расстановок, в очень разных вариациях. Часто дети не могут выдержать перепада по отношению к родителям. Прежде всего, тогда, когда они не знают, что настоящим уравновешиванием в отношении родителей является дальнейшая передача чего-то другим, в особенности в будущем собственным детям. Чувство того, что они не могут достичь равновесия, является одним из стимулов, который дает детям возможность покинуть родительский дом. Часто подростки приобретают себе право на отделение от родителей при помощи упреков. Это дешевый способ избежать уравновешивания. Однако он дает им возможность отделиться от родителей. Когда человек знает, что уравновешивание возможно через передачу дальше, и что через некоторое время он не сможет противостоять желанию передавать дальше то, что он получил, тогда он также отделяется от родителей, но при этом без необходимости делать упреки. Тогда дети знают способ, как им обходиться с тем, что они получили, и что они могут с этим сделать. Преимущество здесь состоит в том, что им нет необходимости отказываться от того, что им дали родители. Они могут принять это полностью, потому что знают, что передадут это дальше. Я никогда еще не рассматривала пубертат с этой перспективы. Но здесь становится совершенно очевидным, что упреки и жалобы являются частью «уравновешивающей игры» совести. Но пубертат является также гормональным делом. Вы сказали, что этот способ является «дешевым». Что Вы здесь имеете в виду? Вы смотрите на процесс пубертата с позиции нашей культуры, где принято, что дети в этом возрасте начинают критиковать своих родителей. Есть культуры, в которых этого нет, где дети получают возможность отделиться от родителей, не используя упреки. Это иная позиция. А «дешевым» это является потому, что тогда я мало беру и также мало должен давать. Таким образом, я обеспечиваю себе отделение тем, что мало беру, упрекаю и отвергаю родительскую любовь. Но такой способ всех обедняет. Потому что я, как ребенок, расту благодаря тому, что беру. С одной стороны это убедительно, но в то же время, здесь нам как будто машут большим указательным пальцем морали: «Будьте хорошими, подрастающие дети, ничего не говорите против своих родителей». И когда Вы говорите «дешевый», это звучит немного пренебрежительно. Ведь есть свои причины, почему подростки не могут по-другому. Возьмем совершенно дословно значение слова «дешево». Это — мало стоит. То, что человек берет, — это мало, и соответственно, мало этого позже находится в его распоряжении. Когда я беру много, это стоит мне много, потому что я не могу оставить это себе. Со временем я должен передать это дальше. Это дорого. Но это есть в моем распоряжении. Ребенок, который отказывается брать, имеет мало. Я воспринимаю это чуть более комплексно. Не является ли это задачей родителей, позаботиться о том, чтобы дети не могли «выкрасть» себя так «дешево»? Я заметила за собой, что меня не удовлетворяет естественное безмолвие, типичное для подростков. Матери часто говорят: «Что стало из моего ласкового маленького мальчика или девочки? Они получили что-то, и сейчас все вдруг заканчивается пустотой». Тогда родители начинают сами вести себя, как подростки, при этом они злятся на своих детей, потому что те о них больше не заботятся, не слушают их, создают другие представления о порядке. Это значит, что пубертат детей сталкивает меня с моей «детскостью». Меня больше не «подпитывают», безгранично слушаясь меня и соглашаясь со мной. Дети нам также показывают, где мы еще не являемся взрослыми. Критика детьми родителей часто попадает именно в эту точку. Дети очень зоркие — они сами как раз находятся в процессе взросления. И родители часто не в состоянии показать сейчас детям их границы. То есть в этот момент они отказывают детям в родительском «давать», потому что сами реагируют по-детски. Мой сын, например, целый день не разговаривает со мной — кто его знает, почему. Иногда я соотношу это с собой и чувствую, что мне уделяется слишком мало внимания — то есть испытываю детские чувства. Вечером он приходит и спрашивает: «Мама, помассируешь мне ступни?» Я могла бы — чуть по-подростковому — подумать: Еще не хватало, чтобы я его здесь обслуживала, когда он так со мной обращается. А во взрослой позиции я, скорее всего, скажу: «Прекрасно, здесь есть контакт с моим сыном. Это то, что я могу ему сейчас дать, и что он может взять». Родители тоже попадают в пубертатное русло. Разве «пубертат» не происходит с обеих сторон? Друг от друга отделяются обе стороны — и дети, и родители. Многие не знают, что есть уравновешивание, охватывающее поколения. Как только один знает, что ему совсем не нужно так много возвращать, и что он позже может передать это дальше — его душа чувствует облегчение. Тогда дети могут сказать родителям: «Ну, давайте сюда, я беру все». Только когда я полностью прошагал и этот второй круг любви, я способен на устойчивое партнерство. Большинство трудностей и проблем в партнерских отношениях возникают из-за того, что не завершились первый и второй круги любви. Тогда нужно еще раз вернуться туда, и восполнить недостающее. Медитация для второго круга любви Я закрываю глаза и собираюсь. Затем шаг за шагом я возвращаюсь в детство, как будто иду вниз по лестнице, шаг за шагом. Возможно, я прохожу мимо ситуаций, в которых я чувствую боль, или где я становлюсь неспокойным. Я жду в этом месте до тех пор, пока не возникнет образ того, что тогда произошло. Многие травмы из раннего детства связаны с ситуациями, в которых нас оставили одних, или в которых мы не могли попасть туда, куда хотели или должны были идти. Итак, я представляю себе этого ребенка, то есть самого себя, и смотрю на маму. Я чувствую свою любовь к ней и то, как я хочу пойти к ней. Я смотрю ей в глаза и говорю ей просто: «Пожалуйста». Сейчас что-то начинает двигаться во внутреннем представлении, как у матери, так и у меня. Сейчас, возможно, она делает шаг мне навстречу, и я решаюсь на один шаг навстречу ей. Я отдаюсь этому до тех пор, пока я внутренне не приду к цели, пока я не расслаблюсь в объятиях своей мамы. Затем я смотрю на нее и говорю: «Спасибо». Это внутренний процесс. Но при этом нельзя делать слишком много за один раз. Но уже и в первый раз в душе что-то разрешилось. В другой день я могу сделать то же самое еще раз. Я опять иду вниз по лестнице, назад в детство, и приду к еще более ранней ситуации. И, может быть, здесь тоже речь идет о движении к матери. После этого я опять подожду несколько дней и сделаю это еще раз — до тех пор, пока я, так сказать, не урегулирую все и полностью не приду к матери. Чаще всего люди сожалеют обо всем том, что они, когда были маленькими, упустили и не получили. Они даже озлоблены. Какие это имеет последствия? Я исключаю все, о чем я сожалею. Я исключаю все, в чем я обвиняю. Я исключаю каждого человека, на которого я злюсь. Я исключаю каждую ситуацию, в которой я чувствую себя виноватым. И я становлюсь беднее и беднее, и беднее. Можно пойти в обратном направлении: Я смотрю на все, о чем я сожалею, и говорю: «Да, так оно и было, и я принимаю это со всеми вызовами, которые оно ставит передо мной». Я говорю: «Я сделаю из этого что-нибудь хорошее. Сейчас я принимаю это как своего друга — что бы это ни было». Я смотрю на все то, из-за чего я кого-то обвинял, и говорю «да». Я оглядываюсь в поиске того, как я другим способом получу то, что не получил и потерял. И я смотрю, какая у меня есть сила для того, чтобы я сделал это сам, не обращаясь к другим за помощью. Затем я принимаю ситуацию, и она превращается в силу. То же самое касается личной вины, которую мы, прежде всего, хотим исключить, и от которой хотим избавиться. Я смотрю на нее и говорю: «Да. У вины есть последствия, и я соглашаюсь с этими последствиями и сделаю из этого что-нибудь хорошее». Вина становится силой. Таким образом, я тоже расту. Это означает, что основное движение всегда одинаковое: вместо того, чтобы исключать, нужно принимать. Точно. А именно — принимать как силу. И здесь есть одно совершенно поразительное наблюдение. Когда я принимаю то, что я отвергал, или что было болезненно, где я чувствовал себя виноватым или несправедливо обиженным, — что бы это ни было, — если я принимаю это, внутрь меня идёт не все. Что-то остается снаружи. Я соглашаюсь со всем, но внутрь меня идет только сила. Все остальное просто остается снаружи. Оно не заражает меня. Наоборот — оно дезинфицирует меня, оно очищает. Шлаки остаются снаружи, а пламя идет в сердце. Что противостоит принятию? То, что я не могу вынести того тяжелого, что есть у родителей. Хочу им, как ребенок, помочь и вмешиваюсь, и возвеличиваюсь над ними. Здесь можно использовать то же упражнение, в котором я смотрю на своих родителей с их грузом, с их переплетениями, с их недостатками, с их зависимостью, с их болезнью. И я вижу, какую силу все это имеет для моих родителей, если они соглашаются с этим. И по тому, как я сделал это с самим собой, когда я принял это внутрь себя, я наблюдаю за тем, что произойдет, если родители примут внутрь себя свой груз? И что произойдет, если я делаю это вместо них? Так я могу себе представить, что мои родители соглашаются со своим грузом, он принадлежит им, в том числе их переплетения. Я вижу их переплетения, находясь на расстоянии, и делаю я это снизу — как ребенок. Тогда мои родители полностью остаются моими родителями. Мне не нужно брать за них на себя ничего из того, что принадлежит только им. Это остается вне меня, потому что оно может остаться у родителей. А что с мамиными сыновьями и папиными дочками? И те, и другие становятся между матерью и отцом. Для них есть простое решение. Дочь говорит отцу: «Для этого я слишком мала». А сын говорит матери: «Для этого я слишком мал». Затем они представляют себе, что они отходят назад. И тогда отцу и матери приходится смотреть непосредственно друг на друга. Может быть, благодаря этому они по-новому соединятся, потому что больше никто не стоит между ними. Это упражнение человек также может сделать. Если я знаю, что я папина дочка, я смотрю на своего отца и говорю ему: «Я всего лишь твоя дочь. Для всего остального я слишком мала». То же самое мамин сын делает со своей матерью. Он смотрит на нее и говорит: «Я всего лишь твой сын. Для всего остального я слишком мал». Это странным образом освобождает и несет освобождение всем, в том числе и родителям. Третий круг: давать и брать Сейчас мы подошли к третьему кругу. Здесь самым главным является — давать и брать. Не давать, чтобы получить, а давать и брать. Взрослый может как давать, так и брать. Почему он может это, а «выросший ребенок» нет? Давать легче, чем брать, потому что, когда я даю, я могу чувствовать свое превосходство. Когда я беру, я являюсь одним из многих. Есть люди, которые только берут. Все зависит от того, как брать. Когда я требую, это не является принятием. Когда я принимаю (то есть беру — прим. переводника) то, что другой мне дарит, я показываю, что я нуждаюсь. В Библии есть одна фраза: «Давать — более благословенно, чем брать». Это потому, что тогда человек чувствует себя большим, он ощущает свое превосходство. То есть Вы воспринимаете эту фразу не как моральное указание, а как взгляд на то, что стоит за понятием «давать»? Значит, мы на протяжении многих поколений находимся в плену у грандиозного недоразумения. Есть величие в том, чтобы принимать любовь в качестве одного из многих даров. Если я могу так брать, тогда я также могу давать. «Давать» начинается с правильного «брать». Во взрослых отношениях все зависит от того, могут ли оба партнера брать друг у друга в равной мере. Это самый важный баланс. Решающим является не то, что они в равной мере дают, а то, что они в равной мере берут. Взаимно брать друг от друга является самым сложным, и это связывает сильнее всего, потому что тогда оба партнера находятся в позиции нуждающегося. Это объединяет. Умение «брать» связано с самоотдачей, а самоотдача возможна только, когда нет контроля. Но есть такие люди, которые постоянно дают, потому что они хотят что-нибудь получить. Они дают для того, чтобы брать. Они дают, дают и дают, но они не умеют по-настоящему брать. Давая, они надеются что-то получить взамен. И что еще важнее: они мало уважают других. Потому что им кажется, что они лучше, и таким образом они остаются в превосходящей позиции. А есть и такие, которые всегда чем-то недовольны, когда они что-нибудь получают. Подарки всегда недостаточно хороши. Подобная ситуация часто возникает между мужчинами и женщинами. Это говорит о том, что «брать» является высоким искусством. Речь идет о принятии с уважением. Это искусство. То есть в повседневной жизни это означает, что я должна брать все, что я получав), даже если это не соответствует тому, что я хотела? Я думаю, что можно было бы написать отдельную сатирическую книгу об этих неприятных, горьких и разочаровывающих ситуациях, когда люди дарят друг другу подарки, которые оказываются ненужными. Они или недостаточно хороши, или человек хотел получить что-то другое. Я краснею от стыда, когда вспоминаю, как я отвергала, обменивала, передаривала, возвращала подарки, которые я получала от своего мужа. Во всем есть что-то ценное. И если человек дарит мне что-то, он желает мне чего-то хорошего. И я принимаю это в таком виде, потому что он дает мне это. И в этот момент все, что он дает, становится ценным. Оно изменяется, и вдруг я чувствую: «Ах, в этом есть что-то прекрасное для меня». Это и значит «брать». Взрослые дают, не ожидая, чтобы другой вернул то, что он дать не в состоянии. В такой позиции человек обретает силу для того, чтобы самому быть родителем. На этом заканчивается «брать». И начинается передача дальше, из поколения в поколение. Это и есть третий круг. Если оба, мужчина и женщина, полностью приняли своих родителей, и становятся парой, они наполнены тем, что получили от своих родителей. И из этой полноты они дают друг другу. Но опыт показывает, что это удается не всегда. Медитация для третьего круга любви Я стою напротив моего партнера и сначала смотрю направо, на своих родителей. Я еще раз прохожу через этот процесс принятия любви от моих родителей. Мой партнер стоит передо мной и со своей стороны сначала смотрит направо от себя на своих родителей и проходит через такой же процесс принятия любви от своих родителей. После того как я посмотрела на своих родителей и на своих предков, я смотрю на его родителей и его предков. Я вижу все то, что они ему дали, и как это обогатило его. В один миг что-то меняется в наших отношениях, потому что теперь я воспринимаю его по-другому. Потому что в нем проявляется любовь его родителей. В то же самое время я вижу то тяжелое, что с ним произошло, что ему мешало. И сейчас я воспринимаю это, как что-то, что он принимает в качестве силы. А все тяжелое остается снаружи. И то же самое я делаю с тем тяжелым, что было у меня. После этого мы снова смотрим в глаза друг другу, и я говорю ему «да», а он говорит «да» мне. И мы оба говорим друг другу: «Сейчас мы подготовлены друг для друга». Вторая медитация для третьего круга любви Затем у пары появляется ребенок. Женщина принимает ребенка от мужчины, и мужчина принимает ребенка от женщины. И они оба говорят: «Наш ребенок». Они отражаются в ребенке как часть Большего целого. В ребенке всегда есть только часть каждого из них. Они упражняются в том, чтобы во всем видеть и другого партнера, соглашаться с этим и принимать это. Я смотрю на нашего ребенка и вижу за ним своего партнера, и я вижу за своим партнером всё то особенное, что было в его семье. Я вижу все, что отличается от того, что есть в моей семье, и я принимаю это в свое сердце как равноценное. В этот момент ребенок является равноценным для нас обоих, и он может быть одинаково связанным с обоими родителями. Мы говорим партнеру: «Это наш ребенок, в нем есть твоя часть, как отца, и моя, как матери». Так мы обогащаем нашего ребенка и наши отношения. А что происходит, когда пара рассталась и у нее есть дети? Большинство расставаний происходит потому, что одного из партнеров тянет назад в его родительскую семью. Его тянет назад потому, что он не принял что-то. Или потому, что он вмешался во что-то, например, не хотел оставить родителям их собственную судьбу. Многие расставания происходят потому, что один партнер разочаровался. Ожидания по отношению к партнеру зачастую являются ожиданиями, которые были у меня в детстве по отношению к моим родителям, и я надеюсь, что партнер может их оправдать задним числом, за моих родителей. Но он не делает этого, это не в его силах. Тогда я разочаровываюсь в нем, и я расстаюсь с ним из-за этого разочарования. Это тоже одна из моделей расставания. Здесь может помочь то упражнение, в котором я сначала принимаю своих родителей, тогда мне больше не нужно ожидать ничего такого от своего партнера, Тогда отношения становятся более здравыми. Но есть еще кое-что, что может привести к расставанию. Существует личный рост, собственное самоопределение. Может быть так, что один партнер идет по тому пути развития, который для него важен, а другой партнер видит, что это не его путь, что у него другой путь. Тогда я соглашаюсь с путем моего партнера и соглашаюсь с моим собственным путем. И каждый из них позволяет себе идти своим собственным путем. Это тоже порой является причиной расставания. Но это расставание с любовью. Партнеры могут сказать друг другу: «Я люблю тебя, и я люблю то, что ведет тебя и меня». Это глубокая фраза. И если затем они расстанутся, расставание будет легче для них обоих. Но часто бывает так, что только один произносит эту фразу, а другой против этого. Тогда я говорю ему: «Я верю, что ты способен справиться с моим ростом». Ты и дети? Детям этого не говорят. Детям говорят: «Я всегда буду с вами». Не бывает роста отдельно от детей. Подобное бывает только как очень большое исключение. Можно сказать им: «Я верю, что вы способны справиться с тем, что я расстаюсь с вашей матерью (с вашим отцом). Но мы всегда находимся в вашем распоряжении». Это тяжело для детей, но если это сделать таким образом, это становится возможностью роста для всех. И все остаются связанными друг с другом. Четвертый и пятый круги любви: согласие со всеми людьми и с миром Три первых круга имеют дело с совестью, с потребностью в уравновешивании. Как обстоят дела в четвертом круге с балансом между «давать» и «брать»? Четвертый круг находится по ту сторону совести. В этом круге я соглашаюсь со всеми членами моей семьи такими, какие они есть, в том числе с исключенными и изгнанными. Здесь речь идет о внутренней полноте. Это значит, что все, кто принадлежит к моей семье, получают место в моей душе, в том числе те, кого презирали, отвергали и о ком забыли. Без них я чувствую себя в душе и теле неполным. Только тогда, когда я принимаю их в свою душу и дарю им свою любовь, я чувствую себя наполненным и целостным. И такое же движение, в котором я с любовью включаю в свое сердце до сих пор исключенных, отвергаемых, внушающих страх членов своей семьи, я распространяю на всех других людей. Это пятый круг любви. Пятый круг любви направлен на человечество, на мир как таковой. Здесь речь идет о согласии с миром таким, какой он есть. Это затрагивает способность к примирению, например, между народами. Это всеобщая любовь, которая знает, что нами двигают Высшие силы. Какой образ человека стоит за этими кругами любви? Для меня все люди хорошие. Каждый человек является тем, кем он может быть. Никто не может быть другим в ситуации, в которой он находится. И, таким образом, я отношусь ко всем людям с одинаковым уважением. Такая позиция и такой образ действий являются достижением личной душевной работы. Никто не может освободить нас от этой работы. Многие из тех, кто ищет помощи, хотят получить помощь без собственной душевной работы. Но, когда они на собственном опыте узнают, сколько радости дарит эта работа, тогда благодаря этому новому пониманию они получают иную возможность идти по жизни. Но это происходит только через понимание. У эмоции любви мало понимания. И до тех пор, пока я остаюсь в плену у эмоции любви, мало что происходит. В четвертом и пятом кругах любви я выхожу за пределы этой ограниченности — на духовный уровень. «Выигрывает тот, кто может радоваться своей матери» О счастье и радости Это делает человека счастливым? Счастье — это подарок. Счастье всегда является результатом отношений, и вопрос состоит в следующем: как нам строить отношения так, чтобы мы были счастливы? Мы счастливы, когда мы радуемся отношениям. Человек не будет иметь удачных отношений до тех пор, пока не будут удачными его первые отношения. Любые отношения начинаются с матери. Большинство проблем возникает, если там что-то не достигло полноты. Радость начинается рядом с матерью. Самое глубокое счастье ребенка состоит в том, чтобы быть рядом с матерью, это изначальное счастье. Конечно, позже он должен пойти и к другим людям. Но не в этом дело. Он может взять с собой изначальное счастье. Позже дистанция станет большей. Но решающим, основным фактором было то, чтобы посмотреть в глаза матери и сказать: «Да, я рад тому, что ты моя мама. То, что ты моя мама, — это для меня самое лучшее на свете». А отец? Конечно, отца это тоже касается. Но счастье начинается рядом с матерью. Отец и мать здесь находятся на разных уровнях. Здесь есть разница. И отец знает это. Но ему не нужно ревновать, потому что его отношения с его собственной мамой точно такие же. Выигрывает тот, кто может радоваться своей матери. Это Ваше руководство для того, как быть счастливым? Если хотите, да. Полнота жизни и счастья приходит к нам именно так. Это основа для любого будущего счастья. Это является также основой для любви к природе. Природа — это, так сказать, большая мать. Маленький ребенок все принимает в свою душу. И здесь нет никакого сопротивления. Оно появляется позже. Наблюдая за собой, я сделал один важный вывод по поводу счастья. Когда я полностью принимаю внутри себя свою мать или своего отца — без каких-либо оговорок: «Ты — моя мать, и я принимаю тебя такой», «Ты — мой отец, и я принимаю тебя таким», тогда моя душа наполняется родителями. Я принимаю не что-то от своих родителей внутрь себя, а я принимаю своих родителей внутрь себя — со всем тем, что к ним относится. А то, что я не считал хорошим, странным образом остается снаружи. Вместе с человеком к нам попадает только все то хорошее, что у него есть, — и ничего другого, Во время моей учебы по телесно-ориентированной терапии мы делали одно упражнение, о котором я особенно часто вспоминаю: Сначала мы должны были представить своих родителей как детей, которые танцевали на наших ладонях. Затем как взрослых, то, как они встретились. Затем мы должны были принять родителей в своем теле и представить себе, как они, пройдя через наши внутренности, попадают в сердце. И мы должны были подготовить в своем сердце место для родителей, в котором они занимаются любовью и зачинают нас. Описывает ли этот образ то, что Вы имеете в виду? Это прекрасный образ. Кого точно я принимаю? Мать, которая меня бросила? Отца, который бьет мать? Я представляю себе опустившуюся алкоголичку, которая никогда не заботилась о своей дочери. Кого точно я принимаю? Идеальную мать, такую, какой она могла бы быть? Ту часть матери, которую я знала как хорошую и питающую меня? Я принимаю мать и отца как людей — это важное отличие — не то, что они мне дают или в чем отказывают. Это не играет здесь никакой роли. Я принимаю человека. Принимая человека, я чувствую в себе наполненность. Не является ли это огромной идеализацией материнского и отцовского? Этим Вы берете на себя почти нечеловеческую ответственность. Я утверждаю, что у 80% людей, обращающихся за терапией, нарушена связь с матерью. И что настоящая терапия в итоге соединяет человека с матерью. Что происходит, когда не удается наладить этот контакт с матерью? Тогда этот человек потерян и не может строить никаких отношений. Это звучит ужасно. «Потерян», «никаких отношений» — это звучит как «все или ничего». А как насчет отца? Многие проблемы детей возникают также по той причине, что они не могут пойти к отцу. Дорогу к отцу может открыть только мать. В этом у нее огромная власть. И никто другой не может сделать этого. Я не понимаю. Что Вы имеете в виду? Чтобы мать любила в ребенке отца, как она это делала первоначально. Тогда фраза, которую она внутренне говорит, может звучать следующим образом: «Я буду рада, если ты станешь таким, как он». Тогда ребенок знает: она будет рада, если я пойду к отцу. Это открывает ребенку дорогу к отцу и дает ему особую силу. И, прежде всего, тогда он будет любить свою мать гораздо сильнее, чем раньше. Эта значит, что исходным моментом и поворотным пунктом является отношение к матери и, более того, — даже, если родители расстались, — ее доброе отношение к мужу. Есть много женщин, которые после развода скорее в отрицательном смысле говорят своим детям или хотя бы думают: «О, Боже, ты такой же, как твой отец». Это опять же означает, что скорее мы, женщины, можем все испортить. Я бы сформулировал это по-другому: Женщины имеют наибольшие возможности. «Отцу больше не нужно бороться» Об отчужденности детей Вы слышали о новом решении Федерального конституционного суда, что мужчины, которые сомневаются в своем отцовстве, не имеют права делать генетический тест за спиной у женщины? Что скажете по этому поводу? Это странное представление, что таким образом семья будет защищена. Так хотят защитить личные права ребенка. И личные права женщины по отношению к реальности. Это огромная несправедливость по отношению ко всем. Это бредовая идея, и ее внедряют законодательно! Я спрашиваю себя, как будет чувствовать себя ребенок после этого? Ребенок, отцом которого считается не его настоящий отец? Прежде всего, если он знает, что его отцом не является тот, кто за него платит. Как такой ребенок будет чувствовать себя? При принятии этого решения совсем не задумывались о его последствиях. У отца нет никакого другого средства кроме теста, чтобы узнать, является ли он отцом. Порой приходится вести войну. Это могло бы стать последним средством, чтобы восстановить справедливость. Как мужчине, которого таким образом обманули, найти мир в душе? Он говорит ребенку: «Я делаю это для тебя». Тогда он успокоится. И будет свободным и защитит свое достоинство. Это большой труд. Это большой труд, но это может стать решением. Ведь есть разные ситуации. Есть много отцов, которых обманом лишили их отцовства. А иногда матери теряют своих детей. Один из партнеров уходит и забирает детей, отдаляет их от другого, иногда сознательно, иногда бессознательно. Это заходит так доле/со, что ребенок больше не хочет видеть второго родителя — и тот, с кем живут дети, поддерживает это, а иногда даже приветствует. Ребенок решает всегда в пользу того, кто имеет над ним власть. Он не может по-другому, иначе он подвергается опасности. Но дети будут чувствовать себя плохо, и они будут долго злиться за это на своих матерей или на своих отцов, которые отдаляют их от второго родителя. Это не даст ничего хорошего тем, кто это делает. Но часто это еще не выстрадано, некоторые вещи могут измениться только тогда, когда было достаточно выстрадано. Отцы, которые борются против этого, часто бывают в отчаянии. Что Вы им говорите? Они должны сказать ребенку: «Я всегда в твоем распоряжении, помни об этом, вне зависимости от того, разрешат нам с тобой видеться или нет. Я остаюсь твоим отцом, и я буду рядом. Можешь положиться на меня». Это успокоит ребенка, и отцу больше не надо бороться. Ему нужно только ждать. И в то же время он говорит ребенку; «Я соглашаюсь с твоей мамой, и я соглашаюсь с судьбой, с тем, что она — твоя мать. Как и прежде, она — лучшая мама для тебя, и я всегда буду уважать ее. И что бы ни происходило, я буду уважать ее в тебе. Ты можешь остаться рядом с мамой так долго, как это будет нужно ей, и как это будет нужно тебе». Тогда ребенок освобождается от груза. Но Вы сами говорили, что для ребенка это тяжело. Что это бремя для ребенка. Это как раз является вызовом на борьбу для того, чтобы уберечь ребенка от зла. Это ничего не даст. Ребенку без сомнения тяжело, но, благодаря этому, он растет. Его ни в коем случае нельзя жалеть. Когда приходит кто-то со стороны и говорит: «Ах, бедный ребенок», это плохо для ребенка. Ребенок не бедный. У него есть именно эти родители, и они оба — чтобы ни произошло — являются его судьбой, его вызовом, а также его грузом, до тех пор, пока он с этим не согласится. И тогда он благодаря этому вырастет и пойдет дальше, за рамки этого. Большинству отцов с этим будет очень трудно согласиться. Для многих это звучит фаталистически. Они спрашивают: «Я что, должен стоять и смотреть, как моего ребенка лишают детства?», и продолжают бороться. Когда мужчина борется, он становятся на тот же уровень, что и жена. И они оба разрывают ребенка: «Ребенок мой!» Нет, разумный ответ будет: «Ты не мой, ты — свой, а я — твой отец. Я не претендую на тебя, но ты можешь располагать мной. Для меня ты — мой ребенок, а я — твой отец». Это простое и прекрасное решение, хорошее для всех. А если отцам так трудно согласиться с этим решением? Тогда они говорят ребенку еще кое-что: «Я должен сказать тебе еще что-то важное. Я очень любил твою маму». Вы много требуете от людей. Это любовь, настоящая любовь. «Я почитаю матерей с философской позиции» О матерях и отцах Почему Вы так почитаете матерей? Это часть католического прошлого? Я почитаю матерей с философской позиции. Я смотрю на то, что это значит — быть матерью. Все матери в полной мере выполнили свое главное предназначение. Нет ни одной женщины, которая, став матерью, сделала это не в полной мере. Иначе она не стала бы матерью. То есть в выполнении самого важного они все совершенны. То, что происходит потом, играет здесь второстепенную роль. Это очевидно, здесь не нужно долгих размышлений. Нужно просто обратить на это внимание. Самое большое, что есть на Земле, это, конечно, жизнь. В терапевтической практике часто забывают, что это значит. Возможно, ребенку дали пощечину, он вспоминает об этом, и над этим работают. Но при этом забывают о том, что свою жизнь во всей ее полноте он получил от матери. Ни одна мать не может ничего забрать у своего ребенка из его жизни. И ни одна не может ничего добавить. Нет лучших или худших матерей. И все они совершенны как матери. Это ведь прекрасная мысль. Конечно, но жизнь сочиняет другие истории. Вы требуете в некотором роде религиозной позиции по отношению к матери и к отцу — практически как в десяти заповедях: «Почитай мать свою и отца своего». Современные люди забыли об этом и противятся этому, потому что они помнят конкретные проявления материнства и отцовства и, имея критическое сознание, самостоятельное мышление и умственные способности, смотрят на «оплеухи» — которые порой бывают очень драматическими. Это правда. Окно правды? Для многих я снова открыл окно. Ведь многое из того, чем занимаются на психотерапии, является настолько несущественным в сравнении с этим фундаментальным пониманием, что жизнь в своей полноте, так, как наши родители передали ее нам, является самым важным. Нет большего созвучия с изначальной созидательной силой, чем зачатие. Каждый может следовать за инстинктом. В этом ведь нет ничего особенного. А здесь речь идет об индивидуальном достижении — а не о том, что может каждый. Как развивается мой ребенок, образован ли он, красив, умен и полон жизни, скорее это является личным достижением. Зачать может каждый — это точно. В этом нет ничего особенного, и в то же время это самое великое. Конечно, последствия требуют большого труда. Но само по себе рождение уже является огромным достижением — я не могу себе представить ничего более великого. Даже если я не имею особого права рассуждать об этом, потому что мне не дано пережить подобный опыт. Но даже с позиции стороннего наблюдателя это самое великое. И ничто не приносит такой большой радости, как новорожденный ребенок. «Персты на мощной руке» Связь между преступниками и жертвами Когда я впервые увидела Ваши расстановки, в то время Вы в своей работе с нацистскими преступниками выставляли их за дверь. И тогда Вы сказали, что преступники потеряли свое право на принадлежность. Да, одного преступника, который был убийцей, я выставил за дверь. Других нет. Это значит, что тогда в семейных расстановках еще не было понимания, что на душевном уровне преступники и жертвы принадлежат к семье. Сначала стало понятно, что преступника тянет к его жертве. То, что он идет к своей жертве, проявлялось в том, что он выходил за дверь. В этом отношении все соразмерно. Позже стало ясно, что жертва, вне зависимости от того, кто она, принадлежит к семье преступника. И теперь вместо того чтобы преступник шел к жертве, она становится членом его семьи. Это значит, что, выставляя преступника «за дверь», Вы также обособляли и жертву, потому что Вы думали, что она не принадлежит к семейной системе? Я делал так какое-то непродолжительное время, затем я заметил, что так не пойдет. По каким признакам Вы это заметили? Я наблюдал, что преступника в последующих поколениях замешал один из детей или какой-то другой член семьи. Мне нужно было вернуть его в семью, чтобы другому человеку не пришлось его замещать. То же самое касается жертвы. Если ее вводят в семью, никому другому не нужно ее замещать. А то, что жертва является членом семьи, я понял только на основании дальнейшего опыта. Как Вы это поняли? Впервые я понял это на одном семинаре в Берне. Один мужчина расставил свою семью. Затем он сказал: «Я должен еще кое-что сказать. Я — еврей. Но никто из моей семьи не погиб, мы жили в Швейцарии». Но его мать покончила жизнь самоубийством, и у него тоже было стремление покончить с собой. Стало понятно, что его мать и он, они в глубине своей души были связаны с еврейскими жертвами. Тогда я просто поставил семь заместителей убитых евреев, а за ними, в двух метрах от них, семь заместителей их убийц. Затем я попросил заместителей жертв повернуться к убийцам и больше не вмешивался. Между убийцами и жертвами возникло движение. Убийц охватила невероятная боль. Когда жертвы увидели это, они протянули к ним руки и обняли их. Один из преступников сказал: «Здесь стоит только один, а на самом деле их сотни, тех, перед кем я должен предстать». В один миг можно было увидеть, что преступники и жертвы в глубине были одним целым, связанные друг с другом глубокой любовью. Как такое возможно? Как преступники, так и жертвы поняли, что все они были во власти Высших сил, которые находились за ними. Один из преступников сказал: «Я чувствую себя перстом на мощной руке Высшей силы, и я нахожусь в ее полном распоряжении». Это был первый подобный опыт. С тех пор я больше не мог быть настроенным против преступников и считать их другими или нелюдями. Я понимал, что они были во власти Высших сил, которые стояли за ними. «Я принимаю в свое сердце всех исключенных» Что касается темы «преступники и жертвы», нападки на Вашу работу очень велики. Вас упрекают в том, что Вы находитесь больше на стороне преступников, нем на стороне жертв. Это правда. Вы серьезно? Да, я серьезно так считаю, потому что они являются теми, кого исключают. Если я хочу сделать что-то для системы, я должен сначала принять в свое сердце исключённых. Как только кто-то говорит о преступнике в семье: «Он все разрушил...», я сразу же даю преступнику место в своем сердце. Те, кто был разделен, сразу же соединяются друг с другом в моей душе. И как раз благодаря тому, что я еще до начала расстановки приобщаю к семье людей, потерявших человеческий облик, расстановка может быть удачной. Я не смог бы работать по-другому. То же самое касается и ситуаций, когда отвергают родителей. Нам даже не нужно сразу смотреть на убийц — отвергаемые сразу же получают место в моем сердце. Благодаря этому я с системной точки зрения нахожусь в позиции, где я действительно могу всем помочь. В общепринятой морали политически корректный человек сочувствует и сопереживает жертвам, слабым, угнетенным. Для Вас речь идет не о политическом уровне, а о душе. Эти понятия часто путают или с удовольствием неправильно понимают. Нападки велики. А кто нападает? Громче всех кричит тот, кто скрывает преступника внутри себя. Странным образом, когда люди нападают, они сами становятся преступниками. И они этого даже не замечают. Постоянно цитируют ваши слова о том, что Гитлер способствовал возникновению чего-то большого. Многие думают: «Как он может говорить такое!» Это звучит так, как будто я это утверждаю. Но ведь каждый может увидеть, что произошло. Каждый может видеть, что появилось что-то большое, что до сих пор еще продолжает действовать. Звучит так, как будто Вы это позитивно оцениваете? Я не даю оценок. Это что-то переделало, изменило! И после этого все стало по-другому. Что Вы имеете в виду? Можно сказать, что на протяжении всей истории человечества «появлялось что-то большое». Но ведь Гитлер приказал уничтожить миллионы людей. Трудность состоит в том, что мы даем воздействию моральную оценку. А здесь речь идет о совершенно иных силах. Эти силы, которые приводят мир в движение, являются совершенно внеморальными. Мы уменьшаем их до наших представлений о морали. Что стоит одна жизнь? — Вообще ничего. Подобное оценивание по своей мерке не учитывает все это! Большие катастрофы, большие войны способствовали развитию сознания в мире, И здесь никакой роли не играет то, нравится это нам или нет, считаем ли мы, что это хорошо или плохо. Ведь один человек не может стать толчком для подобных больших движений. Как один человек может вдохновить и увлечь за собой целую нацию, если за этим не стоит движение, которое получает свою силу из другого источника? Это звучит как рассуждения мистика, для которого нет никакой морали и никаких противоречий. Это философское рассуждение, которое рассматривает феномены, смотрит на результат и видит, что такие движения не могут быть вызваны одним человеком. Только один пример. Получается, что Гитлер выступил как оратор и увлек всех за собой. И затем, получается, что он погрузился в себя. Я понимаю это так, что он вышел из поля. Ведь поле, в котором он был во время своего выступления, было не его полем. Иначе после выступления он не смог бы так сразу погрузиться в себя. Откуда появляется это поле? Откуда-то из другого места. Употреблять слово «бог» здесь неприлично, так как оно звучало бы так, как будто Гитлер был пророком. Здесь более уместно говорить о силах, которые мы не можем постигнуть, которые каким-то образом действуют за нами. Когда я Вас слушаю, я слышу краем уха мораль: «Большое — это хорошо, оно на что-то влияет, маленькое — это плохо, оно не действует». Мне совершенно чужда подобная мысль. Сказать открыто в Германии то, что на Вашем философском уровне нет такого различения, как «добро» и «зло», это одно, а то, что Гитлер — посланец божий, совсем другое. Это дает повод неправильно Вас понимать. Все большие движения можно постигнуть только как божественные движения — по ту сторону любой морали. «Мы должны дать жертвам право на Родину в наших сердцах» А где же в этой философии место жертвам? Все-таки Вы говорите подобное в Германии, будучи немцем. Это очень провокационно. Я приведу пример, чтобы показать, на каком уровне я к этому подхожу. Я ехал вместе с моим польским другом Зеноном в поезде из Бреслау в Краков. Он рассказывал мне о Кракове и о том, что там был большой еврейский квартал. Практически все местные евреи погибли. И Галиция тоже опустела — она в значительной степени была заселена евреями. Сегодня в Польше у многих в сердце нет места дли этих евреев. Мой друг сказал, что многие в Польше выгораживают себя и говорят: «Они это заслужили». То есть антисемитизм в Польше еще очень силен. Я представил себе город Краков и спросил себя: «Как себя там чувствуют люди»? И тогда я увидел своим внутренним взором вокруг города большой круг людей, которые хотели попасть в город и не могли, им было нельзя. Это евреи, которые раньше жили в городе и в Галиции. Они стоят за пределами города. В последний день моего пребывания в Кракове я пошел в еврейский квартал. Все дома стояли целыми, Краков не был разрушен. Там еще стояла синагога, на магазинах были все еще написаны старые имена на иврите. Я стал воспринимать то, что чувствовалось вокруг. Вдруг я увидел, как из окон выглядывают прежние жильцы с вытекшими от слез глазами. Это был Ваш внутренний образ? Это был мой образ. Я это по-настоящему увидел и почувствовал. Так я воспринял то, что было вокруг. В этот день у нас еще была поездка в Катовице для того, чтобы прочитать там доклад. Мероприятие проводилось в большом зале филармонии. Многие желающие не могли попасть в зал, так как он был переполнен, более 1000 человек. Я рассказал им о том, что со мной было, и сказал им, чего не хватает в душе у многих поляков. Они должны вернуть всех евреев, которые раньше жили в Польше, и дать им место в своем сердце. Тогда их душа станет невероятно широкой. Я ехал также по Силезии. Там было много неиспользуемых построек. В промышленной области Верхней Силезии многие фабрики были закрыты. Земля была пустынна. Там нет силезцев. Их просто нет. То, что там больше нет местных жителей, это огромная потеря для этой местности. В таких ситуациях политика не играет для меня никакой роли. Не надо ничего менять в политике. Но силезцы все еще относятся к Польше. Что Вы имеете в виду, когда говорите, что они относятся к Польше? На душевном уровне. Все, живущие там сейчас, должны дать в своей душе право на Родину тем силезцам, которые уехали или были увезены. Это сразу же дало бы Польше невероятный приток силы. Люди на моих семинарах были для этого совершенно открыты. Сейчас я рассказал Вам кое-что о моем отношении к жертвам. То же самое касается и Германии? И здесь евреям надо дать место? Конечно. Где? Я думаю в районе Берлина, с его огромным новым памятником жертвам трагических событий Петера Айзенмана, о котором было очень много споров. Евреям нужно дать право на Родину в наших сердцах. Те, кто нападает на меня, в действительности не дают евреям места. Они удирают от этой конфронтации, от этой необходимости смотреть на преступников. Когда они не дают евреям места в своем сердце и не относятся к ним с любовью и уважением, они становятся такими же, как преступники. «Я держусь в стороне от преступников» Оттуда Вы знаете, что те люди, которые Вас критикуют, не дают евреям места? Я имею в виду, дать место в своем сердце. Это кое-что другое, чем разражаться речами или требовать воздвижения памятников. Когда я был в Польше, я, конечно, увидел и преступников, которые все это совершили — притом, со всех сторон: немцы, русские, сами поляки — все. Но я не имею права заниматься ими. Только жертвы имеют право иметь с ними дело. Как Вы себе это представляете? Так, как я сказал. Я держусь в стороне от преступников. Я почитаю жертв как тех, которые единственные, с одной стороны, имеют право разбираться с преступниками, и, с другой стороны, не найдут мира и покоя до тех пор, пока не выяснят отношения с этими преступниками и не соединятся с ними, и притом перед Богом — что бы мы под ним ни понимали. На самом ли деле все те, кто позже бьют себя кулаком в грудь и начинают бороться за жертв, стоят на их стороне? Действительно ли они их уважают? Вы имеете в виду политически? Или на душевном уровне? Любое изменение в этой сфере протекает на уровне души и духа. Политика может действовать только тогда, когда это признано. То есть то, что Вы сказали, относится к душевному, духовному контексту? С одной стороны. Но у этого, конечно, есть политические последствия. Если будет признано, что здесь действуют движения Высших сил, тогда немцы, например, смогут сказать, что они были захвачены этим более мощным движением. Тогда они перестанут осуждать и будут на одном уровне с преступниками. Это политическое высказывание или скорее мистическое? Все начинается с понимания. «Я отношусь к Гитлеру как к человеку, не снимая при этом с него вины за то, что он совершил» Геббельс тоже говорил: «Далеко за рамками нашего понимания человек действует как инструмент истории, и здесь не играет никакой роли, делает он это сознательно или нет». Да, так и есть. Я боялась, что Вы согласитесь с этим. Чем отличается Ваше понимание от понимания Йозефа Геббельса? Это показывает, что Геббельс чувствовал себя не преступником-одиночкой, а частью какого-то движения, которое увлекло его за собой. Но не только Геббельса. Оно увлекло за собой весь немецкий народ. Кто кого соблазнил? Вождь народ или, может быть, народ вождя? Почему для Вас важен этот вопрос? Если человек откроется навстречу этому вопросу, он попадает на уровень скромности. Как в последней фразе в одном из стихотворений Вильфрида Оуэна «Странная встреча» («Strange meeting»). В нем речь идет о мужчине, который накануне заколол вражеского солдата и сейчас сам погиб. Он попадает в преисподнюю. Оба противника смотрят друг другу в глаза и спрашивают себя: «Что это было и зачем?» Заключительная фраза в этом стихотворении звучит следующим образом: «Let us sleep now» — «А сейчас мы можем заснуть». Тогда это проходит, остается в прошлом. Такая позиция, базирующаяся на том, что мы вплетены во что-то совершено другое, чем принято думать, делает нас скромными. Тогда прекращается высокомерие. Тогда преступник, жертва, наци или кто-то еще больше не играет отдельной роли. Тогда все они находятся в одной лодке в этом движении истории. Признание этого в итоге является религиозным действием. Нападки на Вас зачастую происходят на политически-идеологическом уровне. То, что Вы говорите, делает Вас в глазах некоторых «коричневым Хеллингером», даже антисемитом. Я попытался это опровергнуть. Но здесь проявляется то, что я однажды сформулировал в одном изречении. Быка ослепляет его собственная красная тряпка. Люди слышат «посланец Бога» и все. Они нападают на это, даже не пытаясь выяснить, что за этим стоит. Поэтому я еще раз спрашиваю о контексте. Люди, долгое время занимающиеся душевными последствиями и вопросами, которые время нацизма оставило в душах людей, читают Ваш текст о Гитлере иначе, чем люди, которые вступаются за жертв. Почему Вы публично бросаете подобные фразы в университете, где нет места душевным процессам и философскому экскурсу? Это провокационно. Потому что эти инсайты никому не нужны? Тот, у кого перед глазами красная тряпка, все равно не может их увидеть. Когда я что-нибудь говорю по этому поводу, что-то приходит в движение — не к решению. Но невозмутимость, с которой некоторые откидываются на спинку стула, как бы говоря: «Я и так хорош», — она немного нарушается. Как Вы пришли к такому выводу? Я предполагаю, что они чувствуют себя еще сильнее и становятся инквизиторами, для которых все просто. Я думаю о том, что происходит в человеке, который сопротивляется? Наверняка, это что-то зацепило в его душе, иначе он не стал бы ничего делать. В этот момент он натолкнулся на свою личную проблему, которую он вытеснял. Но я принципиально не забочусь о том, что человек делает с моими словами. Иначе в этот момент я, во-первых, потеряю свою свободу, и, во-вторых, свою способность к восприятию. Зачем мне подмигивать кому-то, если я подозреваю, что в данный момент он может это неправильно понять? И я говорю это не как отдельный человек, а в рамках определенного движения. Я говорю это как часть существующего конфликта, который должен быть разрешен, и я не ухожу от этого. Вы просветитель? Я хочу спросить в отношении лично Вас: — « Чему Вы способствуете, делая это?» Еще не ясно, чему это способствует. Это еще открытый вопрос. Это еще неизвестно. Нет, эффект уже есть. В народных университетах Баварии больше нельзя проводить семейные расстановки. В Гамбурге похожая ситуация. В Швейцарии имя Хеллингера стоит в одном списке с сектой Муна. Весь метод расстановочной работы находится в диспозиции, люди отказываются от участия в семинарах, потому что они боятся. Разве это не эффект? Это часть конфликта. Окончательный эффект будет виден через 20 лет, и я не позволю этим поверхностным аргументам сбить меня с толку. Я сказал это перед фильмом «Крушение» (закат, гибель). Этот фильм еще раз вызвал обширную дискуссию. Удивительно, как сильно немцы еще прикованы к Гитлеру и как мало, в принципе, удалось преодолеть. Я вношу свой вклад в целое для того, чтобы сдвинуть это поле с мертвой точки и показать решения. Вы смотрели «Крушение»? Нет. Для меня эта тема исчерпана. Я отношусь к Гитлеру как к человеку, не снимая с него при этом вины за то, что он совершил. И я считаю, что в том, что он совершил, он был на службе у чего-то Большего. Это ведь бросается в глаза, и фильм, судя по всему, тоже показал это: никто не мог ему противостоять. Это невероятно. До самого конца ему никто не мог противостоять. То, что Шпеер еще приходил* к нему в бункер, то, что никто не осмеливался ему возражать, говорит о том, что там действовала огромная сила, и все были в ее власти. И то, что Гитлер выжил во всех этих многочисленных покушениях, то, что все они были неудачными, показывает мне, что это движение должно было идти до неумолимого конца. Здесь действуют другие силы. И поэтому для меня нет необходимости смотреть этот фильм. О чем Вам говорит тот факт, что этот фильм посмотрело такое большое количество людей? Об очарованности и, прежде всего, о том, что эта тема еще не закрыта. Они хотят видеть в Гитлере человека. Они ждут от этого чего-то для себя. Это очарованность. Что конкретно Вы хотите этим сказать? Там что-то остается нерешенным. Это объясняет для меня такую популярность. И для меня это показатель того, в каком шатком положении находятся другие аргументы в душах немцев. И потом эти бесполезные попытки сказать: «Нельзя видеть в Гитлере человека». Это бесполезно, это не может тягаться с таким огромным интересом. Там есть что-то неразрешенное. Я вношу свой вклад в то, чтобы взглянуть на это. Мне нет необходимости прятаться. Это стоило большого количества симпатии и принесло с собой неуверенность. Это часть процесса. Неуверенные также вынуждены принять вызов. Я не буду делать это за них. Многие люди, в том числе из Вашего ближнего окружения, хотели, чтобы Вы ответили на грубые, оскорбительные нападки. Да, конечно. Я принял решение не высказываться по этому поводу. Я не позволяю затянуть себя на уровень нападающих. Это все, что я могу сказать по этому поводу. Где Ваше место, когда Вы рассуждаете о том, что Вы говорите это не как отдельный человек, а как часть движения? Я воспринимаю как подарок те инсайты, которые у меня бывают. Влияние семейных расстановок снижается не по моей инициативе. «...и распяли тогда христиане евреев» Об антисемитизме, евреях и христианах А что насчет антисемитизма, его Вы воспринимаете тоже, как мощное движение? Оно в действительности было таким, и не только в Германии. В антисемитизме нет ничего личного. Это поле. Если быть точными, он состоит из двух полей. Из поля евреев, жертв, и из поля христиан, то есть преступников. Эти два поля не соединяются, потому что евреи передвигаются внутри своего поля как жертвы, и потому что христиане передвигаются внутри своего поля как преступники. И те, и другие отрекаются. У евреев ситуация такая, что многие из них не смотрят на жертв с любовью и уважением. Евреи не смотрят на жертв? Но ведь они и есть жертвы, Пример. В Краков приехали евреи из Израиля, с голубыми флагами и т.д. Они не хотели иметь с поляками никаких дел, пошли в свою гостиницу и перебили там все вдребезги. Как мне рассказывали, подобное происходило много раз. У них не было никакого сочувствия к жертвам, совершенно никакого. Они приезжали туда, чтобы побороть других. Они были слепы по отношению к убитым евреям, которые плакали в окнах, они не скорбели вместе с ними. Как они должны были смотреть на жертв? Подобает ли нам вообще задавать подобный вопрос? В том смысле, чтобы принять жертв в свое сердце. Но многие смотрят на жертв по-другому. Они говорят: «Мы — жертвы». И со злостью смотрят на преступников. Внутри этого поля они не могут делать ничего другого, как постоянно вспоминать о том, что произошло, но они помнят об этом без любви к жертвам. С такими людьми трудно налаживать отношения, потому что они в своем собственном поле не связаны с жертвами любовью. Это мой образ. А как обстоят дела у христиан? У христиан все в точности повторяется, только наоборот. Они не смотрят на преступников. Они не смотрят на все то ужасное, что христиане совершили по отношению к евреям за последние 2000 лет. Они не связывают себя с преступниками в смысле: «Мы тоже принадлежим к этому. Мы находимся в одной лодке, в одном поле. Мы испытываем такую же антипатию к евреям, что и вы». Точно так же, как евреи в своем поле не смотрят на жертв в смысле: «Мы вместе находимся в этом поле». Если бы им удалось сделать это, они получили бы из отношений с жертвами силу неким образом выйти из этой позиции жертвы. То же самое касается христианской стороны. Христиане со своей стороны не смотрят на преступников в смысле, что они принимают то, что они все еще передвигаются в одном с ними поле. Но ведь есть ряд исследований, книг, публикаций — процесс критической переработки антисемитизма. На сегодняшний день самое суровое преследование всех видов преступной идеологии является частью политической корректности. Как Вы здесь можете говорить, что христиане не смотрят на преступников? Они ведь критически разобрали этот вопрос и лозунг «Росток еще плодороден...» стал частью нашего политического мышления и культуры. Они не смотрят на преступников в смысле, что они признают, что находятся в одной лодке и испытывают одни и те же эмоции. В антисемитизме это проявляется совершенно откровенно до сегодняшнего дня. И не только в нем. Я еще не до конца понимаю это. Ведь с этим антисемитизмом как раз ожесточенно боролись. Для того, чтобы у людей больше не возникало таких эмоций! В чем, по Вашему мнению, решение? В том, чтобы евреи в своем поле стали одним целым с жертвами, а христиане в своем поле стали одним целым с преступниками. Они посмотрят на них как на людей, без моральных оценок. Они признают: «Мы в этом поле являемся преступниками», и то же самое: «Мы в этом поле являемся жертвами». И если и евреи, и христиане сделают этот шаг в своих полях, они смогут вступить в контакт друг с другом и найти решение — только тогда, когда в своем поле они будут одинаковыми с себе подобными. То есть другой вид христианско-еврейского диалога? Проводимые на сегодняшний день диалоги проводятся на поверхностном уровне, они не погружаются в эту глубину. Эти диалоги хотят что-то облегчить для христиан без признания того, что они антисемиты. По каким признакам я могу узнать, что я антисемит? По каким признакам Вы узнали это у себя? Где начинается антисемитизм? Где начинается антисемитизм? С Иисуса и Хайфаса, высокопоставленного священника. Здесь есть ключевое событие. Иисус кричит на кресте: «Мой Бог, мой Бог, почему ты оставил меня?» Что это значит? Это значит, что Бог оправдал евреев. Хорошо, Иисус чувствует себя покинутым. Каким образом это связано с антисемитизмом? Иисус считал, что он был прав. В том числе в том, что он сделал евреям. Он сомневался в них и чувствовал себя рядом с Богом. Если он признает, что Бог его покинул, это значит, что Бог стоит на стороне евреев. И тогда он должен пойти к Хайфасу и сказать: «Ты был прав». И он должен его поцеловать. Хайфас — был высокопоставленным священнослужителем, который готовил распятие Иисуса. Здесь находится корень всего антисемитизма. Только, когда христиане во главе с Иисусом пойдут к Хайфасу и признают, что Бог был и на стороне евреев — чтобы никто не мог сказать: «Бог был на моей, а не на другой стороне» (здесь кроется корень конфликта между евреями и христианами), — только, когда мы внутренне проделаем это, этот конфликт сможет прекратиться. Какое отношение к этому имею я, рожденная позже? Я не знакома с евреями, мои родители не были нацистами, хотя я воспитана в христианских традициях, но я вышла из лона церкви и не хожу в церковь— и все равно Вы говорите, что я тоже часть этого? Конечно, Вы часть этого. И Вы говорите, до тех пор, пока я внутренне не проделаю этот процесс, не стану сознательно на сторону преступников... ... нет, не на сторону преступников, только признать, что Вы тоже находитесь в этом поле. Никто не может претендовать на Бога и использовать его в своих целях, ни Иисус как жертва, ни евреи как преступники. Если кто-то делает это, Бог становится на сторону другого. Я еще не до конца это поняла. Иисус чувствовал себя посланцем божьим. Он нападал на евреев, например, когда зашел в храм и перевернул столы денежных менял. Он поставил себя вне общества. Он считал, что стоит на стороне Бога. Он претендовал на Бога. Он думал, что он лучше Других. Но ведь то, что он говорил, привело людей в движение. Он был бунтарем, боролся против того, чтобы вера потерялась. То, что он говорил, было прекрасно, я считаю это грандиозным. Но здесь речь идет о последнем уровне, где никто не может сказать: «Бог находится на моей стороне», или: «Я могу надеяться, что Он стоит на моей стороне». Это последняя консеквентность (от лат. consequens — последовательность, результаты, следствия. — Прим. научи, ред.): Бог не стоит ни на стороне жертв, ни на стороне преступников. Он не покинул ни преступников, ни жертв. Это совершенно другой, духовный уровень. От кого может исходить примирение? Движение, которое лишит антисемитизм корней, должно исходит от христиан. Чтобы они признали по отношению к евреям: «Вы тоже правы, Бог не на нашей стороне, а на обеих сторонах». Тогда перед лицом Бога произойдет примирение на религиозном уровне. И только тогда христиане смогут увидеть то, что они сделали евреям. Они сделали то же самое, распяли евреев на кресте. Что хорошего это даст? Тогда христиане и евреи вместе смогут посмотреть на то ужасное, что происходило между ними, и сказать: «Ах, боже мой, что же мы натворили!» Обе стороны смогут увидеть всю бессмысленность страданий и крови последних 2000 лет. Тогда они смогут увидеть Хайфаса и Иисуса вместе, вместе на одной, и вместе на другой стороне. Тогда всё, наконец-то, уйдет, останется в прошлом. «В любви я в одно и то же время связан и свободен» Об автономии и пубертате взрослых То, что Вы говорите, для многих является и остается предположением: то, что наше восприятие связано с полями, в которых мы передвигаемся, то, что мы «взяты на службу», то, что движениями управляют Высшие силы и что даже наша совесть не является чем-то самостоятельным, а зависит от семьи, в которой мы родились, и от группы, в которой мы находимся. Где тогда остаются автономия и свобода? В какой мере мы связаны? Какой у нас есть простор для действий? Об этом постоянно идет речь в дискуссиях по поводу философии Берта Хеллингера. Вам возражают, что Ваш образ человека фаталистичен, даже тоталитарен. Сегодня у людей имеются все возможности для того, чтобы сознательно планировать свою жизнь в сотрудничестве друг с другом. И терапевты для того и существуют, чтобы помочь клиентам убрать с их пути то, что им мешает. Насколько автономным является субъект в современном мире? Какой вклад Вы вносите в эту автономию при помощи своей философии и семейных расстановок? С философской точки зрения представление об автономии смехотворно. Любой человек всегда зависим от другого. Мы созданы нашей семьей и полем, в котором мы находимся. В нашей жизни присутствуют предки, умершие, наши поступки, там присутствует всё. И мы находимся и живем в этом. Когда я представляю себе, что мог бы свободно решать всё в своей жизни, я кажусь себе маленьким. Маленьким и жалким. Я вплетен в эти большие движения, в ряд предков, в семью. И эта вплетенность независима от моей свободной воли. Я просто нахожусь внутри и там тоже что-то привожу в движение. Для меня не имеет никакого значения то, в какой мере я могу себе это приписать или нет. У понятия «субъект» есть два полюса; подчинение и самоопределение. Вы подчеркиваете точку зрения вплетенности, то есть — подчинения, и делаете самоопределение немного смешным. Но целью всего терапевтического движения 70-х годов прошлого века как раз была эта свобода индивидуума. Эрик Берн утрированно сформулировал это так: «Какое тебе дело до того, что я тебя люблю». Не слишком ли большое значение придавалось в последние 40 лет свободе индивидуума у нас, — возможно, как реакция на тоталитарное общество? Я рассказываю о своих наблюдениях, а не высказываю свое мнение об автономии и свободе. Я рассказываю только о том, что видел за те 15 лет, на протяжении которых я делаю семейные расстановки. Другие тоже могут наблюдать и проверять то, сколько свободы есть в семейных системах. Хорошим примером является усыновление (удочерение). Что было автономно, и что свободно? Ничего не было автономным, и ничего не было свободным. Каждая расстановка показывает, что мы вплетены в систему. Идея автономии была революционной. Без нее невозможно себе представить современного индивидуума. Это, кроме всего прочего, отказ от поговорки: «Какой хлеб я ем, такую песню и пою». Свобода мысли, свобода религии — ведь все это связано с автономией. Идея автономии хочет оправдать разделение. Она служит определенной цели. Она является своего рода политическим лозунгом, частью конфликта, в котором речь идет о том, чтобы освободиться от попечительства, которое отягощает. Таким образом, она служит тому, чтобы ослабить связь. С этой точки зрения автономия, конечно, имеет свое место в жизни. Но как только это начинают обобщать, все идет наперекосяк. Ни один ребенок не автономен в отношении родителей. Этого не существует. Ни один человек не автономен в отношении предков — в других культурах это знают — или в отношении жизни, или в отношении смерти. Этого не существует. Автономия и свобода ценны в определенной ситуации. Если они служат выполнению хорошей цели, тогда это можно и нужно поддерживать. В этом смысле я тоже часто веду себя автономно. Даже если другим это не нравится. Это легитимно, и не более того. Но человек не может быть независимым. И автономия, и свобода возможны только тогда, когда человек где-то или в чём-то другом не автономен, и является частью чего-то, когда он взят на службу где-то в другом месте и согласен с этим. То, что мы действуем в системах не только по нашей воле, это понятно. Может быть, Вы знакомы с прекрасным короткометражным фильмом «Баланс». На верхушке стелы лежит стальная плита, опираясь на нее своим центром. На плите стоят 5 или 6 фигур. В середине плиты стоит ящик, несколько человек стоят ближе к краю плиты, а двое из них чуть ближе к центру, так как плита только так лежит ровно. Затем один мужчина начинает подходить к ящику, другим тут же приходится тоже передвигаться, чтобы все они не скатились вниз, потому что плита начинает наклоняться в сторону. Второй начинает двигаться, и опять всем приходиться тоже передвигаться, чтобы сохранилось равновесие. Это учебный фильм о том, как происходит движение в социальной системе. Вы сами описали эти три основные динамики: порядок, связь и баланс. Это качества системы. Коротко говоря, это значит: везде, где люди живут и работают вместе, они воздействуют друг на друга и вносят свой вклад в удачные взаимоотношения или в появление переплетения. Часто это понимают так, как будто эти качества системы являются Вашим изобретением, как будто Вы хотите впихнуть человека в нечто, навязать ему что-то. В этом фильме «Баланс» эти качества системы становятся очевидными. Все зависят от всех, здесь никогда не бывает одного, отдельно взятого, всегда есть все. И когда Вы подчеркиваете ограниченность нашей автономии, это понятно с точки зрения системы. Взяты ли мы все на службу Высшими силами, это уже другой вопрос. Вы говорите это как человек, которому скоро исполнится 80 лет. Моих 20-летних сыновей интересует их свобода и автономия. Это понятно. Приятно смотреть на молодых людей, на их лица, на то, как они воспринимают жизнь со всеми своими ожиданиями. Конечно, все будет по-другому, но просто приятно смотреть на то, что они находятся в своей вере. Это часть жизни. И поэтому у меня нет никаких представлений о том, что правильно, а что нет. Прямолинейный путь не является созидательным. Только, конечно, есть разница в том, когда человек говорит: «Мы все вплетены» или «Я автономен и независим». И это ведь тоже важно, как минимум, на определенных этапах развития. Это морковка, которую держат перед ослом, чтобы он шел вперед. Когда они затем становятся старше и все еще говорят: «Я автономен и свободен», что тогда по-другому? Когда они говорят: «Я автономен и свободен», сколько им лет в душе? Сколько у них есть жизненного опыта? Это пубертатно, абсолютно пубертатно. Тогда все становится на свои места, но не является общепринятым. Я видел, что люди в своих мыслях и поступках вплетены в поле, и поле определяет, что мы воспринимаем и что мы делаем. Конечно, в рамках этого поля у нас есть определенная доля свободы. Но то, что человек может свободно решить и выйти из поля, это иллюзия, за которую многие люди платят высокую цену. Каким образом? Когда человек говорит: «Я хочу быть свободным», что он этим делает? Он причиняет кому-то вред. Ссылаясь на свободу, человек берет себе право расстаться с кем-то или уклониться от своих обязанностей. Например, если человек бросает своих детей. Эта свобода, в принципе, означает: «Я избегаю привязанности». В этот момент такой человек занят только собой. И что же произойдет для него в этой свободе? Ничего, совершенно ничего. Он совершенно ничего не может сделать со свободой. Подобный тип свободы совершенно пуст. И что же он сделает через некоторое время? Он завяжет какие-то отношения. Он не может выдержать подобный тип свободы. Ведь свобода означает быть без другого. Ни один человек не может быть без другого. Тогда он свяжет себя с кем-то отношениями. И свобода исчезнет. Как только человек завязывает с кем-то отношения, подобный тип свободы исчезает. И, конечно, когда у человека есть дети, он больше никогда не будет свободным, но он наполнен. Внутри этой связи он свободен и может делать разные вещи. Люди могут готовить одно или другое блюдо, выбирать ту или иную профессию, иметь друзей — то есть внутри этих границ существует свобода. Но такая, которая идет на пользу всем. Если человек говорит: «Нет, я хочу быть свободным», — он избегает привязанности. Но в любви я как связан, так и свободен. Одна свобода — это свобода в отношениях, другая — та, которая ни с чем не связывает. Автономия подчеркивает самость за пределами отношений. Ваша свобода подчеркивает системную сторону, привязанность. Но и ей необходимо отграничение, или как? Да, конечно. Но это уже другой уровень. Это относится к построению отношений, здесь привязанность не ставится под сомнение. «Воодушевление содержит в себе что-то бредовое» Об энтузиазме и собранности Что усложняет отграничение на общественном уровне? Мы уже говорили о полях, в которые мы, по Вашему мнению, вплетены. По каким критериям Вы оцениваете социальные движения? Я рассматриваю это только с точки зрения их воздействия и смотрю на то, что происходит в душах. Все, в ком есть очень много энтузиазма, например, в рядах сандинистов, — оторваны от земли. Я был недавно в Никарагуа. Из этого движения, которое было полно энтузиазма, ничего не вышло. Все говорят: наконец, это осталось в прошлом, и теперь мы начинаем все с самого начала. Все последователи подобных движений имеют одинаковое душевное состояние: состояние рвения и энтузиазма. Вы считаете, что у Фиделя Кастро, Мао Цзе Дуна, Сталина, Гитлера не было рвения? Нет, они были стратегами, у них не было рвения. Они были определенным образом одержимы, но не в смысле рвения. Те, у кого много рвения, не обладают силой. А у других сила есть, они приводят что-то в движение. Даже, если они одержимы? Судя по Вашим словам, это звучит так, что одни лучше, чем другие? Они не сами лично приводят что-то в движение, а они несомы определенным движением. Эти мощные движения лишают человека свободы. Национал-социалистическое движение сделало несвободным весь немецкий народ. Практически никто не может сказать, что он этого не хотел. Почти все были воодушевлены, за очень малым исключением. Это движение полностью затуманило восприятие. В том числе у большого количества интеллигентов, в том числе у церкви. Это большое движение было слишком мощным. Оно охватило почти всех. Только очень немногие, у кого была другая «надежная гавань», смогли немного отстраниться. Но их было очень мало. Вы говорите о душевном состоянии и вплетении во что-то большое. По каким признакам я замечу, что оно меня увлекло за собой? Когда Вы захвачены чем-то, Вы больше не собраны. И большого труда стоит достать себя оттуда, собраться и снова дистанцироваться. В этой связи Вы также говорите о том, что подобные движения имеют в себе что-то бредовое. Это звучит как патология. Бред — это для меня одержимость. Когда я одержим какой-то идеей, каким-то чувством, часто со светлым воодушевлением, у меня больше нет контакта с реальностью. Это не болезнь, а человеческое свойство. Для душевной гигиены было бы очень полезно дистанцироваться, спрашивать себя: «Что же это такое на самом деле, то, что я себе воображаю, чем является этот идеал? Есть ли у него какие-нибудь шансы, реален ли он? Связан ли он с реальностью»? У движения за мир тоже есть бредовые стороны. Например, представление о том, что мира можно достичь при помощи демонстраций. Мир приходит иначе. Или возьмем, к примеру, футбольный матч. Представьте себе, что Вы стоите среди фанатов. Внутренне вы держитесь вне их, дистанцировались и просто смотрите, на то, что происходит. Как Вы себя через некоторое время начнете чувствовать? Нехорошо. На Вас будут косо смотреть, возможно, даже задирать. Фанаты сразу же заметят, что Вы не из их числа. Это простой пример того, как сильно мы связаны с полями и как мало автономии есть в настоящих конфликтах. Вернемся к бредовому. Где именно появляется бредовое? В воодушевлении, любое воодушевление содержит в себе что-то бредовое. Жаль. Прекрасное ощущение, когда ты воодушевлен. Нужно наслаждаться им время от времени, нам необходимо отключение от трезвой рассудочности, это часть жизни: на Новый год или в другой праздник. Рассудочность не является идеальным образом, это было бы смешно. Ведь воодушевление очень сильно объединяет на празднике, большом торжестве или когда у людей есть общие цели. Ведь это огромная мобилизирующая энергия. То, что Вы говорите, в принципе, означает, что там, где приходят в движение действительно большие массы людей, где присутствует энтузиазм и чувство общности, прямо за углом находиться бред. Что значит за углом, он внутри, А как же насчет мобилизирующей энергии энтузиазма? У нее ведь есть сила, и она приводит людей в движение. Конечно, Но в то же время энтузиазм обезличивает. Человек больше не в контакте с собой, его влечет другая сила, и он больше не может воспринимать то, что не служит только этому направлению. Поэтому энтузиазм так опасен. С энтузиазмом часто бывает так, что человек возвеличивается и чувствует себя большим, хотя он ничего не сделал. Точно так же, как на футбольном матче. Все фанаты чувствуют победу, хотя они не притронулись к мячу. Они ощущают это возвышенное чувство победы. Это их идентификация. Таким образом, человек теряет себя и оказывается в этих полях. Это нужно знать, и это передается. «Тот, кто делает добро, не ссылается на свою совесть» О детскости «чистой совести» Вы много исследовали совесть. Это основа Вашего понимания. Это имеет далеко идущие последствия, потому что с совестью связаны вина и мораль. Как Вы вообще пришли к тому, чтобы задаваться вопросом о функции совести? Вы хотели выяснить, почему у Ваших клиентов было так много чувств, связанных с виной? Я заметил, что вина переживается совершенно по-разному. Мы много говорим о вине, но содержание вины часто бывает совершенно разным. То есть, если я кому-то чем-то обязан, это не то же самое, чем, когда я, например, чувствую себя ужасно или имею нечистую совесть. Существует абсолютно разный опыт, связанный с чувством вины. Наихудшим опытом, связанным с виной, по моим наблюдениям является исключение. Самым сильным опытом, связанным с невиновностью, является принадлежность. Самое глубокое стремление человека состоит в том, чтобы быть связанным с кем-то, принадлежать к чему-то. Исключение из чего? Исключение по чьей воле? Вы говорите о семье? Или о принадлежности к группе в общем? Совесть всегда является групповой, а не личной. Группа определяет то, что лично я чувствую. Здесь вина познается глубже всего и опаснее всего. Совесть всегда находится на службе у привязанности. Совесть является органом восприятия, при помощи которого мы в любое время сразу же воспринимаем, принадлежим мы к группе или нет, угрожают наши действия принадлежности, например, к семье или к пир-группе (Пир-группа — самоорганизующаяся система, которая сама устанавливает правила своего существования. — Прим. науч. ред.) или нет. Это было главным толчком. И вдруг стало ясно, что совесть — это инстинкт, точно так же как чувство равновесия. Это орган восприятия, и он служит, прежде всего, привязанности к группе, которая важна для выживания, то есть, в первую очередь, привязанности к семье. Возможно, это касается ребенка, которому нужны его родители для того, чтобы выжить. А кого еще? Никто нас не убьет, если мы выйдем из какой-то группы. Может у нас разные виды совести? Я ведь не обращаюсь ни к какой совести, когда хочу высказать благородные намерения? Нет. Есть разные виды совести, потому что группы тоже бывают разные. Моя совесть рядом с отцом отличается от совести, когда я нахожусь рядом с матерью. На работе, в церкви или за столом в кафе — в зависимости оттого, к какой группе я принадлежу, я имею совершенно разные виды совести. Ваша совесть сразу же знает, что ей нужно делать для того, чтобы принадлежать к той или иной группе. Это значит, то, что мы называем «моралью», является связующим звеном между членами группы? Это только одно выражение того, что я должен сделать для того, чтобы принадлежать к группе. И здесь мы должны проводить различие между семьей и другими группами. Когда человек ведет себя no-разному по отношению к отцу или матери, это не имеет никого отношения к морали. Я чувствую только, как я должен себя вести, чтобы они меня любили. Мораль начинается там, где большая группа придерживается определенных представлений или определенной веры, и каждый, кто отклоняется от этого, будет исключен. Значит, все-таки есть разница. С одной стороны, мораль, — и именно она устанавливает границы: я нахожусь по ту же сторону границы, что и ты. Я нахожусь в том же месте. С другой стороны, находится плохое (нечистая совесть). Получается, что это механизм социальной координации, ничего индивидуального, который меняется в зависимости от духа времени? И с другой стороны, совесть: так я веду себя с папой и мамой? И мораль делает так, чтобы у меня была «чистая совесть»? Вполне возможно. Когда мать или отец наказывают ребенка, они делают это не потому, что смотрят на ребенка. Они смотрят на то, что предписано, потому что они говорят себе: «Нужно воспитывать ребенка, нужно подавить его волю, он должен слушаться, приветствовать других, быть милым, учиться» — это мораль. Родители наказывают ребенка с чистой совестью. Или посмотрите, что делают в армии с дезертирами. Там апеллируют к закону. Дезертира наказывают, на войне его обезглавливают, убивают. Тот, кто делает это, чувствует себя в созвучии с моральным законом. Ему ведь не нужно больше апеллировать к своей совести. Он апеллирует к господствующей морали. Но — он чувствует мораль при помощи своей совести. Совесть является органом восприятия и больше ничем. Мораль вступает в игру, когда я возвеличиваюсь над другими. И сначала одна группа возвеличивается над другой — и, прежде всего, над той группой, со стороны которой она чувствует угрозу. Это высокомерие мобилизуется при помощи совести. Она также мобилизует агрессивность, которая необходима для того, чтобы защитить себя от других. Мораль всегда связана с желанием уничтожить. Мы видим это на примере войн. Или обратимся к политическим конфликтам: «Мы — лучшая партия» — там очень часто речь идет об уничтожении. У другого человека забирается право находиться на одном со мной уровне. Когда Вы говорите о «чистой совести», Вы имеете в виду не «полезно и благородно», а «хорошо» в смысле: что служит моему выживанию как социального существа. Точно. Это может быть по-человечески порочно. Речь здесь идет только о том, что я должен делать, чтобы принадлежать к группе? Новаторским здесь, в первую очередь, является то, что Вы с системной точки зрения объясняете чувство вины, которое было принято считать индивидуальным. И Вы лишаете совесть ореола святости, принятого в нашей культуре, когда говорите, что она является как бы биологической инстанцией. Это провоцирует, потому что Вы совершенно не принимаете во внимание содержание совести. Когда человек делает что-то хорошее, он не апеллирует к своей совести. Он апеллирует в тех случаях, когда говорит: «Я должен указать тебе твои границы, я должен тебя наказать, я должен тебя покарать, посадить в тюрьму, убить» — и так далее. Это можно продолжать бесконечно. Человек наносит вред окружающим, апеллируя к совести. Я не совсем это понимаю. Возьмем пример из повседневной жизни. Когда я защищаю кого-нибудь, кого избивает кто-то третий. Я делаю это, потому что моя совесть будет нечиста, если я просто пройду мимо или буду стоять и смотреть... ... и Вы рисковали бы принадлежностью к своей группе, для которой важно защищать других. Но кому я в этом случаю делаю плохо, когда я из хороших побуждений защищаю того, кого бьют? Если Вы из хороших побуждений нападаете на преступника, Вы нападаете на преступника. Но ведь в этом случае это не плохо? Вы нападаете на преступника. Вы злитесь на него, Вы хотите, чтобы ему было плохо. Решать «плохо» это или нет, было бы моральной оценкой. Нет, я просто хочу защитить жертву. Аффект здесь состоит в следующем. Вы принимаете сторону жертвы против другого человека. Вы хотите, чтобы с ним что-нибудь случилось. Нет, не обязательно. Ведь может быть просто так: «Я врежу тебе разок, оставь человека в покое». При этом речь идет не о нанесении повреждений преступнику, а только о защите жертвы. В этом случае Вам не придется принимать решения в отношении совести. Вы действуете, следуя своему импульсу. Если ребенок падает в воду, его вытаскивают оттуда. Это не имеет ничего общего с совестью. То, что один человек приходит на помощь другому, является общечеловеческим импульсом. Люди помогают друг другу в беде. Я хочу еще раз уточнить. Это ведь как раз не общечеловеческий импульс! Порой людей избивают, и никого это не беспокоит. Скин-хэды преследуют и избивают иностранцев, и вся деревня смотрит на это. В таких случаях ведь говорят: «У них что, нет совести? Утех, кто просто смотрит на происходящее или закрывает на это глаза?» В этом случае Вы, возможно, скажете, что группа, к которой принадлежит тот, кто закрывает на происходящее глаза, имеет другую «мораль», по которой иностранцев можно спокойно избивать? Так и есть. Они избавляются от чистой совести по отношению к иностранцам. Вернемся к Вашему примеру о помощи. Если человек говорит: «Моя совесть толкает меня на действия», он сначала обдумал это. Это действие не является импульсивным. В этом состоит отличие. Когда я при своих действиях ссылаюсь на совесть, по моим наблюдениям, это всегда делается для нанесения вреда другим, для того, чтобы каким-то образом ограничить их. А люди, которые спасали евреев? Справедливое возражение. Я думаю, что это ближе к тому, когда человек непосредственно приходит на помощь другому. Я предполагаю, что эти люди не консультировались со своей совестью. Они делали это импульсивно, исходя из общечеловеческого импульса. Здесь идет другой внутренний процесс, отличающийся от того, когда человек сначала апеллирует к своей совести. То есть совесть действует только в узкой сфере. В семье это имеет значение. Там это хорошо. Как только ее начинают обобщать как действительную для всего человечества, начинается надменность и заносчивость. И тогда от Бога тоже требуют, чтобы он был моральным — а именно, соответствовал нашей морали, — и тогда все превращается в абсурд. «Знающее и страдающее участие». О неизбежной вине То есть совесть как орган сохранения равновесия полезна для маленьких групп и деструктивна в больших, потому что она исключает? Что касается совести, здесь я различаю две сферы. Во-первых, принадлежность и привязанность. Об этом мы говорили. Во-вторых, уравновешивание, баланс между «давать» и «брать». Потребность в уравновешивании управляется инстанцией, которую мы ощущаем как совесть. Это две разные сферы, которые нельзя путать друг с другом. Связывающая совесть является первичной? Да, потому что эта совесть ощущается глубже всего. Вы сами много говорите о том, что «хорошо», а что «плохо». Что для Вас будет «чистой совестью»? Тот, кто хочет делать добро, часто должен действовать по ту сторону совести. Когда человек ссылается на свою совесть, в нем говорит ребенок. Но, когда он говорит: «Я вижу, что происходит», и, судя по всему, он участвует в процессе и принимает определенные меры для того, чтобы привести что-то в порядок, тогда он действует стратегически, независимо от совести. Он действует, только опираясь на то, что возможно, или что невозможно. Он, например, может работать в службе разведки или в тайной полиции — ведь многие борцы сопротивления работали в аппарате. Они работали стратегически и ждали подходящего случая. Можно сказать, что они были в определенной степени независимы от своей совести. И они не позволили своей совести нанести себе вред. Это следующий уровень. Это взрослый, который видит всю игру. Вместо того чтобы попасть в тюрьму и внутренне чувствовать себя хорошим — и остаться ребенком, — он действует стратегически. То есть имеется возможность выйти из сферы принадлежности, в которой человек связан своей совестью? С этой точки зрения, да. Вспомните об Аденауэре. Он только ждал. Есть пример немецкого солдата, который, получив команду расстрелять партизан, перешел к ним. Это было неумно. Вы говорите, что это неумно? Я сказала бы, что он пожертвовал собой, потому что расстрел других людей не сочетался с его совестью. Когда он делает это, он чувствует себя невиновным. И он чувствует себя большим. Ощущая себя невиновными, люди чувствуют себя большими и лучшими, чем другие. Но партизанам он был не нужен. И сербы не хотят устанавливать ему памятник. Это трагично. Он ведь мог выстрелить в воздух. Когда я представляю себе такую ситуацию, я чувствую большое уважение к человеку, который пожертвовал собой, чтобы не стать виновником смерти других людей. У меня сразу возникает возмущение, когда Вы говорите, что он мог стрелять в воздух. Под этим я имею в виду следующее. Этот человек был привязан к определенному представлению. Это, конечно, честно. Но у него также было представление, что другие примут его, что он может просто так покинуть свою группу. Так не получится. Ведь с другими у него не было ничего общего. В итоге он оказался один, между «двух огней». Это трагично. На войне солдат должен стрелять. Он не может стоять и ничего не делать. Он вплетен б вину и невиновность своей группы. Если он соглашается с тем, что он вплетен, он делает шаг за пределы этой узкой совести. Согласие делает это возможным. Он смотрит в глаза неизбежному. Это делает смиренным. И он приобретает достоинство за пределами любого морального высокомерия. Это звучит парадоксально: благодаря тому, что я полностью принимаю принадлежность, я полностью выхожу за пределы или немного отхожу в сторону? То есть участие из энтузиазма является для Вас чем-то иным, чем участие из понимания того, что невозможно избежать вины. Именно так. А затем соглашаются с виной. Первое — это слепое участие, а второе — это......знающее и страдающее участие. Это делает смиренным. А трагической ситуация становится в том случае, когда человек выходит из группы и нигде не может найти себе место. Да, он остается ребенком. Взрослый знает, что вина неизбежна, и соглашается с ней. Он знает, что бы он ни делал, он не сможет избежать вины, и делает все возможное и наилучшее в данных обстоятельствах. Разве тогда мы все не являемся детьми? Чем мне поможет констатация: «Он — ребенок»? Это легко превращается в оценку по принципу: «Ага, он все еще не повзрослел». Л это раздражает. Это не оценка. Это констатация факта, что человек не вышел за границы. Он остается ребенком, и поэтому он остается связанным и не может ни на что влиять. Хотя он будет испытывать хорошие чувства, но он не приводит ничего в движение. В чем здесь суть, когда Вы говорите, что они вообще ничего не приводят в движение? Вы считаете, что люди своими действиями всегда должны чему-то способствовать? Нет. Я считаю, что тот, кто хочет чему-то способствовать, должен знать, что вина неизбежна. Политики не бывают невиновными, они всегда берут на себя вину. Без нее невозможно обойтись. На большом уровне вина неизбежна. Кто соглашается с этим и в этой ситуации обдумывает, что будет лучше всего, тот действует правильно. Но не с чистой совестью. Он знает: Одно — плохо, и другое — тоже. Он взвешивает. Но что бы он ни сделал, он будет виновным. Я вспоминаю о речи Гельмута Шмидта после убийства Ганса-Мартина Шлейера в Бундестаге. Он тогда сказал что-то похожее. Он стоял перед выбором уступить террористам или нет. Он знал, что он жертвует Шлейером, но вне зависимости от своего решения он был бы виновным. В другом интервью он сказал: «Ганс-Мартин Шлейер все еще смотрит на меня». Это остается с ним. Это значит, что принятие решения всегда сопровождается риском стать виновным? Когда нужно принимать решение, невозможно предвидеть, как развернется ситуация. Когда я принимаю решение и считаю, что это приведет к чему-то хорошему, возможно, затем я увижу, что это способствовало чему-то плохому — и наоборот. Многие из тех, кто считает, что они делают хорошее дело, вдруг прозревают и видят, что со всем этим стало. Мы никогда не можем быть уверенными в том, к чему приведут наши действия. Какой здесь должна быть человеческая позиция? Человек соглашается с тем, что это так, он не может принять «правильного» решения, он не знает заранее, что из этого получится. Но он берет на себя ответственность за последствия. То есть здесь речь идет о личной ответственности. Не перекладывать ответственность за свои действия. на других Вы говорите, что мы не знаем, какие последствия будут иметь наши решения. Это звучит иначе, чем высказывание: «В тот момент, когда я выхожу за границы совести и готов взять на себя вину, я становлюсь взрослым и действую правильно». Нельзя проводить такую связь. Для меня речь здесь идет о том, чтобы люди признавали, что у них есть свои границы. Это в моём понимании «хорошо». «Это конечная точка индивидуализации» Об архаической совести и о поле Вы все время говорите о «полях». Какое они имеют отношение к совести? У нас есть моральная совесть. Она следит за тем, что я должен делать для того, чтобы принадлежать к группе. Мы это не очень хорошо осознаем, но, тем не менее, мы знаем об этом. Мы можем почувствовать это как «чистую» или «нечистую» совесть, как невиновность или чувство вины. Руперт Шелдрейк говорит в этой связи о «духовных полях». Это, конечно, только вспомогательные понятия. Но я наблюдал, что существует еще и другая совесть. Я называю ее «архаической совестью». Она не проявляется в виде чувства вины или невиновности. Она намного старше, чем моральная совесть, действительно архаическая. Она имеет какое-то отношение к привязанности? К порядкам, которые Вы обнаружили. Возможно. Меня постоянно спрашивали, откуда берутся порядки, которые я наблюдал в семейных системах. Как это возможно, например, что, рожденный в семье позже замешает исключенного члена семьи, что человек испытывает чувства другого человека, что кто-то ощущает тягу в смерть. Я последовал за этим и попытался представить себе, какие были отношения между людьми в самом начале, в древних племенах. В это архаическое время никого не исключали. Все принадлежали к группе. В группах, которым для выживания приходилось держаться вместе, нельзя было никого исключить. Например, до сегодняшнего времени у племени масаи никого не исключают из группы. Я как-то читала, что потребовались сотни тысяч лет для того, чтобы племена развились до такой степени, что люди могли выжить и сохранить свой вид. Обучение проходило не при помощи инстинктов, как у животных. Так как у людей было меньше сил, и их органы чувств были не такими восприимчивыми, как у зверей, они обучались при помощи структур. Совместное действие было настолько элементарным, что с течением времени оно стало действовать как инстинкт, который обеспечивал выживание. Является ли этот «инстинкт» тем, что Вы называете архаической совестью? Для чего важна эта мысль? Архаическая совесть не терпит исключения из системы. Этот системный закон действует в душе до сегодняшнего времени. Мы видим это во время семейных расстановок. Если в системе когото исключают, тогда под давлением какой-то другой «инстанции» в будущем один из рожденных позже членов семьи будет его замещать. То есть, с точки зрения целостности, он не может быть исключен. Так действует архаическая совесть. Она не терпит никакого исключения из системы. Какое отношение это имеет к «палю»? Никто не может выйти из поля. Образ поля тесно связан с архаической совестью. Исключенный остается в поле и продолжает быть в резонансе со всеми теми, кто принадлежит к этому полю. И он дает о себе знать. То есть моральная совесть моложе архаической, и она «с чистой совестью» исключает кого-либо. Как они взаимодействуют? Они действуют друг против друга. У морали есть представление, что можно от чего-то избавиться. Например, от проблемы, от болезни, от человека. Но в поле ничего не пропадает. Из-за морали нужно кого-то исключать. Но исключенный человек из-за архаической совести остается в поле. Поэтому кто-то другой в поле будет его замещать. Это проявляется в семейных расстановках тем, что другой член системы чувствует себя как исключенный или даже повторяет его судьбу. Это и есть «переплетение», которое в расстановке становится явным. Так проявляется власть поля и бессилие морали. Можно ли так сказать, что орган равновесия «моральная совесть» исключает человека, но она не «знает», что существует архаическая совесть, поле, которое «запрещает» исключение? Совершенно верно. Архаическая совесть следует еще одному закону. В племени у каждого есть свой ранг в соответствии с возрастом, и в течение жизни он поднимается. Этот порядок является жизненно важным для сплоченности, то есть для выживания. Если кто-то сопротивляется этому, он подвергает опасности и себя, и выживание всех членов племени. Например, рожденный позже из лучших побуждений с «чистой совестью» нарушает эту архаическую иерархию и погибает. Так происходит в греческих мифах, в трагедиях Шекспира и в реальных семьях. Когда люди нарушают эту иерархию, они терпят неудачу, заболевают, умирают. Это звучит как твердый закон, как скрижали Моисея. Это необходимо понимать. «Мораль» в свое время была прогрессом — когда я, например, думаю об Орестее, о сестре, которая хотела похоронить своего брата Ореста. Отмечают ли трагедии что-то типа демаркационной линии между моральной и архаической совестью? В трагедиях мы узнаем еще кое-что. Тот, кто нарушает иерархию, противопоставляет себя группе. Эта индивидуализация является очень важной в смысле прогресса. И моральная совесть, которую мы ощущаем как вину или невиновность, находится на службе у этой индивидуализации. То есть индивидуализация заранее программирует эти конфликты. Это имеет свою высокую цену и большую выгоду. Вопрос состоит в следующем: существует ли баланс между архаической и моральной совестью? Этому служат семейные расстановки. Чуть раньше мы говорили о свободе и автономии. «Я свободен, я ни с кем не связан». Благодаря расстановкам эта точка зрения ослабляется. Это как уравновешивание. Оно состоит в том, что я осознаю и соглашаюсь с тем, что я вплетен в систему. Это конечная точка индивидуализации. Тогда обе эти совести не противостоят друг другу. Это огромное развитие и расширение сознания. На протяжении веков эта борьба стоила крови и слез. Если мы сейчас будем видеть и уважать их согласованность, тогда мы получим выгоду без необходимости платить за это какую-то цену. Означает ли это, что в семейных расстановках мы имеем дело с архаической совестью? Это звучит как шаг назад — назад от свободы к родовому порядку. Наоборот. По результатам расстановок мы видим, что слепота моральной совести толкает в переплетения. «Шаг назад» к архаической совести является познанием. Мы начинаем осознавать что-то ранее вытесненное. А именно то, что никого нельзя исключать. Это делает возможным продвижение к миру и согласию и осознание того, что никто не является свободным, потому что он вплетен. «Я — немец, но не горжусь этим». О примирении и патриотизме Давайте еще раз вернемся к «полю». Можем ли мы покинуть эти «поля»? Руперт Шэлдрейк наблюдал, что эти духовные, или морфические поля всё время повторяют одно и то же. В таком поле невозможно существование нового восприятия. Во время расстановок становятся видимыми и разрешаются переплетения. Это изменяет что-то в поле, например, в семье или для отдельного человека. Но из-за этого он не покидает поля. Я не понимаю этого. Может быть, пример поможет. Вы говорите, что все немцы, за очень маленьким исключением находились в поле национал-социализма, или люди в России были в поле сталинизма. После войны в Германии была дискуссия о тезисе коллективной вины, который говорил, что все немцы были виновны. Когда Вы говорите о «поле», Вы имеете в виду, что на душевном уровне эта коллективная совесть распространяется дальше, а не только на тех, кто физически присутствовал там или жил в то время? Да, совершенно однозначно. Во время дискуссии о коллективной вине речь шла о том, можно ли привлекать к суду отдельных лиц. Так, конечно, не пойдет. Это бессмысленно. Но имеет смысл то, чтобы все подняли руку и сказали: «Я тоже принимал в этом участие», а не отделялись от преступников, говоря: «Это были Вы, а я - нет». Какую Вы предлагаете душевную позицию? Стать рядом с ними и сказать: «Я признаю, что я тоже принимал участие в этом». И затем посмотреть не только на обвиняемых, но и на то, что натворили все стороны. Посмотреть на мертвых евреев, на цыган, на все то, что произошло в странах, на мертвых солдат и на наших собственных жертв, убитых при бомбежках — без упрека, просто так. И отдаться глубокой скорби, которая ведет к объединению со всеми. Это имеет успокаивающее, освобождающее значение. Тогда прошлое может пройти, остаться в прошлом. Немцы даже не говорят о том, что они немцы, что с удивлением отмечают в других странах. Обоснованно, потому что они не признали того, что они тоже принимали участие. Если бы они сделали это, тогда они смогли бы сказать: «Я — немец». Но без гордости, просто: «Я — немец». Это совершенно другой уровень. Эти дебаты о патриотизме уходят в пустоту. До тех пор, пока мы все вместе не предстанем перед лицом всего, что было, мы все вместе не сможем смотреть в глаза другим, и они также не смогут смотреть нам в глаза. Примирение начинается на этом глубинном уровне. Если я сейчас скажу: «Хорошо, я — тоже немка, я принадлежу ко всему этому и тоже виновна в этом». Это странно. Мне не стыдно. Чем отличается ощущение вины непосредственных участников от тех, кто, как, например, мои сыновья ничего не понимают во всем этом, но также являются частью поля? Понятие «вина» здесь не подходит. Вина означает, что я несу ответственность. Здесь никто не несет ответственность. Все, что происходило, было несомо более мощной силой. Тогда он должен сказать: «Я являюсь частью движения. Я не отказываюсь от этого». Он должен только признать: «Я тоже принадлежу к этому, и я тоже испытываю на себе последствия». Но без вины. Это не имеет сюда отношения. Не нужно стыдиться. Это глубокий процесс объединения, что-то глубоко человеческое, что открывает меня другим и лишает других сопротивления, чтобы они смогли пойти мне навстречу. Это значит, поле не успокоится до тех пор, пока существуют люди, которые отгораживаются и говорят: «Яне принадлежу к этому, мой отец был коммунистом». Или: «В то время меня еще не было па свете, я — антифашист»... «...и так как я к этому не принадлежу, я лучше, чем ты». Они толкают других в это поле и показывают на них пальцем, но не заходят туда сами. Это лицемерие. Это видно по воздействию. Это продолжается все дальше, и дальше, и дальше. Всегда одни и те же слова. Бесконечно. Если бы в душе существовало такое примиряющее движение, тогда поле изменилось бы или исчезло? Возможно, оно изменится. Но силы, которые противостоят этому, тоже сильны. В этом у меня нет никаких иллюзий. Но, если некоторые люди подобным образом обретут мир и покой в себе, примирившись с прошлым, это будет означать, что произошло что-то прекрасное. И для меня этого совершенно достаточно. Маленький пример из исторического контекста: если вспомнить, с каким воодушевлением солдаты шли на фронт в Первую мировую войну — это тоже было поле. Сегодня это уже невозможно. Это изменилось. И всем стало лучше. «С любовью смотреть на мертвых, вместо того чтобы взывать к совести живых». О памяти и вытеснении Заглянуть в прошлое для того, чтобы приобрести будущее, это способ осознанного обхождения с историей. Идея такая: «Мы стали такими, какие мы есть — этому мы учимся из прошлого». Это достижение психоанализа, вместо вытеснения использовать сознательное восприятие. Каждому народу нужна коллективная память, у каждого народа она есть. Сейчас Вы говорите: «Плохое должно иметь право пройти и остаться в прошлом». Когда воспоминания становятся деструктивными? Почему ретроспективный взгляд не является для Вас возможностью посмотреть вперед? В психоанализе речь идет о том, что вытесненное имеет определенное влияние. Это неосознаваемое выводят в сознание. Благодаря этому с ним можно что-то делать. Человек может его интегрировать, и тогда оно проходит. Оно проходит, потому что человек вспомнил об этом. Это исцеляет. Во многих психотерапевтических подходах вытесняемые драматические события выводят на свет для того, чтобы завершить их. Эти события подобны движению, которое замерзло, подобное происходит и при травме. В случаях травмы это движение еще раз запускается, пока травма не потеряет в движении свою силу и не сможет пройти. О ней нужно вспомнить для того, чтобы она смогла остаться в прошлом. И с таким типом воспоминаний Вы согласны? Что же Вам тогда мешает в том, как вспоминают немцы? Когда человек вспоминает, он легко остается в плену у прошлого — из-за этого он теряет будущее. Возьмем, например, такие ужасные события, как война или бомбежка, например, Дрездена или Хиросимы. Люди погибли, ужасно и драматично. Как я могу их вспоминать? Я могу дать им место в своей душе. Тогда я буду в мире с ними и смогу отпустить то, что произошло. Потому что они больше не разделены со мной. Благодаря тому, что они находятся в моей душе, я беру их с собой в мое будущее, и они тоже воздействуют на будущее. Это исцеляющее воспоминание, которое в то же время позволяет прошлому пройти. Англичане говорят «Re-member»'. Я считаю это слово очень наглядным. Получив в душе место, умершие, а не события, идут вместе с нами в будущее? Именно так. Но есть такой вид воспоминаний, который равен вечному упреку: «Вы должны помнить, какие преступления вы покрывали, какие вы плохие». Или возьмем Германию после Версальского договора. Тогда это звучит так: «Договор был несправедливым. Мы никогда не должны этого забывать. Мы должны это помнить». Это «воспоминание» внесло свой вклад в развязывание Второй мировой войны. Ужасные воспоминания часто используются для того, чтобы снова продолжить конфликт или оправдать его продолжение. В таких типах воспоминаний всегда есть «хорошие» и «плохие». Здесь поддерживаются те воспоминания, которые делают других еще хуже и злее. Таким образом, подготавливается почва для следующего конфликта. Эти апостолы воспоминаний не смотрят с любовью на мертвых. Вы говорите здесь о душевном процессе, а профессионалы по вопросам долга памяти говорят о политике. Хорошая и плохая политика начинается в душе. Вот так. Что же тогда вообще можно добиться при помощи памятников? Военные памятники часто бывают мирными памятниками. В Берхтенсгадене я как-то подсчитал количество погибших в Первую и Вторую мировые войны. Их было 170 человек. Это хорошее воспоминание. Я открываю этим солдатам свое сердце, я вижу их перед собой, и это хорошо воздействует на меня. Но такие огромные памятники, как тот, в Берлине — нужно просто сделать опрос, конечно, тайный опрос — что он вызывает в душах? И что он вызывает в душах евреев, живущих в Германии? Он не служит примирению. Это для меня совершенно ясно. Иначе не пришлось бы преодолевать такое сопротивление. Разве только, если использовать его как знак того, что всем тем убитым и изгнанным евреям снова дано место в нашем центре, в сердце нашей столицы. Навязанное воспоминание — это нехорошо. И, напротив, в Иерусалиме рядом с этим большим памятником жертвам Холокоста мертвые попадают в поле зрения без упрека. То же самое касается памятника жертвам первой атомной бомбы в Хиросиме. Это воспоминание, которое служит будущему. Remember — «помнить», «ге» — образует слова со значением «заново», «снова», «member» — «член группы», «Re-member» — «снова член группы». — Прим, перев. «Прошлое должно иметь возможность остаться в прошлом в наших сердцах». Об уравновешивании в виде мести и негодования Но ведь, когда речь идет об отношениях в семье, Вы все время говорите об уравновешивании между «давать» и «брать», об основополагающей потребности в уравновешивании в системах. В наших личных отношениях исправление и требование уравновешивания являются необходимыми и справедливыми. Иначе отношения разрушаются. Но эти требования нельзя скопировать и перенести на отношения между народами. Требование уравновешивания претерпеваемой несправедливости является движущей силой, стоящей за многими войнами. Существует совершенно другой вид воспоминаний. Представьте себе, что Вы умерли и о Вас вспоминают. Даже пишут Ваши биографии. Как Вы себя чувствуете? Иногда я спрашиваю себя: как чувствуют себя мертвые, когда мы водружаем им памятник? В Аргентине я как-то делал расстановку матерям Плаза дель Майо и их исчезнувшим детям. Один из расставленных мертвых детей сказал: «Хуже всего для меня то, что на этой площади написано мое имя. И я не успокоюсь до тех пор, пока оно будет там написано». Он чувствовал, что его используют для выдвижения претензий. Некоторые воспоминания используют умерших и используют их — выражаясь экстремально — как оправдание для развязывания войны. Вспомните конфликт в Косово, битву на Косовом поле. Сначала была битва в Косово 28 июня 1389 года, более 600лет назад, между мусульманами — оттоманами и христианами — сербами. Сербы убили одного султана, тогда другой султан убил сербского принца Лазаря. Затем христиане, то есть сербы, возвели принца Лазаря в лик святых, и оттоманы обозлились на сербов. Через 500 лет, 28 июня 1914 года в Сараево приехал австрийский кронпринц. Сербы его убили. Это стало началом Первой мировой войны. Затем в 1989 году пришел Милошевич, и опять 28 июня. Он превратил останки святого Лазаря в монумент в Косово. Там стоит: «Июнь 1389 — июнь 1989. Мы не позволим мусульманам господствовать над сербами». Затем началось истребление — так началась война в Косово. Это память, идущая через поколения... ...в которой потребность в уравновешивании на общественном уровне одерживает верх и мобилизует чувство мести? Именно так. Этот вид воспоминаний имеет драматическое влияние. Что-то подобное происходит сейчас в Латинской Америке и у индейцев в Канаде. Если человек постоянно вспоминает все ужасное, тогда мертвые уводят нас от настоящего. И это имеет плохое воздействие. Прошлое должно иметь возможность пройти в сердцах людей. Тогда они могут повернуться навстречу другому будущему... ... и им ничего не придется повторять. То есть существуют такие воспоминания, которые разжигают негодование, поддерживают и оживляют его. Так сделали нацисты с Версальским договором. Подобные воспоминания приносят только эмоции и потребность в уравновешивании: приходится платить еще и еще раз. Это плохо. У Кастанеды есть одна фраза: «Нужно забыть свою собственную историю. Это имеет невероятный эффект». Если народ определенным образом «забудет» все плохое, приняв при этом в свое сердце мертвых того времени, тогда больше ничего не нужно будет вспоминать. Тогда мертвые в известной степени пойдут с нами в будущее. Многие говорят: «Мы должны помнить, чтобы этого больше не произошло». Есть страх, что именно забвение позволяет произойти самому ужасному. Этот страх забвения поддерживают со временем немного облупившиеся строки Брехта: «...ростки еще плодородны...». Одной из причин возникновения новых войн является написание истории... ..., которое поддерживает возмущение и распаляет негодование? Тот, кто негодует из-за чего-то плохого, выглядит так, как будто он стоит на стороне добра, против зла. Он становится между преступником и жертвой для того, чтобы не допустить продолжения плохого. Что против этого возразить? Негодующий ведет себя так, как будто он является жертвой. Но он ею не является. Он берет на себя право требовать от преступника компенсации, хотя ему самому никто ничего не сделал. Он превращается в адвоката жертв, потому что они больше не могут сделать этого. Почему это не может быть достойно уважения? Разве мертвые дали ему это право? Что делает негодующий? Он берет на себя право наносить преступнику вред. Таким образом, конфликт продолжается. Негодующие, как правило, удовлетворяются только тогда, когда преступник уничтожен и унижен — даже если это увеличивает страдания жертв. «Негодованию не знакомо сострадание» О мире и чистой совести Негодование является мотивом для многих политических движений, в основе которых лежит мораль. Вы же, напротив, ратуете за любовь вместо уравновешивания. Это душевное движение. Что Вы имеете против морали? В случае морали речь идет чаще всего о выполнении требований. Негодующий чувствует себя исполнителем приговора и так себя преподносит. Поэтому ему, в отличие от человека, который любит, не знакомо сострадание и мера. Сюда добавляется еще кое-что. Кого бы мы ни осуждали и ни проклинали, мы получаем его энергию. Это относится к сыновьям и дочерям, которые ни в коем случае не хотят стать такими, как их родители, а также к негодующим, которые борются с преступниками всех мастей. С тех пор, как расстановочная работа вызывает интерес во всем мире, Вы делаете во многих странах также политические расстановки. На каком опыте Вы основывались при их проведении, и что Вы благодаря им открыли? Важным открытием в политических расстановках было то, что жертв и преступников тянет друг к другу. Только тогда, когда я стал это использовать, стало возможно делать работу для укрепления мира. Меня три раза приглашали в Израиль для проведения семинаров, и я делал там как раз то, что я уже описывал. Я поставил жертв и преступников напротив друг друга. И здесь тоже было видно, как их тянуло друг к другу. Они не могли этого избежать. Там была, например, одна женщина, которая сказала: «Моего отца убил араб». Тогда я поставил заместителя ее отца, а напротив него заместителя убийцы. Убийца боялся. Вдруг отец протянул ему руку. Оба они подошли друг к другу и обнялись. Затем отец опустился на пол, как мертвый, и араб, убийца, лег рядом с ним. Они примирились в смерти. При проведении этих расстановок я сделал еще одно очень большое открытие. Я увидел, что мертвые, мертвые жертвы и мертвые преступники, могут и хотят найти дорогу друг к другу, за исключением тех случаев, когда их потомки берут дело умерших в свои руки и хотят еще раз повторить всю драму. Так они встают на пути у примирения. То же самое я увидел в Турции в конфликте между турками и армянами. И в Японии я увидел это. Когда люди позволяют происходить движениям души, они чувствуют и видят, что душа в своей глубине хочет примирения. Она хочет объединить то, что было разделено. А что этому препятствует? Прежде всего, чистая совесть. Все крупные конфликты получают свою силу в чистой совести. Все эти ужасные деяния в отношении других людей, все эти нападения осуществляют те люди, которые считают, что у них чистая совесть и что они невиновны. Они считают, что чистая совесть может дать им право нападать на других и даже уничтожать их. Агрессия, направленная против других, питается из собственной чистой совести. При этом у каждой стороны — другая совесть, но в любом случае чистая. В Испании, на расстановке по поводу конфликта между басками и испанцами, происходило то же движение. Один баск делал расстановку. Он был совершенно открыт для такого примирения. А на следующий день ему тайно подсунули записку, в которой его предупреждали и угрожали смертью. Почему? Потому что он любил, потому что он хотел преодолеть разделение. «Будущее есть тогда, когда прошлое получает возможность пройти». Политические расстановки Вы упоминали о Латинской Америке и Канаде. А о каких конфликтах идет речь там? Во Флориде ко мне на семинар пришла женщина, из племени инков из Перу. Она сказала, что чувствует себя так, как будто у нее отрезана голова. Во время завоевания испанцами король инков был обезглавлен. Поэтому я сразу же увидел здесь связь. Во время расстановки я попросил заместителей убитых инков лечь на пол на спину и поставил заместителя тогдашнего короля инков. Он опустился на колени, закрыл глаза и склонил голову перед жертвами-инками — оставаясь совершенно недвижимым. Он был как мертвый. Рядом с ним стояли три заместителя испанцев, то есть завоевателей. Они также не шевелились. Затем я поставил в расстановку эту женщину из инков. Она подошла к заместителю короля и хотела оживить его. Она попыталась поднять и поставить его. Но с его стороны не было никакого движения, совершенно никакого импульса. Он просто упал. Женщина ничего не могла сделать. Было очевидно, что все эти инки были мертвы, для них прошлое осталось в прошлом, абсолютно. Затем женщина стала рядом с испанцами, посмотрела на одного из них и взяла его за руку, и другого тоже. В этот момент заместители испанцев посмотрели на мертвых инков и заплакали. Это было примиряющее движение. Женщина еще раз посмотрела направо и налево и осталась стоять рядом с испанцами. На этом я прервал расстановку. Я спросил у женщины: «Что сейчас?» Она сказала: «Моя голова и мое тело снова соединились друг с другом». На следующий день она написала мне письмо о том, что она была прямым потомком последнего короля инков, который в 19-ом веке организовал восстание против испанцев, и его четвертовали. Эта женщина сначала передвигалась в поле своего предка, в прошлом, а в расстановке она перешла в поле настоящего. Так для нее прошлое смогло пройти, остаться в прошлом. Значит, это пример того, как люди могут медленно передвигаться из «поля» прошлого в новое поле? В Венесуэле нефтяная компания забрала у индейцев землю. Сейчас там добывают нефть. Это мобилизует сопротивление не только у индейцев, но и, само собой разумеется, у многих других. Есть ли у этого сопротивления будущее? Можно ли в сегодняшних условиях спасти прошлое этих индейцев? Нет. Только у тех индейцев есть будущее, которые могут отпустить это прошлое и позволить ему пройти, например, если они пойдут работать в эту нефтяную компанию. Только у них. Что-то подобное я видел в Канаде. Туда меня пригласило одно племя индейцев для проведения семинара. На доске в помещении семинара был написан девиз: «Honoring the voices of the past» — «Уважение к голосам прошлого». Рядом они написали ключевые слова, такие как уважение, почитание, любовь, смирение — красивые ключевые слова. Затем я спросил их: «Когда вы смотрите туда, что происходит в вашей душе?» Все они чувствовали печаль и были как парализованные. За день до семинара мы были приглашены в городскую управу для того, чтобы сделать там доклад. Одна женщина рассказала, что как раз в это время проходила большая дискуссия о будущем и были большие страхи по поводу будущего. У местных индейцев есть священная гора. Я вместе с ними поднялся на нее. Она играет для людей важную роль. Для них эта земля священна. Но большая международная организация хотела начать в этой индейской местности поиски полезных ископаемых. Из-за этого вся жизнь этого племени может быть перевернута наизнанку. Нас попросили поддержать прошение в органы власти о блокировании этих мероприятий. По закону в этом районе существует самоуправление. Но есть мало надежды на то, что этот закон не будет нарушен. Вопрос здесь состоял в следующем: где находится будущее? В настоящее время ситуация там такая, что женщины ни во что не ставят мужчин. Мужчины находятся в подвешенном состоянии, потому что у них нет будущего. Одним из следствий этого стало распространение алкоголизма, Я сказал им: «Вы все еще воины и охотники, но в этом направлении здесь нечего делать. Это прошло, осталось в прошлом». «Где ваше будущее?» — спросил я их. «Вы должны превратиться из воинов в рабочих — там будущее». Это была политическая интервенция, которая приводит к переосмыслению в душе. Нет никакой возможности интегрировать старое в новое? Нет, ее не существует. В этих примерах общим является то, что будущее существует только, когда прошлое может пройти и остаться в прошлом. Здесь не существует различия между душевным и политическим пространством? Здесь душевное и политическое одинаковы. Нет никаких различий. Этот шаг должен быть подготовлен в душе, а затем из этого следует решающее действие. Затем я еще был в Колумбии. Там продолжается гражданская война. Там господствует невероятное насилие. Почти в каждой колумбийской семье есть жертвы. Я разговаривал с одной женщиной, которая хотела быть посредником между противоборствующими сторонами: гуэриллас и парамилитэрс, следить затем, чтобы они соблюдали правила ведения войны. Я спросил: «Какие же правила войны они должны соблюдать? Ни у одной стороны нет реальных целей. Они всего лишь убийцы. Одна сторона убивает, и другая тоже». Мой образ состоял в следующем, то, что там происходит, является попыткой обратить вспять колонизацию. Эти агрессивные движения выгоняют из страны высший слой общества. Обстоятельства вынуждают их делать это. Это значит, люди уходят, потому что настолько сильны агрессивные силы? В моем семинаре в Боготе принимала участие одна женщина, чей муж был похищен гуэриллас. Он снова получил свободу, скорее всего, заплатив им большой выкуп. Она сказала, ее муж совершенно изменился, он был надломлен, вел себя, как ребенок. Он был менеджером на крупном сахарном заводе, на котором работало 3000 сотрудников. Сначала я поставил мужчину и напротив него несколько его рабочих. Они были невероятно злы на него. Тогда я поставил заместителя гуэриллас. Рабочие в душе были на стороне гуэриллас, и было очевидно, что мужчина был похищен не без причин. Расстановка показала, что эта семья должна покинуть страну. Для нее нет иного решения после всего того, что там произошло. Я ни в одной стране не видел так много безнадежности, как в Колумбии. В Боготе я показал в университете на видео одну расстановку из семинара в Оаксака. На этом видео одна женщина из Колумбии, которая симпатизировала гуэриллас, хотела выяснить свою ситуацию. Я поставил пять заместителей гуэриллас и пять заместителей их жертв. Они лежали на полу. Заместители гуэриллас сначала были совершенно неподвижны. Затем один из них очень медленно пошел к жертвам, и одна из жертв потянула еще одного из представителей гуэриллас к себе. Она хотела притянуть его к себе вниз. Но он стоял неподвижно. Еще один из заместителей гуэриллас был совершенно застывшим. Это был их предводитель, как оказалось позже. Затем я поставил заместительницу Колумбии. Ее боль была душераздирающей. Она не могла ориентироваться. В конце все, кроме предводителя, лежали на полу. Он покинул поле. И здесь речь шла о борьбе и сопротивлении. Но что это дает? Скольким жертвам это стоит жизни? Так много жертв, а взамен ничего. Это просто убийства, убийства, убийства, а страна истекает кровью. Нельзя сказать, что этой войны можно было избежать. Она неизбежна. Но все были, как шахматные фигуры, без ясных собственных целей и, в итоге, оказались только преступниками. Возможно, что-то сможет измениться только тогда, когда все обессилеют. Это два разных высказывания. Один раз Вы сказали: «Что это дает? — только трупы». В другой раз: «И все-таки это должно было произойти для того, чтобы, возможно, появилось что-то новое». Так и есть. Почему Вы называете эти расстановки «политическими»? Потому что они показывают, что изменения в душе могут иметь свое воздействие в обществе. Изменения в общественном пространстве начинаются в душе. Как я уже сказал, я показал это видео в университете Боготы. Все зрители рыдали, все. Они просто все сидели и рыдали. Это их очень тронуло. Но, если они хотят действовать, они должны повернуться лицом к конфликту, стать его частью. Ведь мир, в итоге, будет заключен между генералами. И тогда генералы, которые боролись, вдруг увидят: так дальше не может продолжаться. После этого они будут способны заключить мир. Что Вы имеете в виду, когда говорите о генералах? То есть сна-нала нужно убивать, чтобы стать способным к заключению мира? Нет. Я говорю это с уважением ко всем, никого не обсуждая и не осуждая. В итоге они будут стоять рядом с теми, против кого боролись. Когда Вы говорите это, о чем для Вас идет речь? Для меня речь идет в итоге о человечности. Политика, которая, в итоге, не способствует проявлению человечности, плохая политика. Умение править государством для меня означает объединять людей. Когда Вы говорите, что в итоге речь идет о человечности, в каком смысле Вы употребляете это понятие? Ведь в повседневной жизни с ним связана оценка. Что для Вас обозначает «человечность»? Что ни один человек не лучше другого. Что «быть хорошим» и «быть плохим» — свойственно человеку, и является человечным. Нельзя зарезервировать человечность только для хорошей стороны. Те, кто делают это, в итоге оказываются самыми бесчеловечными. А что Вы имеете ввиду под бесчеловечным? Это те, кто противопоставляет себя другим людям. Это бесчеловечно. Во время семейных расстановок «движение умиротворения» состоит в том, что в систему возвращают исключенных. Как обстоят дела в политических расстановках? Что является здесь основой? В политических расстановках, исходя из того, как я их проводил до сих пор, речь идет о том, как народу найти свое будущее после многих лет борьбы и убийства. Речь идет о том, чтобы преступники и жертвы нашли дорогу друг к другу, чтобы стал возможен новый шаг в общее будущее. И это движение мира начинается в душе. И что ему препятствует? Те потомки, которые при помощи осуждения продолжают борьбу в настоящем. Вы сказали, что так было всегда? Везде, где я с этим работал. В Израиле, в Латинской Америке, в Китае, где речь шла о конфликте между японцами и китайцами, или у индейцев — всегда происходит один и тот же процесс. Первоначальные противники могут соединиться в мире мертвых. Нужно позволить им посмотреть друг другу в глаза, воспринять друг друга, как человек человека, и вместе обрести покой. Вы говорите, что это происходит при помощи движений души, и что Вы не вмешиваетесь в этот процесс. То есть мертвые «хотят» этого, и потомки часто стоят у них на пути. Почему мертвые не могут сделать это сами? В поле они не могут сделать это сами о себе. Так, по крайней мере, показывают расстановки. Потомки должны позволить им сделать это. Как позволить? Как это должно выглядеть? Потомки объединяют в своей душе обе стороны, преступников и жертв. Для этого им нужно принять в свое сердце и преступников, и жертв. Иначе ничего не получится. Если им удастся сделать это, тогда прошлое пройдет. Мертвые смогут удалиться и на самом деле стать мертвыми. Тогда больше нет реванша, тогда человек смотрит вперед. И вместо мести опять есть место для любви? Можно и так сказать. Это значит, что политические расстановки, возможно, способствуют такому «соединению» в душе — «Re-member». Но ведь это остается немного индивидуальным? Чему они способствуют на политическом уровне? Это меня не интересует. Я посадил маленькое растеньице, и не более. Но ясно то, что я сделал что-то, имеющее хорошее воздействие. «Будут ли тогда поляки больше любить немцев?..» О требованиях репарации Когда Вы в прошлом году были в Польше, как раз проходили дебаты о компенсации. Ее требовал немецкий союз изгнанных. И в ответ на это некоторые польские парламентарии предлагали потребовать компенсацию с немцев. К чему это приведет? На одном мероприятии в Польше я спросил участников: «Представьте себе, что поляки выплатят изгнанным немцам компенсацию. Будут ли тогда изгнанные больше любить поляков? Или наоборот, немцы выплатят репарацию полякам. Будут ли тогда поляки больше любить немцев? Будут ли они удовлетворены? Не будет ли все это продолжаться бесконечно? Не пора ли уже положить этому конец и сказать: «Все, хватит»? Эти требования никому не приносят пользу и не дают ничего хорошего тем, кого это на самом деле затронуло. Те, кого в те годы изгнали, уже почти все умерли. И те, кому немцы нанесли вред, тоже почти все умерли. И к чему тогда эти компенсации? Потомки требуют от других чего-то, не имея на это никакого права. Почти никто из тех, кто требует, не пострадал лично. Возможно, они несут часть страданий из семейной системы: травмированные дети, которые заболели, будучи беженцами, те, кого изгнали из их домов, чьи отцы погибли на войне? К кому направлены тогда их требования? К тем, кто был виновником происшедшего? Но их всех больше нет в живых. Здесь муссируется тема, которая уже давно прошла, и которая должна остаться в прошлом. Если ребенок, который потерял отца, говорит кому-то: «Вы должны мне что-то», он не смотрит на своего отца. Он смотрит на кого-то другого. Другой пример. Не так давно разбился самолет «Конкорд». И все семьи погибших получили по одному миллиону в качестве компенсации. Как они себя чувствуют в душе, когда тратят эти деньги? Смотрят ли они еще на погибших? Что вызывают в душе такие репарационные выплаты? Связь с умершими прерывается и заменяется деньгами. Но в то же время Вы говорите, что все должно пройти. Дм чего тогда должна сохраняться связь с умершими? И еще одно. Вы точно так же относитесь к репарационным выплатам немцев израильтянам? То, что Германия выплатила Израилю репарации, это, конечно, хорошо. Но всему есть предел. И что еще не сделали немцы? Они не вернули евреям их собственность. Кто все еще живет в некоторых домах евреев? Что произошло с имуществом, с домами? Кто на этом обогатился? Жертвам и их потомкам что-нибудь было возвращено? Это и были бы настоящие репарационные выплаты — от человека к человеку. Клод Ланиманн в своем фильме «Shoo» в деревнях, из которых были депортированы евреи, спрашивал поляков, кто раньше жил в их домах. Получилась примечательная картина. Они опирались на косяк двери или сидели перед домом и рассказывали об умерших евреях, которые жили в этих домах до них. Когда Ланцманн задавал им этот вопрос, они были удивлены, слегка смущены. Вы имеете в виду, что в Германии нужно сделать это на практике? Этот шкаф не мой, он принадлежит Аарону такому-то? Или: дом принадлежал еврею — то есть, я должен выехать из него? Тех евреев, которые там раньше жили, больше нет. Они мертвы, убиты. Только очень немногие могли сделать это от человека человеку. Нельзя оставлять такие веши. Это безумие. Человек не может просто так жить в этом доме. Там еще «присутствует» другой человек. На душевном уровне, независимо от юридической стороны дела, эта собственность на протяжении поколений имеет плохие последствия для тех, кто получил из этого выгоду. Это и были бы репарационные выплаты. А что сейчас? Государство делает это, а отдельные люди ничего не платят и не отдают? Я рассматриваю репарационные выплаты именно в этом душевном измерении. «Я не претендую на истину» О движении души и о непостижимом Вы писали, что расстановки являются «нейтральными в отношении цели». Что под этим подразумевается? Когда я начинал работать с расстановками, я только хотел посмотреть, что проявляется через отношения в семье, если расставить их в пространстве при помощи заместителей. То, как я это делал, было с методической точки зрения новшеством. Оказалось, что через динамики в семьях проявляется что-то, что раньше было невидимым. При помощи расстановок и собранного по результатам их проведения опыта открылось совершенно новое мировоззрение. То, что благодаря расстановкам выходит на свет, разрушает основные положения науки, философии и психологии. А это пугает. Фрейд тоже вселяя в буржуазное общество глубокий ужас. Образ человека, который гласит: «Ты не владеешь собой, ты вытесняешь, и тобой управляют твои инстинкты», был для тогдашнего мышления начала 20-го века глубоким оскорблением. Вы обижаете людей в их стремлении быть свободными и автономными, когда Вы говорите: «Мы вплетены, все мы переплетены». Я спрашиваю только, что помогает. Что помогает родителям? Что помогает детям? Что служит на благо мира? Если взять Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга с их разными аспектами исследования бессознательного, где Вы видите себя? У Фрейда речь идет о том, чтобы дать место конфликту сексуального влечения. Когда инстинкты получают свое место, они больше не представляют опасности. Таким образом, он во многих отношениях разом переходит границы господствующей морали. То, что в семье запрещалось и осуждалось, вдруг проявилось в ином свете. Своей работой Фрейд на индивидуальном уровне вывел моральные запреты за границы совести. Это привело к огромной либерализации и ослабило категоричную мораль. Благодаря этому у современных людей, в том числе тех, кто не проходит психоанализ, есть более широкая свобода действий. Это было невероятным, новаторским достижением. А что же нового Вы добавили к этому? Открытие, что заместители членов семьи чувствуют себя в пространстве как реальные люди, было сделано еще до меня. Это показала Тэа Шёнефельд. Вирджиния Сатир работала с семейными скульптурами. Новым является понимание того, как далеко может распространяться действие. Новым является также понимание динамик совести и вины. Выявились системные динамики, которые мы наблюдаем в расстановках, такие как привязанность, уравновешивание и порядок. В расстановках обнаружилась наша зависимость от прежних поколений. Мы можем увидеть, как они и их судьбы влияют на нас; как они, например, доводят нас до болезни, мешают нам и в то же время могут исцелить, если это обнаруживается и выходит на свет. Вы продолжаете развитие своей работы. Вы называете это «движениями души». В чем состоит разница по отношению к классическим расстановкам? Сегодня я часто ставлю только одного человека. Часто даже не заместителя, а самого клиента. Нужно дать ему достаточно времени и подождать, пока через движение не проявится что-то. Тогда можно в его движениях увидеть, как вся система ищет решение и находит его. Только из движений становится ясно, что нужно системе. Для меня это говорит о том, что семейное поле представлено в одном человеке, и при этом совершенно не нужно при помощи заместителей расставлять всех членов семьи. Оно оказывает воздействие даже через одного человека. Например, если заместитель смотрит на пол, это значит, что не хватает кого-то из мертвых. Тогда его кладут перед этим заместителем. Так, основываясь на проявляющихся движениях, шаг за шагом продвигаются дальше. Тогда выстраивается решение, которое исходит от самого клиента. Затем, возможно, еще добавляются клиенты, и на основании всей картины становится видно, что является для системы самым важным. Расставляется не решение, а только движение, которое необходимо для того, чтобы можно было что-то решить. Как только началось решающее движение, я могу прервать работу. Первоначально Вы просили клиента поставить всех членов его семьи. Затем Вы обращали внимание на то, как расставлена система. Основываясь на этом, Вы могли уже кое-что понять. Вы опрашивали заместителей о том, что они чувствовали и что с ними происходило. Вы переставляли их и снова опрашивали, затем просили их произнести определенные освобождающие фразы. Это был процесс поиска, который проходил, основываясь на сообщениях заместителей и на том, как люди стоят в помещении и как они себя при этом чувствуют. Сегодня Вы больше не получаете эту информацию, когда расставляете только одного или двух заместителей. Какие точно произошли изменения? Раньше у меня был такой образ: семья, у которой есть проблемы, ищет подходящий для нее порядок. В ходе расстановки находили этот порядок. Он проявлялся в том, что все заместители чувствовали себя хорошо. Зачастую я просил клиента произнести фразы, которые позволяли ему внутренне перестроиться на признанный порядок и помогали освободиться из переплетения. Например, такие фразы: «Сейчас я остаюсь», «Сейчас я в твоем распоряжении» или — если кто-то отвергал свою мать: «Сейчас я почитаю тебя», «Сейчас я принимаю то, что ты мне даришь». Эти фразы затрагивали что-то в душе. Еще проводилось примирение через объятия. Иногда частью порядка было то, что клиент отходил. Такие семейные расстановки являются грандиозной работой. Это видно по их воздействию. Но, как и при первичной терапии, я заметил, что мне совсем не нужно так много. Для этой работы мне нужен только один человек или два, остальные присутствуют только в мыслях или в чувствах. Клиент, который выходит с запросом, является, так сказать, заместителем всей своей системы. Он стоит там не только лично. В нем проявляется что-то, что нужно системе. Его движение, когда он расставлен, является не только его личным движением. Он передвигается, как член этой системы. В то время, когда он двигается, в движение приходит что-то во всей системе. Без присутствия заместителей других членов системы. То есть, весь процесс поиска проходит через движение? Да. И решение часто находится в дальней дали, до него еще далеко. Во время семейных расстановок у меня часто возникает образ того, что могло бы стать хорошим решением. Здесь, в движениях души, больше не появляется никакой образ. В то время как в семейных расстановках я часто вмешиваюсь, здесь я вмешиваюсь только изредка. Что-то развивается из самой души — без вмешательства извне. Клиент готов уже с самого начала. Изменения начинаются уже в расстановке. Как Вы это обнаружили? Сначала в семейных расстановках спрашивали заместителей, как они себя чувствуют. Затем я перестал спрашивать. Я просто долго ждал. Вдруг заместитель сам по себе начинал двигаться. Я с самого начала наблюдал в расстановках, что кто-то, например, падал. Или кто-нибудь из заместителей начинал дрожать, дергаться. Это ведь часть нормального «заместительства», то, что заместитель иногда чувствует в теле симптомы того, кого он замещает. Сначала это всех озадачивало, как будто это магия. Сегодня, когда происходит что-то подобное, это воспринимается как само собой разумеющееся. Что сейчас для Вас в этом особенного или что по-другому? Сегодня я смотрю на эти симптомы по-другому. Заместителя вдруг охватывает что-то, что имеет отношение не только к нему, но в нем проявляется движение его системы. Я рассматриваю эти движения в более широком контексте. Вы считаете это движение другим, чем то, которое возникает через симптомы? Да. Сегодня я полностью полагаюсь на то, что проявляется само. Когда я начал ждать того, будут ли эти движения развиваться и, если да, то каким образом, действительно возникло собственное движение, в котором проявилось решение, как для клиента, так и для его системы. Это было новым. Я считаю, что заместителями двигает Большая душа, а не их собственная — их охватывает нечто другое. То есть это другой уровень, чем просто замещение отдельного человека? Да. Большая душа через заместителей ищет и находит решение, потому что никто не вмешивается. Эта высшая сила, которая при помощи движений души проявляется в заместителе, управляет личной жизнью и системой — и даже ходом истории. И мы имеем свою долю в этой «душе». Вместо того чтобы иметь отдельную душу, мы имеет свою долю в этой душе. Все эти движения идут в одном направлении. Они соединяют то, что раньше было разделено. Эти движения направлены на примирение. По каким признакам Вы видите, какое это движение? Ведь заместители могут двигаться просто сами по себе? Что отличает эти движения от других? Они совершенно другие. Если наблюдать за телом, можно заметить, что они начинаются под пупом, исходят из глубины. Что-то побуждает заместителей, они не могут иначе. Еще раз. Тот феномен, что заместитель перенимает движения из системы, был уже известен. Заместитель в расстановке вдруг начинает дергаться, Вы спрашиваете клиента, и он говорит: «У моего деда были эпилептические приступы». Это находится еще на уровне индивидуального замещения. Заместитель двигается, как дед, которого он замещает. А в движениях души речь идет о чем-то большем? Вы можете привести пример того, где Вы это обнаружили? Одна из моих первых расстановок с этой новой гипотезой была для одного еврейского мужчины. Там я впервые наблюдал, что существует движение души, которое в своей глубине стремится к объединению — даже между преступником и жертвой. Тогда мне впервые стало ясно, что я могу положиться на такие движения, и что там происходит что-то, что совершенно расходится с обычным, моральным мышлением. Выяснилось еще кое-что. В один момент, как преступник, так и жертва в одинаковой мере оказывались в руках Высшей силы, которая управляла ими. С тех пор я продолжал следовать за этим и доверился этим движениям. Есть ли по этому поводу какой-нибудь пример из Вашей работы с политическими расстановками? Несколько недель назад я был в Никарагуа. Там долгое время господствует диктатор Самоса. Он подверг страну эксплуатации. Его противником был Сандино, которого Самоса убил. А позже он сам был убит в изгнании. Сандинисты, ссылаясь на Сандино, начали гражданскую войну против Самосы и его приверженцев. Они изгнали где-то треть населения страны, прежде всего, индейцев. В итоге сандинисты потерпели поражение, также как до них Самоса. Хотя они были у власти после Самосы, но в скором времени потеряли поддержку народа. Сейчас и то, и другое прошло, осталось в прошлом — и Самоса, и режим сандинистов. Сейчас есть избранное демократическим путем правительство и большая потребность найти ответ на вопрос: «Как нам после этой ужасной войны найти путь друг к другу и объединиться?» Ведь многие из воевавших еще живы, и, конечно, их потомки тоже. На моем семинаре присутствовали глава полиции Манагуа и другие высокопоставленные военные. Дочь первого президента тоже была там — в общем, руководящие работники. Глава полиции раньше служила в тайной полиции сандинистов — то есть были представлены все «лагеря» прошлого. Я поставил заместителя Самосы и заместителя Сандино. Они сжали кулаки и очень медленно пошли друг к другу. Затем я положил между ними троих заместителей жертв гражданской войны. Это их моментально привело в чувство. Заместитель Самосы посмотрел вниз на жертв, и Сандино сделал то же самое. Затем Самоса опустился на пол, стал ползать вокруг них и лег к ним. Сандино тоже лег на пол и медленно пополз по полу к Самосе, а затем лег рядом с ним — так, как будто он хотел лежать с ним в одной могиле. Все это происходило без вмешательства извне. Кто их замещал? Два испанца. Затем я поставил заместительницу Никарагуа. Она только закричала от боли и легла к мертвым. Это и есть завершение гражданской войны. Потом спрашивают себя: «Зачем?» В итоге — была только смерть. После этого я поставил троих заместителей потомков приверженцев Самосы и троих заместителей сандинистов. Они стояли друг напротив друга, а между ними лежали мертвые. Они медленно пошли друг к другу и протянули друг другу руки. Затем я попросил заместительницу Никарагуа встать. Потомки стали вокруг нее и взяли друг друга за руки. Тогда Никарагуа вздохнула. Кто выступил с запросом в этой расстановке? Это был общий запрос. Все участники были в высшей степени тронуты. Это, в моём понимании, и есть миротворческая работа. И снова стало видно, в чем дело: как одна, так и другая сторона, все они принесли только несчастье. Они видели, что принесли только несчастье, и легли к мертвым. И сейчас выжившие и потомки погибших оставляют все это в прошлом, — без упрека к противной стороне, ни единого упрека по отношению друг к другу. Это и есть решение. Они начинают все сначала и оставляют прошлое за своей спиной. Это была особенная расстановка. Она показала, как движения души на более глубоком уровне соединяют что-то, что было разделено. В политических расстановках Вы работаете преимущественно с движениями души? Да. Как правило, они проходят без вмешательства извне. Иногда я только добавляю кого-то в расстановку, это — единственное вмешательство. Поэтому такая расстановка имеет столько силы, без собственных намерений и твердых целей. Для чего тогда нужен расстановщик? Он приводит расстановку в движение, когда говорит, кого будут расставлять. Например, в этом случае я расставил Самосу и Сандино. И я знаю, каким будет следующий шаг — например, когда я добавляю жертв или заместительницу Никарагуа. Я привожу это в действие благодаря моим интервенциям. Без ведущего ничего не получится. Но затем я предоставляю всё движениям заместителей. Из семейных расстановок мы знаем, что это может продолжаться достаточно долго до того, как заместители погрузятся в свое восприятие и не будут интерпретировать. Чтобы они не спрашивали: «Что я сейчас должен думать, делать, чтобы все было правильно?», а чтобы они доверились своему восприятию. Расстановщик знает разницу между восприятием и интерпретацией — в том числе, ориентируясь на высказывания. Вы работаете на абсолютно невербальном уровне с движениями души. Как Вы можете увидеть, является ли это движением души? И двигается ли человек действительно, как заместитель, или он играет, драматизирует, актерствует? Я сразу вижу это. Потому что тогда все участники становятся беспокойными. То есть знаком может быть реакция третьих лиц. Все в одинаковой степени попадают в поле. Оно движет всеми. В этом поле нельзя жульничать. Можно ли прочитать по самим движениям, с чем мы имеем дело? Как правило, сразу же. Что отличает инсценированное, произвольное движение от непроизвольного? Движение, которое находится в созвучии с полем, очень медленное. Если человек сразу делает два шага вперед, он тут же оказывается вне поля. То есть критерием является темп. Но этому можно научиться. Здесь это невозможно. Эти движения имеют невероятную интенсивность. Чем медленнее движение, тем оно интенсивнее. Стремление вмешаться для того, чтобы, наконец, подтолкнуть его дальше, очень чувствуют как заместители, так и расстановщик. Расстановщик должен уметь выдерживать эту медлительность. И он не сможет этого сделать, если у него есть какое-то намерение. Что Вы под этим имеете в виду? Когда он делает расстановку, почему он должен ее делать, не имея никаких намерений? Намерение, например, чтобы все хорошо закончилось, сразу же влияет на поле. То есть он не должен иметь никаких гипотез? Тогда он тоже выйдет из поля. Он должен быть внутренне сдержанным и собранным, не иметь намерений и погрузиться в пустоту. Это глубокие, почти духовные движения. Это процессы, которые содержат в себе что-то священное. Только тот, кто на самом деле погружается, может идти за движением и, если необходимо, вмешаться для того, чтобы помочь. Вы сказали, что расстановщик остается снаружи. Он погружается, не погружаясь. Это звучит парадоксально. При этом я внутренне абсолютно отстраняюсь для того, чтобы своими желаниями не влиять на душу другого. В семейных расстановках смотрят на человека. Здесь я смотрю на судьбу, в руках которой находятся члены системы. Тогда я, например, чувствую: «Сейчас нужно поставить мать». Как наблюдатель я не смог бы это почувствовать. Так как я вчувствуюсь, я, так сказать, слышу мать или я слышу, как кричит ребенок. Я интенсивно нахожусь внутри, не погружаясь. «...что непостижимое станет видимым» Об информации и поле В работе с расстановками существует уже определенная валидность. Проводились эксперименты, и было эмпирически доказано, что разные расстановщики с разными заместителями при работе с одинаковыми вопросами приходили к похожим результатам. И есть исследования в области влияния расстановок — одна диссертация в Мюнхенском университете и одна — из Виттен/Хердекке. Может ли быть что-то подобное при движениях души? Нет, потому что каждое движение разное. Эти движения не ориентируются на определенные законы — кроме медленности. Конечно, здесь тоже есть какие-то выводы, но они временные. Самым важным в движениях души является то, что проявляются взаимосвязи, которые до этого были для меня немыслимыми. Приведу пример. Приходит человек и говорит, что его четверо детей не хотят учиться в школе. В короткой беседе он рассказал, что у его жены в прежних отношениях был аборт. На основании этого я поставил только абортированного ребенка и четверых детей. Все чувствовали себя хорошо. Я добавил к ним их мать. Она вела себя так, как будто не имела никакого отношения к абортированному ребенку. Тогда я поставил ее мать, потому что я часто видел, что у женщины, которая делает аборт, нет глубоких отношений с матерью. Но и здесь ничего нельзя было сделать. Поэтому на этом я прервал работу. Затем мужчина сказал мне, что у матери жены было двое детей. Со вторым ребенком у нее были большие осложнения. Поэтому ей посоветовали больше не иметь детей. Позже она забеременела третьим ребенком. Ей сказали, что есть угроза для жизни. Поэтому этот ребенок был абортирован. Это была мать женщины, которая пришла на расстановку? Да. Позже я сделал еще одну расстановку. Я поставил женщину, ее мать и ребенка, которого пришлось абортировать. Затем я добавил отца женщины. Абортированный ребенок прополз между ногами у своей матери и подполз к заместительнице клиентки. Этот ребенок начал вдруг очень сильно дышать, как будто его задушили. А отец стоял со. сжатыми кулаками. Тут стало ясно, что ребенка убили. Его не абортировали. То есть было сказано, что мать сделала аборт, но выяснилось, что ребенка убил отец? Именно так. Затем я поставил абортированного ребенка женщины. Он тоже сжал кулаки, точно как его дед. Абортированный ребенок женщины был идентифицирован с отцом женщины, то есть с убийцей. Никто не мог себе этого представить. Затем «абортированный» ребенок матери этой женщины посмотрел на своего отца и сказал ему: «Я тебя люблю». Тогда отец вдруг смягчился и опустился на пол. Абортированный ребенок тоже смягчился и лег рядом с ним. После этого женщина, то есть клиентка, смогла подойти к своему абортированному ребенку и обнять его. Затем я снова поставил четверых детей и рядом с ними абортированного ребенка клиентки. Все были счастливы. Это показывает, насколько глубоко идут эти движения — совершенно иначе, чем мы это себе представляем, совершенно за гранью всех моральных оценок и осуждений. Что из этого не проявилось бы в обычной расстановке? Что было здесь особенностью движений души? То, что было убийство, можно было увидеть только из движений души. Эти движения проходили молча, за исключением одной фразы. А Вы «интерпретировали» это как убийство, потому что у него были сжаты кулаки? «Абортированный» ребенок сам стал отодвигаться от него. Он, так сказать, сбежал и вцепился в ноги заместительницы клиентки. И вдруг он стал делать движения как человек, которого задушили. Это значит, что мы своими глазами увидели все происшедшее. При этом отец смотрел в сторону и сжал кулаки. На основании движений стало совершенно ясно, что здесь произошло убийство. Это говорите Вы. Я хочу еще раз уточнить. Ребенок, который был якобы абортирован, стал двигаться к заместительнице клиентки. Абортированный ребенок клиентки сжал кулаки, как его дед. Из этого Вы сделали два вывода: отец клиентки убил ребенка, и абортированный ребенок клиентки идентифицирован... Мы сейчас находимся на совершенно другом уровне. Вы спрашиваете, это правда или нет? Вы возбуждаете судебное разбирательство. Это больше не имеет ничего общего с движениями души. Я не интерпретирую их. Мы смогли увидеть, что там происходит. Но кто осмелится это сказать? Тогда говорят: «Как ты можешь та-кое говорить! У тебя ведь нет никакой информации!» Хотя очевидно, что процесс проходил именно так. «Правда» движений души не имеет ничего общего с информацией? Иногда, особенно, когда речь идет о шизофрении, самое важное событие часто произошло так много поколений назад, что уже невозможно получить какую-либо информацию. Но в поле информация еще присутствует, и она проявляется в движениях души. Откуда тогда появляются движения? Должно быть, существует энергетическое поле. Другой вопрос, можно ли это проверить научно. Этот вопрос скорее препятствует решению. В тот момент, когда я хочу это знать, я больше не связан с жизнью и с тем, что жизнь успешно продолжается. Это абстрактные вопросы. «Если я буду наводить справки, значит, у меня эгоистические намерения». О контроле успешности и доказательствах эффективности Итак, Вы говорите, после завершения расстановки дети чувствовали себя хорошо, и вся семья тоже, и это говорит само за себя? Абсолютно. Я хотела бы знать, учатся ли дети лучше, стало ли им легче учиться в школе? Многие хотят это знать. Если я спрашиваю об этом, значит, у меня есть намерение. Эгоистическое. Например, вопрос: «Был ли я успешен? Хорошо ли я сделал это?» Именно. Тогда для меня речь больше не идет о детях. Подобное любопытство мешает исцеляющему движению. Если бы я наводил справки, это было бы плохо для детей. Это вызывает у меня глубокий вздох. Да, я знаю, с этим сталкиваются многие. Они хотят иметь доказательства. Но разве они хотят получить эти доказательства для того, чтобы детям было лучше? Предположим, они делают это из лучших побуждений. Я не могу приписать им никаких лучших побуждений. Они не видят этих детей, и они не уважают эту семью, потому что они с любопытством вторгаются в их интимную сферу. Ведь частью работы терапевта является вопрос: имеет ли эффект то, что я делаю? Вы говорите: «Я работаю с чем-то, что действует». Но в обыденном мышлении люди ведь хотят знать, продолжается ли действие расстановки после ее окончания. Вы не хотите этого знать? Вы считаете, что это желание узнать угрожает автономии клиента? Возможно. Когда расстановка завершена, моя работа сделана. Точка. И не более того. Это моя позиция. О чем идет речь для тех, кто хочет получить доказательства эффективности? Думают ли они о людях? На самом ли деле они хотят, чтобы был эффект? И когда они получат доказательство, они остановятся на этом? Или будут требовать новых доказательств? Может быть, они просто задаются вопросом: «Когда я даю клиенту эту таблетку, она его излечивает?» Это уровень медицины. Там это должно быть исследовано. Герт Хоппнер очень хорошо сделал это в своей диссертации, посвященной расстановкам, не вмешиваясь в процесс. Он остался снаружи. Но когда я спрашиваю клиента: «Это подействовало?», — я вмешиваюсь. Когда я смотрю видео, я не могу понять, что было движением души, а что нет. Я смотрела разные видеоматериалы. Я понимаю там немного. Передает ли видео подобные вещи? Нет. Когда я сам после семинара смотрю материал на видео, я могу включиться только до определенной степени. Потому что я не в поле. Как правило, я не знаю, какой должен быть следующий шаг. Иногда я удивляюсь тому, какие я сделал интервенции. Что нужно тому, кто хочет с этим работать? Тот, кто работает с движениями души, должен стать на особый путь познания: в пустоту, в собранность, в сдержанность. Только так он даст достаточно пространства для движения, которое всегда отличается от того, что он себе представлял. Каждое такое движение приносит инсайты, которых раньше не было. Можете привести пример? В Японии я делал расстановку для одной женщины. Ее заместительница сжала кулаки в отношении своей матери. Я попросил ее сказать следующее: «Я тебя убью». И она энергично сказала это. Тогда я поставил саму клиентку. Когда я предложил ей произнести ту же самую фразу, она сказала: «Я не могу это сделать, но я хочу, чтобы она умерла». Ну, хорошо, разница невелика. На что я сказал: «Я ничего не могу для тебя сделать. С человеком, который отвергает свою мать, я ничего не могу сделать». Я прервал работу. Я знал, что она может покончить жизнь самоубийством. Конечно. Такой человек кончает жизнь самоубийством. У нее больше нет никакой другой возможности. Откуда Вы это знаете? Позвольте, я расскажу до конца. Я ничего не сделал. Я проявил уважение к матери и забыл клиентку. Я забываю клиента и таким образом выхожу из подобной ситуации. Я предоставляю его полностью его судьбе и последствиям его поведения и его позиции. Незадолго до окончания семинара эта женщина подошла ко мне и сказала, что хочет еще раз сделать расстановку. Ее лицо было заплакано. Я попытался расставить семью. Но ничего не получилось. Тогда Харальд Хонен дал мне толчок к дальнейшим действиям, сказав, что, возможно, получится работа с рядом предков. Я поставил клиентку, а напротив нее — ее мать. Ничего не происходило. Тогда я поставил мать ее матери — опять ничего. Затем бабушку — ничего. Прабабушку, и так далее. Там стояли заместительницы восьми поколений. И ни у кого из них не было контакта между матерью и дочерью. Последняя, восьмая, отступила и стала смотреть на пол. В расстановках это всегда значит, что она смотрела на кого-то мертвого. Я попросил мужчину лечь на пол перед ней. По движениям участников было похоже на то, что речь шла об убийстве. Клиентка опустилась на пол — и здесь начинается движение души — она подползла к этой жертве и обняла ее. Когда это произошло, последняя заместительница тоже подошла к мертвому и обняла его. После этого я поставил мертвого рядом с ней, а седьмую заместительницу напротив нее. В один момент отношения между матерью и дочерью восстановились. То есть между матерью из восьмого поколения и дочерью из седьмого? Именно. Затем она повернулась к своей дочери и так далее, до клиентки. Так любовь снова потекла через все поколения. Ее поток был прерван очень далеко, в восьмом поколении. Затем клиентка стала перед матерью на колени, обняла ее колени, заплакала и сказала: «Дорогая мама». Здесь мы видим, как действуют переплетения. Раньше эта клиентка не могла вести себя иначе. Она была идентифицирована с убийцей. Иногда сначала нужно прекратить переплетение, которое зачастую тянется на протяжении многих поколений, прежде чем удается движение любви к матери. Эта расстановка была комбинацией движений души и обычной процедуры. В семейной расстановке я вынуждена обходиться имеющейся информацией из системы. Раньше расстановщик оставался ни с чем, если человек ничего не знал о своей семье. Сейчас Вы говорите, что на уровне движений души информация приходит из самой системы, из «поля». Она выходит за пределы того, что мы можем знать, и «проявляется» через движения. Да. Часто бывает так, что человек приходит и говорит: «Я ничего не знаю о своей семье». Тогда я отвечаю: «Хорошо, тогда мы найдем информацию через расстановку». Я беру заместителя для него и просто ставлю. Начинается движение, и шаг за шагом что-то из системы выходит на свет. Просто благодаря тому, что на этого человека смотрят и видят, какие он делает движения. Например, он отворачивается. Тогда я ставлю кого-то перед ним. Или я ставлю заместителя тайны, и вдруг получает развитие образ, который показывает, что происходит. Это сразу же трогает клиента. Поэтому, когда я работаю с клиентом, мне нужно мало информации или вообще не нужна никакая информация о семье. Я получаю важную информацию из движений души. «Все, что движется, приводится чем-то в движение» О других силах, религии и свободном принятии решения В гомеопатии есть препараты высокой потенции, в которых практически не содержится никакого вещества. Считается, что из-за потенцирования «вещество» сохранилось только в виде информации в воде или сахаре, и так оно попадает в организм и приводит что-то в движение в «системе под названием человек». А Вы полагаетесь на информацию, которая поступает из системы через движения. Вы говорите: «Это видно». Я сказала бы иначе: «Вы видите это». Это видит не каждый, новичок определенно ничего не видит. Для этого нужен опыт, этому нужно учиться шаг за шагом. Начинать нужно с внутренней позиции. Это путь роста. Но с движениями души мы тоже не всегда приходим к решению. У них тоже есть свои границы. У Вас есть пример? В одной семье есть ребенок-инвалид, и родители упрекают себя за это. Помощь для них может состоять в том, что они посмотрят друг на друга с любовью и скажут друг другу, что они вместе будут заботиться об этом ребенке. Но иногда этого бывает недостаточно. Возможно, они спрашивают себя: «Почему нас настигла такая судьба?» Тогда им нужно посмотреть за своего ребенка и на его судьбу. Здесь можно, например, поставить напротив отца, матери и ребенка заместителя судьбы. Тогда они глубоко склоняются перед этой судьбой. Я обнаружил, что один уже этот поклон имеет невероятное воздействие. Было бы иллюзией думать, что при помощи одних только движений души можно всегда найти решение. Иногда я вижу, например, что человека неудержимо тянет в смерть. Что мне тогда делать? Или человек думает, что он заслуживает смерти. Какой из методов я могу здесь использовать, чтобы чтолибо сделать? Могу ли я вообще что-то сделать? Или здесь помощь подходит к своей границе, где важней будет оставить все как есть? И настоящая помощь начинается как раз тогда, когда я перестаю действовать? Могу себе представить, что для таких событий, как цунами в Азии, внутренняя позиция должна быть примерно такой же. Что там можно сделать — только помочь при восстановительных работах. Именно так. Мы хотим помочь, мы хотим сделать что-нибудь — и это понятно. Но моя позиция такова. Я смотрю за это событие, на что-то большее, чему я не могу дать названия, и склоняюсь перед ним. В ситуации цунами я склоняюсь и говорю ей «да». Я делаю это для себя, и благодаря этому у меня появляется другая сила. Когда я имею дело с выжившими людьми, которых это очень близко коснулось, — вспомните о матерях, которые держали на руках своих мертвых детей, и об их невероятной боли, — там нет решения в обычном смысле. В таких ситуациях решения нет. Тогда остается только посмотреть на судьбу ребенка и признать — это было отведенное ему время, на этом его жизнь закончилась. И затем посмотреть на силу, стоящую за цунами, и просто остаться стоять перед чем-то непостижимым. Это что-то освобождает. Тогда, например, мать может похоронить своего ребенка. При этом она остается в контакте с этой другой силой. Затем через определенное время она сможет опять вернуться к жизни. Это религиозный аспект. Когда дело касается таких вещей, этого не избежать. Но это скрыто. Там нет никаких вопросов, никаких просьб, никакой помощи, — там нет ничего, совершенно ничего. Остается только остановиться. Этот образ делает нас скромными. Он указывает нам на наши границы. У этой границы, если мы с ней соглашаемся, мы чувствуем спокойствие и силу. Это также означает, что здесь заканчивается феноменологическое восприятие. И начинается религиозное? В сущности, человек предстает перед собственной границей. В феноменологии речь идет о познании сути. Познание сути означает: я знаю, что я должен делать. Оно ориентируется на действие и связано с мудростью, потому что я знаю, что возможно, а что нет. Но здесь речь идет о том, чтобы предстать перед более широким контекстом — по другую сторону действия. Там больше нет действия. Это такая позиция, которая больше не хочет знать, потому что она знает, что она не может знать. В этой точке отпускают любую надежду. Человек становится открытым, без намерений, без страха, без любви, и это конечная собранность. Здесь прекращается, в том числе, религиозное. Кто решится на этот широкий кругозор, тот имеет силу воздействовать другим способом — одним своим присутствием. Разве это не религия? Вы говорите: «Все мы взяты на службу», «Нами всеми двигает Высшая сила». Это больше, чем просто позиция. Это философское размышление. Из него вытекает установка. Когда я говорю, что каждый взят на службу, я убираю различение между добром и злом. Это шокирует и вызывает возмущение. Не столько у тех, кто считает себя взятым на службу, а скорее у тех, кто не хочет признать, что и те, кто думает и действует иначе, тоже взяты на службу — причем в одинаковой мере. Аристотель говорит о неподвижном движителе. Этот движитель приводит все в движение, сам оставаясь неподвижным. С такой картиной мира сложно сохранить общепринятые различения. Тот, кто продолжает проводить различие между «добром» и «злом», тем самым говорит, что у одних есть право на жизнь, а у других нет. Таким образом, он ставит себя на место (высшей) изначальной силы и неподвижного движителя. Моя картина мира позволяет мне не делать различий между добром и злом. Все каким-то образом служат Целому. Это более глубокий смысл фразы: «Быть взятым на службу». Правда? В вопросе о правде слышится то, что мы должны найти правду, — как будто это в наших силах! Как будто мы должны сделать это! Как будто наше мышление может это! Мои философские размышления не претендуют на истину. Для чего тогда нужны эти размышления? Для того, чтобы Вы могли так работать? Прежде всего, для того, чтобы иметь определенное отношение к другим людям. Если я, находясь в такой позиции, имею дело с преступниками или жертвами, с теми, кого отвергают, — например, с убийцей, — я остаюсь совершенно спокойным. Я могу вмешиваться совершенно иначе, чем когда я только поверхностно вижу, что они находятся в переплетении. Когда я смотрю на переплетение, я хочу его разрешить. Это ведь была изначальная причина, почему Вы расставляли — совершенно прагматично. Или? Конечно. На уровне переплетения решение находится в поле зрения, и часто оно возможно. На уровне того, что «все взяты на службу» мне не нужно решение, потому что я доверяю этой изначальной силе. То есть движения души более эффективны, чем движение в системе? Да, это важный пункт. Конечно, здесь воздействие сильнее. Решение здесь приходит не только из самой системы. Яне понимаю этого. Оно приходит от Высшей силы, которая одинаково относится ко всем и объединяет их. Это находится за гранью любой совести... ... и напрямую не связано с семейными расстановками как методом? Ведь есть разница, когда говорят: «Я стою как заместитель в системе, и мои движения являются движениями того, кого я замещаю в системе». Или когда я говорю: «Все движения исходят от другой силы». Первое повторить может каждый. А во втором случае все по-другому. Тот, кто работает с движениями души, отдает себя в руки религиозной предпосылки. Такой, что нами будет двигать какая-то сила. Для меня это не религиозно, это философски. В чем разница? Во-первых, наблюдение того, что внутри поля есть движение, во-вторых, то, что нами движет какая-то сила, — это философское размышление и умозаключение. Если я назову это «божественным», это будет смещением и уменьшением. Это не оправдано. Сила действует, но было бы опрометчиво размышлять о том, является ли она Богом или чем-то божественным. То есть для Вас «религиозный» означает исходящий от Бога. И Вы хотите избежать этого? Да, именно так. Скажем так, это духовный уровень. Это существует в каждой философии. В даосизме, в буддизме. В даосизме это не стали бы называть «божественным». С философской позиции можно сказать, что все то, что движется, должно приводиться чем-то в движение. Невозможно себе представить то, что движение может возникнуть само по себе. Думать так неразумно. Но я не могу это доказать. А для работы это допущение является важным. Почему? В качестве внутреннего процесса это имеет хорошее воздействие, когда я понимаю, что семейной системой двигает другая сила. В этом современные исследователи мозга соглашаются со мной. Вы имеете в виду, например, американского исследователя мозга Антонио Дамасио, который вместе со своей командой установил, что эмоции и чувства «производятся» из реакций тела. Он говорит, что наш дух воплощен в теле, а не только в мозге. Еще до того, как мы принимаем решение, в нашем теле, благодаря реакциям, уже становится ясно, в каком направлении оно будет принято. Наше решение не является свободным. Оно следует за другим движением, которое уже задано. Представление, что мы сейчас примем решение, является иллюзией. Решение осознается уже после того, как оно было принято. Из этого я делаю заключение, что еще до того, как я начал двигаться, мною уже что-то движет. Кто знает, движет ли Вами что-то? Можно и так сказать: наши решения находятся у нас в костях. Мы не знаем, откуда появляются решения, в любом случае они появляются не по нашей свободной воле. Я не хочу давать этому определение, но эти тонкие движения можно наблюдать. Исходя из этого, я считаю, что как бы человек ни поступил, им движет какая-то другая сила. «Мы должны идти дальше...» О границах решений Это далеко идущие выводы. Сегодня Вы говорите также о следовании за любовью духа. Раньше Вы говорили, что Вы в одинаковой мере принимаете всех в свое сердце. Когда я принимаю человека в свое сердце, это происходит на уровне чувств. Следовать за любовью духа является совершенно другой любовью. Это духовная любовь, без эмоций. Она говорит «да» всему сущему — и тому, что кажется плохим. Когда я вхожу в резонанс с этим отношением, я перестаю двигаться. Меня подхватывает другое движение. Это больше не имеет ничего общего с поиском. Я стою перед чем-то непостижимым, и непостижимое движет мной, — и в один момент его можно постичь в результате. Это путь, по которому Вы идете? Он выявляет возможности и показывает, что то, что мы обычно делаем, в том числе с движениями души — все это является чем-то временном. Таким образом, он сохраняет нас открытыми для чего-то нового. Вы дали понять, что сегодня на этом фоне Вы по-другому работаете, например, с абортами? Аборт имеет очень много слоев. Но, в итоге, человек следует за любовью духа, которая направлена на всех. Тогда в один момент каждый занимает свое место. На этом уровне нет никаких потерь. У этого созидательного движения ничего не пропадает, ни у кого не отнимается его жизнь, и даже если что-то кажется потерянным, оно потом служит высшему целому. Нужно оставить это в покое, ничего не желая и ни о чем не сожалея. Насколько я знаю, в случае аборта делают конкретную расстановку и у абортированного ребенка есть его место в конечном образе. Иногда я все еще делаю так для того, чтобы стало видно, какое воздействие может иметь аборт. Но на этом легко зависнуть. Моя жена, Мария Софи, тоже предлагала такое решение в семейных расстановках. Но это оказалось поверхностным, потому что через какое-то время клиенты возвращались. Она выяснила, что так не достигается необходимой глубины. Это научило нас тому, что нужно быть осторожными и идти дальше. При работе с абортами — это только пример — можно легко остановится на уровне совести, вины и невиновности, преступника и жертвы. Когда человек идет на другой уровень, все перестает быть приукрашенным, становиться совершенно серьезным, большим и вплетенным во что-то большее. Здесь видно, как важно идти дальше. Десять лет назад существовало такое мнение, что расстановки являются методом «все в одном». Это мнение оказалось поспешным. Что Вы говорите сегодня, когда видите, что люди приходят снова... ... люди этого не говорили, но было видно, что что-то было решено не до конца, что некоторые решения были преждевременными. Даже если на первый взгляд эти решения выглядели как полноценные? Да, все радовались. И я научился тому, что, когда очень радуются, чаще всего решения бывают недостаточно глубокими. Этого не хватает, непродолжительными? оно остается в определенных рамках, которые являются Да. Это касается каких-то определенных тем или это действительно во всех случаях? Нужно идти дальше. Эта работа вынуждает нас внутренне расти. Речь сейчас идет не только об исцелении или о решении проблем. В итоге, речь идет о жизни во всей ее полноте. И еще кое-что о духе: дух — легок. Тот, кто живет в духе, имеет легкую походку. Он только немного отягощает Землю. И он только немного отягощает клиента. И он счастлив, принимая все таким, какое оно есть.