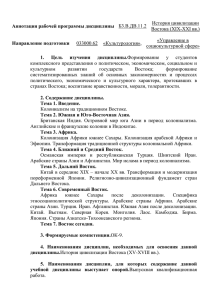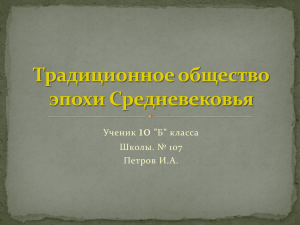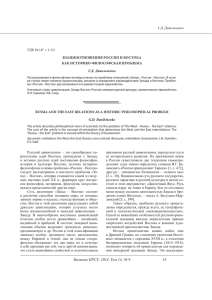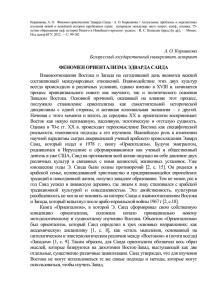SAID EDWARD W. Orientalism. – L.: Routledge & Kegan Paul, 1978.
advertisement
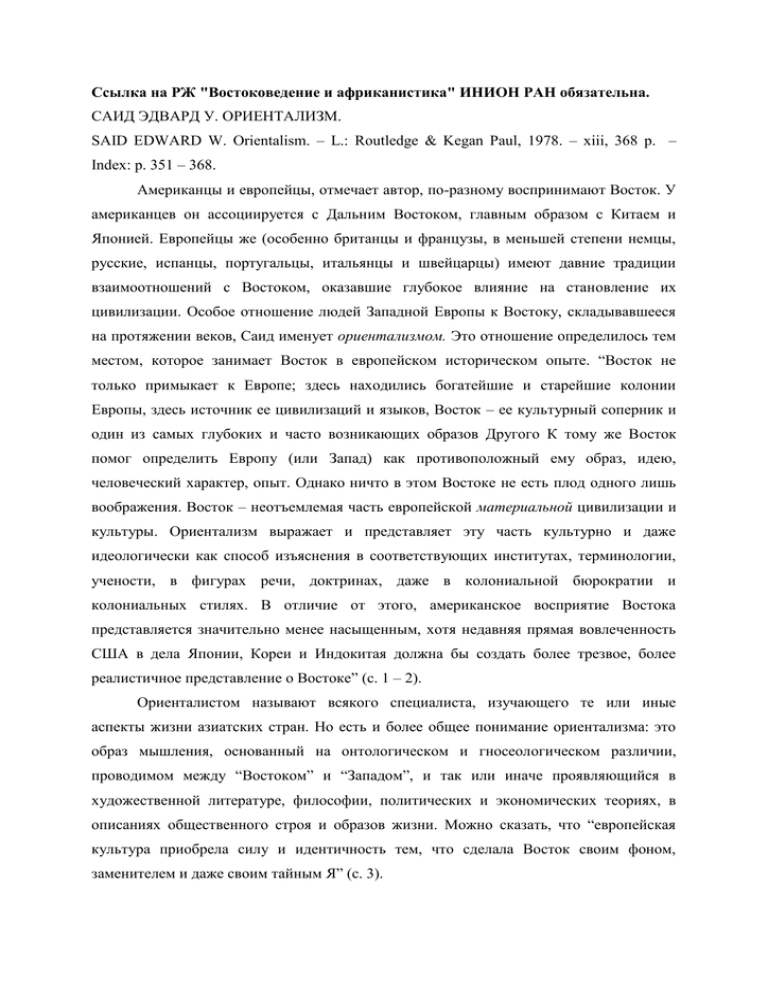
Ссылка на РЖ "Востоковедение и африканистика" ИНИОН РАН обязательна. САИД ЭДВАРД У. ОРИЕНТАЛИЗМ. SAID EDWARD W. Orientalism. – L.: Routledge & Kegan Paul, 1978. – xiii, 368 p. – Index: p. 351 – 368. Американцы и европейцы, отмечает автор, по-разному воспринимают Восток. У американцев он ассоциируется с Дальним Востоком, главным образом с Китаем и Японией. Европейцы же (особенно британцы и французы, в меньшей степени немцы, русские, испанцы, португальцы, итальянцы и швейцарцы) имеют давние традиции взаимоотношений с Востоком, оказавшие глубокое влияние на становление их цивилизации. Особое отношение людей Западной Европы к Востоку, складывавшееся на протяжении веков, Саид именует ориентализмом. Это отношение определилось тем местом, которое занимает Восток в европейском историческом опыте. “Восток не только примыкает к Европе; здесь находились богатейшие и старейшие колонии Европы, здесь источник ее цивилизаций и языков, Восток – ее культурный соперник и один из самых глубоких и часто возникающих образов Другого К тому же Восток помог определить Европу (или Запад) как противоположный ему образ, идею, человеческий характер, опыт. Однако ничто в этом Востоке не есть плод одного лишь воображения. Восток – неотъемлемая часть европейской материальной цивилизации и культуры. Ориентализм выражает и представляет эту часть культурно и даже идеологически как способ изъяснения в соответствующих институтах, терминологии, учености, в фигурах речи, доктринах, даже в колониальной бюрократии и колониальных стилях. В отличие от этого, американское восприятие Востока представляется значительно менее насыщенным, хотя недавняя прямая вовлеченность США в дела Японии, Кореи и Индокитая должна бы создать более трезвое, более реалистичное представление о Востоке” (с. 1 – 2). Ориенталистом называют всякого специалиста, изучающего те или иные аспекты жизни азиатских стран. Но есть и более общее понимание ориентализма: это образ мышления, основанный на онтологическом и гносеологическом различии, проводимом между “Востоком” и “Западом”, и так или иначе проявляющийся в художественной литературе, философии, политических и экономических теориях, в описаниях общественного строя и образов жизни. Можно сказать, что “европейская культура приобрела силу и идентичность тем, что сделала Восток своим фоном, заменителем и даже своим тайным Я” (с. 3). В историко-культурном отношении Франция и Великобритания существенно отличаются от остальных европейских стран по степени и характеру вовлеченности в дела Востока. “Поэтому говорить об ориентализме значит говорить главным образом, хотя и не исключительно, о британском и французском культурном свершении”, которое охватывало самые разные области идеологии, экономики и политики и включало разнообразные институционные начинания. Речь идет об отношении “к библейским текстам и библейским землям, торговле пряностями, о колониальных армиях и многих поколениях колониальных администраторов, об огромном корпусе ученых, бесчисленных “знатоках” Востока, профессорах востоковедения, о массе “восточных” идей (восточный деспотизм, восточная роскошь, жестокость, чувственность), множестве европейских сект, философских направлениях, восточной мудрости, приноровленной в Европе для местного употребления, – список можно продолжать почти до бесконечности. Моя позиция состоит в том, что ориентализм возник из особо тесных отношений Франции и Великобритании с Востоком, который до начала XIX века фактически отождествлялся лишь с Индией и библейскими землями” (с. 4). Считается, что на христианском Западе ориентализм формально возник в 1312 г., когда Венский Церковный собор постановил учредить кафедры арабского, греческого, древнееврейского и сирийского языков в университетах Парижа, Оксфорда, Болоньи, Авиньона и Саламанки. Однако ориентализм как направление исследований предполагает наличие не только специалистов, связанных с изучением стран Востока, но прежде всего определенной области изучения, т.е. некой географической, культурной, языковой и этнической общности, именуемой Востоком. “Тем не менее очевидно, что область изучения редко определяется так легко, как это представляется, если послушать самых ревностных сторонников этого направления – обычно ученых, преподавателей, экспертов и пр. Помимо этого, область изучения может меняться настолько радикально, даже в наиболее традиционных дисциплинах вроде филологии, истории или теологии, что дать универсальное определение предмета становится почти невозможно”(с. 50). До середины XVIII в. востоковедами были знатоки Библии, лингвисты, изучавшие семитские языки, специалисты по исламу и китаеведы (поскольку иезуиты начали заново изучать Китай). Огромное внутреннее пространство Азии лежало вне академических интересов востоковедов, пока Анкетиль-Дюперрон и сэр Уильям Джонс в конце XVIII в. не сумели выявить исключительные богатства авестийского языка и санскрита. “К середине XIX в. ориентализм стал таким обширным хранилищем знаний, какое только можно себе представить” (с. 52). Тематика публикаций, относимых к востоковедению, поистине безгранична: сюда входят любые языки и диалекты азиатских стран, бесчисленные филологические работы и всё, начиная от редактирования и переводов текстов до нумизматических, антропологических, археологических, социологических, экономических, исторических, литературных и культурных исследований в любой азиатской и североафриканской стране. Однако, несмотря на этот, казалось бы, безграничный интерес ко всему восточному, из поля зрения специалистов разного профиля совершенно выпадал современный Восток. Академическое востоковедение по большей части интересовалось классическим периодом любого языка или общества, которое становилось предметом изучения. Если не считать Наполеоновского института Египта, академическое изучение современного Востока началось, по существу, только в конце XIX в. При этом Восток изучался преимущественно по книгам и рукописям. Когда ученый востоковед приезжал в страну, по которой он специализировался, он нисколько не сомневался в верности своих книжных знаний об изучаемой “цивилизации” и искал лишь их новых подтверждений. Разумеется, те люди, с которыми он сталкивался, не соответствовали литературным образам, но это легко было истолковать как вырождение аборигенов и упадок некогда выдающейся культуры. Безбрежность тематики публикаций об азиатских странах имела один положительный результат – увлеченность Востоком ряда крупных европейских писателей XIX в. “Можно смело говорить о возникновении ориенталистского жанра литературы, в котором работали Гюго, Гёте, Нерваль, Флобер, Фицджеральд и др. Однако неизбежным побочным следствием такой работы стали расхожие мифы о Востоке, основанные не только на современных подходах и распространенных предрассудках, но и на том, что Вико назвал обманом народов и ученых” (с. 52 – 53). Мифологическое восприятие Востока, сквозящее в ориенталистской литературе, определяется не только и не столько предрассудками и предубежденностью, основанной на книжных знаниях, сколько самими принципами научной методологии, выдвигающими на первый план поиски постоянных и неизменных элементов изучаемого объекта, классификацию объектов в зависимости от таких признаков и построение иерархических схем, где каждому объекту отводится строго определенное место. При таком подходе понимание равнозначно усвоению схемы. Чем больше детерминированы события и поведение элементов, предусматриваемые данной схемой, тем лучше, как считается, их понимание, тем глубже проникновение исследователя в суть явления. Этот “глубоко антиэмпирический подход” в полной мере присущ ориентализму, который исходит из представления о самодостаточных закрытых системах, где “объекты раз и навсегда являются тем, что они есть, потому что они есть то, что они есть, так как по онтологическим соображениям эмпирический материал не может ни менять свое место, ни изменяться. Соприкосновение европейцев с Востоком, в частности с исламом, усилило эту систему изображения Востока и, как указывает Анри Пирен, превратило ислам в настоящее олицетворение чужака, для борьбы с которым строилась вся европейская цивилизация, начиная со средних веков” (с. 70). Начиная с VII в., отмечает далее Пирен, в результате исламских вторжений центр европейской культуры стал перемещаться из Средиземноморья, превратившегося в арабскую провинцию, на север. “Германизм начал играть свою роль в истории. До этого римская традиция не прерывалась. Теперь же было положено начало развитию самобытной романо-германской цивилизации.” Европа оказалась в замкнутом пространстве, а Восток стал олицетворением другого мира, лежащего за его пределами, чуждого в культурном отношении Европе и европейской цивилизации. В итоге Европа, по словам Пирена, стала “одним большим христианским сообществом... Запад жил теперь своей собственной жизнью” (с. 71). Между Европой и Востоком на протяжении веков сохранялись культурные и торговые связи (в истории этих связей можно выделить множество различных фаз), однако существование разграничительной линии между Востоком и Западом оказывало постоянное влияние на европейское сознание. Широко был распространен миф о непреходящей угрозе, нависающей над Европой с Востока. Но в целом именно Европа постоянно двигалась на Восток, а не наоборот. “Ориентализм – это общий термин, который я использую для описания западного подхода к Востоку; это дисциплина, с помощью которой ведется систематическая работа по обучению, накоплению знаний и использованию их в практической деятельности. Но, кроме того, я пользуюсь этим термином для обозначения набора грёз, образов и словоупотреблений, имеющегося у каждого, кто пытался говорить о том, что лежит к востоку от разграничительной линии. Эти два аспекта ориентализма не исключали, а дополняли друг друга, так как, пользуясь тем и другим, Европа смогла успешно и в прямом смысле слова двигаться на Восток” (с. 73). Эпохальным событием, ставшим логическим завершением ориенталистской мысли, автор считает идею постройки Суэцкого канала, которой Фердинанд де Лессепс сумел заразить своих современников. “Казалось, весь мир спешил засвидетельствовать безоговорочную поддержку плана, как бы ниспосланного самим Господом. Прежние различия и препятствия исчезали: Крест поверг Полумесяц, Запад пришел на Восток, чтобы остаться там навсегда” (с. 91). В былые времена Запад воспринимал Азию как нечто далекое и чуждое, а ислам как силу, враждебную и опасную для христианской Европы. Чтобы ее одолеть, “надо было сначала изучить Восток, а затем овладеть им и с помощью военной силы, ученых и судей воссоздать подлинный классический Восток, раскопав забытые языки, историческое прошлое, расы и культуры, недоступные пониманию нынешнего населения восточных стран, и, руководствуясь этими знаниями, управлять современным Востоком... Де Лессепс и его канал наконец-то разрушили физические барьеры для контактов с Востоком, его изоляцию от Запада, его вековечную экзотичность... После де Лессепса уже никто не мог говорить о Востоке как о другом мире в строгом смысле слова. Существовал только ‘наш’ мир, ‘один’ мир, связанный в единое целое, потому что Суэцкий канал выбил почву из-под ног тех последних провинциалов, кто все еще верил в существование разных миров. С этого времени слово ‘азиат’, или ‘восточный человек’, стало административным понятием и играет подчиненную роль при характеристике демографических, экономических и социологических факторов. Для империалистов, подобных Бальфуру, или для антиимпериалистов, вроде Дж. А. Гобсона, азиат, подобно африканцу, – это представитель подвластной расы, не обязательно живущий в соответствующем географическом районе. Де Лессепс разрушил территориальную обособленность Востока, почти в буквальном смысле затащив Восток на Запад и окончательно рассеяв исламскую угрозу. После этого возникнут новые категории и произойдут новые события, включая практику империализма, и ориентализм со временем адаптируется к ним, хотя и не без труда” (с. 92). Одна из важных тенденций в ориентализме, возникшая в конце XVIII в., была связана с кризисом европейской идеологии, с разочарованием некоторых видных европейских интеллектуалов в том пути, по которому движется западная цивилизация. Восток стал привлекать их внимание не столько своей экзотичностью, сколько богатством культуры, из которой Запад может многое почерпнуть, если хочет возродиться и добиться подлинного процветания. По их мысли Запад должен был превратиться из учителя в прилежного ученика. Так, Фридрих Шлегель и Новалис призывали европейцев тщательно изучать Индию, чтобы перенять ее культуру и религию и с их помощью сокрушить материализм и механицизм западной культуры, а тем самым возродить Европу. Такая “романтическая ориенталистская идея была не просто одним из проявлений общей тенденции, но и мощным фактором, формирующим саму тенденцию... Наиболее существенным было то, что теперь интерес представляла не столько Азия сама по себе, сколько возможность ее использования для современной Европы. И всякий, кто, подобно Шлегелю или Францу Боппу, овладел каким-нибудь восточным языком, был героем-энтузиастом, странствующим рыцарем, возвращающим Европе утраченное ею чувство священной миссии. Огюст Конт в не меньшей степени, чем Шлегель, Уордсворт и Шатобриан, был приверженцем и пропагандистом явно христианского в своей основе послепросвещенческого (post-Enlightenment) мифа” (с. 115). Образы Востока, представленные разными европейскими писателями, поэтами и художниками, даже самыми эксцентричными из них, имели в своей основе единую мифологию, заложенную в их сознание обществом, культурными традициями, школой, книгами и официальной идеологией. Восприятие Востока принципиально не изменялось и у путешественников, вступавших в прямой контакт с туземцами, ибо всюду они искали только экзотику, подтверждающую сложившиеся стереотипы. “И успехи, достигнутые ‘наукой’, подобной ориентализму в его академической форме, меньше соответствуют объективной истине, чем нам зачастую хотелось бы думать” (с. 202). Сам ориентализм был порожден определенными политическими силами и процессами. По существу, это “школа интерпретации, использующая в качестве материала Восток, его цивилизации, народы и территории. Ее объективные открытия – ñàìîçàáâåííûé труд бесчисленных ученых, которые редактировали è переводили тексты, систематизировали грамматику, составляли словари, реконструировали далекое прошлое, создавали позитивистски достоверную науку, – всегда, как и теперь, были обусловлены тем фактом, что добытые истины, как и всякие истины, преподнесенные в языковой форме, заключены в языке, а правда языка, как сказал однажды Ницше, – это всего лишь ‘переменчивое множество метафор, метонимов и антропоморфизмов, короче – сумма человеческих отношений, произвольно выделенных, переставленных и приукрашенных с помощью поэзии и риторики, которая после долгого употребления начинает казаться неизменной, канонической и обязательной для народа: истины – это иллюзии, о которых вы забыли, что они именно то, что они есть на самом деле.’ Быть может, такой взгляд Ницше поразит нас как слишком нигилистический, но по крайней мере он привлечет внимание к тому, что в восприятии Запада слово ‘Восток’ со временем обросло множеством значений, ассоциаций и коннотаций и что они вовсе не обязательно относились к реальному Востоку, а скорее к окружению этого слова” (с. 203). Многие идиоматические выражения, связанные с Востоком, заняли прочное место в понятийном аппарате европейской академической науки, в сознании политиков, коммерсантов и путешественников. Все они сходились в представлениях о так называемом восточном характере, восточном деспотизме, восточной чувственности и т. п. “Для любого европейца в XIX в. (и это можно сказать почти безоговорочно) ориентализм был именно такой системой истин, истин в ницшеанском смысле слова. И поэтому справедливо будет сказать, что каждый европеец, высказываясь о Востоке, неизбежно проявлял себя как расист, империалист и почти полный этноцентрист” (с. 203 – 204). Такая установка определялась наступательной позицией Запада, обладавшего безусловным превосходством в силе. Это превосходство ярко проявлялось, в частности, в существовании такого предмета изучения, как Восток, не имевшего соответствующего эквивалента на самом Востоке. Число западных людей, посещавших страны Востока с конца XIX в., было неизмеримо больше числа азиатов, приезжавших на Запад. За 1800 – 1950 гг. на Западе было издано около 60 тысяч книг только о Ближнем Востоке. За то же время в странах Востока, вместе взятых, было опубликовано неизмеримо меньше книг о Западе (с. 204). Отношение к Востоку и к разным аспектам жизни азиатских стран в английской и французской литературе претерпело существенное изменение после первой мировой войны. Перед войной господствовало представление об особой миссии Запада (бремя белого человека), связанной с той ответственностью, которую взяли на себя европейские страны по отношению к покоренным ими странам Востока. Изучать эти страны побуждала не только и не столько естественная любознательность, сколько практическая необходимость понять их своеобразие и причины отсталости, вывести их на магистральную, как представлялось западным интеллектуалам, дорогу развития. Для этого, разумеется, нужно было накапливать знания о Востоке самим и просвещать других (т. е. азиатов). Но после первой мировой войны в Европе возникло и стало крепнуть убеждение в возможности и необходимости встречного влияния восточных культур на культуру Запада. Хотя колониальная система на была поколеблена, в некоторых странах Востока (в частности, в Египте) стала расти общественная поддержка идеи независимости. С другой стороны, мировой экономический спад, начавшийся в 1925 г., вызвал у многих европейских интеллектуалов сомнение в способности Запада к дальнейшему развитию. Признавать влияние Востока было уже не зазорно. Более того, это влияние стало представляться благотворным, ибо в нем видели возможность преодолеть ограниченность европейской системы ценностей. “Отныне уже не считалось бесспорным, что господство Европы над Востоком вытекает чуть ли не из самой природы вещей; исчезла и уверенность, что Восток нуждается в западном просвещении. Упор в межвоенные годы делался на самоопределении, выходящем за рамки провинциальности и ксенофобии... Если Восток предстает больше в качестве партнера в этой новой диалектике культурного самосознания, то это происходит, во-первых, потому, что в отношениях с Востоком возникает больше, чем прежде, проблем, а во-вторых, потому что Запад вступает в относительно новую фазу культурного кризиса, отчасти вызванного ослаблением политического влияния Запада на остальную часть мира” (с. 257). Ориентализм в том виде, как он предстает в наши дни, и в массовом сознании, и в академическом мире определяется в первую очередь отношениями с арабскими странами. Это связано с изменениями в расстановке сил на мировой арене, происшедшими после второй мировой войны. Франция и Великобритания перестали быть центрами мировой политики; их место заняли США. “Широкая паутина деловых отношений связывает теперь все части бывшего колониального мира с Соединенными Штатами, точно так же как рост числа университетских кафедр разделяет (и тем не менее связывает) все прежние филологические и другие дисциплины, подобные ориентализму. Страновед (the area specialist), как его теперь называют, претендует на особое знание территории и предлагает свои услуги в этом качестве правительству или коммерсантам. Обильные, как бы материальные, знания, хранящиеся в анналах современного европейского ориентализма, постепенно растворились и получили новые формы. Самые разнообразные гибридные характеристики Востока сталкиваются теперь в культуре. Описания Японии, Индокитая, Китая, Индии, Пакистана вызывали и продолжают вызывать широкий отклик, их обсуждают во многих местах по вполне очевидным причинам. Восприятие ислама и арабов имеет свои особенности, но в Соединенных Штатах их обсуждают гораздо реже как проявление того мощного идеологического течения, в которое здесь выродился традиционный европейский ориентализм” (с. 285). Автор выделяет несколько важнейших особенностей, характеризующих современный американский подход к арабам и исламу. 1. Образы, укоренившиеся в массовом сознании, и представления, формируемые общественной наукой. После июньской войны 1967 г. между арабами и Израилем, а особенно после войны 1973 г., в средствах массовой информации и в общественном сознании США стал утверждаться негативный образ араба как носителя угрозы западному миру. “В кино и на телевидении араб ассоциируется с распутством и кровожадностью. Он предстает как сладострастный дегенерат, способный, однако, к хитроумным козням, но в основном c cадистскими наклонностями, вероломный, подлый. Работорговец, погонщик верблюдов, меняла, красочный негодяй – таковы некоторые арабские персонажи в кино. Можно часто увидеть арабского главаря (мародеров, пиратов, ‘туземных’ повстанцев), злобно рычащего плененному западному герою и белокурой девушке: ‘Мои люди собираются вас прикончить, но прежде они хотят позабавиться.’... В теленовостях арабов всегда показывают в большом числе. Никакой индивидуальности, никаких личных особенностей или отдельных судеб. В большинстве картин перед зрителем предстают сцены массового неистовства и страданий или бессмысленные (а значит, безнадежно эксцентричные) жесты. За всеми этими образами таится угроза джихада. Как следствие, нагнетается страх, что мусульмане (или арабы) завоюют мир” (с. 286 – 287). Регулярно публикуются книги и статьи, где выпады против ислама и арабов ничем не отличаются по тону и содержанию от антиисламской пропаганды, которая велась в средние века и в эпоху Возрождения. В таком тоне не пишут и не говорят ни об одной другой этнической или религиозной группе. В одной из статей, опубликованных в “Харперс магазин”, утверждалось, что арабы по своей сути – убийцы и что насилие и коварство заложены в арабских генах (с. 287). Такие откровенно расистские измышления, касающиеся арабов, не встречают отпора в академических кругах. Более того, они находят здесь по крайней мере косвенную поддержку. В трудах, публикуемых под эгидой американских центров изучения Ближнего и Среднего Востока, проводится мысль о том, что нынешняя исламская культура не содержит в себе ничего ценного, да и вообще вряд ли она существует как таковая, ибо единственное, что объединяет арабов, – это ненависть к евреям и Израилю. Одна из поразительных, как считает автор, особенностей нынешнего американского ориентализма – игнорирование художественной литературы. “Вы можете просмотреть кипы публикаций специалистов по современному Ближнему Востоку и не найти ни единой ссылки на художественную литературу. Видимо, для специалиста по региону гораздо более значимы ‘факты’, для осмысления которых художественные тексты могут создавать лишь помехи. Вследствие такого заметного пробела в нынешней осведомленности американцев об арабском или исламском Востоке оказываются выхолощенными представления об этом регионе и его людях; на первое место выступают ‘подходы’, ‘тенденции’, статистика, т. е. происходит дегуманизация региона. Когда арабский поэт или романист (а таких много) пишет о своих переживаниях, ценностях, о своей человечности (как бы это ни казалось странным), он уже одним этим разрушает различные конструкции (образы, клише, отвлеченные построения), с помощью которых представляется Восток. Литературный текст более или менее прямо говорит о живой действительности” (с. 291). Игнорирование художественной литературы и относительно слабая позиция филологии в современных американских исследованиях Ближнего Востока свидетельствуют о новой эксцентричности в ориентализме. В том, что ныне делают специалисты по Ближнему Востоку из академических кругов, очень мало того, что напоминает традиционный ориентализм. То, что от него осталось, – это в основном “некоторая культурная враждебность и ощущение, основанное не столько на филологии, сколько на ‘специальных знаниях’. Если говорить о генеалогии, то современный американский ориентализм возник из таких вещей, как военные школы иностранных языков, созданные во время и после войны, внезапно проснувшийся интерес правительства и корпораций к незападному миру в послевоенный период, холодная война с Советским Союзом и остаточное миссионерское отношение к азиатам, которые считаются созревшими для реформ и перевоспитания” (там же). 2. Политика в области культурных связей. Хотя до XX в. США еще не были мировой державой, именно на протяжении XIX в. их интерес к Востоку проявлялся в таких формах, которые позволили ему плавно перейти в открыто имперский интерес. Еще в 1843 г., на первом годичном собрании Американского восточного общества (основано в 1842 г.), его председатель Джон Пиккеринг со всей определенностью указал, что Америка намеревается изучать Восток, чтобы последовать примеру имперских европейских держав. “Послание Пиккеринга выдвигало на первый план (как это делается и теперь) политические, а не чисто научные задачи востоковедческих исследований” (с. 294). Развитие мировой торговли и средств связи (телеграф) создавало благоприятные условия для миссионерской деятельности в странах Востока (создание школ, университетов, больниц, распространение печатных изданий), позволяющей оказывать, по примеру европейских держав, политическое влияние на эти страны. Во время и после второй мировой войны интерес США к Ближнему Востоку резко возрос. На Ближнем Востоке находился один из важных театров военных действий, и его стратегическая роль, связанная с географическим положением и нефтяными ресурсами, предопределила особый интерес к нему и прямое вовлечение США в дела региона. Высокая активность США в ближневосточной политике “подготовила их к той новой имперской роли, которую они стали играть в послевоенные годы. Важным аспектом этой роли была политика ‘культурных отношений’, как она была определена Мортимером Грейвзом в 1950 г. Частью этой политики, указывал он, была работа по приобретению ‘всех значительных публикаций на важнейших языках Ближнего Востока, изданных с 1900 г.’, работа, ‘которую наш конгресс должен признать одним из мероприятий по укреплению нашей национальной безопасности’. На карту поставлена, утверждал Грейвз,... необходимость для Америки ‘гораздо лучше понять те силы, которые стремятся воспрепятствовать Ближнему Востоку принять американскую мысль. Главные такие силы – это, конечно, коммунизм и ислам.’ Из этой озабоченности и в качестве современного дополнения к Американскому восточному обществу, больше глядящему в прошлое, возник весь обширный аппарат исследований Ближнего Востока” (с. 295). Образцом стал Институт Ближнего Востока, основанный в Вашингтоне в 1945 г. и работающий под эгидой и контролем федерального правительства. Из учреждений такого рода выросли Ассоциация ближневосточных исследований, пользующаяся мощной поддержкой Фонда Форда и других частных фондов, различные федеральные программы помощи университетам, а также исследовательские проекты, осуществляемые министерством обороны, корпорацией РАНД и Гудзоновским институтом. Все новые учреждения и исследовательские группы сохраняют в целом и даже в деталях традиционные ориенталистские подходы и представления, ранее сложившиеся в Европе. 3. Упрощенчество, сводящееся к мифологическому восприятию ислама. Идеологический конфликт между сионизмом и арабским антисионизмом, при их внешней противоположности, имеет общий корень – традиционный европейский ориентализм, который представлял семитов как людей, по природе лишенных тех положительных качеств, которыми обладают люди Запада. Этот миф, усвоенный идеологами нынешнего Израиля и преобразованный ими в антиарабский миф, лежит в основе того образа, который приписывается арабу “с позиций ‘передового’ квазизападного общества. Палестинец, сопротивляющийся иностранным колонизаторам, воспринимался либо как глупый туземец, либо как ничтожная величина c точки зрения морали и даже жизненных прав. По израильским законам только еврей имеет все гражданские права и безоговорочное право на иммиграцию. Арабам, хотя они и живут на этой земле, предоставлены меньшие, более простые права: они не могут иммигрировать, и если они не имеют тех же прав, то это потому, что они ‘менее развиты’. Израильская политика в отношении арабов во всех своих проявлениях определяется ориентализмом, как это с полной убедительностью показано в недавно опубликованном Отчете Кёнига. Имеются хорошие арабы (те, которые поступают так, как им велят) и плохие арабы (которые поступают не так, и поэтому являются террористами). Сверх того, существуют еще все те арабы, которые, потерпев однажды поражение, могут послушно сидеть за надежно укрепленной линией и подчиняться руководству минимального числа людей, исходя из теории, что арабов удалось заставить принять миф об израильском превосходстве и что они никогда больше не осмелятся напасть... Один миф поддерживает и порождает другой” (с 306 – 307). “Сам по себе, в своей сути, как набор верований и убеждений, как метод анализа, ориентализм не может развиваться. Фактически это доктринальный антитезис развития. Его главный аргумент – это миф о задержке развития семитов. Из этой матрицы извергаются другие мифы, каждый из которых показывает семита как противоположность западного человека и как неизлечимую жертву своих собственных слабостей. По стечению обстоятельств семитский миф раздвоился в сионистском движении: один семит встал на позиции ориентализма, а другой, араб, был представлен в образе восточного человека. Каждый раз, когда заходит речь об арабском национальном характере, используется этот миф. Влияние, оказываемое этими инструментами на умы, усиливается теми институтами, которые созданы вокруг них.” Авторитет ориенталистской мифологии, несмотря на всю ее эфемерность, ныне находит свою прочную опору в самих учреждениях государства. “Поэтому писать об арабском восточном мире – значит писать от имени государства, выражая при этом не какую-нибудь сомнительную идеологию, а неоспоримую уверенность в абсолютной истине, подкрепляемой абсолютной властью” (с. 307). 4. Ориентализация Востока. Несмотря на то, что ориентализм представляет собой всего лишь систему примитивных мифов, к тому же пропитанных плохо скрываемым расизмом, он не только процветает ныне в США, но и находит почву в самих странах Востока. Компромисс, достигнутый между интеллектуальным классом ближневосточных стран и новым империализмом, можно считать торжеством ориентализма. “Современный арабский мир является интеллектуальным, политическим и культурным сателлитом США” (С. 322). Культурная зависимость от США определяется, в частности, бедностью большинства арабских стран, не позволяющей им вкладывать достаточные средства в исследовательскую работу и подготовку интеллектуальной элиты, и наличием особо благоприятных условий для обучения и работы в США, куда ныне направляется большинство арабских студентов, обучающихся за границей. В настоящее время в арабском мире нет ни одного солидного журнала, публикующего исследования по арабистике, ни одного образовательного учреждения, которое могло бы соперничать с Оксфордом или Гарвардом в изучении арабского мира. “Нет ничего удивительного в том, что азиатские студенты (и азиатские профессора) все еще хотят приезжать и сидеть у ног американских ориенталистов, а потом повторять своим местным слушателям те клише, которые воплощают в себе ориенталистские догмы” (с. 323 – 324). По общему правилу руководящие посты среди арабистов в университетах, фондах и других учреждениях занимают специалисты, не являющиеся выходцами с арабского Востока. Один из важнейших факторов ориентализации Востока – формирование здесь потребительского общества. Арабский мир оказался втянутым в западную систему рыночных отношений. Доходы, получаемые от нефти, оседают главным образом в США, и это делает арабские нефтедобывающие страны крупными потребителями американского экспорта. В этих торговых отношениях “Америка выступает потребителем очень ограниченного числа товаров (главным образом нефти и дешевой рабочей силы), а арабские страны – потребителем чрезвычайно разнообразного и широкого набора товаров из США, как материальных, так и идеологических. Это имеет много следствий. В регионе происходит широкая стандартизация вкусов, символизируемая не только транзисторами, голубыми джинсами и кока-колой, но и культурными образами Востока, которые поставляются американским телевещанием и бездумно потребляются его массовой аудиторией. В результате парадоксальным образом араб рассматривает себя как ‘араба’ в том качестве, в каком он преподносится Голливудом. Другим результатом является то, что западная рыночная экономика и ее потребительская направленность создала (и продолжает создавать все ускоряющимся темпом) класс образованных людей, чей ум направлен на удовлетворение потребностей рынка... Интеллигенция выполняет предписанную ей роль придавать легитимность и авторитет тем идеям о модернизации, прогрессе и культуре, которые она получает по большей части из Соединенных Штатов... Короче говоря, современный Восток участвует в своей собственной ориентализации” (с. 324 – 325). Завершая исследование, Саид оговаривается, что в его задачу не входило предлагать какую-либо альтернативу ориентализму. Его целью было всего лишь “описать определенную систему идей и никоим образом не заменить ее новой системой.” Помимо этого, он пытался поднять ряд вопросов, относящихся к обсуждению проблем познания: “Как человек изображает другие культуры? Что такое другая культура? Есть ли польза от самого представления о какой-либо конкретной культуре (или расе, религии или цивилизации) или оно всегда сопряжено либо с самовосхвалением (когда речь идет о собственной культуре), либо с враждебностью и агрессивностью (когда речь идет о ‘других’)? Являются ли культурные, религиозные и расовые различия более существенными, чем социо-экономические и политико-исторические категории? Каким образом идеи обретают власть над умами, ‘нормальность’ и даже статус ‘естественной’ истины? Какова роль интеллектуала? В том ли состоит его призвание, чтобы оправдывать ту культуру и то государство, к которым он принадлежит? Какое значение он должен придавать независимой критической мысли – оппозиционной критической мысли?” (с. 325 – 326). Ответы на некоторые из этих вопросов были даны автором, по его признанию, имплицитно, но есть и такие, которые необходимо сформулировать более четко. Так, ориентализм выдвигает вопрос не только о возможности не политизированной гуманитарной науки, но и о желательности слишком тесной связи между ученым и государством. Многое говорит о том, что идеологизированность ориентализма сохранится и впредь, хотя, по убеждению автора, “нет никакой необходимости в том, чтобы ориентализм всегда был столь непререкаемым в интеллектуальной, идеологической и политической сферах, каким он был до сих пор” (с. 326). К счастью, есть немало исследователей исламской истории, религии, цивилизации, социальных отношений, которые свободны от господствующих стереотипов и повинуются своей совести. Их работы ценны своей конкретностью, подлинным интересом к тем проблемам, которые в них рассматриваются, и отсутствием того догматизма, которым характеризуется ориентализм. Ориентализм, заключает Саид, оказался несостоятельным и в человеческом, и в интеллектуальном отношении. Внушая враждебность к обитателям одного из регионов мира, которых он рассматривает как чуждые элементы, ориентализм не учитывает и не признает ценности человеческого опыта. “Всемирная гегемония ориентализма и все, что он символизирует, могут быть теперь оспорены, если мы умело воспользуемся произошедшим в XX в. подъемом политического и исторического сознания столь многих народов Земли... Если знание ориентализма имеет хоть какое-то значение, то это – напоминание о соблазне деградации знания, любого знания, в любой области, в любое время. И ныне, быть может, больше, чем прежде” (с. 328). Л. Ф. Блохин