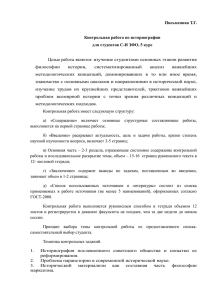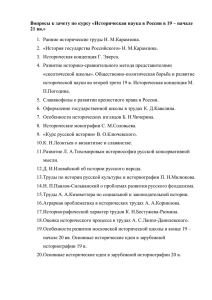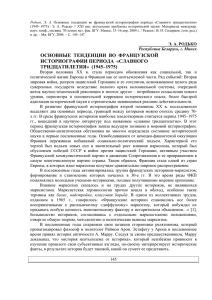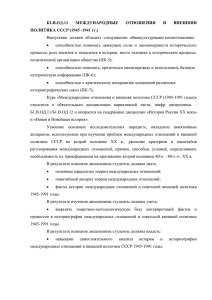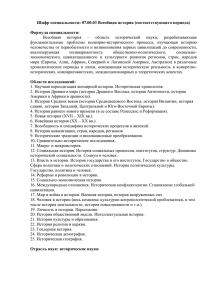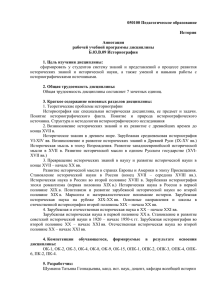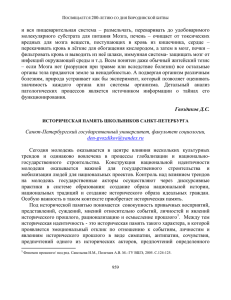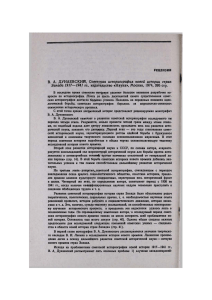АФАНАСЬЕВ Ю
advertisement
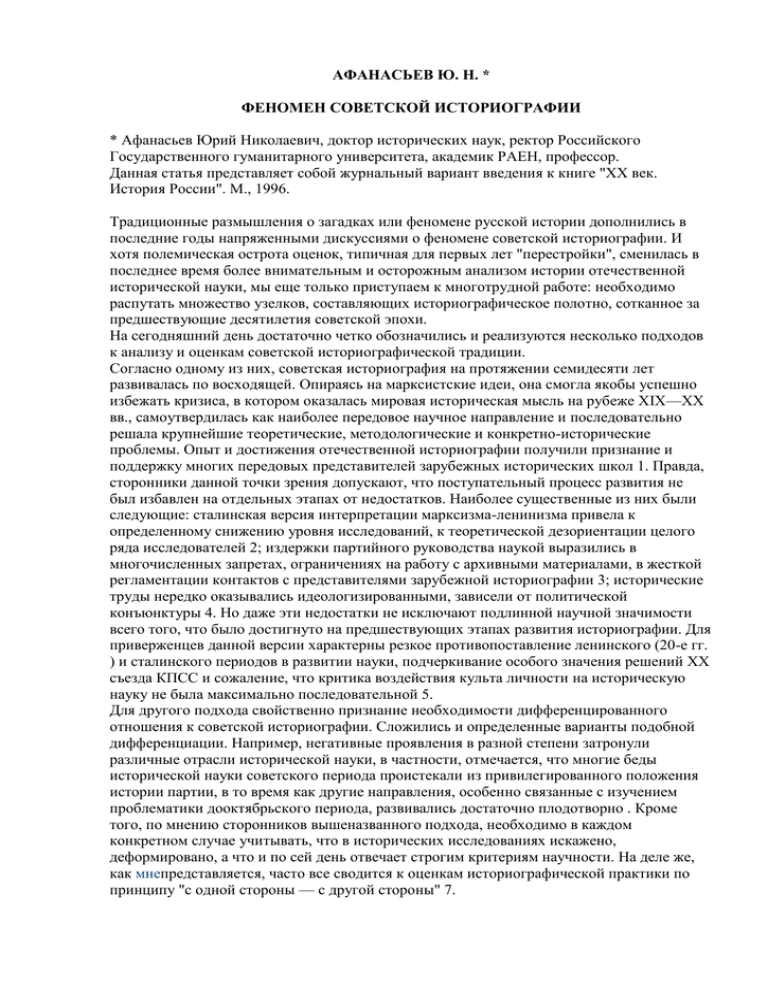
АФАНАСЬЕВ Ю. Н. * ФЕНОМЕН СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ * Афанасьев Юрий Николаевич, доктор исторических наук, ректор Российского Государственного гуманитарного университета, академик РАЕН, профессор. Данная статья представляет собой журнальный вариант введения к книге "XX век. История России". М., 1996. Традиционные размышления о загадках или феномене русской истории дополнились в последние годы напряженными дискуссиями о феномене советской историографии. И хотя полемическая острота оценок, типичная для первых лет "перестройки", сменилась в последнее время более внимательным и осторожным анализом истории отечественной исторической науки, мы еще только приступаем к многотрудной работе: необходимо распутать множество узелков, составляющих историографическое полотно, сотканное за предшествующие десятилетия советской эпохи. На сегодняшний день достаточно четко обозначились и реализуются несколько подходов к анализу и оценкам советской историографической традиции. Согласно одному из них, советская историография на протяжении семидесяти лет развивалась по восходящей. Опираясь на марксистские идеи, она смогла якобы успешно избежать кризиса, в котором оказалась мировая историческая мысль на рубеже XIX—XX вв., самоутвердилась как наиболее передовое научное направление и последовательно решала крупнейшие теоретические, методологические и конкретно-исторические проблемы. Опыт и достижения отечественной историографии получили признание и поддержку многих передовых представителей зарубежных исторических школ 1. Правда, сторонники данной точки зрения допускают, что поступательный процесс развития не был избавлен на отдельных этапах от недостатков. Наиболее существенные из них были следующие: сталинская версия интерпретации марксизма-ленинизма привела к определенному снижению уровня исследований, к теоретической дезориентации целого ряда исследователей 2; издержки партийного руководства наукой выразились в многочисленных запретах, ограничениях на работу с архивными материалами, в жесткой регламентации контактов с представителями зарубежной историографии 3; исторические труды нередко оказывались идеологизированными, зависели от политической конъюнктуры 4. Но даже эти недостатки не исключают подлинной научной значимости всего того, что было достигнуто на предшествующих этапах развития историографии. Для приверженцев данной версии характерны резкое противопоставление ленинского (20-е гг. ) и сталинского периодов в развитии науки, подчеркивание особого значения решений XX съезда КПСС и сожаление, что критика воздействия культа личности на историческую науку не была максимально последовательной 5. Для другого подхода свойственно признание необходимости дифференцированного отношения к советской историографии. Сложились и определенные варианты подобной дифференциации. Например, негативные проявления в разной степени затронули различные отрасли исторической науки, в частности, отмечается, что многие беды исторической науки советского периода проистекали из привилегированного положения истории партии, в то время как другие направления, особенно связанные с изучением проблематики дооктябрьского периода, развивались достаточно плодотворно . Кроме того, по мнению сторонников вышеназванного подхода, необходимо в каждом конкретном случае учитывать, что в исторических исследованиях искажено, деформировано, а что и по сей день отвечает строгим критериям научности. На деле же, как мнепредставляется, часто все сводится к оценкам историографической практики по принципу "с одной стороны — с другой стороны" 7. Наконец, можно выделить и более радикальный подход к оценке развития историографии в Советской России, в рамках которого ставится вопрос, в какой мере историография отвечала (и отвечала ли вообще) требованиям научности, имея в виду не только современные представления о науке, но и представления 20—70-х гг. Причем, если в 1985—1986 гг. о глубоком внутреннем кризисе советской историографии говорили и писали преимущественно публицисты и творческая интеллигенция (достаточно вспомнить, например, высказывание Р. Быкова в интервью о докторах "фальсификаторских наук"), то в последние годы подобная позиция получила широкое распространение и среди профессиональных историков 8. Тем не менее, несмотря на многообразие существующих подходов, есть между ними нечто общее: преобладание аксиологических характеристик советской историографической традиции над углубленным анализом существа проблемы. Это затрудняет понимание самого феномена советской историографии. Исследование советской исторической науки как феномена предполагает ее постижение в двух разных (хотя и взаимосвязанных) измерениях. Первое — место, роль и основные функции исторической науки в советском обществе. Такое измерение можно определить как внешнее по отношению к историографии. Здесь первостепенными оказываются проблемы соприкосновений, взаимообусловленности двух сущностей — науки и общества и взаимоотношений между ними. Второе измерение — внутренняя жизнь и состояние самой науки, ее структура, правила, предпочтения, тематика, методика, стиль. В предлагаемой вниманию читателей статье предпринимается попытка хотя бы кратко ответить на вопрос: что собой представляла советская историография с точки зрения двух этих измерений, в чем ее феномен. При этом я не ставил перед собой задачу всесторонне и подробно охарактеризовать все аспекты данной проблемы, поскольку это невозможно сделать в рамках одной статьи. Естественно, что вне рассмотрения осталось множество сюжетов, в частности, таких, как состояние исторической науки, ее провалы и достижения по каждому направлению исследований — в области балканистики, востоковедения, древней, и средневековой России; уровень разработанности тех или иных проблем, личный вклад ученых (Е. В. Тарле, А. 3. Манфреда, С. Д. Сказкина, В. Т. Пашуто и др. ) и т. д. Все это — темы специальных исследований. С конца 80-х гг. историки не раз пытались осмыслить специфику взаимоотношений между властью и наукой в условиях господства коммунистической идеологии и коммунистического режима. "Перед нами, — отмечает автор одного из наиболее фундированных по этой теме исследований, — беспрецедентный в истории человеческой культуры феномен репрессированной науки... Объектом репрессий оказалось научное сообщество в целом, его ментальность, его жизнь во всех ее проявлениях. Речь должна идти не только о репрессированных ученых, но и о репрессированных идеях и направлениях, научных учреждениях и центрах, книгах и журналах, засекреченных архивах" 9. 147 Итак, репрессированная наука. Такое ее определение в тоталитарном обществе стало сегодня общеизвестным и, можно даже сказать, почти общепризнанным. Реже раскрывается другая сторона характеристики исторической науки: будучи репрессированной, она и сама стала мощным средством репрессий. Фальсифицируя историю, деформируя сознание, насаждая мифы, историческая наука наряду с сугубо репрессивными органами подавляла, уничтожала, принуждала. Эта сфера активного функционирования исторической науки не менее значима при определении ее места и роли в советском обществе. Иными словами, она не только страдала, но и заставляла страдать. Но какой бы общей не виделась нам подобная характеристика советской историографии, вполне очевидно, что это лишь один срез, один пласт проблемы. Сегодня не менее важно показать, что советская историческая наука (как наука в целом!) была органической, составной частью советской общественно-политической системы. Именно данное обстоятельство, будучи наиболее существенным, предопределило как многие внутренние процессы историографии, так и специфику взаимоотношений между историографией и другими государственными и общественными институтами. Отношения любой власти с собственными научными институтами всегда в той или иной степени конфликтны. Если власть не может не стремиться к стабильности сложившихся отношений, то научная мысль так же не может не рваться из любых рамок зависимости и жесткого упорядочения. Не случайно поэтому в истории европейской цивилизации еще на заре средневековья возникает такой своеобразный феномен культуры, как университет. Первоначально университеты унаследовали известную функцию монастырей — ученичество и просвещение. К мнениям, исходившим из университетов, обычно прислушивались — так к камертону прислушивается музыкант, настраивающий свой инструмент. Но для того чтобы выполнять эти общественно необходимые функции, университет должен был сформироваться как особый мир, со своими внутренними законами, построить собственные отношения с государством на принципах автономии. Идея автономности науки возникла как следствие достаточно высокого уровня развития государства и общества, как результат необходимого компромисса между государством, обществом и представителями науки. В России принцип автономности университетов вырабатывался и в определенной мере реализовывался в ходе реформ 60—70-х гг. XIX в., но уже в 80-х гг. — период александровской стабилизации — был существенно ограничен, а при советском режиме полностью ликвидирован. Тоталитаризм как принцип организации общественной жизни исключает самую возможность компромисса. Поэтому автономное существование и университетов, и науки в целом в тоталитарном обществе невозможно. Наука и ее институты могут существовать лишь в той мере, в какой они становятся составной частью системы. Государство поддерживает лишь те сферы науки, которые непосредственно удовлетворяют его первоочередные потребности. Не случайно при тоталитарном режиме в привилегированном положении оказываются отрасли научного знания, обслуживающие идеологию и военный комплекс, а все остальные, даже точные науки, поддерживаются лишь в тех границах, в которых они сопряжены с отраслями, работающими на войну. Историческая же наука с первых дней установления политической власти большевиков попала в число привилегированных научных дисциплин. Такая избирательность новой власти опиралась на глубокие прагматические основания. Захватив политическую власть, партия большевиков не имела устойчивой поддержки в массах. Зато в неограниченных возможностях властвования ее лидеры были убеждены вполне. Естественно, что заставить людей поверить в закономерность своей победы большевики намеревались, в первую очередь, с помощью оружия. "... Диктатура предполагает и означает состояние придавленной войны, состояние военных мер борьбы против противников пролетарской власти. Коммуна была диктатурой пролетариата, и Маркс с Энгельсом ставили в упрек Комму-148 не, считали одною из причин ее гибели то обстоятельство, что Коммуна недостаточно энергично пользовалась своей вооруженной силой для подавления сопротивления эксплуататоров", — отмечал Ленин 10. Большевики учли этот урок и уже с первых дней сделали все, чтобы никто не смог упрекнуть их в неудовлетворительном использовании вооруженной силы. Однако ограничиться лишь подобной констатацией, рассуждая о месте исторической науки в советском обществе, значило бы, на мой взгляд, существенно упростить проблему а еще точнее — исказить ее. В самом деле, если допустить, что насилие как наиболее универсальный, охватывающий и духовную сферу общества, способ властвования, можно исчерпывающе объяснить злонамеренным к нему пристрастием большевиков или какими-то их патологическими отклонениями то это значит свести объяснение к сугубо личностным, субъективным обстоятельствам. В конце концов любые человеческие деяния объясняются субъективными мотивами. Но ведь и сами мотивы, в свою очередь, нуждаются в объяснении. Если же переместиться в эту плоскость, то надо будет заглянуть в доктринальные основания большевизма. Здесь придется сделать довольно пространное отступление и, прежде чем ответить на вопрос, как историческая наука и — в более широком плане — определенное историческое сознание внедрялись в советскую систему, попытаться выяснить, почему в этой системе отводилось особое, можно сказать, важнейшее место идеологическому фактору вообще и истории, в частности. К моменту выхода Ленина на политическую сцену на рубеже веков русская политическая мысль и освободительное движение имели уже длительную и богатую историю. На разных этапах этой истории ставились и иногда решались разные теоретические и политические вопросы: о сельской общине, роли личности в истории, стихийности и сознательности в революционном движении, новых людях, государстве и обществе, роли петровских реформ, сущности крепостничества и т. д. Некоторые вопросы со временем теряли свою остроту и актуальность, но были и такие, разрешение которых с течением времени лишь усложнялось. И среди них, на мой взгляд, наиболее важным и всеопределяющим оставался вопрос о своеобразии исторического развития России. Первым этот вопрос поставил П. Я. Чаадаев в "Философических письмах", опубликованных в "Телескопе" в 1836 г. Потребность перемен в русской жизни тогда с новой силой обострила тему русской "самобытности", "русской идеи", "русских начал". А. С. Пушкин в стихотворении "К Чаадаеву" писал: "Мы ждем с томленьем упованья/Минуты Вольности святой... " Никто, пожалуй, ни до, ни после Чаадаева не смог так страстно, с такой горечью и любовью выразить и того, что "Россия заблудилась на земле", что "мы ничего не восприняли из преемственных идей человеческого рода", и вместе с тем того, что удел России — "дать в свое время разгадку человеческой загадки" 11. Идеи Чаадаева об истории России, о ее всечеловеческом призвании определялись провиденциализмом этого христианского философа. Универсализм Чаадаева, свобода от узкого национализма, "устремленность к небу — через истину, а не через родину" делают его современным мыслителем и в наши дни. Что же касается вопроса о типе исторического развития России, то Чаадаев пробудил к нему дополнительный интерес, сделал заметный шаг в его осмыслении, но окончательного ответа не дал. Историческое движение, в котором отведено место и России, все еще представлялось ему как шествие гуськом, хотя и с отставанием одних стран, и с забеганием вперед других. Первым, кто поставил вопрос по-иному, а именно о русском типе истории, был А. И. Герцен. После революции в Европе он пришел к заключению, что социалистическая перспектива в рамках алгебры западноевропейской истории исчерпана. Европейский тип исторического развития Герцен определил как синхронический: экономические, социальные, политические изменения и движения общественной мысли здесь происходили в одном ритме, взаимообусловленно. Подъем экономики сопровождался созреванием гражданского общества, 149 социальным размежеванием, что повлекло за собой поляризацию сил в обществе. Но события 1848 г. не привели к утверждению социалистической перспективы в Европе. Следовательно, полагал Герцен, синхронический тип развития оказался тупиковым и "история, по-видимому, нашла другое русло" — в России. "Европа не разрешила противоречия между индивидуумом и государством, но она поставила этот вопрос; Россия тоже не нашла этому решения. Именно перед лицом этой проблемы начинается наше равенство" 12. И далее, писал Герцен, "естественно, возникает вопрос, должна ли Россия пройти через все фазы европейского развития или ей предстоит совсем иное революционное развитие? Я решительно отрицаю необходимость подобных повторений. Мы можем и должны пройти через скорбные, трудные фазы наших предшественников, но так, как зародыш проходит низшие ступени зоологического существования" 13. Отличный от европейского асинхронный тип исторического развития России Герцен усматривает не только в возможности пропустить некоторые фазы, но и в иной динамике субъективного и объективного, современного и традиционного. На Западе утвердилась частная собственность на основе отрицания традиционного первобытного коммунизма. Этот процесс сопровождался зарождением и развитием социализма как общественной мысли. В России же первобытный социализм сохранился в виде сельской общины. Другими словами, объективная ситуация для восприятия социализма оказалась в России подготовленной и вместе с тем не соответствующей существующему политическому и социальному застою. Следовательно, возможное соединение западной и социалистической мысли как силы субъективной и как продукта высокого исторического развития и российской сельской общины как силы объективной, но пока что препятствующей исторической динамике явилось залогом дальнейшего продолжения восходящего исторического развития. Асинхронный тип и есть то новое русло, которое нашла для себя история в России. Тонкий слой образованного меньшинства выступит в роли соединительного звена между европейской общественной мыслью и русской сельской общиной. Но как и что при этом надо делать? С помощью какого механизма можно было бы приобщить Россию, как полагал Чаадаев, к "историческому человечеству"? У Герцена мы ответа не находим. Этими же вопросами был озадачен всю свою жизнь Н. Г. Чернышевский. Наиболее полные ответы на них он попытался дать в романе "Что делать?" (1863)14. Отметим, несколько забегая вперед, что Чернышевский "перепахал" Ленина именно своим ответом на вопрос, что делать для того, чтобы русский народ смог вырваться из "круга истории", по которому он, по словам Чаадаева, вынужден был ходить, вместо того чтобы быть в истории. Главное, что не давало возможности русскому народу вырваться из самодержавной системы (по мнению не только Чернышевского, но и многих других мыслителей), — отсутствие гражданского общества, государственная монополия на любое действие, исключающая какую бы то ни было автономию. Так повелось еще со времен Московского царства (здесь всего уместнее сослаться на известные изыскания В. О. Ключевского), когда установилась всеобщая государственная повинность, а люди были поделены на две части: одни несли эту повинность лично — дворяне, их челядь, военные, администрация; другие — своим достоянием, выплачивая налоги и подати, — почти все крестьяне и рядовые горожане. В отношении свободных и государственных крестьян роль уполномоченных государства по сбору податей и наложению повинностей выполняли деревенские общины, а в отношении крепостных — помещики. Но и сами дворяне — бояре, московские служилые люди, удельные князья и их дружины, т. е. все высшие слои общества, были закабалены еще больше, чем низшие. Они были слугами, холопами царя. Другими словами, они были и деспотами, и подданными одновременно. Перечисляя основные элементы, образующие порочный круг русской истории, Чернышевский на первое место выводил, разумеется, крепостничество, но только лишь как одну из ее составляющих. А наряду с крепостничеством — слабость 150 народной энергии, непривычку частных людей к инициативе, их подавление государством. Очерченный Чернышевским порочный круг: "всемогущее государство — подданные, лишенные инициативы", гарантировал постоянное воспроизводство системы. Даже проводимые реформы (как петровские, так и реформы 60-х гг. XIX в.) не разрывали этот круг, а, наоборот лишь модернизировали режим с целью его сохранить, усилить в ходе изменений. Отсутствие социального пространства за пределами "государственной пользы" восполнялось в России иными реальностями — азиатчиной и самодурством: с одной стороны — угодливость, уступчивость, раболепство и бессилие, а с другой — произвол, полное бесправие, насилие. Элементами все того же порочного круга стали: вертикальное устройство системы, наличие общности интересов: когда все в качестве подданных сознают себя индивидуально включенными в вертикальную "иерархию самодурства". Постоянное самовоспроизводство системы свидетельствовало, по мнению Чернышевского, о недостаточности стихийного развития, что являлось исторической спецификой России. Какой же выход? Поскольку Россия в силу ее исторической специфики превратилась, по выражению Добролюбова, в "печальное кладбище человеческой мысли и воли", она не может, полагал Чернышевский, в ходе стихийного развития выйти на путь, по которому шла Европа. Для того чтобы Россия встала на путь раскрепощения, необходимо предварительное условие — создание политического пространства, отвечает Чернышевский на им же самим поставленный вопрос "что делать?" Как это сделать? С помощью новых людей и... может быть, профессиональных революционеров. Они должны быть внутренне раскрепощены — уже не подданные, а граждане. Им предстоит пойти во все слои общества, чтобы создать требуемую политическую атмосферу. Почему же Ленин, по-своему отвечая в 1902 г. на вопрос "что делать?", никогда не уточнял, что из всего наследия русской демократической мысли он выделил именно идеи о своеобразии типа исторического развития России, о том, что ей не присущ "естественный путь" и еще до образования классов надо создать политическое пространство; и наконец, самое главное — на это будут способны люди, которые смогут вырваться из системы, освободиться от нее и внести извне политическое сознание в (недифференцированный, неструктурированный, как сказали бы мы сегодня) социум? Почему же он никогда не уточнял, что особо оценил именно эти идеи? Для этого, на мой взгляд, были серьезные основания. Неизменной и постоянно присутствующей в мыслях и действиях Ленина оставалась лишь идея отвержения "естественного пути" России, исправления "недостаточности" русской истории. Но эта идея, если смотреть на нее сквозь призму преемственности в русской демократической антидеспотической мысли, дала в процессе ленинских действий такие побеги, что ему самому пришлось воздерживаться от объяснения ее родословной. Когда Герцен, Добролюбов, Чернышевский думали о раскрепощении, они имели в виду прежде всего и главным образом освобождение личности. Само раскрепощение они мыслили как дело долгое и трудное, на которое уйдут "десятки, может быть, сотни лет" 15. Что же касается социализма, то он у Чернышевского вообще за пределами реальности. Это всего лишь сон, фантазии, утопия. Много нюансов существует и в отношении таких людей, как Рахметов. Он "особенный человек", профессиональный революционер. По Чернышевскому, такие, как он, не просто забавные, смешные люди, но люди опасные ("не следуйте за ними")16. По сути, они и самодержавный режим близки генетически. Понятно, почему Ленин предпочитал не вдаваться во все эти и другие подобные тонкости русской демократической мысли. Если бы он когда-нибудь открыто сослался на них, то вынужден был бы сказать, что конкретно связывает его с русской домарксистской демократической мыслью и чем объясняется его избирательность по отношению к ней. Но в таком случае Ленину пришлось бы долго доказывать еще и свою марксистскую ортодоксальность. 151 С верностью же Ленина марксизму — свои проблемы. Если бы Ленин оставался последовательным марксистом, он должен был бы, говоря об условиях успешного развития освободительного движения, придерживаться бесспорных марксистских политических установок. Например: возглавит освободительное движение рабочий класс, поскольку только ему дано самой историей уверенно смотреть в будущее и не бояться последствий этой борьбы. У рабочего класса нет причин извращать факты, искажать действительность, так как в настоящем ему нечего терять, а в будущем он завладеет всем, что ему положено по праву. Чистота идей рабочего класса, соответствие его коллективного разума и основного вектора истории — не божий дар, а всего лишь отражение экономических и социальных условий, его места в обществе. Убеждение и мысли каждого человека определяются положением класса, к которому он принадлежит, и могут стать иными с изменением этого положения. Задача революционеров — способствовать смене объективных обстоятельств, "положения", рабочий же класс сам осуществит свою историческую миссию. Тем не менее примерно с 1902 г. Ленин говорит и доказывает нечто совершенно противоположное. Рабочий класс, по его мнению, не способен самостоятельно подняться до сознания своего исторического предназначения. Даже активное участие в классовой борьбе не ведет стихийно к выработке его политического сознания. Ленин, по существу, отрицает классовую обусловленность мыслей и поступков пролетариата. Отсюда и его вывод: только партия может внести социалистическое сознание в рабочий класс. Другими словами, стихийность истории не преодолевается сама собой, объективно; недостаточность такой истории восполняется субъективно — марксистской партией 17. Со временем идея исторической необходимости все заметнее тускнеет в работах Ленина, уступая место обоснованию значения субъективного фактора, политического действия. Вместо прежней марксистской четкости ("в России утвердился капитализм", "русское государство — буржуазное", "рабочий класс возглавит революционное движение" и пр.) все чаще фигурируют расплывчатые, характерные для домарксистского русского политического словаря понятия: "азиатство", "варварство", "европеизация", "все слои общества". Что же касается вопроса о месте и роли партии в классовой борьбе, в революции, в обществе, то и здесь взгляды Ленина постоянно и в строго определенном направлении меняются. Сначала Ленин доказывал, что партия возникает в ходе классовой борьбы, затем — что она предшествует этой борьбе. Сначала он считал задачей партии "помогать" и "содействовать", затем — "воздействовать" и "руководить", а еще через какое-то время — компенсировать недостаточность русской истории, взять под свою опеку все общество. Итак, на вопрос "что делать?" Ленин ответил: надо выправить специфику русской истории за счет создания в ней силами партии недостающей политической сферы. Оставалось ответить на вопрос "как это сделать?" И ответ был найден. В 1903 г. на съезде Российской социал-демократической рабочей партии, когда разгорелся спор об устройстве партии на основе демократического централизма, о пределах централизации и иерархизации, делегат Посадовский спросил: не является ли позиция Ленина и его сторонников, настаивающих на том, чтобы революционное ядро партии обладало абсолютной властью, противоречащей основным свободам, которые они сами же провозглашали? Не будут ли при такой иерархической дисциплине нарушены минимальные гражданские свободы, например, неприкосновенность личности? 18 — Ответил Г. В. Плеханов: "Salus revolutia suprema lex" (благо революции — высший закон) 19. Сам Плеханов вскоре от этого положения отказался, но Ленин принял его как руководство к действию. Поначалу как временное: для того чтобы реализовать великие социалистические идеи в не подготовленной еще для них среде, не существует никаких иных средств, кроме насилия, смертных приговоров, абсолютного подавления личностных различий. Но все это необходимо лишь в переходный период для преодоления сопротивления противника. 152 Сугубо техническое, на первый взгляд, правило развилось в конце концов в мощнейшую для XX в. философию действия: ленинский ответ на вопрос "как делать?", т. е. как партия должна активизировать рабочий класс, сводился, по существу, к тому, что надо не освобождать его от прежних цепей, не избавлять от традиционных предрассудков и ложных ценностей, а установить для него иную, более соответствующую потребностям времени систему ограничений и правил поведения. Значение новой системы идейных установок и ограничений будет определяться уровнем дисциплинированности, сплоченности, организованности рабочих. Создать такую систему должны, во-первых, специальные политические организации и соответствующие социальные, экономические структуры, во-вторых, определенный набор идеологических установок, понятных каждому коротких лозунгов, ценностных ориентиров, идеалов, например, вера в воплощение счастливой жизни на Земле. Когда эти ленинские принципы реализуются, например, в чеканной формуле Сталина: "Писатели — инженеры человеческих душ", или в настойчивых повторениях основоположника социалистического реализма М. Горького: культура — это насилие, или в лаконичных статьях морального кодекса строителя коммунизма, или в судебных решениях на основе революционной целесообразности, наконец, в стихах: "единица — ноль, единица — вздор... " и т. д., — только тогда станет очевидной грандиозность ленинского замысла, заложенного в его ответах на вопросы "что делать?" и "как делать?" Ленинский план сводился к тому, что необходимо организовать все население России в интересах партии, призванной осуществить историческую миссию — спасение человечества. Ради этой апокалипсической цели будет необходимо всех участвующих в ее достижениях обратить в сверхъестественную веру, которая к тому же воспринималась бы ими как научное, рациональное, светское учение, вобравшее в себя все нереализованные устремления человечества, все лучшие идеалы европейской культуры. Хотя, по сути, это учение не может быть ничем иным, как модернизованной религией XX в. В этом смысле ленинская работа "Что делать?" предстает грандиозным сценарием всей трагической советской истории. Не классы, не социальные группы и не личности как сознательно действующие, самостоятельный субъекты истории, а массы как объект воздействия партии и как опора и основа всех тоталитарных режимов. Основная черта задуманного социального эксперимента, который с величайшим, можно сказать, планетарным размахом реализовался и потерпел крах в XX в., — иррационализм. В статье Н. А. Бердяева "Религиозные основы большевизма", в частности, отмечается: "Я думаю, что сами большевики, как это часто бывает, не знают о себе последней правды, не ведают, какого они духа. Узнать же о них последнюю правду, узнать, какого они духа, могут лишь люди религиозного сознания, обладающие религиозным критерием различения. И вот, я решаюсь сказать, что русский большевик — явление религиозного порядка, в нем действуют некие последние религиозные энергии, если под религиозной энергией понимать не только то, что обращено к Богу. Религиозная подмена, обратная религия, антирелигия — тоже ведь явление религиозного порядка, в этом есть своя абсолютность, своя конечность, своя всецелость, своя ложная, призрачная полнота. Большевизм не есть политика, не есть просто социальная борьба, не есть частная, дифференцированная сфера человеческой деятельности. Большевизм есть состояние духа и явление духа, цельное мироощущение и миросозерцание" 20 Задача воспитания всего населения страны в "духе социализма" становилась не только общепартийной, но и общегосударственной по мере того, как партия большевиков, захватившая власть, все больше утрачивала черты партийности и все больше сращивалась с государственной системой. Очень скоро поэтому ока-153 залось возможным обрушить не только всю мощь аппарата правящей партии, но и всю силу государства на решение поставленных задач. И в этой связи историческая наука, как и другие отрасли гуманитарного знания, стала рассматриваться прежде всего в качестве инструмента государственной политики. Ей обеспечивалась государственная поддержка лишь в той степени и в тех традициях, в которых она была способна выполнять соответствующие инструментальные функции. Уже в таком оформлении приоритетов оказались заложенными многие элементы будущей советской историографической традиции, определены ее важнейшие признаки. До драматических событий 1917 г. российская историческая мысль развивалась в едином европейском историографическом пространстве. Сохраняя свое собственное лицо, она говорила на одном с европейской исторической наукой языке. Более того, российская историческая мысль в ряде случаев заметно влияла на исторические представления в мире. Идея Н. Я. Данилевского о культурно-историческом типе как основе цивилизационного процесса оказала воздействие на О. Шпенглера и через него на значительную группу авторов, усилиями которых стала закладываться историографическая традиция исторической цивилистики. Не менее плодотворными оказались идеи Н. А. Рожкова о сути и содержании социальной динамики, повлиявшие не только на формирование политической социологии, но и на становление социальной истории. В формировании культурологических подходов к изучению истории в немалой степени заслуга идей П. Н. Милюкова о первичном и вторичном в культуре и о принципах взаимодействия культур. Глобальные социальные потрясения начала XX в. оказали воздействие на историческое знание прежде всего тем, что выдвинули в центр научных поисков новые проблемы о характере, глубине, масштабах этих потрясений. Не случайно стали интенсивно развиваться такие новые научные направления, как социальная и историческая психология, историческая демография, социальная и экономическая история, духовная жизнь общества. Одновременно в числе приоритетных и наиболее актуальных проблем оформляются такие, как человек и общество, власть и массы, война и революция, общество и государство. Их масштабность оказала влияние и на разработку новых тем, и на формирование новых научных направлений, школ, и на развитие теоретических основ исторических исследований, и на складывание нового языка исторической науки, в которой ключевыми становятся понятия "компромисс", "конвергенция", "реформизм". Если же учесть, что все эти перемены происходили в тесной связи с кардинальными изменениями в представлениях о природе, о принципах взаимодействия общества и природы, Земли и Космоса, то станет ясно — речь шла о едином процессе выработки языка науки XX столетия и формирования основ новых гуманитарных дисциплин. В стране же "победившей социалистической революции", "успешно осуществляющей строительство социализма", проблема понимания происходящего никогда не стояла в числе первоочередных. Ее официальными политическими лидерами (они же основоположники, ведущие теоретики) смысл происшедшего и происходящего был понят изначально и не вызывал сомнений: в стране свершилась социалистическая революция в соответствии с теми законами общественно-исторического развития, которые были открыты Марксом и Энгельсом, представления о которых затем были развиты Лениным, Сталиным, Коммунистической партией. И вся задача науки сводилась к тому, чтобы доказать то, что давно уже было очевидным для основоположников. Нельзя опять-таки не отметить, что подобное отношение к "познанию" традиционно для всей истории марксистско-ленинской мысли. Сначала будет написан "Манифест Коммунистической партии", в котором даны основы марксистского видения общественных процессов, и лишь спустя почти двадцать лет — "Капитал", содержащий положения, необходимые для выводов, изложенных в "Манифесте". Сначала Ленин выступит с резкой критикой народников за 154 недооценку ими процесса капиталистического развития в России, а затем подготовит работу "Развитие капитализма в России". Сначала Ленин на конгрессе коммунистических партий объявит о закономерностях социалистической революции (тогда как большинство в стране и в партии скромно именуют ее политическим переворотом), а затем около десяти лет историки будут искать подтверждения этой оценке, пока (после "разъяснений" Сталина) не поймут, что все сказанное вождями не нуждается ни в каких подтверждениях. Сначала будет объявлено о том, что в стране построен развитой социализм, а затем почти два десятилетия историки будут размышлять над тем, что такое развитой социализм и когда все же он был построен, пока не поймут (после выступления очередного генсека), что созданное общество даже не имеет "человеческого лица". Эти общие установки обусловливали соответствующую историографическую проблематику, новый язык советской исторической науки. Формация, процесс, класс, партия, революция, закон, марксизм, пролетариат — вот основы нового исторического словаря. Но, пожалуй, самым популярным и наиболее распространенным термином в советской историографии, начиная с первых самостоятельных произведений советских историков и до конца 80-х гг., станет слово "борьба". Отсюда же и формирование магистральных тем исторических исследований — история революционного движения в России, история российских революций, история борьбы классов и партий, история партии большевиков — и две супертемы на протяжении всего периода развития советской историографии: историческая Лениниана и история Великой Октябрьской социалистической революции. Данные характерные черты могли оказаться временным явлением, отражающим воздействие конкретной политической ситуации на науку, а могли надолго превратиться в определяющие черты нового историографического феномена. Увы, в реальной жизни стал разворачиваться именно второй вариант. Политическая власть, используя все доступные ей средства, способы и приемы постепенно превращала науку в механизм государственнополитической системы. В итоге наметившиеся сразу же после революции расхождения с ведущими тенденциями европейской историографии получили свое логическое завершение в практически полной изоляции советской историографии от мирового историографического пространства. Однако эта интеллектуальная самоизоляция явилась и необходимой предпосылкой, и важнейшим условием решения целого комплекса других государственных задач в отношении исторической науки. Прежде всего надо было выработать и реализовать новые принципы взаимодействия науки и государства. Естественно, что ранее существовавший принцип относительной автономии научных учреждений и университетов теперь оказывался неприемлемым. Академия наук с ее академической вольностью и традиционной оппозиционностью стала чужеродным элементом. Ее можно было бы ликвидировать вообще (тем более что она объединяла отнюдь не сторонников марксистской доктрины, а в глазах правящей партии все, что не марксистское — не имело права претендовать на научность). Но новый режим усмотрел возможность превращения этого чисто научного учреждения в орган слежки за чистотой науки. Учитывая реальный уровень образования и культуры большинства правящей партии, подобное решение не могло не представиться оптимальным, тем более что оно позволяло новой власти "сохранять лицо" и выступать поборником развития науки. Практически с подобными же целями будут затем создаваться сообщества писателей, художников, театральных деятелей и т. д. Наука имела уже сформировавшуюся структуру, которой грешно было не воспользоваться. Эту задачу большевики взялись решать не только с революционным жаром, но и с житейской хитростью. Поскольку среди действующих академиков обнаружилось совсем немного сторонников марксизма и самой новой власти, вначале принимается решение о создании параллельных академическим научных марксистских центров. В июне 1918 г. издается декрет об учреждении Социалистической академии, в августе ВЦИК утверждает список действительных членов этой академии, а 1 октября она открывается. В августе 1920 г. организуется Комиссия по истории партии (Истпарт), которая быстро монополизирует все дело сохранения, обработки, издания документов и изучения истории Октябрьской революции и партии большевиков (не случайно очень скоро ее переводят из ведения Наркомпроса в ведение ЦК РКП/б/). В 1921 г. создается Институт Маркса и Энгельса, в 1923 г. — Институт Ленина, в 1921 г. — Институт красной профессуры, в 1923 г. — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук 21. И уже к 1925 г. новая власть оказывается вполне в силах существенно реорганизовать Академию наук (как раз в год празднования ее 200-летия), внедрив в ее состав чисто марксистские структуры. В 1936 г. в систему Академии наук включается Коммунистическая академия (бывшая Социалистическая). С традициями "буржуазной" организации науки было покончено. Партия не только формировала организационные структуры науки, она определяла и ее кадровый состав, оценивала содержание решаемых задач. С начала 20-х гг. в научную жизнь вошла практика издания Тезисов Агитпропа ЦК (затем Тезисов и постановлений ЦК КПСС), в которых содержались обязательные для научной общественности выводы, оценки узловых событий, фактов, явлений и процессов. Так было, например, с издававшимися каждые пять лет (а затем каждые десять лет) постановлениями о II съезде РСДРП, о революциях 1905 и 1917 гг. Другой комплекс партийных документов, с которыми имели дело историки, — это документы, оценивающие положение дел в самой исторической науке. Прежде всего, конечно, директивные документы, в которых содержались решения об открытии или закрытии тех или иных исторических учреждений (одним из последних стало принятое в 1982 г. постановление об открытии историко-партийных отделений на исторических факультетах университетов СССР, согласно которому на обществоведческие факультеты и специальности предписывалось зачислять преимущественно лиц пролетарского и колхозно-крестьянского происхождения и только по рекомендации партийных органов). Без решения ЦК КПСС было невозможно открыть или закрыть какой-либо периодический орган. Но и этого мало: ЦК КПСС специально в ряде случаев принимал решение, оценивающее качество публикаций в исторических журналах. Одно из наиболее известных — постановление ЦК КПСС от 9 марта 1957 г. "О журнале „Вопросы истории"" 22. Партийные директивы могли облекаться и в более "интимные" формы. Например, в форму дружеского письма к пропагандисту тов. Иванову И. Ф. были заключены жесткие указания Сталина о внутренних и внешних аспектах построения социализма в СССР23. "Нетрадиционными" выглядят и "Замечания... " И. Сталина, А. Жданова и С. Кирова по поводу конспектов учебников по истории СССР и новой истории 24. Но "необязательность" таких замечаний отнюдь не уменьшала суровую значимость для историков содержащихся в них "теоретических" положений о существе национальных движений, генезисе феодализма, причинах мировой войны, характере французской и русской революций. Не меньшее значение для развития исторической науки имели политические статьи, речи, доклады руководителей Коммунистической партии, которые, продолжая начатую еще с ленинских времен традицию, сразу же объявлялись то новым словом, то новой вехой в развитии марксистско-ленинской теории. За десятилетия всестороннего, по существу, тотального воздействия партии на историческую науку в ходе "партийного руководства" ею сформировался вполне определенный тип историка, научившегося воспринимать это руководство как нечто естественное и само собой разумеющееся. Более того, сложился тип активного историка-партийца, жаждущего данного руководства и чувствовавшего себя крайне дискомфортно без него. В свое время, характеризуя задачи красной профессуры, М. Н. Покровский отмечал: "ИКП (Институт красной профессуры. — Ю. А.) возник в 1921 г. как одно из орудий нашей партии на идеологическом фронте... Никаких уклонений в сторону "чистой" науки институт не допускает..." В 1951 г. в письме на имя секретаря ЦК ВКП(б) М. А. Суслова историки уже другого поколения — А. Румянцев и А. Лихолат сообщат, анализируя обстановку в редакции журнала "Вопросы истории": "Теоретические ошибки Дружинина и других участников дискуссии по вопросам периодизации историки СССР были использованы некоторыми органами буржуазной печати для распространения лживой версии о наличии серьезного кризиса в отношениях между партией и ее историческим фронтом (курсив мой. — Ю. А. ). Так, английский буржуазный журнал „Совьет стадис" в обзорной статье о советской историографии по материалам журнала „Вопросы истории", в разделе под названием „Подоплека последних дискуссий", рассматривает выступление проф. Дружинина о периодизации истории СССР как полемику против замечаний Сталина, Кирова, Жданова на конспекты учебников по истории СССР и новой истории" 25. Спустя еще 30 с небольшим лет в журнале "Коммунист" будет опубликована моя статья "Прошлое и мы" 26. И вновь сами историки проявят активность в деле изгнания из своих рядов автора статьи, который осмелился, пусть даже эзоповым языком, подвергнуть критике шесть комплексных программ "перестройки" исторической науки, сработанных совместно сектором истории Отдела науки ЦК КПСС во главе с Д. В. Кузнецовым и Отделением истории АН СССР, возглавляемым академиком С. Л. Тихвинским. Правда, формальным поводом для того, чтобы уволить меня из Института всемирной истории АН СССР и из редакции "Коммуниста" послужат "разногласия с новым главным редактором — философом, членом-корреспондентом АН СССР И. Т. Фроловым" . Чтобы воспитать подобную реакцию, необходимы были и тщательная "селекция", и "непрестанная забота" партии о кадровом обеспечении исторической науки. Решительный разрыв с традициями русской исторической школы стал следствием многочисленных экспериментов в деле подготовки кадров 28. Человеку, наблюдавшему эти процессы извне, трудно понять, чем определялась кадровая политика во все советские времена. В этой связи интересным представляется один эпизод, о котором рассказал А. М. Некрич, вспоминая о процедуре партийного следствия в период рассмотрения его персонального дела. "Сдобнов (партконтролер ЦК КПСС. — Ю. А. ) спросил меня: „Что, по-вашему, важнее — политическая целесообразность или историческая правда?" Как бы косвенным образом следователь давал мне понять, что дело не в том, правдива ли моя книга или нет — это вопрос второстепенный, — а в том, насколько целесообразно в данный момент поднимать тему неподготовленности СССР к германскому нападению и ответственности за это... Мой ответ на вопрос Сдобнова был таким: нельзя противопоставлять политическую целесообразность исторической правде. Опыт истории показал, что в конечном счете историческая правда соответствует политической целесообразности. — Так что для Вас все-таки важнее? — допытывался Сдобнов, — историческая правда или политическая целесообразность? — Историческая правда, — ответил я" 29. Партии и Советскому государству требовались историки, для которых политическая целесообразность была критерием, бесспорно, более значимым, чем историческая правда. Причем данное требование закладывалось в основание и профессионального образования, и формирования нравственных качеств личности. Историк мог считаться профессионалом лишь в той мере, в какой он ощущал себя "бойцом партии". Подобное обстоятельство нередко вело к профессиональным и нравственным деформациям. 157 В период одной из самых мерзких политических кампаний советского режима — кампании по борьбе с космополитизмом, развернутой в конце 40-х — начале 50-х гг., круто замешанной на национализме и антисемитизме, — активными действующими лицами оказались (и не только в качестве обвиняемых) А. В. Арциховский, Б. Ф. Поршнев, В. И. Равдоникас и др. 30 Крупные исследователи продемонстрировали свою настоящую "партийность" и "советскость", приняв условия игры, которые им навязывались. Весьма характерным является и то обстоятельство, что спустя почти сорок лет Л. В. Черепнин, историк, вне всякого сомнения, талантливый и продуктивный, назовет этот черносотенный шабаш широким обменом мнениями "по вопросам теории и идеологии, повышения уровня исторических трудов" 31. Подобное можно было бы объяснить сложностью и противоречивостью человеческой натуры. Но при ближайшем рассмотрении никакой противоречивости здесь нет. За годы советской власти воспитывался и был воспитан определенный тип историкапрофессионала, искренне убежденного в необходимости самоотверженного служения "интересам партии". Зарождение сомнения на сей счет нередко сопровождалось глубокими личными трагедиями. У истоков этой традиции стоял, бесспорно, М. Н. Покровский, начавший научную карьеру в советские годы с предательства своих учителей и коллег, немало сделавший для того, чтобы из исторической науки и из страны были удалены все, для кого интересы науки оказывались ценнее очередных партийных установок. На фоне коллег дореволюционного периода — П. Н. Милюкова, А. С. Лаппо-Данилевского, С. Ф. Платонова — он был, конечно, не самым ярким профессионалом. На идеях, высказанных самим Покровским, будет воспитано целое поколение советских историков. Это, однако, не спасет его самого и его наследие от того, что многие из его собственных учеников выступят активными ниспровергателями идей и трудов "школы Покровского", как только изменится политическая конъюнктура и "корифей исторической науки" И. В. Сталин выскажет новые "сверхценные" идеи 32. Драма Покровского наглядно показала, что ни истинный талант, ни официальное положение не являются гарантией выживания для историков. В советских условиях для этого необходимы были прежде всего политическая благонадежность и умение ее публично демонстрировать. Яркой иллюстрацией тому может служить научная деятельность и карьера одного из официальных и наиболее почитаемых лидеров советской исторической науки — И. И. Минца. В историографических обзорах уже отмечалось, что его основные заслуги связаны с "разоблачением мирового империализма как главного виновника разжигания гражданской войны в Советской России, как организатора кровавой интервенции и лагеря внутренней, прежде всего демократической контрреволюции эсеров и меньшевиков — активных помощников интервентов" И. И. Минц не только точно выбрал, казалось бы, одну из наиболее важных тем, но и умел изменять подходы к ее изучению на протяжении своей долгой научной карьеры в соответствии с малейшими колебаниями партийных оценок по данной проблеме. Он входил в авторский коллектив "Истории Гражданской войны", принимал участие в подготовке "Краткого курса истории ВКП(б)", был членом авторского коллектива "Истории КПСС" под редакцией Б. Н. Пономарева (ее назначение — дать новую антисталинскую версию истории партии). Словом, трудно найти в советской историографии труды историка, которые в такой степени соответствовали бы "требованиям партийности". И тем не менее в 1949 г. и он оказался в числе историков, попавших в разряд неблагонадежных — "историков-космополитов". Оценивая "заслуги" Минца, проректор МГУ, курировавший тогда гуманитарные факультеты, А. Л. Сидоров, писал: "Минц, будучи учеником Покровского, еще в 1928 году культивировал преклонение перед немецкой историографией. Несколько позднее акад. Минц выступил с антипартийными взглядами по истории нашей партии" 34. Не менее типичной в этом смысле является и научная судьба П. В. Волобуева. 158 До прихода в качестве директора в Институт истории СССР АН СССР он работал в отделе науки ЦК КПСС, был тесно связан с партийным аппаратом и на определенном этапе пользовался поддержкой всесильных тогда С. П. Трапезникова и Б. А. Рыбакова. Но стоило ему наряду с некоторыми другими историками высказать несколько оригинальных мыслей (совсем не сокрушительного содержания) об уровне развития капитализма в России, как сразу же после публичных проработок, в которые была вовлечена широкая научная общественность, П. В. Волобуеву пришлось оставить пост директора института, а на публикации его работ был, по существу, наложен запрет. В подобных условиях у советских историков развивались отнюдь не лучшие профессиональные и человеческие качества. За время существования советского режима сложилось некое соглашение: власть стремилась все подчинить себе, а историки хотели во всем подчиняться власти. Неудивительно поэтому, что сохранить высокий профессионализм удалось немногим. И расплачиваться приходилось либо почти полным отлучением от активной научной деятельности, как это случилось с И. И. Зильберфарбом, либо выдерживать десятилетия непрекращавшейся критики и постоянных нападок, как например, Л. М. Баткину, А. X. Бурганову, А. Я. Гуревичу, А. А. Зимину и многим другим. Такая обстановка приводила к истреблению самой возможности раскрепощенной творческой мысли и к установлению внутренней цензуры, которая для многих и в наши дни остается не менее сложной и труднопреодолеваемой, чем крепостная зависимость от партийных решений. На это обратил внимание, например, Ем. Ярославский — человек, немало сделавший для придания партийного характера исторической науке. В свое время он забил тревогу, обращая внимание Сталина на боязнь историков мыслить самостоятельно. В письме генсеку он писал: "... А вы знаете, т. Сталин, что самая трудная вещь теперь в области научно-литературной и научно-исследовательской деятельности — инициатива... Вы очень много сделали, т. Сталин, для того, чтобы пробудить инициативу, заставить людей думать... Когда пробуешь говорить с товарищами, наталкиваешься на какую-то боязнь выступить с новой мыслью... Теоретическая мысль прямо замерла... ". Выход из данной ситуации, который он предлагал, весьма показателен: "И вы окажете громадную услугу научной мысли, если оздоровите даже каким-либо особым постановлением ЦК эту обстановку, уничтожите это штампование клеймом уклонистов чуть ли не каждого (в ИКП, например, при случае, откопают уклон у каждого, припомнят, что он сказал в таком-то разговоре у трамвайной остановки Иксу и Игреку в 1925 году и т. п. ), разбудите инициативу в области теоретической! работы... Это менее опасно, чем застойность в области теоретической мысли..." 35, Боязнь самостоятельных выводов и оценок сопровождалась часто искренним чувством вины перед партией. Причем ощущение характера "проступка" всякий раз определялось содержанием тех указаний, которые имелись в партийных документах. Если, например, отмечалось, что историки не уделяют внимания теоретическим вопросам, они чувствовали себя виновными за это; если говорилось, что историки склонны теоретизировать, они спешили покаяться и в данном грехе. Но главная "вина" историков, как и других обществоведов, в советское время была в том, что на каждом новом этапе политической борьбы или при каждом политическом повороте выяснялось: они не так, как следовало, понимали и интерпретировали ленинское теоретическое наследие. Уже к 30-м гг. историки усвоили, что им "необходимо ленинизировать историческую науку", и более того: "ленинизация русского исторического процесса — очень важный вопрос". В 30—40-х гг. им пришлось уяснить, что освоение ленинского наследия есть не что иное, как овладение сталинскими оценками и интерпретацией ленинизма. В 50—60-х гг. потребовалось активизировать библиографический поиск с тем, чтобы располагать необходимым количеством цитат из ленинских работ для подтверждения новых политических установок. 159 Семидесятые годы прошли под знаменем борьбы с цитатничеством и воссозданием ленинских концепций в их полном виде. И, наконец, в 80-х гг. выяснилось, что ленинские идеи, оказывается, "были канонизированы". И — очередное покаяние. "В этой канонизации, — писал в 1990 г. один из философов, — ив расчленении живой ленинской мысли по замкнутой, искусственной, до предела упрощенной схеме „Краткого курса" в течение десятилетий усердствовали и многие из нас — ученых-обществоведов. Велика в этом наша вина перед партией и народом" 36 Полная включенность истории в советский режим обеспечивалась и органами государственной безопасности. За семьдесят лет сформировался своеобразный треугольник: РКП(б)/ВКП(б)/КПСС — ЧК/ГПУ/НКВД/КГБ — Академия наук и ее институты. Поскольку не только каждое высказанное слово, но даже и каждая мысль рассматривалась как деяние, в таком союзе не было ничего необычного, а напротив, эта связь оказывалась весьма разнообразной и устойчивой. При содействии органов безопасности Коммунистическая партия помогала историкам овладевать ленинской концепцией исторического процесса, марксистскими методами исследований. Взять хотя бы такой пример из протокола допроса в НКВД историка Н. Н. Ванага от 24—26 января 1937 г.: "Вопрос: Следствию известно, что на историческом участке теоретического фронта вы и другие историки-троцкисты протаскивали в своих трудах троцкистскую контрабанду. Надо полагать, что этого обстоятельства вы не будете теперь отрицать на следствии? Историк не отрицает, более того, он детально раскрывает свой багаж "с контрабандой, угрожающей социалистическому строю". "Ответ: <...>Эта контрабанда шла по основным направлениям: 1. Исключительное подчеркивание отсталости капиталистического развития России, отрицание относительной прогрессивности таких факторов, как реформа 1861 года... 2. Отрицание ленинской теории перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую... 3. <...>Я сознательно не противопоставлял Октябрьскую пролетарскую революцию буржуазной, не подчеркивал коренного отличия между ними, не рассматривал Великую Октябрьскую социалистическую революцию как революцию, открывшую новую эру в истории человечества... 4. <...> Сознательное игнорирование исторически-преходящего значения буржуазного демократизма и парламентаризма, его кризиса и противопоставления буржуазному демократизму — советского пролетарского демократизма, как его высшей формы <...> 5. <...>Я подчеркивал организованность, целеустремленность и силы отдельных крестьянских движений и отдельных крестьянских бунтов <...> 6. <...> Историческое обоснование отсутствия субъективных предпосылок для отставания СССР от военного разгрома со стороны мирового империализма <...> 7. <. ..>В Проспекте и в учебнике по истории СССР<...> я сознательно идеализировал народническую борьбу с царизмом <...> 8. <...> Сознательное игнорирование истории отдельных народов СССР, входивших ранее в состав Российской империи <...>" Н. Н. Ванаг так подводит итог своей "контрреволюционной" деятельности: "...В свете изложенного вполне естественно являлся следующий вид контрреволюционной контрабанды: сознательное игнорирование гигантских успехов социалистического строительства в СССР..." 37. Конечно, методы получения таких признаний сегодня нам хорошо известны 38. Здесь важно другое. Историк, следуя "правилам игры", сам сформулировал свои научные и политические "ошибки". Результатом озабоченности органов государственной безопасности историографическими проблемами стал расстрел Ванага 8 марта 1937 г. Историки и сами весьма активно вовлекали органы государственной безопасности в "научную жизнь". Так, например, рецензируя 4-й том "Истории ВКП(б)" под редакцией Ем. Ярославского, А. Абрамов и И. Шмидт сразу же нашли в нем "троцкистские установки" и наличие "грубо ошибочной правооппортунистичес-кой концепции" 39, что, по сути, означало выдачу авторов учебника органам госбезопасности. Подобное сотрудничество представлялось настолько естественным и результативным, что советские профессора в числе важнейших своих задач видели и такую: "Мы должны быть все чекистами" 40. Не случайно поэтому органы госбезопасности не в меньшей степени, чем партийные, заботились об укреплении кадрового состава историков. Возникшее взаимодействие КПСС, КГБ и АН выразилось в конце концов в лаконичных формулировках социальных функций исторической науки. Например, В. В. Иванов определял их так: распознавать и разоблачать классовые цели "западноевропейских мастеров реакции"; показывать достижения зрелого социализма; воспитывать ненависть к эксплуататорам и гордость за революционные свершения народа; разоблачать смысл антикоммунизма; служить делу социального прогресса 41. Все эти выводы сделаны не в трагические тридцатые годы, а в середине 80-х гг. Таким образом, советскую историографию как своеобразный феномен характеризуют сращивание с политикой и идеологией и превращение в составную часть тоталитарной системы. Ее историософские основания базировались на нескольких принципиально важных положениях: на понимании линейного движения общества от капитализма к коммунизму; постулировании необходимости руководства сверху всеми областями и сферами общественной жизни и признания за этим руководством чрезвычайных возможностей; абсолютизации советского опыта как опыта сверхценного, имеющего общечеловеческий характер и значение; вере в наличие абсолютных истин; отношении к окружающему миру как к чему-то враждебному, таящему потенциальную угрозу и опасность. Каждое из этих оснований было разработано и подкреплено аргументами и фактами. Но доказательность никогда не была особой задачей советского типа мировосприятия, поскольку в системе ценностей реально существующий факт значил гораздо меньше, чем положение, содержащееся в классических текстах или высказываниях политического лидера. По своей сути историософские основания были ничем иным, как модернизированными основами традиционного крестьянского миросозерцания с его ориентированностью на самоценность своего локального мира и его противопоставление всем другим мирам; с установками на особое значение русской истории и русского пути; с верой в высшие истины и неограниченные возможности власти. Несвобода исторической науки, как и науки вообще, предопределила и сформировала весь исследовательский процесс, придав ему своеобразие, как бы изнутри раскрывающее феномен советской историографии. Для собственно исследовательского процесса и для историографического поля, на котором он разворачивался, можно выделить следующие характерные элементы. Ориентация на одну универсальную теорию, которая, будучи единственно научной, в силу этого и выступает в качестве всеобъемлющей методологии научного поиска в области истории. "Социальная наука была создана, — отмечали в одной из наиболее фундаментальных работ по проблемам теории истории В. Ж. Келле и М. Я. Ковальзон, — но лишь тогда, когда были осознаны... трудности... и найдено решение проблем. Это и было осуществлено марксизмом" 42. Количество вариаций в отношении марксизма как общей и единственной методологии было чрезвычайно ограничено. Фактически в трудах по истории речь могла идти только о том, что значит решать ту или иную проблему по-марксистски. При этом начиная с 20-х гг. и до конца 50-х гг. теоретические подходы к решению частных исследовательских проблем сводились, по сути, к подбору необходимых цитат из произведений основоположников и классиков марксистского учения или из партийных документов, а вся практическая исследовательская работа ограничивалась поиском конкретных фактов для иллюстрации 6 Отечественная история, № 5 161 соответствующих положений. Эта особенность уже объяснялась в советской историографии воздействием на науку жесткого схематизма, заданного "Кратким курсом" 43. * * * После признания XX съездом КПСС искажения марксистско-ленинских идей в практической деятельности для исследователей истории советского периода и истории КПСС методологические задачи несколько усложнились. Теперь возникла необходимость хоть как-то объяснить связь между общей теорией и конкретной практикой. Первые попытки казались обнадеживающими. Например, был поставлен вопрос о содержании и форме проявления закономерностей общественного развития. Обращаясь к одному из наиболее болезненных вопросов в советской истории — ликвидации кулачества как класса, историки взяли на себя смелость порассуждать о принципиальной необходимости такой ликвидации и о формах, в которых она реализовывалась на практике 44. Более того, некоторые историки заговорили о том, что репрессии в ходе ликвидации кулачества были порождены не объективными условиями нарастания классовой борьбы в процессе социалистического строительства5 а всего лишь особенностями социалистических преобразований в нашей стране . И даже весьма робкое оживление научной мысли в области теории истории оказалось кратковременным. Оно было решительно прервано после постановления ЦК КПСС о работе редакции журнала "Вопросы истории" 46. С этого времени стала выстраиваться новая схема, не менее жесткая, чем прежде. В первую очередь была ограничена, а по существу дискредитирована сама возможность несовпадения теоретических положений и практики социалистического строительства, точнее, возможность деформации теоретических положений в ходе практики социалистического строительства. Такая возможность предписывалась одному единственному периоду, а ответственность за это возлагалась на одного, вполне конкретного человека. Более того, точно очерчивался круг вопросов и проблем, в которых подобная деформация признавалась допустимой и существовавшей 47. Самое же драматичное заключалось в том, что этим решением у историков снова "изымалось право" размышлять над вопросами теории, так как только КПСС присваивалось право развивать теоретические основы марксизма-ленинизма, и лишь она была в состоянии оценить, насколько практика адекватна теоретическим идеям и выводам. Период со второй половины 50-х до начала 70-х гг. официально был объявлен как время восстановления "ленинской концепции" исторического процесса, как избавление истории от сталинских ошибок и извращений. По существу, в эти десятилетия происходила модернизация сталинских идей, их очищение от особенно одиозных формулировок. Наиболее наглядным в этом отношении стали издания — с 1-го по 7-е — учебника по истории КПСС под редакцией Б. Н. Пономарева. В последних изданиях практически в полной мере была восстановлена модель "Краткого курса" и в содержании, и в характере интерпретации основных проблем советской истории. Во второй половине 70-х гг. в очередной раз стало ясно, что советская историческая наука вращается в кругу традиционных представлений, на основе которых невозможно осмыслить и истолковать отдаленное и недавнее прошлое. Не случайно поэтому даже в кругах историков партии разворачивается обсуждение методологических проблем историко-партийной науки48. Низкий теоретический уровень многих исследований был для всех очевиден, но выход усматривался не в поиске новых идей, а в актуализации давно уже известных идей классиков марксизма-ленинизма, которые, как оказалось, не вполне были вовлечены в научный оборот49. Многие историки решили, что пора перейти от дискуссий с помощью цитат к воссозданию целостных концепций. В конце 70-х — начале 80-х гг. появляются десятки работ, в которых "восстанавливается" I ленинская концепция по тому или иному вопросу" 50. Этот период был достаточно продуктивным — конечно, по сравнению с предыдущим, поскольку у историков появилась хоть какая-то возможность не только цитировать классические тексты, но и включать собственные интерпретации в анализ концепций. Многие такие усилия оказывались малопродуктивными, исследователям приходилось состыковывать и согласовывать часто взаимоисключающие оценки одного и того же явления, события, какие обычно присущи каноническим текстам. В указанный период были, в частности, "воссозданы" "ленинские" концепции нэпа, "военного коммунизма'", Октябрьской революции, ленинского плана социалистического строительства . Работа над ленинскими текстами, несмотря на то, что велась достаточно интенсивно, мало обогащала арсенал теоретических представлений. Ситуация усугублялась тем, что единственным источником обогащения марксистской теории признавалась практика социалистического строительства в СССР и странах -сателлитах, которая оценивалась как опыт реального социализма. Круг сжимался: практика социалистических преобразований воспринималась как итог воплощения марксистско-ленинских идей, а идеи могли обогащаться только на основе данной практики. Реальные новации оставались мизерными и сводились лишь к постоянному расширению хронологических рамок движения от капитализма к социализму52. "Вершиной" в этом смысле стала концепция "развитого социализма" 53. В конечном итоге даже сами лидеры КПСС вынуждены были признать, что теоретическая мысль на протяжении 30—70-х гг. не развивалась 54. Собственно, до второй половины 50х гг. вопрос о методологии истории не стоял перед нашими историками как практически значимый. Предполагалось, что сталинская характеристика диалектического материализма в соответствующей главе "Краткого курса" дает универсальную интерпретацию не менее универсального диалектико-материалистического метода, который одинаково применим во всех областях и естественных, и технических, и гуманитарных наук. Однако со временем, после робкой критики теоретического багажа "Краткого курса" началось переосмысление этой, казалось бы, вечной истины. Конечно, и тогда никто не помышлял взять под сомнение сам вывод, что диалектикоматериалистический метод может быть не всегда эффективным или должен быть дополнен чем-то иным. Но вопрос о применимости метода, точнее, о поиске наиболее эффективных способов его применения в различных областях научного знания привлек внимание исследователей 56. В рамках получившего широкую известность научного семинара под руководством М. Я. Гефтера была даже предпринята попытка обсудить проблемы развития марксистской исторической мысли в более широком контексте научных представлений XX в. 57. Трудно сказать, насколько далеко продвинулись бы историки и философы, работавшие в данном семинаре, в понимании и интерпретации существа поставленных проблем. Но даже в рамках марксизма попытки самостоятельной мысли были в очередной раз решительно приостановлены административным образом, к тому же при молчаливой или активной поддержке подавляющего большинства советских историков. Это была, по сути, последняя из попыток в советское время вырваться за пределы установок партии. Теперь разработка методологических проблем науки сводилась лишь к осмыслению ряда вопросов. Что касается принципов исторических исследовании, то в их основу легли все те же ленинские идеи из его "Философских тетрадей". Обсуждения велись прежде всего вокруг одного аспекта проблемы — сколько принципов необходимо активизировать для того, чтобы претендовать на истинно марксистское исследование; указывалось самое различное количество вариантов — от трех до семнадцати, — но наиболее значимыми признавались принципы историзма, партийности, объективности59. Ставился вопрос и о соотношении принципов 6* 163 партийности и объективности, если речь идет о марксистско-ленинской исторической науке. В ходе обсуждений ряд исследователей, и прежде всего Н. Н. Маслов, предприняли попытку в очередной раз провести линию водораздела между ленинским и сталинским вариантами интерпретации марксизма, между ленинской и сталинской методологией исторических исследований 61. С научной точки зрения данная проблема представляется малопродуктивной, потому что трудно усмотреть принципиальную грань там, где ее никогда не было. Однако для конкретной историографической ситуации и подобные вопросы важны, поскольку создавали хоть какое-то движение мысли. В силу высокой степени политизации советской исторической науки перечень тех вопросов, с которыми историки обращались к прошлому, опять-таки строго регламентировался партийными документами и решениями. Достаточно обратиться хотя бы к нескольким темам, которые наиболее активно исследовались, например, история первой русской революции. В своей основе перечень вопросов по этой тематике был определен еще ленинскими работами 1906 г.: в чем проявилась гегемония пролетариата в революции? почему без руководства большевиков невозможно развитие революции по нарастающей? почему все остальные партии, кроме большевиков, вели себя непоследовательно и предательски? почему Декабрьское восстание стало высшей точкой революции? Не более оригинальным получился круг вопросов и по истории Великого Октября: почему не было альтернативы в решении общественно назревших проблем, кроме Октябрьской революции? в чем проявилась гегемония пролетариата и руководящая роль большевиков? почему противники большевиков смогли развязать гражданскую войну? почему закономерной оказалась победа советской власти? В итоге историческое творчество так и не стало творчеством, книги историков не таили в себе загадок и походили друг на друга как братья-близнецы, лишь изредка различаясь набором конкретным фактов и некоторых рассуждений. Теоретическая и методологическая скудность советской историографии стала причиной того, что в исторических исследованиях не допускались относительность, вариантность, вероятность. Такие вполне естественные элементы любого научного процесса рассматривались как недостатки и больше того — как следствие политических ошибок в результате отступления от марксизма-ленинизма и проведения чуждой, "буржуазной" точки зрения. Наиболее показательной в этом плане стала научная расправа с "новым направлением" в исторической науке, сторонники которого были озабочены вполне научной задачей: они хотели основательно посмотреть на проблему предпосылок Октябрьской революции. Реакция на их попытки последовала сразу на двух уровнях. Официальное руководство АН в большей степени обеспокоило не то, что было сказано и написано историками этого направления, а то, что могло последовать за их высказываниями. Сторонники "нового направления" обвинялись их коллегами-начальниками в самом страшном для советского историка грехе — сомнениях в наличии объективных экономических предпосылок социалистической революции. Вполне естественной была и реакция официальных властей — административное запрещение исследований в данном направлении. Но существовал и другой пласт, другой уровень реакции на робкое проявление свободомыслия. К критике "нового направления" подключились широкие слои научной общественности62. Сами по себе идеи представителей "нового направления" долгие годы оказывались невостребованными научной общественностью. В истолковании конкретно исторической ситуации признание вариативности общественного развития считалось противоречащим господствующим в исторической науке представлениям о наличии закономерностей общественно-исторического процесса. Уже в годы "перестройки" идеи "нового направления" вновь привлекли к себе внимание как раз потому, что все общество, оказавшееся в ситуации выбора, задумалось о том, что элемент варианта является неотъемлемым компонентом самого процесса развития 63. В 70-х же гг. допустить подобную возможность сосуществования двух точек зрения на одну и ту же проблему означало решиться на добровольный уход из системы Академии наук. Были ли в этом плане исключения? Формально вроде бы да. Достаточно вспомнить, например, десятилетиями длившуюся дискуссию между И. Б. Берхиным и Е. Г. Гимпельсоном относительно оценок "военного коммунизма". Но, признавая данные исключения, в то же время нельзя не отметить, что чрезвычайно узким был круг тем и проблем, по которым заявлялись различные точки зрения. Кроме того, разные позиции были возможны лишь в одном случае: если они вписывались в "общепринятую" концепцию данной проблемы. Ни Берхин, ни Гимпельсон не могли взять под сомнение общую концепцию Гражданской войны в России. Можно было спорить о времени окончания нэпа, но ни в коем случае — о причинах перехода к нэпу и т. д. Каждый из носителей противоположной точки зрения оценивал выводы своего оппонента как крайне ошибочные и ненаучные. Монологизм и монополизм в отношении к исторической истине дополняла крайняя степень политизированности самих представлений об истинном и ложном в исторической науке. Это со всей очевидностью вело к сужению и деформации историографического поля. Политизированность обнаруживалась в самих теоретических основаниях исторической науки, поскольку политическое в своей основе марксистское учение рассматривалось и использовалось как общенаучная концепция. Но не только в этом. В структуре исторического процесса, формулировках тем и проблем преобладали политические аспекты и сюжеты. Историки СССР и историки КПСС, например, вели многолетние дискуссии о подходах к разграничению предметов своих исследований. Но предельная политизированность этих историографических направлений проявляется здесь в том, что даже в изучении дооктябрьского периода проблематика исследований ограничивалась сравнительно небольшим кругом вопросов: борьба различных группировок за власть; содержание внутренней политики правительства и анализ факторов, влиявших на изменение внутриполитических приоритетов; основные политические институты и их функционирование в обществе; основные направления и результаты внешней политики правительства в отдельные периоды. При анализе проблем всеобщей истории и истории отечественной до октября 1917 г. допускалось хотя бы рассмотрение случаев несовпадения замыслов, практики и результатов, а при изучении советской проблематики подобное исключалось вовсе. Все вышеизложенное позволяет определить советскую историографию как особый научно-политический феномен. В этом признании нет ни уничижительных, ни оценочных элементов. Советская историография как особое явление советской истории за годы своего развития накопила целую систему свойств и качеств, сформировала особый образ науки, собственные представления о критериях научности, функциях, задачах, назначении истории. К тому же, советская историография создала пантеон актуальных тем и проблем, собственный язык и т. д. Все это определило ее взаимоотношения с европейской и мировой наукой. Такая особая система поступательно развивалась, ставила все более усложненные задачи и решала их. В настоящее время мы столкнулись с несколькими факторами, порожденными этой историографией, но уже находящимися вне ее. Первый фактор связан с тем, что конец XX в. принес обществу целую серию новых идей и проблем, которые нынешней отечественной историографией, во многом еще связанной с советским периодом ее развития, не могут быть восприняты. И дело не в том, что отечественная историография не способна решать те или иные проблемы; дело в том, что она не способна воспринимать эти проблемы как научные. Второй фактор состоит в том, что этот тип советской науки был органическим элементом вполне определенного типа общественного развития. Тип же этого развития вступил в полосу кризиса, прео-165 долеть который возможно через изменение традиционалистских основ общества, раскрыть которые исторической науке не довелось. В этом — основная беда исторической науки. В этом — ее феноменологическая характеристика. Примечания 1 Именно данная версия была безраздельно господствующей в "доперестроечный" период (см., напр.: Историография истории СССР: Эпоха социализма/Под ред. И. И. Минца. М., 1982; Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 5. /Под ред. М. В. Нечкиной и др. М., 1985). Эта позиция неуклонно отстаивалась советскими историками на международных форумах (см., напр.: Данилов А. И., Иванов В. В., Ким М. П., Кукушкин Ю. С. История и общество//Вопросы истории. 1977. № 1). В годы ''перестройки" с разной степенью последовательности она проводилась в литературе: Тихвинский С. Л. Итоги и перспективы расследований советских историков//Вопросы истории. 1985. № 7; [От редакции]. Через обновление — к новому качеству историко-партийной науки//Вопросы истории КПСС. 1988. № 7; Капто А. С. Историческая наука и формирование исторического соз-нания//Вопросы истории КПСС. 1989. № 11 и др. 2 См.: Варшавчик М. А. Главный ориентир — правда истории//Вопросы истории КПСС. 1987. № 10; Васютин Ю. С. Актуальность ленинского наследия и современность//Постигая Ленина: Материалы научной конференции/Под ред. Ю. С. Васютина и др. М., 1990. С. 3—12; Голубева Е. И. О некоторых проблемах современной научной ленинианы//Там же. С. 13—20. 3 См.: Волобуев П. В. "Круглый стол" советских и американских историков. 9—11 января 1989 г. //Вопросы истории. 1989. № 4. и др. 4 См., напр.: Зевелев А. И. Путь в истине//Суровая драма народа//Сост.: Ю. П. Сенокосов. М., 1989. С. 508—511; Сухарев С. В. Лицедейство на поприще истории//Вопросы истории КПСС. 1990. № 3 и др. 5 См.: Голубева Е. И. Указ. соч.; Завелев А. И. Указ. соч.; Маслов Н. Н. "Краткий курс истории ВКП(б)"—энциклопедия культа личности Сталина//Суровая драма народа. С. 334—352. 6 Тезис о том, что в отличие от периода советской истории отечественная историография других исторических периодов была менее деформированной, — один из наиболее излюбленных в дискуссиях первых лет "перестройки". См., напр.: Чистякова Е. В. Предисловие//А. М. Дубровский. С. В. Бахрушин и его время. М., 1992 и др. 7 См., напр.: Актуальные теоретические проблемы современной исторической науки: "Круглый стол" редколлегии журнала "Вопросы истории" 29 октября 1991 г. //Вопросы истории. 1992. № 8—9; Бордюгов Г. А., Козлов В. А. История и конъюнктура. М., 1992. С. 30—50. 8 См.: Искендеров А. А. Новый взгляд на историю//Вестник Российского университета дружбы народов: Сер. история, философия. 1993. № 1. С. 6—9. 9 Ярошевский М. Г. Сталинизм и судьба советской науки//Репрессированная наука/Под ред. М. Г. Ярошевского. М., 1991. С. 10. 10 Ленин В. И. Запуганные крахом старого и борющиеся за новое//ПСС. Т. 35. С. 192. 11 См.: Чаадаев П. Я. Философические письма: Письмо 1//Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 1. С. 328, 329, 330. 12 Герцен А. И. Русский народ и социализм//Собр. соч. М., 1954—1965. Т. 7. С. 291. в Там же. Т. 12. С. 152. 14 Данной теме посвятил свое специальное исследование французский исследователь К. С. Ингер-флом. См.: Ингерфлом К. С. Несостоявшийся гражданин: Русские корни ленинизма. М., 1993. 15 Чернышевский Н. Г. Что делать? Л., 1975. С. 656. 17 Там же. С. 215. 17 См.: Ленин В. И. Что делать?//Полн. собр. соч. Т. 6. С. 52. 18 См.: Второй съезд РСДРП, июль—август 1903 г.: Протоколы. М., 1959. С. 181. 19 Там же. С. 182. 20 Бердяев Н. А. Религиозные основы большевизма: Из религиозной психологии русского наро-да//Собр. соч. Париж, 1990. Т. 4. С. 29—30. 21 Подробнее о вопросах организационного строительства научных учреждений см.: Алексеева Г. Д. Октябрьская революция и историческая наука (1917—1923 гг. ). М., 1968. 22 См.: Справочник партийного работника. М., 1957. Вып. 1. С. 382. 23 Сталин И. В. Ответ т-щу Иванову Ивану Филипповичу//К изучению истории ВКП(б): Сб. материалов. Куйбышев, 1938. С. 7—11. 166 24 См.: Сталин И., Киров С., Жданов А. Замечания по поводу конспекта учебника "по истории СССР"//К изучению истории ВКП(б): Сб. материалов. С. 18—19; Сталин И., Киров С., Жданов А. Замечания о конспекте учебника "новой истории"//Там же. С. 20— 22. 25 РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 133, д. 293, л. 150. Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Суслову М. А. 23. 08. 1952 г. 26 Подробнее см.: Афанасьев Ю. Н. Я должен это сказать: Политическая публицистика времен перестройки. М., 1991. С. 10—15. Там же. 27 28 См.: Алексеева Г. Д. Указ. соч. 29 Некрич А. Отрешусь от страха: Воспоминания историка. Лондон, 1979. С. 272. 30 Подробнее см. там же. С. 44—64. 31 См.: Очерки истории исторической науки в СССР/Под ред. М. В. Нечкиной и др. Т. 5. С. 13. 32 См.: Против исторической концепции М. Н. Покровского. М.; Л., 1939; Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского. М.; Л.; 1940. 33 Самсонов А. М., Спирин Л. М. Академик Исаак Израилевич Минц: Творческой путь//Исторический опыт Великого Октября/Под ред. С. Л. Тихвинского. М., 1986. С. 5. 34 Цит. по: Некрич А. Указ. соч. С. 52. 35 РЦХИДНИ, ф. 89, оп. 7, д. 72, л. 4—8. Ярославский Ем. Сталину И. В. 18 ноября 1931 36 Антонович И. Время собирать камни: Ответ новым фальсификаторам ленинизма//Партийная жизнь. 1990, № 14. С. 14. 38 Дело НКВД № Р-8186 по обвинению Н. Н. Ванага. Т. 1. 38 Артизов А. Н. Николай Николаевич Ванаг(1899—1937)//Отечественная история. 1992. № 6. 39 См.: Абрамов А., Шмидт И. Против фальсификации истории Октября под флагом "объективности": О IV томе "Истории ВКП(б)" под ред. Е. Ярославского, изд. 1930//Большевик. 1931. №> 22. 40 Протокол № 11 общего закрытого собрания партийной организации ИКП от 26—27 августа 1936 Г. //ЦАОДМ, ф. 474, оп. 1, д. 89, л. 90—91. 41 См.: Иванов В. В. Методология исторической науки. М., 1985. С. 51—64. 42 Келле В. Ж., Ковальзон М. Я. Теория и история. М., 1981. С. 29. 43 Об этом см., напр.: Завелев А. И. Ленинская концепция историко-партийной науки. М., 1982. С. 40—60; Барсенков А. С. Советская историческая наука в послевоенные годы: 1945— 1955. М., 1988. С. 77—90; и др. 44 Подробнее см.: Погудин В. И. Путь советского крестьянства к социализму: Историографический очерк. М., 1975. 45 См.: Семернин П. В. О ликвидации кулачества как класса//Вопросы истории КПСС. 1958. №>4. 46 См.: Справочник партийного работника. С. 381—382. 47 См., напр.: Пономарев Б. Н. Задачи исторической науки и подготовка научнопедагогических кадров в области истории//Избр. речи и статьи. М., 1977. С. 171 —172. 48 См.: К итогам обсуждения методологических проблем истории КПСС//Вопросы истории КПСС:. 1978. № 12. 49 См.: Варшавчик М. А. Историко-партийное источниковедение: Теория, методология, методика. Киев, 1984. С. 105—139. 50 См., напр.: Осколкова Э. Д. Проблемы методологии и историографии ленинской концепции нэпа. Ростов н/Д, 1981; Зевелев А. И. Ленинская концепция...; Волобуев О. В., Муравьев В. А. Ленинская концепция революции 1905—1907 годов в России и советская историография. М., 1982; Берхин И. Б. Вопросы истории периода Гражданской войны (1918— 1920 гг. ) в сочинениях В. И. Ленина. М., 1981 и др. 51 См.: Гимпельсон Е. Г. Военный коммунизм: политика, практика, идеология. М., 1973; его же. Великий Октябрь и становление советской системы управления народным хозяйством. М., 1977; Берхин И. Б. Ленинский план построения социализма. М., 1960; его же. Экономическая политика советского государства в первые годы советской власти. М., 1970; Генкина Э. Б. Государственная деятельность В. И. Ленина: 1917—1923 гг. М., 1969; Олесеюк Е. В. Разработка экономической политики Коммунистической партии в трудах В. И. Ленина. Ростов н/Д, 1977; Осколкова Э. Д. Указ. соч.; и др. 52 Традиция корректировки периодизации истории заложены еще И. В. Сталиным, который вместо не устраивавшего его предложил собственный вариант (см.: Сталин И. В. Письмо составителям г. учебника истории ВКП(б)//К изучению истории ВКП(б)... С. 12—15). Характерно, сто и одни из последних "круглых столов" в журнале "Коммунист" был также посвящен вопросам характеристики и необходимости выделения новых этапов в строительстве социализма (см.: Основные этапы развития советского общества: "Круглый стол" журнала "Коммунист"//Страницы истории КПСС: факты, проблемы, уроки/Под ред. В. И. Купцова. М., 1988. С. 37—68. 53 Подробнее см.: Касьяненко В. И. Развитой социализм: Историография и методология проблемы. М., 1976; Волобуев О. В., Кулешов С. В. Очищение. История и перестройка. М., 1989. 54 См.: Горбачев М. С. О перестройке и кадровой политике партии//Избр. речи и статьи. М., 1987. Т. 4. С. 302. 55 См., напр.: Ципко А. О зонах, закрытых для мысли//Суровая драма народа... С. 175— 257; Маслов Н. Н. "Краткий курс истории ВКП(б)"... //Там же. С. 334—352; и др. 56 См., напр.: Французова Н. П. Исторический метод в научном познании: Вопросы методологии и логики исторического исследования. М., 1972; Оруджев 3. М. Диалектика как система. М., 1973; Сахаров A. M. Методология истории и историография: Статьи и выступления. М., 1981; Ракитов А. И. Историческое познание: Системногносеологический подход. М., 1982 и др. 57 См.: Историческая наука и некоторые проблемы современности: Статьи и обсуждения/Под ред. М. Я. Гефтера и др. М., 1969. 58 См.: Косолапов В. В. Методология и логика исторического исследования. Киев, 1977; Принцип партийности в исследовании социальных явлений: Сб. статей/Под ред. Г. А. Подкорытова. Л., 1977. Кохановский В. П. Историзм как принцип диалектической логики. Ростов н/Д, 1978; Бурмистров Н. А. Партийность исторической науки. Казань, 1979; Могильницкий Б. Г. Введение в методологию истории. М., 1989 и др. 59 См.: Варшавчик М. А., Спирин Л. М. О научных основах изучения истории КПСС. М., 1978. С. 50. 60 Н. Н. Маслов, П. М. Шморгун, А. И. Зевелев отстаивали тезис о том, что в марксистской историографии принципы объективности и партийности синонимичны (см.: Вопросы истории КПСС. 1976. №>6, 7, 9). 61 См.: Маслов Н. Н. Ленин как истории партии. Л., 1969; его же. Вопросы методологии истории КПСС в произведениях В. И. Ленина. Л., 1980. 62 См.: Рекомендация совещания историков в Отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС 21— 22 марта 1973 года. М., 1974. С. 2—3. 63 См.: Волобуев П. В. Выбор пути общественного развития. М., 1987.