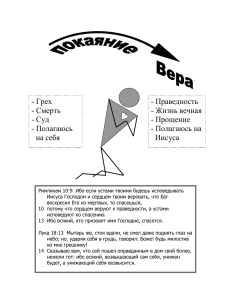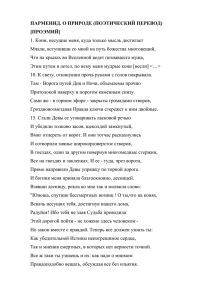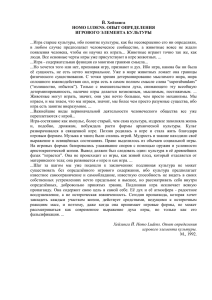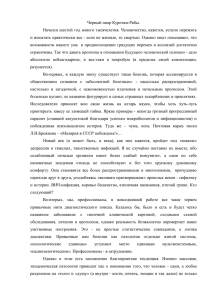Аристотель О науке и научном познании
advertisement
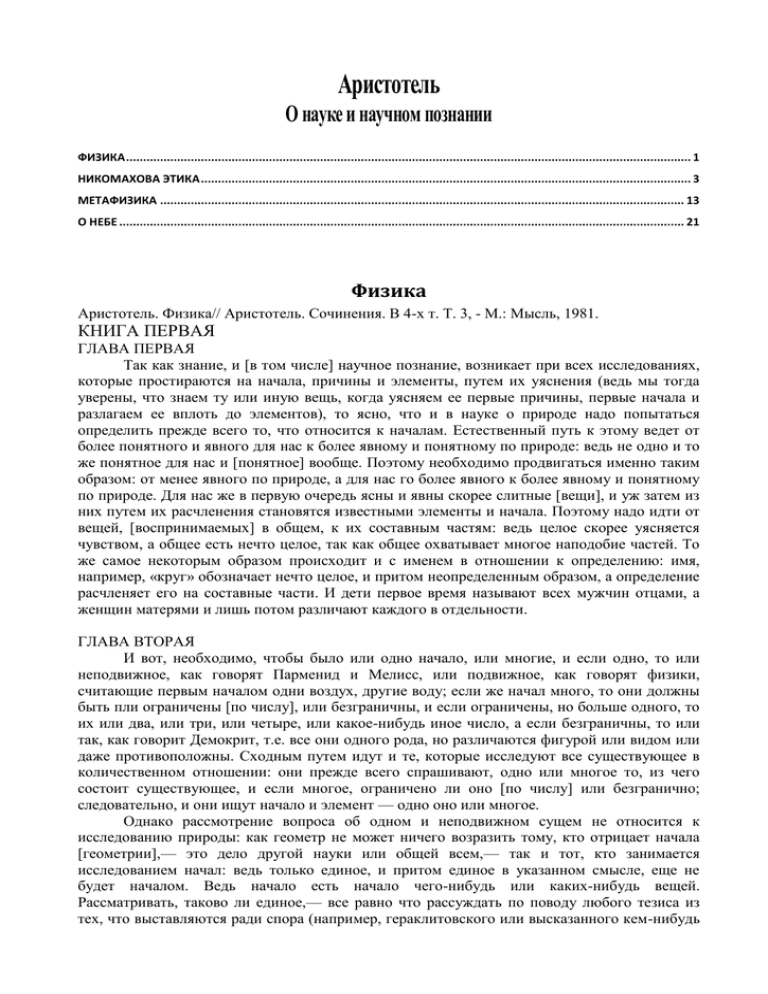
Аристотель О науке и научном познании ФИЗИКА ...................................................................................................................................................................... 1 НИКОМАХОВА ЭТИКА ................................................................................................................................................ 3 МЕТАФИЗИКА .......................................................................................................................................................... 13 О НЕБЕ ...................................................................................................................................................................... 21 Физика Аристотель. Физика// Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 3, - М.: Мысль, 1981. КНИГА ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Так как знание, и [в том числе] научное познание, возникает при всех исследованиях, которые простираются на начала, причины и элементы, путем их уяснения (ведь мы тогда уверены, что знаем ту или иную вещь, когда уясняем ее первые причины, первые начала и разлагаем ее вплоть до элементов), то ясно, что и в науке о природе надо попытаться определить прежде всего то, что относится к началам. Естественный путь к этому ведет от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе: ведь не одно и то же понятное для нас и [понятное] вообще. Поэтому необходимо продвигаться именно таким образом: от менее явного по природе, а для нас го более явного к более явному и понятному по природе. Для нас же в первую очередь ясны и явны скорее слитные [вещи], и уж затем из них путем их расчленения становятся известными элементы и начала. Поэтому надо идти от вещей, [воспринимаемых] в общем, к их составным частям: ведь целое скорее уясняется чувством, а общее есть нечто целое, так как общее охватывает многое наподобие частей. То же самое некоторым образом происходит и с именем в отношении к определению: имя, например, «круг» обозначает нечто целое, и притом неопределенным образом, а определение расчленяет его на составные части. И дети первое время называют всех мужчин отцами, а женщин матерями и лишь потом различают каждого в отдельности. ГЛАВА ВТОРАЯ И вот, необходимо, чтобы было или одно начало, или многие, и если одно, то или неподвижное, как говорят Парменид и Мелисс, или подвижное, как говорят физики, считающие первым началом одни воздух, другие воду; если же начал много, то они должны быть пли ограничены [по числу], или безграничны, и если ограничены, но больше одного, то их или два, или три, или четыре, или какое-нибудь иное число, а если безграничны, то или так, как говорит Демокрит, т.е. все они одного рода, но различаются фигурой или видом или даже противоположны. Сходным путем идут и те, которые исследуют все существующее в количественном отношении: они прежде всего спрашивают, одно или многое то, из чего состоит существующее, и если многое, ограничено ли оно [по числу] или безгранично; следовательно, и они ищут начало и элемент — одно оно или многое. Однако рассмотрение вопроса об одном и неподвижном сущем не относится к исследованию природы: как геометр не может ничего возразить тому, кто отрицает начала [геометрии],— это дело другой науки или общей всем,— так и тот, кто занимается исследованием начал: ведь только единое, и притом единое в указанном смысле, еще не будет началом. Ведь начало есть начало чего-нибудь или каких-нибудь вещей. Рассматривать, таково ли единое,— все равно что рассуждать по поводу любого тезиса из тех, что выставляются ради спора (например, гераклитовского или высказанного кем-нибудь положения, что «сущее есть один человек»), или распутывать эристическое умозаключение; именно такое содержится в рассуждениях и Мелисса и Парменида, так как они принимают ложные предпосылки и их выводы оказываются логически несостоятельными. Рассуждения Мелисса значительно грубее и не вызывают затруднений: из одной нелепости у него вытекает все остальное, а это разобрать совсем нетрудно. Нами, напротив, должно быть положено в основу, что природные [вещи], или все, или некоторые, подвижны,— это становится ясным путем наведения. Вместе с тем не следует опровергать любые [положения], а только когда делаются ложные выводы из основных начал; в противном случае опровергать не надо. Так, например, опровергнуть квадратуру круга, данную посредством сегментов, надлежит геометру, а квадратуру Антифонта — не его дело. Однако хотя о природе они и не говорили, но трудностей, связанных с природой, им приходилось касаться, поэтому, вероятно, хорошо будет немного поговорить о них: ведь такое рассмотрение имеет философское значение. Для начала самым подходящим будет — так как «сущее» употребляется в различных значениях — убедиться, в каком смысле говорят о нем утверждающие, что все есть единое: есть ли «все» сущность, или количество, или качество и, далее, есть ли «все» одна сущность, как, например, один человек, одна лошадь, одна душа, или это одно качество, например светлое, теплое или другое в том же роде. Ведь все это — [утверждения], значительно отличающиеся друг от друга, хотя и [одинаково] несостоятельные. А именно, если «все» будет и сущностью, и количеством, и качеством — обособлены ли они друг от друга или нет,— существующее будет многим. Если же «все» будет качеством или количеством, при наличии сущности или ее отсутствии получится нелепость, если нелепостью можно назвать невозможное. Ибо ни одна из прочих [категорий], кроме сущности, не существует в отдельности, все они высказываются о подлежащем, [каковым является] «сущность». Мелисс, с другой стороны, утверждает, что сущее бесконечно. Следовательно, сущее есть нечто количественное, так как бескенечное относится к [категории] количества, сущность же, а также качество или состояние не могут быть бесконечными иначе как по совпадению — в случае если одновременно они окажутся и каким-либо количеством: ведь определение бесконечного включает в себя [категорию] количества, а не сущности или качества. Стало быть, если сущее будет и сущностью, и количеством, сущих будет два, а не одно; если же оно будет только сущностью, то оно не может быть бесконечным и вообще не будет иметь величины, иначе оно окажется каким-то количеством. Далее, так как само «единое» употребляется в различных значениях, так же как и «сущее», следует рассмотреть, в каком смысле они говорят, что все есть единое. Единым называют и непрерывное, и неделимое, и вещи, у которых определение и суть бытия одно и то же, например хмельной напиток и вино. И вот, если единое непрерывно, оно будет многим, так как непрерывное делимо до бесконечности. (Возникает сомнение относительно части и целого — может быть, не по отношению к настоящему рассуждению, а само по себе,— будут ли часть и целое единым или многим и в каком отношении единым или многим, и если многим, в каком отношении многим; то же и относительно частей, не связанных непрерывно; и далее, будет ля каждая часть, как неделимая, образовывать с целым единое так же, как части сами с собой?) Но если [брать единое] как неделимое, оно не будет ни количеством, ни качеством и сущее не будет ни бесконечным, как утверждает Мелисс, ни конечным, как говорит Парменид, ибо неделима граница, а не ограниченное. Если же все существующее едино по определению, как, например, верхняя одежда и плащ, то выходит, что они повторяют слова Гераклита: одно и то же будет «быть добрым» и «быть злым», добрым и не добрым, следовательно, одно и то же и доброе и не доброе, и человек pi лошадь, и речь у них будет не о том, что все существующее едино, а ни о чем — быть такого-то качества и быть в таком-то количестве окажутся одним и тем же. Беспокоились и позднейшие философы, как бы не оказалось у них одно и то же единым и многим. Поэтому одни, как Ликофрон, опускали слово «есть», другие же перестраивали обороты речи — например, этот человек не «есть бледный», а «побледнел», не «есть ходящий», а «ходит»,— чтобы путем прибавления [слова] «есть» не сделать единое многим, как будто [термины] «единое» и «многое» употребляются только в одном смысле. Между тем существующее есть многое или по определению (например, одно дело быть бледным, другое — быть образованным, а один и тот же предмет бывает и тем и другим, следовательно, единое оказывается многим), или вследствие разделения, как, например, целое и части. И тут они уже зашли в тупик и стали соглашаться, что единое есть многое, как будто недопустимо, чтобы одно и то же было и единым и многим — конечно, не в смысле противоположностей: ведь единое существует и в возможности и в действительности. *** Никомахова этика Аристотель. Никомахова этика// Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 4, - М.: Мысль, 1983. КНИГА ШЕСТАЯ Поскольку ранее мы сказали, что следует избирать середину, а не избыток и недостаток, а середина такова, как определяет верное суждение, то давайте в этом разберемся. Итак, для всех вышеупомянутых складов [души], как и для прочего, существует определенная «цель», с оглядкой на которую обладающий суждением натягивает и ослабляет [струны]; и для обладания серединой в чем бы то ни было существует известная граница (horos), которая, как мы утверждаем, помещается между избытком и недостатком, будучи согласована с верным суждением. Такое высказывание истинно, но отнюдь не прозрачно, ибо и для других занятий, для которых существует наука, истинно высказывание, что утруждаться а. прохлаждаться нужно не слишком много и не слишком мало, а [соблюдая] середину, т.е, так, как [велит] верное суждение; но, обладая только этим [знанием], человек не знал бы ничего больше, например [он не знал бы], какие [лекарства] нужны для тела, если бы сказал: «те, которые предписывает врачебное искусство, и тот, кто им обладает». Вот почему нужно, чтобы применительно к складам души тоже не только было высказано нечто истинное, но и было бы точно определено: что есть верное суждение и какова [определяющая] его граница. Разделив добродетели души, мы утверждали, что одни относятся к нраву, а другие к мысли. Мы уже разобрали нравственные добродетели, об остальных будем говорить — прежде сказав о душе — следующим способом. Ранее уже было сказано, что существуют две части души: наделенная суждением и лишенная его; теперь нужно таким же образом предпринять разделение в той, что обладает суждением. Предположим, что частей, наделенных суждением, тоже две: одна — та, с помощью которой мы созерцаем такие сущности, чьи начала не могут быть инакими, [т. е. меняться]; другая — та, с помощью которой [понимаем] те, [чьи начала] могут [быть и такими, и инакими]. Дело в том, что для вещей разного рода существуют разного рода части души, предназначенные для каждой отдельной вещи по самой своей природе, коль скоро познание возможно здесь в соответствии с каким-то подобием и сродством [этих частей души и предметов познания]. Пусть тогда одна часть называется научной, а другая рассчитывающей (to logistikon), ибо принимать решения (boyleyesthai) и рассчитывать (logidzesthai) — это одно и то же, причем никто не принимает решений о том, что не может быть иначе. Следовательно, рассчитывающая часть — это [только] какая-то одна часть [части], наделенной суждением. Нужно теперь рассмотреть, каков наилучший склад для той и для другой части души, ибо для той и для другой именно он является добродетелью, а добродетель проявляется в свойственном ей деле. Есть три [силы] души, главные для поступка и для истины: чувство, ум (noys), стремление (orexis). Из них чувство не является началом какого бы то ни было поступка; это ясно потому, что чувство имеют и звери, но они не причастии к поступку. Далее, что для мысли утверждение и отрицание, то для стремления преследование и бегство. Таким образом, если нравственная добродетель — это устои, которые избираются нами сознательно (hexis proairetike), а сознательный выбор — это стремление, при котором принимают решения (orexis boyleytike), то суждение должно быть поэтому истинным, а стремление правильным, коль скоро и сознательный выбор добропорядочен и [суждение] утверждает то же, что преследует стремление. Итак, мысль и истина, о которых идет речь, имеют дело с поступками (praktike), а для созерцательной (theoretike) мысли, не предполагающей ни поступков, ни созиданиятворчества (poietike), добро (to ey) и зло (to kakcfs) — это соответственно истина и ложь; ибо это — дело всего мыслящего, дело же части, предполагающей поступки и мыслительной,— истина, которая согласуется с правильным стремлением. Начало, [источник], поступка — сознательный выбор, но как движущая причина, а не как целевая, [в то время как источник] сознательного выбора — стремление и суждение, имеющее что-то целью. Вот почему сознательный выбор невозможен ни помимо ума и мысли, ни помимо [нравственных] устоев; в самом деле, благополучие [как получение блага] в поступках (еурraxia), так же как его противоположность, не существует в поступке помимо мысли и нрава. Однако сама мысль ничего не приводит в движение, [это делает только мысль], предполагающая какую-то цель, т.е. поступок, ибо у этой [мысли] под началом находится творческая [мысль] и дело в том, что всякий, кто творит, творит ради чего-то и творчество (to poieton) — это не безотносительная цель, но чья-то [цель] и относительная. Между тем свершение поступка (to prak-ton) — [цель безотносительная], а именно: благополучение в поступке (eypraxia) само есть цель, стремление же направлено к цели. Именно поэтому сознательный выбор — это стремящийся ум, [т.е. ум, движимый стремлением], или же осмысленное стремление, [т.е. стремление, движимое мыслью], а именно такое начало есть человек. Предметом сознательного выбора (proaireton) не может быть нечто в прошлом; так, никто не собирается (proaireitai) разрушить Илион, ибо о прошедшем не принимают решений, [их принимают только] о будущем и о том, что может быть, а прошедшее не может стать не бывшим, и потому прав Агафон: Ведь только одного и богу не дано: Не бывшим сделать то, что было сделано. Таким образом, дело обеих умственных частей души — истина. И это значит, что для обеих частой добродетелями являются те склады [души], благодаря которым та и другая [часть] достигнет истины наиболее полно. Итак, снова начнем наше рассуждение об этих [душевных складах] от начала. Допустим, что душа достигает истины, утверждая и отрицая благодаря пяти [вещам], а именно: искусству, науке, рассудительности, мудрости, уму (поскольку в предположение и мнениях можно обмануться, [мы их не учитываем]). Что такое наука — если нужно давать точные определения, а не следовать за внешним сходством,— ясно из следующего. Мы все предполагаем, что известное нам по науке не может быть и таким и инаким; а о том, что может быть и так и иначе, когда оно вне [нашего] созерцания, мы уже не знаем, существует оно или нет. Таким образом, то, что составляет предмет научного знания (to episteton), существует с необходимостью, а значит, вечно, ибо все существующее с безусловной необходимостью вечно, вечное же не возникает и не уничтожается. Далее, считается, что всякой науке нас обучают (didakte), а предмет науки — это предмет усвоения (matheton). Как мы утверждали и в «Аналитиках», всякое обучение, исходя из уже познанного, [прибегает] в одном случае к наведению, в другом — к умозаключению, [т. е. силлогизму]. При этом наведение — это [исходный] принцип, и [он ведет] к общему, а силлогизм исходит из общего. Следовательно, существуют принципы, [т. е. посылки], из которых выводится силлогизм и которые не могут быть получены силлогически, а значит, их получают наведением. Итак, научность (episteme) — это доказывающий, [аподиктический], склад (сюда надо добавить и другие уточнения, данные в «Аналитиках»), ибо человек обладает научным знанием, когда он в каком-то смысле обладает верой и принципы ему известны. Если же, [принципы известны ему] не больше вывода, он будет обладать наукой только привходящим образом. Таким образом мы дадим здесь определение науке. В том, что может быть так и иначе, одно относится к творчеству, другое к поступкам, а творчество (poiesis) и поступки (praxis) — это разные вещи (в этом мы доверяемся сочинениям для широкого круга). Следовательно, и предполагающий поступки склад, причастный суждению, отличается от причастного суждению склада, предполагающего творчество. Поэтому они друг в друге не содержатся, ибо ни поступок не есть творчество, ни творчество — поступок. Поскольку, скажем, зодчество — некое искусство, а значит, и разновидность соответствующего причастного суждению склада [души], предполагающего творчество, [поскольку, далее], не существует ни такого искусства, которое не было бы причастным суждению и предполагающим творчество складом [души], ни подобного склада, который не был бы искусством [как искусностью], постольку искусство и склад [души], причастный истинному суждению и предполагающий творчество,— это, но-видимому, одно и то же. Всякое искусство имеет дело с возникновением, и быть искусным — значит разуметь (theorem), как возникает нечто из вещей, могущих быть и не быть и чье начало в творце, а не в творимом. Искусство ведь не относится ни к тому, что существует или возникает с необходимостью, ни к тому, что существует или возникает естественно, ибо [все] это имеет начало [своего существования и возникновения] в себе самом. А поскольку творчество и поступки — вещи разные, искусство с необходимостью относится к творчеству, а не к поступкам. Случай и искусство, между тем, в каком-то смысле имеют дело с одним и тем же; по слову Агафона: Искусству случай мил, искусство — случаю. Таким образом, как уже было сказано, искусство [и искусность] — это некий причастный истинному суждению склад [души], предполагающий творчество, а неискусность в противоположность ему есть склад [души], предполагающий творчество, но причастный ложному суждению, причем [и то и другое] имеет дело с вещами, которые могут быть и такими и инакими. О рассудительности (phronesis) мы тогда составим понятие, когда уразумеем, кого мы называем рассудительными. Рассудительным кажется тот, кто способен принимать верные решения в связи с благом и пользой для него самого, однако не в частностях — например, что [полезно] для здоровья, для крепости тела,— но в целом: какие [вещи являются благами] для хорошей жизни. Подтверждается это тем, что мы говорим о рассудительных в каком-то отношении, когда люди сумели хорошо рассчитать, что нужно для достижения известной добропорядочной цели, [для достижения которой] не существует искусства. Следовательно, кто способен принимать [разумные] решения, тот и рассудителен в общем смысле слова. Между тем никто не принимает решений ни о том, что не может быть иным, ни о том, что ему невозможно осуществить. Следовательно, коль скоро наука связана с доказательством, а для того, чьи принципы могут быть и такими и инакими, доказательство невозможно (ибо все может быть и иначе) и, наконец, невозможно принимать решения о существующем с необходимостью, то рассудительностьно будет ни наукой, ни искусством: наукой не будет, потому что поступать можно и так и иначе, а искусством не будет, потому что поступок и творчество различаются по роду. А значит, ей остается быть истинным причастным суждению складом [души], предполагающим поступки, касающиеся блага и зла для человека. Цель творчества отлична от него [самого], а цель поступка, видимо, нет, ибо здесь целью является само благо-получение в поступке. Оттого мы и считаем рассудительным Перикла и ему подобных, что они способны разуметь, в чем их собственное благо и в чем благо человека; такие качества мы приписываем тем, что управляет хозяйством или государством. Вот оттого мы зовем и благоразумие его именем, что полагаем его блюстителем рассудительности, а блюдет оно такое представление [о собственном и человеческом благе]. Ведь не всякое представление уничтожается (diaphtheirei) или извращается удовольствием и страданием (скажем, [представление о том, что] сумма углов треугольника равна или не равна сумме двух прямых углов); [это происходит только с представлениями], которые связаны с поступками. Дело в том, что принципы поступков — это то, ради чего они совершаются, но для того, кто из-за удовольствия или страдания развращен (toi diephtharmenoi), принцип немедленно теряет очевидность, как и то, что всякий выбор и поступок надо делать ради этого принципа и из-за него. Действительно, порочность уничтожает (phthartike) [именно] принцип. Итак, рассудительностью необходимо является [душевный] склад, причастный суждению, истинный и предполагающий поступки, касающиеся человеческих благ. Но, однако, если для искусства существует добродетель, то для рассудительности нет. К тому же в искусстве предпочтение отдается тому, кто ошибается по своей воле, но в том, что касается рассудительности, [такой человек] хуже [ошибающегося непроизвольно], точно так же как в случае с добродетелями. Ясно по-» этому, что [рассудительность сама] есть некая добродетель и не есть искусство, [или искусность]. Поскольку существуют две части души, обладающие суждением, рассудительность, видимо, будет добродетелью одной из них, а именно той, что производит мнения, ибо и мнение, и рассудительность имеют дело с тем, что может быть и так и иначе. Но рассудительность — это тем не менее не только [душевный] склад, причастный суждению; а подтверждение этому в том, что такой склад [души — навык —] можно забыть, а рассудительность нет. Поскольку наука —это представление (hypolepsis) общего и существующего с необходимостью, а доказательство (ta apodeikta) и всякое иное знание исходит из принципов, ибо паука следует [рас] суждению (meta logoy), постольку принцип предмета научного знания (toy epistetoy) не относится ни [к ведению] науки, ни [тем более] — искусства и рассудительности. Действительно, предмет научного знания— [это нечто] доказываемое (to apodeikton), а [искусство и рассудительность] имеют дело с тем, что может быть и так и иначе. Даже мудрость не для этих первопринципов, потому что мудрецу свойственно в некоторых случаях пользоваться доказательствами. Если же то, благодаря чему мы достигаем истины и никогда не обманываемся относительно вещей, не могущих быть такими и инакими или даже могущих, это б наука, рассудительность, мудрость и ум и ни одна из трех [способностей] (под тремя я имею в виду рассудительность, науку и мудрость) не может [приниматься в расчет в этом случае], остается [сделать вывод] , что для [перво] принципов существует ум. Мудрость в искусствах мы признаем за теми, кто безупречно точен в [своем] искусстве; так, например, Фидия мы признаем мудрым камнерезом, а Поликлета — мудрым ваятелем статуй, подразумевая под мудростью, конечно, не что иное, как добродетель, [т. е. совершенство], искусства. Однако мы уверены, что существуют некие мудрецы в общем смысле, а не в частном и ни в каком другом, как Гомер говорит в «Маргите»: Боги не дали ему землекопа и пахаря мудрость, Да и другой никакой. Итак, ясно, что мудрость — это самая точная из наук. А значит, должно быть так, что мудрец не только знает [следствия] из принципов, но и обладает истинным [знанием самих] принципов (peri tas arkhas aletheyein). Мудрость, следовательно, будет умом и наукой, словно бы заглавной наукой о том, что всего ценнее. Было бы нелепо думать, будто либо наука о государстве, либо рассудительность — самая важная [наука], поскольку человек не есть высшее из всего в мире. Далее, если «здоровое» и «благое» для людей и рыб различно, но «белое» и «прямое» всегда одно и то же, то и мудрым все бы признали одно и то же, а «рассудительным» разное. Действительно, рассудительным назовут того, кто отлично разбирается в том или ином деле, (касающемся [его] самого), и предоставят это на его усмотрение. Вот почему даже иных зверей признают «рассудительными», а именно тех, у кого, видимо, есть способность предчувствия того, что касается их собственного существования. Так что ясно, что мудрость и искусство управлять государством не будут тождественны, ибо если скажут, что [умение разбираться] в собственной выгоде есть мудрость, то много окажется мудростей, потому что не существует одного [умения] для [определения] блага всех живых существ совокупно, но для каждого — свое, коль скоро и врачебное искусство тоже не едино для всего существующего. А если [сказать], что человек лучше [всех] прочих живых существ, то это ничего не меняет, ибо даже человека много божественнее по природе другие вещи, взять хотя бы наиболее зримое— [звезды], из которых состоит небо (kosmos). Из сказанного, таким образом, ясно, что мудрость — это и научное знание, и постижение умом вещей по природе наиболее ценных. Вот почему Анаксагора и Фалеса и им подобных признают мудрыми, а рассуди- тельными нет, так как видно, что своя собственная польза им неведома, и признают, что знают они [предметы] совершенные, достойные удивления, сложные и божественные, однако бесполезные, потому что человеческое благо они не исследуют. Рассудительность же связана с человеческими делами и с тем, о чем можно принимать решение; мы утверждаем, что дело рассудительного — это, прежде всего, разумно принимать решения (to ey boyleyesthai), а решения не принимают ни о вещах, которым невозможно быть и такими и инакими, ни о тех, что не имеют известной цели, причем эта цель есть благо, осуществимое в поступке. А безусловно способный к разумным решениям (eyboylos) тот, кто благодаря расчету (kata ton logismon) умеет добиться высшего из осуществимых в поступках блага для человека. И не только с общим имеет дело рассудительность, но ей следует быть осведомленной в частных [вопросах], потому что она направлена на поступки, а поступок связан с частными [обстоятельствами]. Вот почему некоторые, не будучи знатоками [общих вопросов], в каждом отдельном случае поступают лучше иных знатоков [общих правил] и вообще опытны в других вещах. Так, если, зная, что постное мясо хорошо переваривается и полезно для здоровья, не знать, какое [мясо бывает] постным, здоровья не добиться, и скорее добьется [здоровья] тот, кто знает, что (постное и) полезное для здоровья [мясо] птиц. Итак, рассудительность направлена на поступки, следовательно, [чтобы быть рассудительным], нужно обладать [знанием] и того и другого [— и частного, и общего] или даже в большей степени [знанием частных вопросов]. Однако и в этом случае имеется своего рода управляющее (arkhitektonike) [знание, или искусство, т. е. политика]. И государственное [искусство], и рассудительность — это один и тот же склад, хотя эти понятия и не тождественны. Рассудительность в делах государства (роlitike phronesis) [бывает двух видов]: одна как управляющая представляет собою законодательную [науку], другая как имеющая дело с частными [вопросами] носит общее название государственной науки, причем она предполагает поступки и принимание решений, ибо что решено голосованием [народного собрания] как последняя данность (to eskbaton) осуществляется в поступках. Поэтому только об этих людях говорят, что они занимаются государственными делами, так как они действуют подобно ремесленникам. Вместе с тем, согласно общему мнению, рассудительностью по преимуществу является та, что связана с самим человеком, причем с одним; она тоже носит общее имя «рассудительность». А из тех [рассудительностей, что направлены не на самого ее обладателя,] одна хозяйственная, другая законодательная, третья государственная, причем последняя подразделяется на рассудительность в принимании решений и в судопроизводстве. Итак, знание [блага] для себя будет одним из видов познания, но он весьма отличается от прочих. И согласно общему мнению, рассудителен знаток собственного блага, который им и занимается; что же до государственных мужей, то они лезут в чужие дела. Потому Еврипид и говорит: Я рассудительный? да я бы мог без суеты И вместе с многими причисленный к полку И долю равную иметь. Но те, кто лучше, дело есть кому везде... Люди ведь преследуют свое собственное благо и уверены, что это и надо делать. Исходя из такого мнения, и пришли [к убеждению], что эти, [занятые своим благом люди], рассудительные, хотя собственное благо, вероятно, не может существовать независимо от хозяйства и устройства государства. Более того, неясно и подлежит рассмотрению, как нужно вести свое собственное хозяйство. Сказанное подтверждается также и тем, что молодые люди становятся геометрами и математиками и мудрыми в подобных предметах, но, по всей видимости, не бывают рассудительными. Причина этому в том, что рассудительность проявляется в частных случаях, с которыми знакомятся на опыте, а молодой человек не бывает опытен, ибо опытность дается за долгий срок. Впрочем, можно рассмотреть и такой [вопрос]: почему, в самом деле, ребенок может стать математиком, но мудрым природоведом не может. Может быть, дело в том, что [предмет математики] существует отвлеченно, а начала [предметов философии-мудрости и физики] постигаются из опыта? И юноши не имеют веры [в начала философии и физики], но только говорят [с чужих слов], а в чем суть [начал в математике], им совершенно ясно? А кроме того, решение может быть принято ошибочно либо с точки зрения общего, либо с точки зрения частного, ведь [можно ошибаться], как полагая, что плоха всякая вода с примесями, так и считая, что в данном случае она их содержит. Что рассудительность не есть наука, [теперь] ясно, ведь она, как было сказано, имеет дело с последней данностью, потому что таково то, что осуществляется в поступке. Рассудительность, таким образом, противоположна уму, ибо ум имеет дело с [предельно общими] определениями, для которых невозможно суждение, [или обоснование], а рассудительность, напротив,— с последней данностью, для [постижения] которой существует не наука, а чувство, однако чувство не собственных [предметов чувственного восприятия], а такое, благодаря которому (в математике) мы чувствуем, что последнее [ограничение плоскости ломаной линией] — это треугольник, ибо здесь и придется остановиться. Но [хотя] по сравнению с рассудительностью это в большей степени чувство, оно представляет собою все-таки особый вид [чувства]. Поиски (to dzetein) отличаются от принимания решений (to boyleyesthai), потому что принимание решения — это один из видов поисков. Что касается разумности в решениях (eyboylia), то надо понять, в чем ее суть, является ли она своего рода знанием, [или наукой], мнением, наитием, или это нечто другого рода. Конечно, это не знание, ведь не исследуют то, что знают, а разумность в решениях — это разновидность принимания решения, и тот, кто принимает решение, занимается поисками и расчетом. Но это, конечно, и не наитие, ибо наитие [обходится] без [рас] суждения и [является] внезапно, между тем как решение принимают в течение долгого времени; и пословица гласит: решенью скоро выполняться, приниматься медленно. Наконец, и проницательность отличается от разумности в решениях, ибо проницательность — это своего рода наитие. И конечно, разумность в решениях не совпадает с мнением, Но поскольку тот, кто плохо принимает решения, ошибается, а кто разумно — [поступает] правильно, ясно, что разумность в решениях — это разновидность правильности, однако правильности не науки и не мнения, потому что правильность для науки не существует (ибо не существует и ошибочность), а для мнения правильность — [это] истинность, [а не разумность], и вместе с тем все, о чем имеется мнение, уже определено, [а решение принимают о неопределенном]. Однако разумность в решениях не чужда и рассуждению. Остается, стало быть, правильность мысли, ибо мысль — это еще не утверждение. Ведь и мнение — это не поиски (dzetesis), но уже некое утверждение, а кто принимает решение — разумно он это делает или плохо,— нечто ищет и рассчитывает. Разумность в решениях — это разновидность правильности в решениях, поэтому сначала надо исследовать, что такое принимание решения и к чему оно относится. Поскольку «правильность» (orthotes) [говорят] во многих смыслах, ясно, что правильность в решениях — это еще не вся правильность. Действительно, невоздержный и дурной человек достигнет поставленной цели по расчету (ek toy logismoy), а следовательно, будет человеком, который принял решение правильно, но приобрел великое зло. Считается, однако, что разумно принять решение — это своего рода благо, потому что такая правильность решения означает разумность в решениях, которая умеет достигать блага. Однако благо можно получить и при ложном умозаключении, [т.е. силлогизме], а именно: получить, что должно сделать, но способом, каким не должно, [потому что] ложен средний член силлогизма. Следовательно, такая правильность, в силу которой находят то, что нужно, но все же не тем способом, каким должно, не есть разумность в решениях. Кроме того, один находит, [что нужно], долго обдумывая решение, а другой [решает] быстро. Значит, правильность в этом смысле тоже не является разумностью в решениях, а является ею правильность с точки зрения выгоды, так же как с точки зрения цели, средств и срока. Наконец, решение может быть разумным безотносительно и относительно определенной цели. И конечно, безотносительно разумное решение правильно для безотносительной цели, а решение, разумное в каком-то определенном отношении,— дли относительной цели. Поскольку же принимать разумные решения свойственно рассудительным, разумность в решениях будет правильностью с точки зрения средств, нужных (to kata to sympheron) для достижения той или иной цели, рассудительность относительно которых и есть истинное представление. Соображение и сообразительность, в силу которых мы зовем людей соображающими и сообразительными, не тождественны науке или мнению в целом (ибо тогда все были бы соображающими) и не являются какой-либо одной из частных наук, как, скажем, врачебная [паука], связанная со здоровьем, или геометрия, связанная с величинами. Соображение ведь не относится ни к вечно сущему, ни к неизменному, ни к чему бы то ни было, находящемуся в становлении, но к тому, о чем можно задаться вопросом и принять решение. А потому, будучи связано с тем же, с чем связана рассудительность, соображение не тождественно рассудительности. Рассудительность предписывает, ведь ее цель [указать], что следует делать и чего не следует, а соображение способно только судить. Соображение и сообразительность (synesis kai eysyne-sia) [no сути] одно и то же, так же как соображающие и сообразительные (synetoi kai eysyiietoi). Соображение не состоит ни в обладании рассудительностью, ни в приобретении оной, но подобно тому, как применительно к научному знанию усваивать означает соображать, так применительно к мнению соображать означает судить о том, в чем [сведущ] рассудительный, когда говорит об этом другой человек, причем судить хорошо, потому что «сообразительно» (еу) и «хорошо» (kalos) одно и то же. Отсюда и происходит слово «соображение» и соответственно «сообразительные», а именно от соображения при усвоении знаний, ибо часто мы говорим «соображать» вместо «усваивать». Так называемая совесть, которая позволяет называть людей совестящимися и имеющими совесть,— это правильный суд доброго человека. Это подтверждается [вот чем]: доброго мы считаем особенно совестливым, а иметь совестливость в иных вещах — это свойство доброты. Совестливость же — это умеющая судить совесть доброго человека, причем судить правильно, а правилен [этот суд], когда исходит от истинно [доброго человека]. Разумеется, все эти склады имеют одну и ту же направленность, ведь мы применяем понятия «совесть», «соображение», «рассудительность» и «ум» к одним и тем же людям и говорим, что они имеют совесть и уже наделены умом и что они рассудительные и соображающие. Дело в том, что все эти способности существуют для последних данностей (ta eskhata) и частных случаев (ta kath hekastori). И если человек способен судить о том, с чем имеет дело рассудительность, то он соображающий, (добросовестный), или совестящийся, ибо доброта — общее свойство вообще всех добродетельных людей в их отношении к другому. К частным же случаям и последним данностям относится вообще все, что осуществляется в поступках, ведь нужно, чтобы и рассудительный их знал; и соображение вместе с совестью тоже существует для поступков, а они представляют собою последнюю данность. И ум тоже имеет дело с последними данностями, [но последними] в обе стороны, ибо и для первых определений и для последних данностей существует ум (а не суждение), и если при доказательствах, ум имеет дело с неизменными и первыми определениями, то в том, что касается поступков,— с последней данностью, т.е. с допускающим изменения и со второй посылкой; эти [последние, или вторые посылки],— начала в смысле целевой причины, потому что к общему [приходят] от частного; следовательно, нужно обладать чувством этих [частных, последних данностей], а оно-то и есть ум. Поэтому считается, что данные [способности] — природные, и если никто не бывает мудр от природы, то совесть, соображение и ум имеют от природы. Это подтверждается нашей уверенностью в том, что эти способности появляются с возрастом и определенный возраст обладает умом [-разумом] и совестью, как если бы причиной была природа. (Вот почему ум — это начало и конец, [или, принцип и цель]: доказательства исходят из [начал] и направлены [на последнюю данность]). Поэтому недоказательным утверждениям и мнениям опытных и старших (или рассудительных) внимать следует не меньше, чем доказательствам. В самом деле, благодаря тому что опыт дал им «око», они видят [все] правильно. Таким образом, сказано, что такое рассудительность и мудрость, к чему та и другая может относиться и что то и другое является добродетелью разных частей души. Можно задать вопрос: зачем они нужны? Мудрость ведь не учит (oyden theorei), отчего человек будет счастлив, ибо ничто становящееся не есть ее предмет, рассудительность же занимается этим. Но какая в ней надобность, коль скоро предмет рассудительности — правосудное, прекрасное и добродетельное применительно к человеку, а это и есть поступки, какие свойственны добродетельному мужу? Причем благодаря [одному только] знанию того, что [правосудно, добродетельно и прекрасно], мы ничуть не способнее к осуществлению такого в поступках (поскольку добродетели суть склады [души]), точно так как не [становятся здоровее и закаленнее], зная, что такое «здоровое» и «закалка» (если только понимать под [здоровым и закалкой] не то, что создает [такое состояние], а то, что при таком состоянии-складе имеет место); действительно, обладая [наукой] врачевания или гимнастики, мы ничуть не более способны к соответствующим поступкам. Если же надо говорить, что рассудительный существует не ради этих [знаний], но ради возникновения [добродетельных устоев], то [людям уже] добропорядочным [рассудительный] совершенно бесполезен, более того, и тем, кто не обладает [добродетелью],— тоже, ибо не будет различия, сами ли [они] обладают [добродетелью] или слушаются тех, кто ею обладает; и пожалуй, достаточно, если [мы будем поступать] так, как со здоровьем: желая быть здоровыми, мы все же не изучаем врачевания. Далее, нелепым кажется, если, будучи ниже мудрости, рассудительность окажется главнее: она ведь начальствует как творческая способность и отдает приказания для частных случаев. Об этом-то и следует говорить, а пока мы только поставили вопросы. Итак, прежде всего надо сказать, что эти добродетели с необходимостью являются предметом выбора как таковые уже потому, что каждая из них — это добродетель соответствующей части души, даже если ни та, ни другая добродетель ничего не производит. Но при всем этом они нечто производят, однако не так, как [искусство] врачевания — здоровье, а как здоровье — [здоровую жизнь]; и в таком же смысле мудрость создает счастье, потому что, будучи частью добродетели в целом, она делает человека счастливым от обладания добродетелью и от деятельного ее проявления (toi energein). И далее: назначение [человека] выполняется благодаря рассудительности и нравственной добродетели; ведь добродетель делает правильной цель, а рассудительность [делает правильными] средства для ее достижения. Но для четвертой, т.е. способной к питанию, части души нет такой добродетели, потому что от этой части не зависит свершение или не свершение поступка. Что же касается утверждения, что от рассудительности мы ничуть не делаемся способнее совершать нравственно прекрасные и правосудные поступки, то тут нужно начать несколько более издалека и вот что принять за начало. Если, как мы говорим, некоторые, совершая правосудные поступки, еще не являются правосудными [по устоям] (например, те, кто делают, что приказывают законы, или против воли, по неведению, или по другой какой [причине], но не ради самих правосудных поступков, хотя бы они совершали при этом поступки должные и те, что подобают добропорядочному), то кажется возможным, чтобы, имея определенный склад, человек поступал в каждом отдельном случае так, чтобы быть добродетельным, т. е. быть таким человеком, чьи поступки обусловлены сознательным выбором и совершаются ради самих этих поступков. Итак, правильным сознательный выбор делает добродетель, но не к добродетели, а к другой способности относится то, что естественно делать, чтобы осуществить [избранное]. Если мы намереваемся изучить [это], нужно дать некоторые пояснения. Существует способность под названием «изобретательность» (demotes); свойство ее состоит в способности делать то, что направлено к предложенной цели, и достигать ее. Поэтому, если цель прекрасна, такая способность похвальна, а если дурна, то это изворотливость (parioyrgia), недаром даже рассудительных мы называем изобретательными и изворотливыми. Но рассудительность не является этой способностью, однако и без этой способности она не существует. И [добродетельным] складом, [т.е. рассудительностью, изобретательность] становится при наличии того «ока души» [и] при условии добродетели, что и было сказано, да и ясно. Действительно, силлогизмы, имеющие своим предметом поступки, включают исходный принцип: «поскольку такая-то цель и есть наилучшее...» (причем безразлично, что именно, ибо при рассуждении это может быть что угодно), но, что есть [наилучшее], никому, кроме добродетельного, не видно, так как испорченность сбивает с толку, заставляя обманываться насчет исходных принципов поступков. Таким образом ясно, что быть рассудительным, не будучи добродетельным, невозможно. Теперь нужно снова рассмотреть добродетель, так как в случае с добродетелью имеет место такое же соотношение, как между рассудительностью и изобретательностью: с одной стороны, это не одно и то же, а с другой — [нечто] подобное; так и природная (physike) добродетель соотносится с добродетелью в собственном смысле слова (kyria). Действительно, всем кажется, что каждая [черта] нрава дана в каком-то смысле от природы, ведь и правосудными, и благоразумными, и мужественными, и так далее [в каком-то смысле] мы бываем прямо с рождения, однако мы исследуем некое иное «добродетельное», [или «благо»], в собственном смысле слова, и такие [добродетели] даны иным способом [нежели от природы]. В самом деле, и детям, и зверям даны природные [склады], но без руководства ума они оказываются вредными. Это же, наверное, видно при таком сравнении: как сильное тело, двигаясь вслепую, сильно ушибается, потому что лишено зрения, так и в данном случае [возможен вред]. Когда же человек обрел ум, он отличается по поступкам [от неразумных детей и зверей]; и [только] тогда склад [души], хотя он и подобен [природной добродетели], будет добродетелью в собственном смысле слова. Следовательно, подобно тому как у производящей мнения части души (to doxastikon) есть два вида [добродетели]: изобретательность и рассудительность, так и у нравственной ее части тоже два вида: одна добродетель природная и другая -— в собственном смысле слова, а из них та, что добродетель в собственном смысле, возникает [и развивается] при участии рассудительности. Именно поэтому некоторые утверждают, что все добродетели — это [разновидности] рассудительности, и Сократ, исследуя добродетель, в одном был прав, а в другом заблуждался, а именно: он заблуждался, думая, что все добродетели — это [виды] рассудительности, и правильно считал, что добродетель невозможна без рассудительности. Вот тому подтверждение: и ныне все [философы] при определении добродетели, сказавши, что это склад [души] и с чем он имеет дело, прибавляют: «согласный с верным суждением», а верное суждение согласуется с рассудительностью. Значит, по-видимому, все так или иначе догадываются, что именно такой склад есть добродетель — склад, со- гласный с рассудительностью. Но нужно сделать еще один шаг. Дело в том, что добродетель — это не только склад [души], согласный с верным суждением (kala ton orthoft logon), но и склад, причастный ему (meta toy orthoy logoy), а рассудительность — это и есть верное суждение о соответствующих вещах. Таким образом, если Сократ думал, что добродетели — это [верные] суждения (logoi) (потому что, [по его мнению], все они представляют собою знания), то мы считаем, что они лишь причастны [верному] суждению. Итак, ясно из сказанного, что невозможно не быть собственно добродетельным без рассудительности, ни быть рассудительным без нравственной добродетели. И тогда можно опровергнуть довод (logos), с помощью которого было бы диалектически обосновано, что добродетели существуют отдельно друг от друга, [Довод такой]: один и тот же человек не бывает от природы исключительно предрасположен ко всем добродетелям сразу, а значит, [в любой данный миг] одну он уже : «обрел, а другую еще нет. Но возможно это [лишь] при природных добродетелях, а при тех, при коих человек определяется как добродетельный безотносительно, это невозможно. Ведь при наличии рассудительности, хотя это [только] одна [из добродетелей], все [нравственные добродетели] окажутся в наличии. Очевидно, что, даже если бы рассудительность не была направлена на поступки, в ней все-таки была бы нужда, потому что она является добродетелью одной из частей души и потому, что как без рассудительности, так и без добродетели сознательный выбор не будет правильным, ибо вторая создает цель, а первая позволяет совершать поступки, ведущие к цели. Но рассудительность все же не главнее мудрости и лучшей части души, так же как врачевание не главнее здоровья, ибо рассудительность не пользуется мудростью, но только следит, чтобы мудрость возникала [и развивалась]. А потому предписания рассудительности — это предписания ради мудрости, но не ей [самой]. Добавим к этому: сказать, [что рассудительность главенствует над мудростью],—это все равно что сказать, будто наука о государстве начальствует над богами, так как она предписывает все, что имеет отношение к государству. *** Метафизика Аристотель. Метафизика// Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 1, - М.: Мысль, 1975. КНИГА ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Все люди от природы стремятся к знанию. Доказательство тому - влечение к чувственным восприятиям: ведь независимо от того, есть от них польза или нет, их ценят ради них самих, и больше всех зрительные восприятия, ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям, не только ради того, чтобы действовать, но и тогда, когда мы не собираемся что-либо делать. И причина этого в том, что зрение больше всех других чувств содействует нашему познанию и обнаруживает много различий [в вещах]. Способностью к чувственным восприятиям животные наделены от природы, а на почве чувственного восприятия у одних не возникает память, а у других возникает. И поэтому животные, обладающие памятью, более сообразительны и более понятливы, нежели те, у которых нет способности помнить; причем сообразительны, но не могут научиться все, кто не в состоянии слышать звуки, как, например, пчела и кое-кто еще из такого рода животных; научиться же способны те, кто помимо памяти обладает еще и слухом. Другие животные пользуются в своей жизни представлениями и воспоминаниями, а опыту причастны мало; человеческий же род пользуется в своей жизни также искусством и рассуждениями. Появляется опыт у людей благодаря памяти; а именно многие воспоминания об одном и том же предмете приобретают значение одного опыта. И опыт кажется почти одинаковым с наукой и искусством. А наука и искусство возникают у людей через опыт. Ибо опыт создал искусство, как говорит Пол, - и правильно говорит, - а неопытность - случай. Появляется же искусство тогда, когда на основе приобретенных на опыте мыслей образуется один общий взгляд на сходные предметы. Так, например, считать, что Каллию при такой-то болезни помогло такое-то средство и оно же помогло Сократу и также в отдельности многим, - это дело опыта; а определить, что это средство при такой-то болезни помогает всем такимто и таким-то людям одного какого-то склада [например, вялым или желчным при сильной лихорадке), - это дело искусства. В отношении деятельности опыт, по-видимому, ничем не отличается от искусства; мало того, мы видим, что имеющие опыт преуспевают больше, нежели те, кто обладает отвлеченным знанием, но не имеет опыта. Причина этого в том, что опыт есть знание единичного, а искусство - знание общего, всякое же действие и всякое изготовление относится к единичному: ведь врачующий лечит не человека [вообще], разве лишь привходящим образом, а Каллия или Сократа или кого-то другого из тех, кто носит какое-то имя, - для кого быть человеком есть нечто привходящее. Поэтому если кто обладает отвлеченным знанием, а опыта не имеет и познает общее, но содержащегося в нем единичного не знает, то он часто ошибается в лечении, ибо лечить приходится единичное. Но все же мы полагаем, что знание и понимание относятся больше к искусству, чем к опыту, и считаем владеющих каким-то искусством более мудрыми, чем имеющих опыт, ибо мудрость у каждого больше зависит от знания, и это потому, что первые знают причину, а вторые нет. В самом деле, имеющие опыт знают "что", но не знают "почему"; владеющие же искусством знают "почему", т. е. знают причину. Поэтому мы и наставников в каждом деле почитаем больше, полагая, что они больше знают, чем ремесленники, и мудрее их, так как они знают причины того, что создается.<А ремесленники подобны некоторым неодушевленным предметам: хотя они и делают то или другое, но делают это, сами того не зная [как, например, огонь, который жжет); неодушевленные предметы в каждом таком случае действуют в силу своей природы, а ремесленники - по привычке>. Таким образом, наставники более мудры не благодаря умению действовать, а потому, что они обладают отвлеченным знанием и знают причины. Вообще признак знатока - способность научить, а потому мы считаем, что искусство в большей мере знание, нежели опыт, ибо владеющие искусством способны научить, а имеющие опыт не способны. Далее, они одно из чувственных восприятий мы не считаем мудростью, хотя они и дают важнейшие знания о единичном, но они ни относительно чего не указывают "почему", например почему огонь горяч, а указывают лишь, что он горяч. Естественно поэтому, что тот, кто сверх обычных чувственных восприятий первый изобрел какое-то искусство, вызвал у людей удивление не только из-за какой-то пользы его изобретения, но и как человек мудрый и превосходящий других. А после того как было открыто больше искусств, одни - для удовлетворения необходимых потребностей, другие для времяпрепровождения, изобретателей последних мы всегда считаем более мудрыми, нежели изобретателей первых, так как их знания были обращены не на получение выгоды. Поэтому, когда все такие искусства были созданы, тогда были приобретены знания не для удовольствия и не для удовлетворения необходимых потребностей, и прежде всего в тех местностях, где люди имели досуг. Поэтому математические искусства были созданы прежде всего в Египте, ибо там было предоставлено жрецам время для досуга. В "Этике" уже было сказано, в чем разница между искусством, наукой и всем остальным, относящимся к тому же роду; а цель рассуждения - показать теперь, что так называемая мудрость, по общему мнению, занимается первыми причинами и началами. Поэтому, как уже было сказано ранее, человек, имеющий опыт, считается более мудрым, нежели те, кто имеет [лишь] чувственные восприятия, а владеющий искусством - более мудрым, нежели имеющий опыт, наставник - более мудрым, нежели ремесленник, а науки об умозрительном - выше искусств творения. Таким образом, ясно, что мудрость есть наука об определенных причинах и началах. ГЛАВА ВТОРАЯ Так как мы ищем именно эту науку, то следует рассмотреть, каковы те причины и начала, наука о которых есть мудрость. Если рассмотреть те мнения, какие мы имеем о мудром, то, быть может, достигнем здесь больше ясности. Во-первых, мы предполагаем, что мудрый, насколько это возможно, знает все, хотя он и не имеет знания о каждом предмете в отдельности. Во- вторых, мы считаем мудрым того, кто способен познать трудное и нелегко постижимое для человека [ведь воспринимание чувствами свойственно всем, а потому это легко и ничего мудрого в этом нет). В-третьих, мы считаем, что более мудр во всякой науке тот, кто более точен и более способен научить выявлению причин, и, [в-четвертых], что из наук в большей мере мудрость та, которая желательна ради нее самой и для познания, нежели та, которая желательна ради извлекаемой из нее пользы, а [в-пятых], та, которая главенствует, - в большей мере, чем вспомогательная, ибо мудрому надлежит не получать наставления, а наставлять, и не он должен повиноваться другому, а ему - тот, кто менее мудр. Вот каковы мнения и вот сколько мы их имеем о мудрости и мудрых. Из указанного здесь знание обо всем необходимо имеет тот, кто в наибольшей мере обладает знанием общего, ибо в некотором смысле он знает все подпадающее под общее. Но пожалуй, труднее всего для человека познать именно это, наиболее общее, ибо оно дальше всего от чувственных восприятий. А наиболее строги те науки, которые больше всего занимаются первыми началами: ведь те, которые исходят из меньшего числа [предпосылок], более строги, нежели те, которые приобретаются на основе прибавления [например, арифметика более строга, чем геометрия). Но и научить более способна та наука, которая исследует причины, ибо научают те, кто указывает причины для каждой вещи. А знание и понимание ради самого знания и понимания более всего присущи науке о том, что наиболее достойно познания, ибо тот, кто предпочитает знание ради знания, больше всего предпочтет науку наиболее совершенную, а такова наука о наиболее достойном познания. А наиболее достойны познания первоначала и причины, ибо через них и на их основе познается все остальное, а не они через то, что им подчинено. И наука, в наибольшей мере главенствующая и главнее вспомогательной, - та, которая познает цель, ради которой надлежит действовать в каждом отдельном случае; эта цель есть в каждом отдельном случае то или иное благо, а во всей природе вообще - наилучшее. Итак, из всего сказанного следует, что имя [мудрости] необходимо отнести к одной и той же науке: это должна быть наука, исследующая первые начала и причины: ведь и благо, и "то, ради чего" есть один из видов причин. А что это не искусство творения, объяснили уже первые философы. Ибо и теперь и прежде удивление побуждает людей философствовать, причем вначале они удивлялись тому, чти непосредственно вызывало недоумение, а затем, мало-помалу продвигаясь таким образом далее, они задавались вопросом о более значительном, например о смене положения Луны, Солнца и звезд, а также о происхождении Вселенной. Но недоумевающий и удивляющийся считает себя незнающим (поэтому и тот, кто любит мифы, есть в некотором смысле философ, ибо миф создается на основе удивительного). Если, таким образом, начали философствовать, чтобы избавиться от незнания, то, очевидно, к знанию стали стремиться ради понимания, а не ради какой-нибудь пользы. Сам ход вещей подтверждает это; а именно: когда оказалось в наличии почти все необходимое, равно как и то, что облегчает жизнь и доставляет удовольствие, тогда стали искать такого рода разумение. Ясно поэтому, что мы не ищем его ни для какой другой надобности. И так же как свободным называем того человека, который живет ради самого себя, а не для другого, точно так же и эта наука единственно свободная, ибо она одна существует ради самой себя. Поэтому и обладание ею можно бы по справедливости считать выше человеческих возможностей, ибо во многих отношениях природа людей рабская, так, что, по словам Симонида бог один иметь лишь мог бы этот дар", человеку же не подобает искать несоразмерного ему знания. Так вот, если поэты говорят правду и если зависть - в природе божества, то естественнее всего ей проявляться в этом случае, и несчастны должны бы быть все, кто неумерен. Но не может божество быть завистливым (впрочем, и по пословице "лгут много песнопевцы"), и не следует какую-либо другую науку считать более ценимой, чем эту. Ибо наиболее божественная наука также и наиболее ценима. А таковой может быть только одна эта - в двояком смысле. А именно: божественна та из наук, которой скорее всего мог бы обладать бог, и точно так же божественной была бы всякая наука о божественном. И только к одной лишь искомой нами науке подходит и то и другое. Бог, по общему мнению, принадлежит к причинам и есть некое начало, и такая наука могла бы быть или только или больше всего у бога. Таким образом, все другие науки более необходимы, нежели она, но лучше - нет ни одной. Вместе с тем овладение этой наукой должно некоторым образом привести к тому, что противоположно на шим первоначальным исканиям. Как мы говорили, все начинают с удивления, обстоит ли дело таким именно образом, как удивляются, например, загадочным самодвижущимся игрушкам, или солнцеворотам, или несоизмеримости диагонали, ибо всем, кто еще не усмотрен причину, кажется удивительным, если что-то нельзя измерить самой малой мерой. А под конец нужно прийти к противоположному - и к лучшему, как говорится в пословице, - как и в приведенных случаях, когда в них разберутся: ведь ничему бы так не удивился человек, сведущий в геометрии, как если бы диагональ оказалась соизмеримой. Итак, сказано, какова природа искомой науки и какова цель, к которой должны привести поиски ее и все вообще исследование. ГЛАВА ТРЕТЬЯ Совершенно очевидно, что необходимо приобрести знание о первых причинах: ведь мы говорим, что тогда знаем в каждом отдельном случае, когда полагаем, что нам известна первая причина. А о причинах говорится в четырех значениях: одной такой причиной мы считаем сущность, или суть бытия вещи [ведь каждое "почему" сводится в конечном счете к определению вещи, а первое "почему" и есть причина и начало); другой причиной мы считаем материю, или субстрат [hypokeitmenon); третьей-то, откуда начало движения; четвертой - причину, противолежащую последней, а именно "то, ради чего", или благо [ибо благо есть цель всякого возникновения и движения). Итак, хотя эти причины в достаточной мере рассмотрены у нас в сочинении о природе все же привлечем также и тех, кто раньше нас обратился к исследованию существующего и размышлял об истине. Ведь ясно, что и они говорят о некоторых началах и причинах. Поэтому, если мы разберем эти начала и причины, то это будет иметь некоторую пользу для настоящего исследования; в самом деле, или мы найдем какой-нибудь другой род причин, или еще больше будем убеждены в истинности тех, о которых говорим теперь. Так вот, большинство первых философов считало началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего как первого они возникают и во что как в последнее они, погибая, превращаются, причем сущность хотя и остается, но изменяется в своих проявлениях, - это они считают элементом и началом вещей. И потому они полагают, что ничто не возникает и не исчезает, ибо такое естество [physis) всегда сохраняется; подобно тому как и про Сократа мы не говорим, что он вообще становится, когда становится прекрасным или образованным, или что он погибает, когда утрачивает эти свойства, так как остается субстрат - сам Сократ, точно так же, говорят они, не возникает и не исчезает все остальное, ибо должно быть некоторое естество - или одно, или больше одного, откуда возникает все остальное, в то время как само это естество сохраняется. Относительно количества и вида такого начала не все учили одинаково. Фалес основатель такого рода философии-утверждал, что начало-вода (потому он и заявлял, что земля находится на воде); к этому предположению он, быть может, пришел, видя, что пища всех существ влажная и что само тепло возникает из влаги и ею живет (а то, из чего все возникаете - это и есть начало всего). Таким образом, он именно поэтому пришел к своему предположению, равно как потому, что семена всего по природе влажны, а начало природы влажного - вода. Некоторые же полагают, что и древнейшие, жившие задолго до нынешнего поколения и первые писавшие о богах, держались именно таких взглядов на природу: Океан и Тефию они считали творцами возникновения, а боги, по их мнению, клялись водой, названной самими поэтами Стиксом, ибо наиболее почитаемое - древнейшее, а то, чем клянутся, наиболее почитаемое. Но действительно ли это мнение о природе исконное и древнее, это, может быть, и недостоверно, во всяком случае о Фалесе говорят, что он именно так высказался о первой причине [что касается Гиппона, то его, пожалуй, не всякий согласится поставить рядом с этими философами ввиду скудости его мыслей). Анаксимен же и Диогена считают, что воздух первое [proteron) воды, и из простых тел преимущественно его принимают за начало; а Гиппас из Метапонта и Гераклит из Эфесаогонь, Эмпедокл же - четыре элемента, прибавляя к названным землю как четвертое. Эти элементы, по его мнению, всегда сохраняются и не возникают, а в большом или малом количестве соединяются в одно или разъединяются из одного. А Анаксагор из Клазомен, будучи старше Эмпедокла, но написавший свои сочинения позже его, утверждает, что начал бесконечно много: по его словам, почти все гомеомерии, так же как вода или огонь, возникают и уничтожаются именно таким путем - только через соединение и разъединение, а иначе не возникают и не уничтожаются, а пребывают вечно. Исходя из этого за единственную причину можно было бы признать так называемую материальную причину. Но по мере продвижения их в этом направлении сама суть дела указала им путь и заставила их искать дальше. Действительно, пусть всякое возникновение и уничтожение непременно исходит из чего-то одного или из большего числа начал, но почему это происходит и что причина этого? Ведь как бы то ни было, не сам же субстрат вызывает собственную перемену; я разумею, что, например, не дерево и не медь - причина изменения самих себя, и не дерево делает ложе, и не медь - изваяние, а нечто другое есть причина изменения. А искать эту причину-значит искать некое иное начало, [а именно], как мы бы сказали, то, откуда начало движения. Так вот, те, кто с самого начала взялся за подобное исследование и заявил, что субстрат один, не испытывали никакого недовольства собой, но во всяком случае некоторые из тех, кто признавал один субстрат, как бы под давлением этого исследования объявляли единое неподвижным, как и всю природу, не только в отношении возникновения и уничтожения [это древнее учение, и все с ним соглашались), но и в отношении всякого другого рода изменения; и этим их мнение отличается от других. Таким образом, из тех, кто провозглашал мировое целoe единым, никому не удалось усмотреть указанную причину, разве что Пармениду, да и ему постольку, поскольку он полагает не только одну, но в некотором смысле две причины. Те же, кто признает множество причин, скорее могут об этом говорить, например те, кто признает началами теплое и холодное или огонь и землю: они рассматривают огонь как обладающий двигательной природой, а воду, землю и тому подобное - как противоположное ему. После этих философов с их началами, так как эти начала были недостаточны, чтобы вывести из них природу существующего, сама истина, как мы сказали, побудила искать дальнейшее начало. Что одни вещи бывают, а другие становятся хорошими и прекрасными, причиной этого не может, естественно, быть ни огонь, ни земля, ни что-либо другое в этом роде, да так они и не думали; но столь же неверно было бы предоставлять такое дело случаю и простому стечению обстоятельств. Поэтому тот, кто сказал, что ум находится, так же как в живых существах, и в природе и что он причина миропорядка и всего мироустройства, казался рассудительным по сравнению с необдуманными рассуждениями его предшественников. Мы знаем, что Анаксагор высказал такие мысли, но имеется основание считать, что до него об этом сказал Гермотим из Клазомен. Те, кто придерживался такого взгляда, в то же время признали причину совершенства [в вещах] первоначалом существующего, и притом таким, от которого существующее получает движение. КНИГА ШЕСТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ То, что мы ищем, - это начала и причины существующего, притом, конечно, поскольку оно существующее. А именно: имеется некоторая причина здоровья и хорошего самочувствия, а также начала, элементы и причины математических предметов, и вообще всякое знание, основанное на рассуждениях или каким-то образом причастное рассуждению, имеет своим предметом более или менее точно определенные причины и начала. Но всякое такое знание имеет дело с одним определенным сущим и одним определенным родом, которым оно ограничивается, а не с сущим вообще и не поскольку оно сущее, и не дает никакого обоснования для сути предмета, а исходит из нее: в одном случае показывая ее с помощью чувственного восприятия, в другом-принимая ее как предпосылку, оно с большей или меньшей строгостью доказывает то, что само по себе присуще тому роду, с которым имеет дело. А потому ясно, что на основе такого рода наведения получается не доказательство сущности или сути предмета, а некоторый другой способ их показа; и точно так же такие знания ничего не говорят о том, существует ли или не существует тот род, с которым они имеют дело, ибо одна и та же деятельность рассуждения должна выяснить, что есть предмет и есть ли он. Так как учение о природе также имеет теперь дело с некоторым родом сущего, а именно с такой сущностью, которая имеет начало движения и покоя в самой себе, то ясно, что оно учение не о деятельности и не о творчестве (ведь творческое начало находится в творящем, будь то ум, искусство или некоторая способность, а деятельное начало - в деятеле как его решение, ибо сделанное и решенное-это одно и то же); поэтому если всякое рассуждение направлено либо на деятельность или на творчество, либо на умозрительное, то учение о природе должно быть умозрительным, но умозрительным знанием лишь о таком сущем, которое способно двигаться, и о выраженной в определении (kata ton logon) сущности, которая по большей части не существует отдельно [от материи]. Не должно остаться незамеченным, каковы суть бытия вещи и ее определение, ибо исследовать без них это все равно что не делать ничего. Из определяемых предметов и их сути одни можно сравнить с "курносым", другие - с "вогнутым": они отличаются друг от друга тем, что "курносое" есть нечто соединенное с материей (ведь "курносое" -это "вогнутый" нос), а вогнутость имеется без чувственно воспринимаемой материи. Так вот, если о всех природных вещах говорится в таком же смысле, как о курносом, например: о носе, глазах, лице, плоти, кости, живом существе вообще, о листе, корне, коре, растении вообще (ведь определение ни одной из них невозможно, если не принимать во внимание движение; они всегда имеют материю), то ясно, как нужно, когда дело идет об этих природных вещах, искать и определять их суть и почему исследование души также отчасти относится к познанию природы, а именно постольку, поскольку душа не существует без материи. Что учение о природе, таким образом, есть учение умозрительное, это очевидно из сказанного. Но и математика - умозрительная наука. А есть ли она наука о неподвижном и существующем отдельно, это сейчас не ясно, однако ясно, что некоторые математические науки рассматривают свои предметы как неподвижные и как существующие отдельно. А если есть нечто вечное, неподвижное и существующее отдельно, то его, очевидно, должна познать наука умозрительная, однако оно должно быть предметом не учения о природе (ибо последнее имеет дело с чем-то подвижным) и не математика, а наука, которая первее обоих. В самом деле, учение о природе занимается предметами, существующими самостоятельно, но не неподвижными; некоторые части математики исследуют хотя и неподвижное, однако, пожалуй, существующее не самостоятельно, а как относящееся к материи; первая же философия исследует самостоятельно существующее и неподвижное. А все причины должны быть вечными, особенно же эти, ибо они причины тех божественных предметов которые нам являются. Таким образом, имеются три умозрительных учения: математика, учение о природе, учение о божественном (совершенно очевидно, что если где-то существует божественное, то ему присуща именно такая природа), и достойнейшее знание должно иметь своим предметом достойнейший род [сущего]. Так вот, умозрительные науки предпочтительнее всех остальных, а учение о божественном предпочтительнее других умозрительных наук. В самом деле, мог бы возникнуть вопрос, занимается ли первая философия общим или каким-нибудь одним родом [сущего], т. е. какой-нибудь одной сущностью (physis): ведь неодинаково обстоит дело и в математических науках: геометрия и учение о небесных светилах занимаются каждая определенной сущностью (physis), а общая математика простирается на все. Если пет какой-либо другой сущности (oysia), кроме созданных природой, то первым учением было бы учение о природе. Но если есть некоторая неподвижная сущность, то она Первее и учение о ней составляет первую философию, притом оно общее [знание] в том смысле, что оно первое. Именно первой философии надлежит исследовать сущее как сущее что оно такое и каково все присущее ему как сущему. . ГЛАВА ВТОРАЯ А так как о сущем вообще говорится в различных значениях, из которых одно, как было сказано, - это сущее в смысле привходящего, другое - сущее в смысле истины (и несущее в смысле ложного), а кроме того, разные виды категорий, как, например, суть вещи, качество, количество, "где", "когда" и еще что-нибудь, что может быть обозначено этим способом, а затем, помимо этого, сущее в возможности и сущее в действительности, - то прежде всего следует сказать о сущем в смысле привходящего, что о нем нет никакого учения. Доказательство тому-то, что никакому учению нет дела до него: ни учению о деятельности, ни учению о творчестве, ни учению об умозрительном. В самом деле, и тот, кто строит дом, не строит того, что привходящим образом получается вместе с возникновением дома (ведь такого - бесчисленное множество: ничто не мешает, чтобы построенный дом для одних был приятен, для других - вреден, для третьих - полезен и чтобы он был отличен от всех, можно сказать, существующих вещей; ни с чем из всего этого домостроительное искусство не имеет дела); равным образом геометр не рассматривает такого привходящего у фигур и не спрашивает, отличаются ли между собой "треугольник" и "треугольник, углы которого [в совокупности] равны двум прямым". И это имеет разумное основание: ведь привходящее есть как бы одно лишь наименование. Поэтому Платон был до известной степени прав, когда указывал, что не-сущее - это область софистики. В самом деле, рассуждения софистов, можно сказать, больше всего другого имеют дело с привходящим, например: рассуждение о том, разное ли или одно и то же образованность в искусстве и знание языка, точно так же, разное ли или одно и то же образованный Кориск и Кориск и можно ли обо всем, что существует, но существует не всегда, сказать, что оно стало, так что если человек, будучи образованным в искусстве, стал сведущим в языке, то значит, он, будучи сведущим в языке, стал образованным в искусстве, и другие тому подобные рассуждения. А ведь очевидно, что привходящее есть нечто близкое к не-сущему. И это ясно и из таких рассуждений: у того, что существует иным образом, имеет место и возникновение и уничтожение, а у того, что есть привходящим образом, того и другого нет. Но все же необходимо еще сказать о привходящем, насколько это возможно, какова его природа и по какой причине оно есть, так как вместе с этим станет, может быть, ясно и то, почему нет науки о нем. И вот, так как с одним из существующего дело обстоит одинаково всегда и по необходимости (это необходимость не в смысле насилия, а в смысле того, что иначе быть не может), с другим же не по необходимости и не всегда, а большей частью, - то это начало и это причина того, что существует привходящее, ибо то, что существует не всегда и не большей частью, мы называем случайным, или привходящим. Так, если в летнее время наступит ненастье и холод, мы скажем, что это произошло случайно, а не тогда, когда наступает зной и жара, потому что последнее бывает [летом] всегда или в большинстве случаев, а первое нет. И что человек бледен - это нечто привходящее (ведь этого не бывает ни всегда, ни в большинстве случаев), живое же существо человек есть не привходящим образом. И то, что строитель лечит, это нечто привходящее, потому что это естественно делать не строителю, а врачевателю, строитель же случайно оказался врачевателем. И искусный повар, стремясь к тому, чтобы доставить удовольствие, может приготовить нечто полезное для здоровья, но не через поваренное искусство; поэтому мы говорим, что это получилось привходящим образом, и в каком-то смысле он это делает, но не прямо. В самом деле, для других вещей имеются причины и способности, которые их создают, а для привходящего никакого определенного искусства и способности нет, ибо причина существующего или становящегося привходящим образом также есть нечто привходящее. Стало быть, так как не все существует или становится необходимым образом и всегда, а большинство - большей частью, то необходимо должно быть нечто привходящим образом сущее; так, например, бледный не всегда и не в большинстве случаев образован; и если он в том или другом случае становится таковым, то это будет привходящим образом (иначе же все было бы по необходимости); так что причиной привходящего будет материя, могущая быть иначе, чем она бывает большей частью. Прежде всего надо выяснить, действительно ли нет ничего, что не существует ни всегда, ни большей частью, или же это невозможно. В самом же деле помимо этого есть нечто, что может быть и так и иначе, т.е. привходящее. А имеется ли [лишь] то, что бывает в большинстве случаев, и ничто не существует всегда, или же есть нечто вечное - это должно быть рассмотрено позже, а что нет науки о привходящем это очевидно, ибо всякая наука - о том, что есть всегда, или о том, что бывает большей частью. В самом деле, как же иначе человек будет чему-то учиться или учить другого? Ведь оно должно быть определено как бывающее всегда или большей частью, например, что медовая смесь полезна больному лихорадкой в большинстве случаев. А что касается того, что идет вразрез с этим, то нельзя будет указать, когда же от медовой смеси пользы не будет, например в новолуние, но тогда и "в новолуние" означает нечто бывающее всегда или большей частью; между тем привходящее идет враз рез с этим. Таким образом, сказано, чти такое привходящее и по какой причине оно бывает, а также что науки о нем нет. ГЛАВА ТРЕТЬЯ Что имеются начала и причины, возникающие и уничтожающиеся без [необходимого] возникновения и уничтожения, - это очевидно. Ведь иначе все существовало бы по необходимости, раз у того, что возникаем и уничтожается, необходимо должна быть какаянибудь непривходящая причина. В самом деле, будет ли вот это или нет? Будет, если только произойдет вот это другое; если же не произойдет, то нет. А это другое произойдет, если произойдет третье. И таким образом ясно, что, постоянно отнимая у ограниченного промежутка времени все новые части времени, мы дойдем до настоящего времени. Так что такой-то человек? умрет - от болезни или же насильственной смертью если выйдет из дому; а выйдет он, если будет томиться жаждой; а это будет, если будет другое; и таким образом дойдут до того, что происходит теперь, или до чего-то уже происшедшего. Например, это произойдет. если он будет томиться жаждой; а это будет, если он ест нечто острое; а это или происходит, или нет; так что он необходимым образом умрет или не умрет. Точно так же обстоит дело, если перейти к прошлым событиям. Ведь это - я имею в виду происшедшееуже в чем-то наличествует. Следовательно, все, что произойдет, произойдет необходимым образом, например смерть живущего, ибо что-то [для этого] уже возникло например наличествуют противоположности в том же теле. Но умрет ли он от болезни или насильственное смертью - это еще неизвестно; это зависит от того, произойдет ли "вот это". Ясно, таким образом, что доходят до какого-то начала, а оно до чего-то другого уже нет. Поэтому оно будет началом того, что могло быть и так и иначе, и для его возникновения нет никакой другой причины. Но к какого рода началу и к какого рода причине восходит здесь [привходящее] - к материи ли, целевой причине, или движущей причине,-это надо рассмотреть особенно. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Оставим теперь вопрос о том, что существует как привходящее, ибо оно определено в достаточной мере. Что же касается сущего в смысле истинного и во-сущего в смысле ложного, то оно зависит от связывания и разъединения, а истинное и ложное вместе - от разграничения членов противоречия, а именно: истинно утверждение относительно того, что на деле связано, и отрицание относительно того, что на деле разъединено; а ложно то, что противоречит этому разграничению; как оказывается возможным "мыслить вместе" или "мыслить отдельно" - это другой вопрос, а под "вместе" и "отдельно" я разумею не то, что возникает последовательность, а то, что возникает некоторое единство. Ведь ложное и истинное не находятся в вещах, так чтобы благо, например, было истинным, а зло непременно ложным, а имеются в [рассуждающей] мысли, в отношении же простого и его сути - даже и не в мысли. Так вот, что должно исследовать относительно сущего и не-сущего в этом смысле, - это надо разобрать в дальнейшем. А так как связывание и разъединение находится в мысли, но не в вещах, а сущее в смысле истинного отлично от сущего в собственном смысле (ведь мысль связывает или отделяет либо суть вещи, либо качество, либо количество, либо еще что- нибудь подобное), то сущее в смысле привходящего и в смысле истинного надо теперь оставить, ибо причина первого неопределенна, а причина второго - некоторое состояние мысли, и как то, так и другое касаются остающегося рода сущего и не выражают ничего такого, чего уже не было бы в природе сущего. Поэтому мы их и оставим, рассмотреть же следует причины и начала самого сущего как такового, <а из того, что было установлено нами относительно многозначности каждого [выражения], ясно, что о сущем говорится в различных смыслах>. КНИГА 11 ГЛАВА СЕДЬМАЯ Всякая наука ищет некоторые начала и причины для всякого относящегося к ней предмета, например врачебное искусство и гимнастическое, и каждая из остальных наук - и науки о творчестве, и науки математические. Каждая из них, ограничиваясь определенным родом, занимается им как чем-то наличным и сущим, но не поскольку он сущее; а сущим как таковым занимается некоторая другая наука, помимо этих наук. Что же касается названных наук, то каждая из них, постигая так или иначе суть предмета, пытается в каждом роде более или менее строго доказать остальное. А постигают суть предмета одни пауки с помощью чувственного восприятия, другие - принимая ее как предпосылку. Поэтому из такого рода паведения ясно также, что относительно сущности и сути предмета нет доказательства. А так как есть учение о природе, то ясно, что оно будет отлично и от науки о деятельности, и от науки о творчестве. Для науки о творчестве начало движения в том, кто создает, а не в том, что создается, и это или искусство, или какая-либо другая способность. И подобным образом для пауки о деятельности движение происходит не в совершаемом действии, а скорее в тех, кто его совершает. Учение же о природе занимается тем, начало движения чего в нем самом. Таким образом, ясно, что учение о природе необходимо есть не наука о деятельности и не наука о творчестве, а наука умозрительная (ведь к какому-нибудь одному из этих родов паук она необходимо должна быть отнесена). А так как каждой из наук необходимо так или иначе знать суть предмета и рассматривать ее как начало, то не должно остаться незамеченным, как надлежит рассуждающему о природе давать свои определения и каким образом следует ему брать определение сущности вещи,- так ли, как "курносое" или скорее как "вогнутое". В самом деле, из них определение курносого обозначается в сочетании с материей предмета, а определение вогнутого - без материи. Ибо курносость бывает у носа, потому и мысль о курносости связана с мыслью о носе: ведь курносое - это вогнутый нос. Очевидно поэтому, что и определение плоти, глаз и остальных частей тела надо всегда брать в сочетании с материей. А так как есть некоторая наука о сущем как таковом и как отдельно существующем, то следует рассмотреть, надлежит ли эту науку считать той же, что и учение о природе, или скорее другой. С одной стороны, предмет учения о природе - это то, что имеет начало движения в самом себе, с другой,- математика есть некоторая умозрительная наука и занимается предметами хотя и неизменными, однако не существующими отдельно. Следовательно, тем, что существует отдельно и что неподвижно, занимается некоторая наука, отличная от этих обеих, если только существует такого рода сущность - я имею в виду существующую отдельно и неподвижную, что мы попытаемся показать. И если среди существующего есть такого рода сущность, то здесь так или иначе должно быть и божественное, и оно будет первое и самое главное начало. Поэтому ясно, что есть три рода умозрительных наук: учение о природе, математика и наука о божественном. Именно род умозрительных наук - высший, а из них - указанная в конце, ибо она занимается наиболее почитаемым из всего сущего; а выше и ниже каждая наука ставится в зависимости от [ценности] предмета, который ею познается. И здесь могло бы возникнуть сомнение, следует ли науку о сущем как таковом считать общей наукой или нет. В самом деле, каждая из математических наук занимается одним определенным родом, а общая математика лежит в основе их всех. Если же природные 'сущности - первые среди сущего, то и учение о природе было бы первой среди наук. А если есть другое естество и сущность, отдельно существующая и неподвижная, то и наука о ней должна быть другая, она должна быть первее учения о природе и общей, потому что она первее. *** О небе Аристотель. // Аристотель. Сочинения. В 4-х т. Т. 3, - М.: Мысль, 1981. КНИГА ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Наука о природе изучает преимущественно тела и величины, их свойства и виды движения, а кроме того, начала такого рода бытия. Что очевидно, так как [все] существующее от природы подразделяется на тела и величины, то, что имеет тело и величину, [начала того, что имеет [тело и величину]. Непрерывное есть то, что делимо на части, всякий раз делимые снова. Тело — то, что делимо во всех измерениях. Величина, делимая в одном измерении, есть линия, в двух — плоскость, в трех — тело, и, кроме них, нет никакой другой величины, так как три [измерения] суть все [измерения] и [величина], которая [делима] в трех [измерениях, делима] во всех измерениях. Ибо, как говорят пифагорейцы, «целое» (to pan) и «все» (ta panta) определяются через число три: начало, середина и конец составляют число целого, и при этом троицу. Вот почему, переняв у природы, так сказать, ее законы, мы пользуемся этим числом при богослужениях. Сообразно с этим мы употребляем и обозначения [количества]: два [предмета] мы называем «оба» и двоих [человек] —«обоими», а «всеми» не называем, и лишь о трех [вещах] мы впервые утвердительно высказываем этот предикат. В этом, как уже сказано, нами предводительствует сама природа, и мы следуем за ней. Поскольку же [предикаты] «все», «целое» и «законченное» не различаются между собой по значению, а разве только по субъекту, в отношении того, о чем они предицируются, то тело — единственная законченная величина, ибо одно только оно определяется через число три, а «три» равнозначно «целому». Будучи делимо в трех измерениях, оно тем самым делимо во всех, в то время как из остальных [величин] одна делима в одном измерении, другая — в двух, ибо каково число [измерений] каждой величины, таковы и делимость и непрерывность; одна непрерывна в одном измерении, другая — в двух, третья — во всех. Таким образом, все делимые величины непрерывны, А вот делимы ли и все непрерывные — это из сказанного сейчас пока не ясно. Ясно, однако же, то, что переход [от тела] в другой род [величины], подобный переходу от длины к поверхности или от поверхности к телу, невозможен. В противном случае, тело уже не было бы законченной величиной, ибо восполнение (ekbasis) может происходить только в силу недостатка, но законченная [величина] не может иметь недостатка, поскольку она [протяжена] во всех измерениях. Из тел, относящихся к разряду частей [мирового Целого], каждое, по определению, законченно, ибо имеет протяженность во всех измерениях. Однако [каждое] ограничено в направлении соседнего с ним [тела] касанием, и потому каждое из [этих] тел в каком-то смысле ущербно. Между тем Целое (to pan), частями которого они являются, по необходимости должно быть законченным и — как указывает его имя — всецело (pantei) законченным, а не так, чтобы в одном отношении законченным, в другом — нет. ГЛАВА ВТОРАЯ Вопрос о том, бесконечна ли Вселенная по величине, или же ее совокупный объем ограничен, рассмотрим потом. А сейчас скажем о различающихся по виду частях ее, взяв за отправной пункт следующие положения. Мы полагаем, что все природные тела и величины способны двигаться в пространстве сами по себе, поскольку природа, как мы утверждаем, есть источник их движения. Всякое движение в пространстве (которое мы называем перемещением) — [движение] либо прямолинейное, либо по кругу, либо образованное их смешением, ибо простыми являются только эти два [движения] по той причине, что и среди величин простые также только эти: прямая и окружность. Движением по кругу называется движение вокруг центра, прямолинейным — движение вверх и вниз. Под движением вверх я понимаю движение от центра, под движением вниз — движение к центру. Поэтому всякое простое перемещение по необходимости должно быть [перемещением] либо от центра, либо к центру, либо вокруг центра. И надо полагать, что это логически вытекает из того, что было сказано вначале: как тело получило законченность в троице, так и его движение. Тела делятся на простые и составленные из простых (под простыми я понимаю все тела, которые содержат в себе источник естественного движения, как-то: огонь и землю, а также их разновидности и то, что им родственно). Поэтому движения также должны делиться на простые и тем или иным образом смешанные, причем простые [движения] должны принадлежать простым [телам], смешанные — составным, и [в последнем случае] характер движения должен определяться тем [простым телом], которое преобладает [в составном]. Стало быть, коль скоро существует простое движение, движение по кругу простое, у простого тела движение простое и, наоборот, простое движение принадлежит простому телу (в случае если оно принадлежит составному, движение будет определяться преобладающим [в составном теле простым]), то тогда по необходимости должно существовать некое простое тело, которому свойственно двигаться по кругу в соответствии с его собственной природой. Насильственно оно может двигаться движением и другого, отличного [от него тела], но по своей природе не может, коль скоро у каждого из простых тел только одно согласное с природой движение. Кроме того, если движение вопреки природе противоположно движению согласно природе и каждая вещь имеет одну противоположность, то движение по кругу, поскольку оно простое, по необходимости должно быть для движущегося [по кругу] тела движением вопреки природе, в случае если оно не будет для него движением согласно природе. Следовательно, если тело, движущееся по кругу,— огонь или какое-нибудь другое тело того же рода, то его согласное с природой движение будет противоположно круговому. Но каждая вещь имеет одну противоположность, а движения вверх и вниз взаимно противоположны. Если же тело, движущееся по кругу вопреки своей природе,— нечто отличное [от четырех элементов], то у него окажется какое-то другое согласное с природой движение. Но это невозможно, так как если это движение вверх, то [круговращающееся тело] будет огнем или воздухом, а если вниз — то водой или землей. Далее, круговое движение по необходимости должно быть первичным. В самом деле, законченное по природе первично относительно незаконченного. Между тем круг — нечто законченное, чего нельзя сказать ни об одной прямой: ни о бесконечной (ибо, [если бы она была законченной], у нее были бы граница и конец), ни о какой бы то ни было конечной (ибо все они не доведены до конца, поскольку любую из них можно продлить). Следовательно, коль скоро: [1] первичное относительно других движение принадлежит первичному относительно других по природе телу, [2] движение по кругу первично относительно прямолинейного движения, [3] движение по прямой принадлежит простым телам (так, огонь по прямой движется вверх, а тела, состоящие из земли,— вниз, к центру), то и круговое движение также по необходимости должно принадлежать какому-то простому телу, поскольку движение смешанных тел, как мы сказали, определяется преобладающим в смеси простых. Из сказанного с очевидностью следует, что существует некая телесная субстанция, отличная от здешних веществ, более божественная, чем они все, и первичная по отношению к ним всем. Но то же самое можно доказать и иначе. Если принять, что всякое движение либо естественно, либо противоестественно и что движение, которое противоестественно для одного [тела], естественно для другого (так, например, обстоит дело с движениями вверх и вниз: одно из них противоестественно для огня и естественно для земли, другое — наоборот), то отсюда следует, что и круговое движение, поскольку оно противоестественно для этих тел, по необходимости должно быть естественным движением какого-то другого тела. Кроме того, [есть еще одно доказательство]: если круговое движение естественно для какого-нибудь [тела], то ясно, что среди простых и первичных тел существует некое тело, которому свойственно двигаться по кругу согласно [своей] природе, точно так же как огню — вверх, а земле — вниз. Если же допустить, что то, что движется по кругу, обращаясь вокруг центра, движется так вопреки своей природе, то тогда поразительно и совершенно лишено разумного основания, что одно только это движение непрерывно и вечно, несмотря на то что оно противоестественно: наблюдение показывает, что в остальных случаях противное природе уничтожается скорее всего. Поэтому коль скоро тело, движущееся [по кругу],— огонь, как утверждают некоторые, то круговое движение для него ничуть не менее противоестественно, чем движение вниз: ведь мы же видим, что движение огня — [это движение] по прямой от центра. Умозаключая на основании всех этих [аргументов], можно, таким образом, убедиться в том, что помимо здешних и находящихся вокруг нас тел существует также некое иное, обособленное тело, имеющее настолько более ценную природу, [чем они], насколько дальше оно отстоит от здешнего мира. ГЛАВА ТРЕТЬЯ Поскольку сказанное отчасти постулировано, а отчасти доказано, то ясно, что не всякое тело имеет легкость или тяжесть. Впрочем, необходимо установить в качестве предпосылки [дальнейших рассуждений], что мы понимаем под тяжелым и легким, пока — в той мере, в какой этого достаточно для наших непосредственных нужд, а потом уже с большей обстоятельностью — когда будем исследовать сущность легкого и тяжелого. Тяжелым пусть будет то, что по природе движется к центру, легким — то, что от центра, самым тяжелым — то, что оседает во всех [телах], движущихся вниз, самым легким — то, что поднимается на поверхность всех [тел], движущихся вверх. Итак, всякое тело, движущееся вверх или вниз, по необходимости должно иметь либо легкость, либо тяжесть, либо и то и другое вместе (но только не по отношению к одному и тому же [телу]: тяжелыми и легкими [одновременно] тела бывают по отношению к разным [телам], как, например, вода тяжела по отношению к воздуху, но легка по отношению к земле). Однако тело, движущееся по кругу, не может иметь ни тяжести, ни легкости, ибо ни согласно природе, ни вопреки природе оно не может двигаться ни к центру, ни от центра. Согласным с природой движение по прямой для него не может быть потому, что у каждого из простых тел, [согласно исходной посылке], только одно [естественное] движение, и, следовательно, в таком случае оно окажется тождественным с одним из тел, движущихся прямолинейно. Если же допустить, что оно движется [по прямой] вопреки своей природе, то тогда — в случае если движение вниз для него противоестественно — движение вверх естественно, а если движение вверх противоестественно, то движение вниз естественно: ведь мы приняли [в качестве постулата], что если одно из противоположных движений для данного тела противоестественно, то другое естественно. А поскольку целое и часть при естественном движении движутся в одном направлении (например, вся земля и маленький комок), то отсюда следует, во-первых, что оно совершенно не имеет ни легкости, ни тяжести (ибо в противном случае оно могло бы, согласно своей собственной природе, двигаться либо к центру, либо от центра [что невозможно]), а во-вторых, что оно не может совершать движение в пространстве, будучи влекомо вверх или вниз, ибо оно не может двигаться иначе, [нежели по кругу], ни согласно природе, ни вопреки природе, и это относится как к нему [в целом], так и к его частям, поскольку и в отношении целого, и в отношении части имеет силу одно и то же рассуждение. Столь же логично будет считать его невозникшим, неуничтожимым и не подверженным ни росту, ни [качественному] изменению, так как [1] все возникающее возникает из [своей] противоположности и из некоторого субстрата и уничтожается — равным образом при наличии некоторого субстрата — под действием противоположности и переходя при этом в свою противоположность, о чем сказано в начальных исследованиях, [2] движения противоположностей также противоположны. Так вот, если у этого тела не может быть противоположности по той причине, что и круговому движению также никакое движение не противоположно, то, думается, природа поступила правильно, исключив из разряда противоположностей тело, которое [по ее замыслу] должно быть невозникшим и неуничтожимым: ведь возникновение и уничтожение [имеют место] в противоположностях. Далее, все, что растет (или убывает;, растет (или убывает) в результате прибавления сродного [вещества] и его [последующего] разложения в свою материю, но у нашего тела нет [материи], из которой оно возникло. А раз оно не подвержено росту и не уничтожается, то, продолжая ту же мысль, следует допустить, что оно не подвержено и инаковению. В самом деле, инаковение — это движение в отношении качества, а такие разновидности качества, как габитус и состояние, никогда не образуются без изменений в отношении страдательных свойств; пример тому — здоровье и болезнь. Между тем все природные тела, которые изменяются в отношении страдательных свойств, подвержены, как мы видим, и росту и убыли; пример тому — тела и части животных и растений, равно как и [тела и части] элементов. Следовательно, коль скоро круговращающееся тело не может испытывать ни роста, ни убыли, то логично, чтобы оно было и не подверженным инаковению. Итак, что первое из тел вечно и не испытывает ни роста, ни убыли, но является нестареющим, качественно не изменяемым и не подверженным воздействиям — это ясно из сказанного для всякого, кто считает верными [наши] исходные посылки. Судя по всему, [наша] теория подтверждает непосредственный [человеческий] опыт, а опыт — теорию. А именно, все люди имеют представление о богах, и при этом все, кто только верит в существование богов,— и варвары и эллины отводят самое верхнее место божеству, разумеется, потому, что они полагают, что бессмертное неразрывно связано с бессмертным; иначе, [по их мнению], и быть не может. Значит, если божество существует (а оно существует), то сказанное только что о первой телесной субстанции справедливо. В той мере, в какой можно положиться на человеческое свидетельство, этот вывод в достаточной степени подтверждается также и чувственным восприятием. Ибо согласно [историческим] преданиям, передававшимся из поколения в поколение, ни во всем высочайшем Небе, ни в какой-либо из его частей за все прошедшее время не наблюдалось никаких изменений. Судя по всему, и имя [первого тела], дошедшее от пращуров вплоть до нынешнего времени, говорит о том, что они держались [на этот счет] тех же воззрений, какие высказываем мы, ибо следует полагать, что одни и те же идеи приходят к нам снова не раз и не два, а бесконечное число раз. Именно поэтому, полагая, что первое тело отлично от земли, огня, воздуха и воды, они назвали самое верхнее место «эфиром» (aither), произведя наименование, которое они ему установили, от того, что оно «всегда бежит» (aei them) в продолжение вечного времени. (Что касается Анаксагора, то он употребляет это имя неправильно: он называет эфиром огонь.) Из сказанного ясно также и то, что число так называемых простых тел не может быть больше [указанного]: у простого тела движение по необходимости должно быть простым, а простыми движениями мы считаем только эти, по кругу и по прямой, подразделяя последнее на два вида — от центра и к центру. ГЛАВА СЕДЬМАЯ То, что бесконечного тела не существует, ясно как для умозаключающих на основании частных случаев вышеизложенным образом, так и для рассматривающих вопрос в общем виде, и причем [во втором случае это ясно] не только в силу аргументов, изложенных нами в трактате о началах (где уже был решен в общем виде вопрос, в каком смысле бесконечное существует и в каком — не существует), но также и благодаря другому способу [доказательства], который мы сейчас изложим. Вслед за тем надлежит рассмотреть вопрос: может ли вся телесная материя (soma) - хотя бы даже она и не была бесконечной - тем не менее быть столь велика, чтобы существовало несколько Небосводов Ибо не исключено, что кто-нибудь задаст нам такой вопрос: что мешает тому, чтобы по образу того космоса, в котором мы живем, существовали бы также и другие, числом большие одного, но не бесконечные? Но сначала скажем о бесконечном в общем виде. Итак, всякое тело по необходимости должно быть либо бесконечным, либо конечным, и если оно бесконечно—то либо всецело неподобочастным, либо подобочастным, и если неподобочастным — то либо состоящим из конечного числа видов, либо из бесконечного. Что из бесконечного числа видов оно состоять не может — очевидно, если нам позволят, чтобы наши исходные предпосылки оставались в силе. Ибо коль скоро число первых движений конечно, то и число видов простых тел по необходимости должно быть конечным, поскольку у простого тела движение простое, а число простых движений конечно; между тем всякое естественное тело должно иметь движение. Если же допустить, что бесконечное [тело] состоит из конечного числа [видов], то тогда и каждая из его частей непременно должна быть бесконечной; я разумею, например, воду или огонь. Но это невозможно, ибо доказано, что ни бесконечной тяжести, ни бесконечной легкости не существует. Кроме того, необходимо тогда, чтобы и занимаемые ими места также были бесконечны по величине, а значит, и движения всех [тел] были бы бесконечными. Но это невозможно, если мы признаем, что наши исходные предпосылки верны и что ни движущееся вниз не может двигаться до бесконечности, ни — на том же самом основании — движущееся вверх. Ибо и в категории качества, и в категории количества, и в категории места невозможно становиться тем, чем нельзя стать. То есть если невозможно [актуально] стать белым, или длиной в один локоть, или [находящимся] в Египте, то нельзя и становиться чем-либо из этого. Следовательно, невозможно и двигаться туда, куда ничто не может прибыть, сколько бы оно ни двигалось. Кроме того, даже если [элементы] рассеяны, сумма всех [частиц, например] огня, тем не менее могла бы быть бесконечной. Однако тело, по определению, есть то, что имеет протяжение во всех измерениях: как же тогда возможно существование множества неодинаковых тел, каждое из которых бесконечно? Ведь каждое из них должно быть бесконечным во всех измерениях! С другой стороны, бесконечное [тело] не может быть и всецело подобочастным. Вопервых, никакого другого движения, кроме указанных, не существует. Следовательно, оно будет иметь одно из них. А если так, то получится, что существует бесконечная тяжесть или [бесконечная] легкость. Точно так же не может (быть бесконечным) и тело, движущееся по кругу, ибо бесконечное не может двигаться по кругу; обратное утверждение ничем не отличается от утверждения, что небо бесконечно, а это, как уже доказано, невозможно. Мало того, бесконечное не может двигаться вообще: оно должно двигаться либо по природе, либо насильственно, и если насильственно, то, значит, у него есть и движение по природе, а тем самым и другое, равное ему по величине место, в которое оно переместится, а это невозможно. Что бесконечное вообще не может подвергнуться какому-нибудь воздействию со стороны конечного или произвести действие на конечное, очевидно из следующего. Пусть А будет бесконечное, В — конечное, Г — время, за которое оно произвело или претерпело какое-нибудь изменение. Допустим, что А было нагрето, или получило толчок, или подверглось еще какому-нибудь воздействию, или же претерпело изменение в каком бы то ни было отношении со стороны В за время Г. Пусть Д будет меньше, чем В; примем, что меньшая [величина] в равное время изменяет меньшую, и обозначим [величину], претерпевшую изменение под действием А, как Е. Тогда, как А относится к В, так Е будет относиться к некоторой конечной [величине]. Примем, что равная [величина] в равное время изменяет равную, меньшая в равное время — меньшую, большая — большую и что [претерпевшие изменение величины] относятся между собой в такой же точно пропорции, в какой большая [изменяющая величина] относится к меньшей. Следовательно, бесконечное не будет подвергнуто изменению никаким конечным ни за какое время, ибо за то же самое время другое, меньшее [тело] будет подвергнуто изменению со стороны меньшего и то, что будет ему пропорционально, будет конечным, так как между бесконечным и конечным нет никакой пропорции. Равным образом и бесконечное ни за какое время не подвергнет изменению конечное. Пусть А будет бесконечное, В — конечное, Г — время, за которое [происходит изменение]. А за время Г подвергнет изменению [тело] меньшее, чем В, скажем Z. Как все BZ относится к Z, так Е пусть относится к Д. Следовательно, Е подвергнет изменению В за время Г. Следовательно, бесконечное и конечное произведут изменение в равное время. Но это невозможно, так как, согласно исходной посылке, большее [должно производить изменение] за меньшее [время]. Какое бы [конечное] время мы ни взяли, результат всегда будет тем же, и, следовательно, не будет такого времени, за которое [бесконечное тело] произведет изменение. А между тем за бесконечное [время] нельзя ни произвести изменение, ни подвергнуться ему, так как оно не имеет конца, а действие и претерпевание имеют. Равным образом и бесконечное не может подвергнуться никакому действию со стороны бесконечного. Пусть А, равно как и В, будет бесконечное, а Г -время, за которое В подверглось воздействию со стороны А. Раз все В претерпело изменение, часть бесконечного, обозначенная Е, не могла претерпеть того же изменения в равное время, так как мы должны исходить из предпосылки, что меньшее подвергается [равному] изменению за меньшее [время]. Допустим, что Е подверглось изменению со стороны А за время Д. Как Д относится к Г, так Е — к некоторой конечной части [бесконечного] В. Стало быть, эта часть должна подвергнуться изменению со стороны А за время ГД, так как мы должны исходить из предпосылки, что большее и меньшее [количества] подвергаются воздействию одного и того же за большее и меньшее время при условии, что они разделены пропорционально времени. Следовательно, бесконечное не может подвергнуться изменению под действием конечного ни за какое конечное время. А значит — [только] за бесконечное. Однако бесконечное время не имеет окончания, а то, что уже претерпело изменение, имеет. Таким образом, если всякое чувственно-воспринимаемое тело обладает либо способностью действовать, либо способностью подвергаться действию, либо обеими, то бесконечное тело не может быть чувственно-воспринимаемым. А между тем все тела, находящиеся в пространстве, чувственно-воспринимаемы. Следовательно, вне неба не существует никакого бесконечного тела. В то же время [там не существует и тела, протяженного] до определенной границы. Следовательно, вне неба не существует вообще никакого тела. Ибо если [там есть] умопостигаемое [тело], то оно будет находиться в [определенном] месте, поскольку «вне» и «внутри» означают место. Тем самым оно будет чувственно-воспринимаемым. (Ничто не может быть чувственно-воспринимаемым иначе как в [определенном] месте.) Более диалектично можно аргументировать и так. Бесконечное подобочастное [тело] не может двигаться по кругу, так как у бесконечного нет центра, а то, что [движется] по кругу, движется вокруг центра. С другой стороны, бесконечное не может перемещаться и по прямой, так как [для этого] понадобится другое, равное [ему] по величине бесконечное место, в которое оно переместится по природе, и еще одно равное по величине — в которое вопреки природе. Кроме того, обладает ли оно прямолинейным движением но природе или движется насильственно — в обоих случаях движущая сила должна будет быть бесконечной, поскольку бесконечная [сила] принадлежит бесконечному [телу] и сила бесконечного [тела] бесконечна, и, следовательно, движущее также будет бесконечным (доказательство того, что ничто конечное не обладает бесконечной силой, равно как и ничто бесконечное — конечной, можно найти в трактате о движении). Следовательно, если все, что [движется] согласно природе, может быть движимо и против природы, то бесконечных будет два: движущее указанным [противоестественным] образом и движимое. Кроме того, что есть двигатель бесконечного? Если [оно движет] само себя, то должно быть живым. Но как возможно существование бесконечного животного? Если же двигатель — (что-то) другое, то бесконечных будет два: двигатель и движимое,— различных по характеру и по способности. Если же Вселенная не непрерывна, но, как говорят Демокрит и Левкипп, представляет собой [атомы], разграниченные пустотой, то у всех [у них] должно быть одно движение, так как [атомы] различаются фигурами, а природа, как они утверждают, у них одна - как если бы каждый [атом] был отдельной [частицей] золота. У этих [тел], как мы сказали, должно быть одно и то же движение, потому что, куда движется один комок, туда и вся земля, равно как и весь огонь, и [одна] искра [движутся] в одно и то же место Следовательно, если все тела обладают тяжестью, то ни одно из них не будет абсолютно легким, а если легкостью —то тяжелым. Кроме того, если они имеют тяжесть или легкость, то у Вселенной будет либо край, либо центр, но, раз уж она бесконечна, это невозможно. И вообще: где нет ни центра, ни края, ни верха, ни низа там у тел не может быть и никакого [определенного] места, [куда направлены] перемещения. Если же его нет, то не может быть и движения, так как [тела] по необходимости должны двигаться либо согласно природе, либо против природы, а эти [понятия] определены местами: своими и чужими [соответственно]. Кроме того, если место, в котором нечто покоится или движется против природы, по необходимости должно быть природосообразным для чего-то другого (что удостоверяется индукцией), то необходимо, чтобы не все тела имели либо тяжесть, либо легкость, но одни имели бы, а другие нет. Итак, что тело Вселенной не бесконечно, ясно из вышеизложенного.