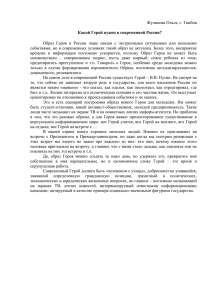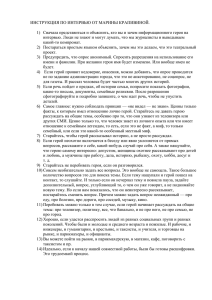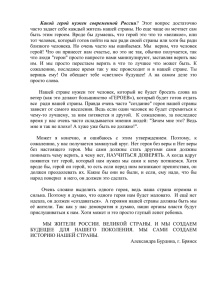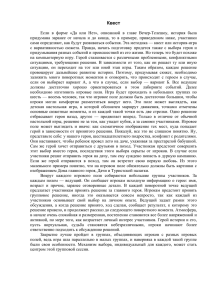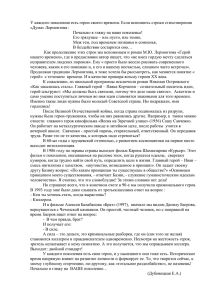Одиссей, или День сурка - Илья Франк. Культурология
advertisement
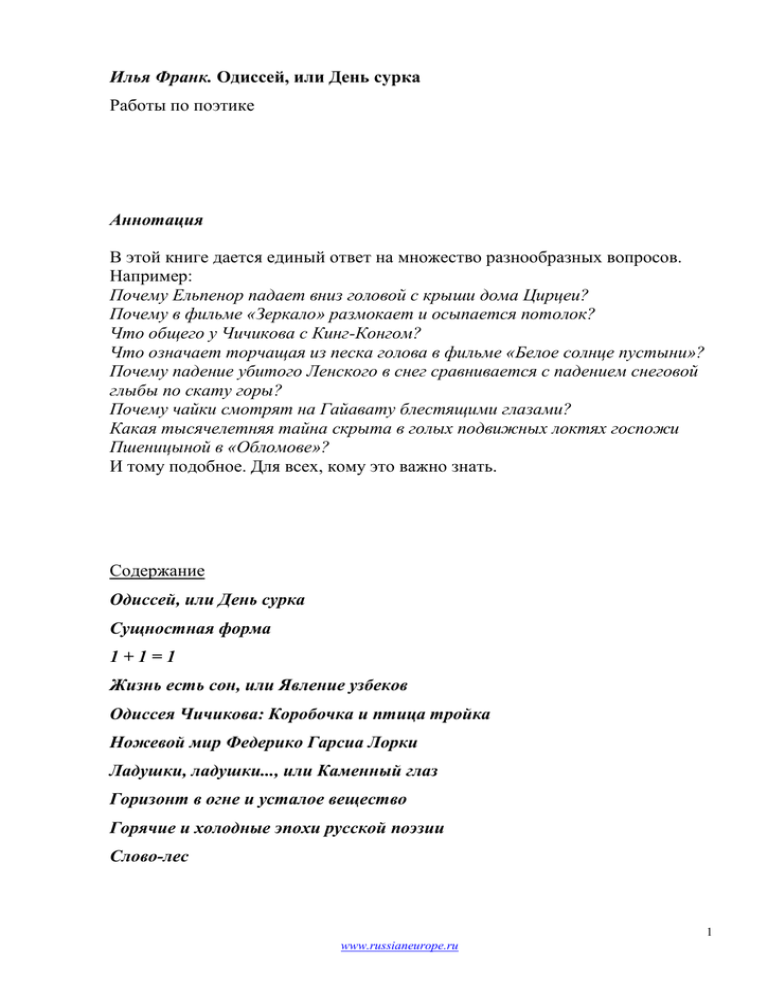
Илья Франк. Одиссей, или День сурка Работы по поэтике Аннотация В этой книге дается единый ответ на множество разнообразных вопросов. Например: Почему Ельпенор падает вниз головой с крыши дома Цирцеи? Почему в фильме «Зеркало» размокает и осыпается потолок? Что общего у Чичикова с Кинг-Конгом? Что означает торчащая из песка голова в фильме «Белое солнце пустыни»? Почему падение убитого Ленского в снег сравнивается с падением снеговой глыбы по скату горы? Почему чайки смотрят на Гайавату блестящими глазами? Какая тысячелетняя тайна скрыта в голых подвижных локтях госпожи Пшеницыной в «Обломове»? И тому подобное. Для всех, кому это важно знать. Содержание Одиссей, или День сурка Сущностная форма 1+1=1 Жизнь есть сон, или Явление узбеков Одиссея Чичикова: Коробочка и птица тройка Ножевой мир Федерико Гарсиа Лорки Ладушки, ладушки..., или Каменный глаз Горизонт в огне и усталое вещество Горячие и холодные эпохи русской поэзии Слово-лес 1 www.russianeurope.ru Одиссей, или День сурка 1. В девятой песне «Одиссеи» Одиссей рассказывает о своем визите к циклопу Полифему. На примере этой истории удобно посмотреть, как в мифе (и в основанном на этом мифе литературном произведении) отразился обряд инициации (посвящения). Смысл этого первобытного обряда состоял в приобщении подростков к мифическому знанию. Пройдя инициацию, они становились взрослыми членами племени. Вот краткий рассказ об этом обряде (взятый мной из книги В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки»): «Что такое посвящение? Это — один из институтов, свойственных родовому строю. Обряд этот совершался при наступлении половой зрелости. Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение, становился полноправным членом его и приобретал право вступления в брак. Такова социальная функция этого обряда. Формы его различны, и на них мы еще остановимся в связи с материалом сказки. Формы эти определяются мыслительной основой обряда. Предполагалось, что мальчик во время обряда умирал и затем вновь воскресал уже новым человеком. Это — так называемая временная смерть. Смерть и воскресение вызывались действиями, изображавшими поглощение, пожирание мальчика чудовищным животным. Он как бы проглатывался этим животным и, пробыв некоторое время в желудке чудовища, возвращался, т. е. выхаркивался или извергался. Для совершения этого обряда иногда выстраивались специальные дома или шалаши, имеющие форму животного, причем дверь представляла собой пасть. Тут же производилось обрезание. Обряд всегда совершался в глубине леса или кустарника, в строгой тайне. Обряд сопровождался телесными 2 www.russianeurope.ru истязаниями и повреждениями (отрубанием пальца, выбиванием некоторых зубов и др.). Другая форма временной смерти выражалась в том, что мальчика символически сжигали, варили, жарили, изрубали на куски и вновь воскрешали. Воскресший получал новое имя, на кожу наносились клейма и другие знаки пройденного обряда. Мальчик проходил более или менее длительную и строгую школу. Его обучали приемам охоты, ему сообщались тайны религиозного характера, исторические сведения, правила и требования быта и т. д. Он проходил школу охотника и члена общества, школу плясок, песен, и всего, что казалось необходимым в жизни». Одиссей и его двенадцать спутников заходят в пещеру Полифема. Подростки при совершении обряда символически попадали внутрь мифического зверя (то есть были пожираемы им). Им предстояло умереть и родиться заново, родиться обновленными. Обновленными в том смысле, что они сами становились этим мифическим зверем. Зверь пожирал их, впустив в свое чрево, а они пожирали его, убив зверя (иногда изнутри) и устроив ритуальную трапезу. Так, например, в поэме Лонгфелло «Песнь о Гайавате» Гайавата убивает Великого Осетра МишеНаму, сжав его сердце: И опять могучий Нама Услыхал нетерпеливый, Дерзкий вызов, прозвучавший По всему Большому Морю. Сам тогда он с дна поднялся, Весь дрожа от дикой злобы, Боевой блистая краской И доспехами бряцая, Быстро прыгнул он к пироге, Быстро выскочил всем телом 3 www.russianeurope.ru На сверкающую воду И своей гигантской пастью Поглотил в одно мгновенье Гайавату и пирогу. Как бревно по водопаду, По широким черным волнам, Как в глубокую пещеру, Соскользнула в пасть пирога. Но, очнувшись в полном мраке, Безнадежно оглянувшись, Вдруг наткнулся Гайавата На большое сердце Намы: Тяжело оно стучало И дрожало в этом мраке. И во гневе мощной дланью Стиснул сердце Гайавата, Стиснул так, что Мише-Нама Всеми фибрами затрясся, Зашумел водой, забился, Ослабел, ошеломленный Нестерпимой болью в сердце1. В результате обоюдного пожирания (этого перемешивания людей с мифическим зверем) подростки превращались в мужчин, в равноправных взрослых членов племени, поскольку становились «дважды рожденными», знающими. Знающими же они становились потому, что «в лице» мифического зверя соединялись с миром. (Мифический зверь как раз и 1 Перевод И. Бунина. 4 www.russianeurope.ru олицетворяет собой предстоящий человеку мир в его совокупности. И мир этот одушевлен, он вступает с человеком в диалог.) Посвященным открывались все связи вещей, зверей, людей, все тропинки в лесу. После этого они могли охотиться и жениться. И становились едины в том смысле, что после обряда они все были уже не просто отдельными мальчиками, но единым медведем или, скажем, китом. Все племя было единым зверем. Во время обряда подростки попадали в некое закрытое пространство, символизирующее утробу мифического зверя. Это могли быть прорытый под землей туннель, просто глубокая и закрытая сверху яма, особый домик со звериными аксессуарами (вход, оформленный как пасть, «курьи ножки», рога и т.п.), пещера… Пещера Полифема — чрево мифического зверя. Одиссей и его спутники приносят в пещеру вино и съестное и в самой пещере находят съестное и питье: Взял я с собой тем напитком наполненный мех и съестного Полный кошель: говорило мне вещее сердце, что встречу Страшного мужа чудовищной силы, свирепого нравом, Чуждого добрым обычаям, чуждого вере и правде. Шагом поспешным к пещере приблизились мы, но его в ней Не было; коз и баранов он пас на лугу недалеком. Начали всё мы в пещере пространной осматривать; много Было сыров в тростниковых корзинах; в отдельных закутах Заперты были козлята, барашки, по возрастам разным в порядке Там размещенные: старшие с старшими, средние подле Средних и с младшими младшие; ведра и чаши Были до самых краев налиты простоквашей густою2. 2 Перевод В. Жуковского. 5 www.russianeurope.ru В дальнейшем происходит обмен: Полифем поедает шесть спутников (три раза по двое — на каждый прием пищи), Одиссей угощает его «пурпурномедвяным вином». А до этого (еще не успев познакомиться с хозяином, ожидая его возвращения в пещеру) гости угощаются сами: Яркий огонь разложив, совершили мы жертву; добывши Сыру потом и насытив свой голод, остались в пещере Ждать, чтоб со стадом в нее возвратился хозяин. И скоро С ношею дров, для варенья вечерния пищи, явился Он и со стуком на землю дрова перед входом пещеры Бросил; объятые страхом, мы спрятались в угол; пригнавши Стадо откормленных коз и волнистых баранов к пещере, Маток в нее он впустил, а самцов, и козлов и баранов, Прежде от них отделив, на дворе перед входом оставил. Позже, начав уже постепенно поедать своих гостей, Полифем будет заводить в пещеру все стадо целиком. Пещера — мифический зверь, а козлы и бараны — его составляющие, его звериные единицы. Проходящим инициацию подросткам предстоит превратиться в единицы мифического зверя, стать козлами и баранами. Одиссею и его спутникам удается (после ослепления циклопа) покинуть пещеру, спрятавшись под баранами, соединившись с баранами, то есть как бы превратившись наполовину в зверей: Вот что, по думанье долгом, удобнейшим мне показалось: Были бараны большие, покрытые длинною шерстью, Жирные, мощные, в стаде; руно их, как шелк, волновалось. Я потихоньку сплетенными крепкими лыками, вырвав Их из рогожи, служившей постелею злому циклопу, По три барана связал; человек был подвязан под каждым Средним, другими двумя по бокам защищенный; на каждых 6 www.russianeurope.ru Трех был один из товарищей наших; а сам я?.. Дебелый, Рослый, с роскошною шерстью был в стаде баран; обхвативши Мягкую спину его, я повис на руках под шершавым Брюхом; а руки (в руно несказанно густое впустив их) Длинною шерстью обвил и на ней терпеливо держался. Якоб Йорданс (1593 — 1678). Одиссей, совершающий побег из пещеры Полифема Поскольку при инициации должно произойти поедание, направленное в обе стороны (посвящаемых ест мифический зверь — и они едят мифического зверя), Одиссей и его спутники (та половина, что уцелела) едят баранов Полифема, которых им удалось угнать: Тучных циклоповых коз и баранов собравши, добычу Стали делить мы, чтоб каждому должный достался участок; Мне же от светлообутых сопутников в дар был особо 7 www.russianeurope.ru Главный назначен баран, и его принесли мы на бреге В жертву Крониону, туч собирателю, Зевсу владыке. Тучные бедра пред ним мы сожгли. <…> Жертву принесши, мы целый там день до вечерного мрака Ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Посвящаемые приносятся в жертву — и приносят жертву. Они и жертва, и жрецы. С пещерой как чревом зверя более-менее понятно. Но кто такой Полифем? Если присмотреться к нему, он и есть гора, в которой находится пещера (и тогда пещера — это его чрево): К берегу близкому скоро пристав с кораблем, мы открыли В крайнем, у самого моря стоявшем утесе пещеру, Густо одетую лавром, пространную, где собирался Мелкий во множестве скот; там высокой стеной из огромных, Грубо набросанных камней был двор обведен, и стояли Частым забором вокруг черноглавые дубы и сосны. Муж великанского роста в пещере той жил; одиноко Пас он баранов и коз и ни с кем из других не водился; Был нелюдим он, свиреп, никакого не ведал закона; Видом и ростом чудовищным в страх приводя, он несходен Был с человеком, вкушающим хлеб, и казался лесистой, Дикой вершиной горы, над другими воздвигшейся грозно. Полифем — мифический великан наподобие скандинавского Имира3, совпадающий с миром в целом (лес на вершине горы — это волосы на его голове и т.п.). Это одушевленный мир, мир как личность. И в то же время В скандинавской мифологии мир создан из тела первого великана Имира (принесенного в жертву): плоть его стала землей, кровь — морем, кости — горами, череп — небом, а волосы — лесом. 3 8 www.russianeurope.ru Полифем — мифический зверь, поедающий проходящих инициацию гостей. Например, лев: <…> и, ответа не дав никакого, он быстро Прянул, как бешеный зверь, и, огромные вытянув руки, Разом меж нами двоих, как щенят, подхватил и ударил Оземь; их череп разбился; обрызгало мозгом пещеру. Он же, обоих рассекши на части, из них свой ужасный Ужин состряпал и жадно, как лев, разъяряемый гладом, Съел их, ни кости, ни мяса куска, ни утроб не оставив. В пещеру посвящаемые входят, чтобы затем из нее выйти. Так и Полифем отрыгивает, выблевывает проглоченных спутников Одиссея: Тут повалился он навзничь, совсем опьянелый; и набок Свисла могучая шея, и всепобеждающей силой Сон овладел им; вино и куски человечьего мяса Выбросил он из разинутой пасти, не в меру напившись. Но почему в данной истории происходит расщепление образа мифического зверя на гору с пещерой и великана-людоеда? Почему бы не сделать так, чтобы герои просто были поглощены неким огромным зверем, а потом какнибудь из него выбрались? Дело в том, что Полифем — не только зверь, через чрево которого должны пройти посвящаемые, но и зверь, которым они должны стать в результате своей смерти и нового рождения. Это тот личный демон, которого получает в подарок каждый из посвящаемых. Это звериный двойник, который будет определять судьбу каждого из них. И двойник этот амбивалентен: он может быть благодетельным и зловредным, ангелом и чертом. Полифем определяет судьбу Одиссея и его спутников негативно, пожаловавшись на них своему 9 www.russianeurope.ru отцу Посейдону. А судьбу Гайаваты его звериный двойник определяет позитивно — из чрева Мише-Намы ему помогает выбраться белка Аджидомо: Поперек тогда поставил Легкий челн свой Гайавата, Чтоб из чрева Мише-Намы, В суматохе и тревоге, Не упасть и не погибнуть. Рядом белка, Аджидомо, Резво прыгала, болтала, Помогала Гайавате И трудилась с ним все время. А вот белка в начале плавания, до сражения: На корме сел Гайавата С длинной удочкой из кедра; Точно веточки цикуты, Колебал прохладный ветер Перья в косах Гайаваты. На носу его пироги Села белка, Аджидомо; Точно травку луговую, Раздувал прохладный ветер Мех на шубке Аджидомо. Двойничество Гайаваты и белки подчеркуто ветром, раздувающим как перья Гайаваты, так и мех Аджидомо. 10 www.russianeurope.ru Так мифический зверь здесь расщепляется на Великого Осетра Мише-Наму и белку Аджидомо. Представим теперь рассказ о встрече Одиссея с Полифемом в виде схемы. Во-первых, перед нами Одиссей. Одиссей — посвящаемый, приобщаемый к мифическому знанию, которое, как известно, есть сила. Короче говоря, Одиссей — герой (точнее, становится героем). Во-вторых, гора с пещерой. Это мифический зверь. Это поедающая и порождающая утроба, дарующая как жизнь, так и смерть (без которой жизнь, новая жизнь, невозможна). Короче говоря, пещера — источник жизни. В-третьих, Полифем. Полифем — звериный двойник-антипод героя, его демон, его судьбообразующий друг или враг. Эту схему я, пользуясь термином Гёте из его «Морфологии растений», называю «сущностной формой». Вот она: Герой (посвящаемый) ↔ источник жизни (мифический зверь) ↔ двойникантипод (звериный двойник). Я думаю, такова самая простая, самая последняя форма любого сюжета. Если вы на нее посмотрите, так сказать, чисто по-человечески, то есть без всякого мифа, вы согласитесь со мной. В основе сюжета лежит то, что человек проходит испытания, «окунается в жизнь», после чего меняется в ту или иную сторону, становится другим. Однако в «сущностной форме» вы видите только, так сказать, главные члены предложения. На самом же деле к ней прилагается и целый набор второстепенных членов, которые, в отличие от языкового предложения, в мифическом предложении есть всегда. 2. Посмотрим теперь (на примере истории с Полифемом) на некоторые второстепенные члены сущностной формы. 11 www.russianeurope.ru Обретение героем звериной шкуры. Поскольку посвящаемый превращается в зверя, он должен обрести шкуру (в этом, кстати, и смысл «золотого руна», за которым отправляются аргонавты). В нашей истории звериные шкуры обретаются тем, что Одиссей и его спутники выходят из пещеры в обнимку с баранами. О шкуре Полифема (его личной или надетой) ничего не сказано, однако он сравнивается с лесистой горой. Он лесист — это и есть его шкура. Часто между героем и звериным двойником происходит обмен шкурами (самый, пожалуй, яркий пример из русской литературы — обмен тулупами между Петром Гринёвым и Пугачевым в «Капитанской дочке» Пушкина). Пристальный взгляд, магический глаз. Поскольку двойник-антипод есть предстоящий герою мир в его совокупности и мир-личность, смотрящий на героя, ему свойствен пристальный взгляд (таков, например, взгляд Рогожина, который ощущает на себе князь Мышкин в «Идиоте» Достоевского). Есть только герой и противостоящий ему мир, больше ничего нет. Герой, подобно Нарциссу, смотрится в воду — и видит встречный взгляд двойника-антипода. Однако, поскольку он встречает взгляд двойника, подчас это взгляд только одним глазом. Глаза — тоже двойники. Причем двойники-антиподы. Поэтому двойник часто либо слеп на один глаз, либо подмигивает, либо имеет разноцветные глаза (как, например, Воланд в «Мастере и Маргарите» Булгакова). Отсутствие головы, слепота. Одноглазый (или подмигивающий) мир смотрит на героя. Мир — личность. Однако все же не человек (хотя может представать в человеческом и зверином облике). Отсюда возникает образ мира-личности, смотрящего на героя, видящего героя, но при этом лишенного либо головы, либо глаз. Таков, например, образ многоочитого тела (Аргус). (Аргус, кстати сказать, часто упоминается в «Одиссее».) Другой вариант — мир-личность предстает как голова без тела (например, богатырская голова в «Руслане и Людмиле» Пушкина). С одной стороны, как и в случае мира-туловища, произошло отрубание головы (и голова стала синонимом зрячего туловища), с другой стороны, подчеркивается особая 12 www.russianeurope.ru зрячесть, особая пристальность взгляда (голова как квинтэссенция зрения). Иными словами, Полифем ослепляется потому, что он — гора, а у горы не может быть глаза. Тут еще стоит заметить, что в процессе обряда инициации человек утрачивает свою прежнюю идентичность, свое имя. После обряда, например, надевали на голову бычий пузырь и изображали потерю памяти, а то и просто безумие. Например, в сказках. Вот как это описывает В. Я. Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки»: «Плешивые и покрытые чехлом. С мотивом неузнанного прибытия часто связан мотив покрытой или, наоборот, непокрытой, безволосой головы. Уже в приведенном примере мы видели: "а свое лицо закрой, не кажи". Герой часто надевает на голову какой-нибудь пузырь, или кишку, или тряпку. "Тогда выбрал требушину, взял кишки, вымыл как следует, надел на голову — образовалась шляпа у нево, а кишками руки оммотал". Или: "Иван купеческий сын отпустил коня на волю, нарядился в бычью шкуру, на голову пузырь надел и пошел на взморье". "Купила она три кожи воловьих. Сработал он себе кожан, так что человек и не видно, и хвост пришил сажени в две". Мы видим, что герой в этих случаях почему-то прячет свои волосы, прячет голову. Этот мотив покрытой головы странным образом часто связан со своей противоположностью — с мотивом открытой, плешивой, лысой головы. Часто этот мотив связан с "Незнайкой". "Пошел на бойню, где бьют скот, взял пузырь, надел его на голову. Пришел к царю за милостыней. Царь и спрашивает: "Как тебя зовут?" — "Плешь!" — "По отечеству? — "Плешавница!" — "А откуда родом?" — "Я прохожий, сам не знаю откуда"". Здесь герой, покрывший голову, называет себя плешивым. По-видимому, кишки или пузырь должны скрыть волосы, вызвать впечатление плешивости». 13 www.russianeurope.ru Здесь мы видим как трансформацию головы, так и утрату идентичности. Человек перешел в предстоящий ему мир, стал этим миром, слился со звериным двойником. Одиссей на вопрос людоеда о его имени отвечает, что его зовут Никто. И это по сути то же самое, что ослепление циклопа. Жертвенный нож (топор, копье…). Поскольку в центре обряда инициации находится жертвоприношение, мы замечаем и орудие этого жертвоприношения. Между героем и его звериным двойником мы видим жертвенный нож (или его аналог). В нашей истории это кол, которым Одиссей выкалывает циклопу его единственный глаз. Надо сказать, что жертвенный нож — не только орудие убийства, но и соединительное устройство, мост между героем и его двойником-антиподом (сохранились архаические изображения богов в виде двух палок, соединенных третьей). Не случайно кол, которым Одиссей выкалывает глаз циклопу, взят у циклопа же, принадлежит циклопу: Я ж, в заключенье оставленный, начал выдумывать средство, Как бы врагу отомстить, и молил о защите Палладу. Вот что, размыслив, нашел наконец я удобным и верным: В козьей закуте стояла дубина циклопова, свежий Ствол им обрубленной маслины дикой; его он, очистив, Сохнуть поставил в закуту, чтоб после гулять с ним; подобен Нам показался он мачте, какая на многовесельном, С грузом товаров моря обтекающем судне бывает; Был он, конечно, как мачта длиной, толщиною и весом. Взявши тот ствол и мечом от него отрубивши три локтя, Выгладить чисто отрубок велел я товарищам; скоро Выглажен был он; своею рукою его заострил я; После, обжегши на угольях острый конец, мы поспешно Кол, приготовленный к делу, зарыли в навозе, который 14 www.russianeurope.ru Кучей огромной набросан был в смрадной пещере циклопа. Кончив, своих пригласил я сопутников жеребий кинуть, Кто между ними колом обожженным поможет пронзить мне Глаз людоеду, как скоро глубокому сну он предастся. Более того, кол здесь — ствол дерева (а не просто ветка). И кол — мачта корабля. Иными словами, кол — Мировое древо. Кружение и падение, огонь и вода. Когда герой видит своего двойникаантипода, у него кружится голова (я → двойник → я → двойник…) Он падает вниз (погружаясь в мир — как бы спускаясь по пищеводу мифического зверя4). Обряд передает это падение-погружение различными способами. Один из них особенно выразителен: подросток должен был броситься с дерева вниз (с привязанной к ветке ногой). Кружение передается в обряде как различными круговыми передвижениями подростков (например, хороводом), так и круглыми предметами (например, венками). Кружение и падение обычно сопровождаются образами двух стихий — огня и воды соответственно. Кружение — огонь, падение — вода. В конце рассказа Гофмана «Песочный человек» (1817) главный герой Натанаэль идет на прогулку с невестой Кларой и ее братом Лотаром, поднимается с невестой на башню — и замечает своего страшного двойникаантипода. Это Коппелиус, он же Коппола: «Совершили кое-какие покупки; высокая башня ратуши бросала на рынок исполинскую тень. — Вот что, — сказала Клара, — а не подняться ли нам наверх, чтобы еще раз поглядеть на окрестные горы? Сравните с падением Гайаваты внутрь Мише-Намы: Как бревно по водопаду, По широким черным волнам, Как в глубокую пещеру, Соскользнула в пасть пирога. 4 15 www.russianeurope.ru Сказано — сделано. Оба, Натанаэль и Клара, взошли на башню, мать со служанкой отправились домой, а Лотар, не большой охотник лазать по лестницам, решил подождать их внизу. И вот влюбленные рука об руку стояли на верхней галерее башни, блуждая взорами в подернутых дымкою лесах, позади которых, как исполинские города, высились голубые горы. — Посмотри, какой странный маленький серый куст, он словно движется прямо на нас, — сказала Клара. Натанаэль машинально опустил руку в карман; он нашел подзорную трубку Копполы, поглядел в сторону... Перед ним была Клара! И вот кровь забилась и закипела в его жилах — весь помертвев, он устремил на Клару неподвижный взор, но тотчас огненный поток, кипя и рассыпая пламенные брызги, залил его вращающиеся глаза; он ужасающе взревел, словно затравленный зверь, потом высоко подскочил и, перебивая себя отвратительным смехом, пронзительно закричал: "Куколка, куколка, кружись! Куколка, кружись, кружись!" — с неистовой силой схватил Клару и хотел сбросить ее вниз, но Клара в отчаянии и в смертельном страхе крепко вцепилась в перила. Лотар услышал неистовство безумного, услышал истошный вопль Клары; ужасное предчувствие объяло его, опрометью бросился он наверх; дверь на вторую галерею была заперта; все громче и громче становились отчаянные вопли Клары. В беспамятстве от страха и ярости Лотар изо всех сил толкнул дверь, так что она распахнулась. Крики Клары становились все глуше: "На помощь! спасите, спасите..." — голос ее замирал. "Она погибла — ее умертвил исступленный безумец!" — кричал Лотар. Дверь на верхнюю галерею также была заперта. Отчаяние придало ему силу неимоверную. Он сшиб дверь с петель. Боже праведный! Клара билась в объятиях безумца, перекинувшего ее за перила. Только одной рукой цеплялась она за железный столбик галереи. С быстротою молнии схватил Лотар сестру, притянул к себе и в то же мгновенье ударил беснующегося Натанаэля кулаком в лицо, так что тот отпрянул, выпустив из рук свою жертву. 16 www.russianeurope.ru Лотар сбежал вниз, неся на руках бесчувственную Клару. Она была спасена. И вот Натанаэль стал метаться по галерее, скакать и кричать: "Огненный круг, крутись, крутись! Огненный круг, крутись, крутись!" На его дикие вопли стал сбегаться народ; в толпе маячила долговязая фигура адвоката Коппелиуса, который только что воротился в город и сразу же пришел на рынок. Собирались взойти на башню, чтобы связать безумного, но Коппелиус сказал со смехом: "Ха-ха, — повремените малость, он спустится сам", — и стал глядеть вместе со всеми. Внезапно Натанаэль стал недвижим, словно оцепенев, перевесился вниз, завидел Коппелиуса и с пронзительным воплем: "А... Глаза! Хорош глаза!.." — прыгнул через перила. Когда Натанаэль с размозженной головой упал на мостовую, — Коппелиус исчез в толпе». Обратите внимание на охватившее студента безумие. И превращение его в зверя («он ужасающе взревел, словно затравленный зверь»). Во время обряда инициации старались достичь состояния «измененного сознания» — как с помощью испытаний-пыток (делали надрезы, жгли огнем — что, конечно, было не только испытанием, но и символическим расчленением в теле мифического зверя и символическим погружением в огненную стихию), так и с помощью наркотических средств (в нашей истории: «Стало шуметь огневое вино в голове людоеда»). И, кстати сказать, временно ослепляли (например, сажали в темную яму или неожиданно залепляли глаза горячей кашей). Тут опять мы видим не просто тяжелое испытание, но и его символический смысл. Заметьте также «неподвижный взор» и «размозженную голову». Что касается огня и воды, то эти стихии здесь представлены в их соединенности («но тотчас огненный поток, кипя и рассыпая пламенные брызги, залил его вращающиеся глаза»)5. На самом деле стихия воды А также в предшествующем этой трагедии сне Натанаэля: «Коппелиус хватает его и швыряет в пылающий огненный круг, который вертится с быстротою вихря и с шумом и ревом увлекает его за собой. Все 17 www.russianeurope.ru 5 подспудно присутствует в крике Натанаэля о глазах (когда он уже перевесился вниз). Речь идет о множестве очков, которые до этого показывал ему Коппелиус: «Но в ту же минуту Коппола отложил в сторону барометры и, запустив руку в обширный карман, вытащил оттуда лорнеты и очки и стал раскладывать их на столе. — Ну вот, ну вот, — очки, очки надевать на нос, — вот мой глаз, — хороши глаз! И он все вытаскивал и вытаскивал очки, так что скоро весь стол начал странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз взирали на Натанаэля, судорожно мигали и таращились; и он уже сам не мог отвести взора от стола; и все больше и больше очков выкладывал Коппола; и все страшней и страшней сверкали и скакали эти пылающие очи, и кровавые их лучи ударяли в грудь Натанаэля. Объятый неизъяснимым трепетом, он закричал: — Остановись, остановись, ужасный человек!» Взирающие на Натанаэля «тысячи глаз» — это водная стихия, это море. Так, автобиографический герой повести Томаса Де Квинси «Исповедь англичанина, употребляющего опиум» (1821) в какой-то момент видит следующее: «К моим архитектурным построениям прибавились и призрачные озера — серебристые пространства воды. Эти образы постоянно наполняли мою голову <…>. Воды преобразили свой лик, превратясь из прозрачных озер, светящихся подобно зеркалам, в моря и океаны. Наступившая великая перемена, разворачиваясь медленно, как свиток, долгие месяцы, сулила непрерывные муки <…>. Лица людей, часто являвшихся мне в видениях, поначалу не имели надо мной деспотической власти. Теперь же во мне утвердилось то, что я назвал бы тиранией человеческого лица. <…> …ныне случалось наблюдать завывает, словно злобный ураган яростно бичует кипящие морские валы, вздымающиеся подобно черным седоголовым исполинам». 18 www.russianeurope.ru мне, как на волнующихся водах океана начинали появляться лица и вслед за тем уж вся поверхность его оказывалась вымощена теми лицами, обращенными к небу; лица молящие, гневные, безнадежные вздымались тысячами, мириадами, поколеньями, веками — смятенье мое все росло, а разум — колебался вместе с Океаном». Посвящаемый видит мир, который видит его, — глядит на него бесчисленным множеством глаз. Этот мир нередко предстает как стихия воды. Вернемся к нашей истории. Посмотрите сами на примере следующего отрывка образы вращения, огненной и водной стихий: Кол свой достав, мы его острием на огонь положили; Тотчас зардел он; тогда я, товарищей выбранных кликнув, Их ободрил, чтоб со мною решительны были в опасном Деле. Уже начинал положенный на уголья кол наш Пламя давать, разгоревшись, хотя и сырой был; поспешно Вынул его из огня я; товарищи смело с обоих Стали боков — божество в них, конечно, вложило отважность; Кол обхватили они и его острием раскаленным Втиснули спящему в глаз; и, с конца приподнявши, его я Начал вертеть, как вертит буравом корабельный строитель, Толстую доску пронзая; другие ж ему помогают, ремнями Острый бурав обращая, и, в доску вгрызаясь, визжит он. Так мы, его с двух боков обхвативши руками, проворно Кол свой вертели в пронзенном глазу: облился он горячей Кровью; истлели ресницы, шершавые вспыхнули брови; Яблоко лопнуло; выбрызгнул глаз, на огне зашипевши. Так расторопный ковач, изготовив топор иль секиру, В воду металл (на огне раскаливши его, чтоб двойную Крепость имел) погружает, и звонко шипит он в холодной 19 www.russianeurope.ru Влаге: так глаз зашипел, острием раскаленным пронзенный. Падения вниз как такового в истории с циклопом мы не наблюдаем. Но зато в ней есть сбрасывание вниз камней: <…> Так я сказал; он, ужасно взбешенный, Тяжкий утес от вершины горы отломил и с размаха На голос кинул; утес, пролетевши над судном, в пучину Рухнул так близко к нему, что его черноострого носа Чуть не расшиб; всколыхалося море от падшей громады; Хлынув, большая волна побежала стремительно к брегу; Схваченный ею, обратно к земле и корабль наш помчался. Длинною жердью я в берег песчаный уперся и судно Прочь отвалил; а товарищам молча кивнул головою, Их побуждая всей силой на весла налечь, чтоб избегнуть Близкой беды; все, нагнувшися, разом ударили в весла. Быв на двойном расстоянье от страшного брега, опять я Начал кричать, вызывая циклопа. Товарищи в страхе Все убеждали меня замолчать и его не тревожить. «Дерзкий, — они говорили, — зачем ты чудовище дразнишь? В море швырнувши утес, он едва с кораблем нас не бросил На берег снова; едва не постигла нас верная гибель. Если теперь он чей голос иль слово какое услышит, Голову нам раздробит и корабль наш в куски изломает, Бросив утес остробокий: до нас же он верно добросит». Так говорили они; но, упорствуя дерзостным сердцем, Я продолжал раздражать оскорбительной речью циклопа… <…> Так говорил он, моляся, и был Посейдоном услышан. Тут он огромнейший первого камень схватил и с размаху 20 www.russianeurope.ru В море его с непомерною силой швырнул; загудевши, Он позади корабля темноносого с шумом великим Грянулся в воду так близко к нему, что едва не расплюснул Нашей кормы; всколыхалося море от падшей громады; Судно ж волною помчало вперед к недалекому брегу Острова Коз; и вошли мы обратно в ту пристань, где наши В месте защитном оставлены были суда, где печально Спутники в скуке сидели и ждали, чтоб мы воротились. Арнольд Бёклин (1827 — 1901). Полифем, бросающий кусок скалы в корабль Одиссея Одиссей и его спутники, оказавшись на корабле, по-прежнему под угрозой продолжения обряда инициации («голову нам раздробит и корабль наш в куски изломает»). Циклоп дважды мечет камень, один падает перед носом корабля, другой — за кормой. Он символически давит, разбивает корабль, который на данный момент сам становится мифическим зверем, внутри которого — посвящаемые. Не случайно и число «два» (два камня), подчеркивающее двойничество. Падение (причем в водную стихию) состоялось. Во-первых, потому, что сам циклоп — тоже камень (гора), это как бы он сам падает в воду. Во-вторых, потому, что в воде и под угрозой 21 www.russianeurope.ru разламывания оказываются посвящаемые. Два брошенных в них камня соответствуют съеденным попарно спутникам Одиссея. Ведь Полифем их разбивает о землю, повергая головами вниз, разбивая им головы (лишая голов, что как раз и требуется обрядом): Прянул, как бешеный зверь, и, огромные вытянув руки, Разом меж нами двоих, как щенят, подхватил и ударил Оземь; их череп разбился; обрызгало мозгом пещеру. Как видите, со спутниками Одиссея происходит то же самое, что со студентом Натанаэлем. В заключение посмотрим еще один пример — из русской литературы. В поэме Лермонтова «Мцыри» (1839) мальчик, бежавший из заточения в монастыре и попавший в лес, проходит спонтанный обряд посвящения, став на мгновение барсом и побратавшись кровью с настоящим зверем: То был пустыни вечный гость Могучий барс. Сырую кость Он грыз и весело визжал; То взор кровавый устремлял, Мотая ласково хвостом, На полный месяц; и на нем Шерсть отливалась серебром. Я ждал, схватив рогатый сук, Минуту битвы — сердце вдруг Зажглося жаждою борьбы И крови... да! рука судьбы Меня вела иным путем... Но нынче я уверен в том, Что быть бы мог в краю отцов 22 www.russianeurope.ru Не из последних удальцов. Я ждал. И вот в тени ночной Врага почуял он, и вой Протяжный, жалобный как стон Раздался вдруг... и начал он Сердито лапой рыть песок, Встал на дыбы, потом прилег, И первый бешеный скачок Мне страшной смертию грозил... Но я его предупредил. Удар мой верен был и скор. Надежный сук мой, как топор, Широкий лоб его рассек... Он застонал, как человек, И опрокинулся. — Но вновь, Хотя лила из раны кровь Густой, широкою волной, Бой закипел, — смертельный бой! Ко мне он кинулся на грудь: Но в горло я успел воткнуть И там два раза повернуть Мое оружье... Он завыл, Рванулся из последних сил, И мы, сплетясь, как пара змей, Обнявшись крепче двух друзей, Упали разом — и во мгле Бой продолжался на земле. И я был страшен в этот миг; 23 www.russianeurope.ru Как барс пустынный, зол и дик, Я пламенел, визжал, как он; Как будто сам я был рожден В семействе барсов и волков Под свежим пологом лесов. Казалось, что слова людей Забыл я — и в груди моей Родился тот ужасный крик, Как будто с детства мой язык К иному звуку не привык... — Но враг мой стал изнемогать, Метаться, медленней дышать, Сдавил меня в последний раз... Зрачки его недвижных глаз Блеснули грозно – и потом Закрылись тихо вечным сном; Но с торжествующим врагом Он встретил смерть лицом к лицу, Как в битве следует бойцу!.. Здесь интересны и особый взгляд звериного двойника («зрачки его недвижных глаз»), и обретение героем звериного языка (при забвении своего прежнего, человеческого), и жертвенный нож/топор («надежный сук мой, как топор»), и поражение зверя в голову, и кружение — поворот оружия в ране («успел… два раза повернуть»). А «обнявшись крепче двух друзей» — это одновременно и бой со зверем (подобный сражению Одиссея с циклопом), и соединение со своим звериным двойником (подобное объятию Одиссея с бараном): <…> Дебелый, 24 www.russianeurope.ru Рослый, с роскошною шерстью был в стаде баран; обхвативши Мягкую спину его, я повис на руках под шершавым Брюхом; а руки (в руно несказанно густое впустив их) Длинною шерстью обвил и на ней терпеливо держался. Но, как ни странно, это еще и любовное соединение, эротика. К чему и переходим. 3. В десятой главе «Одиссеи» Одиссей и его спутники попадают на остров волшебницы Цирцеи. Разделив своих товарищей на две дружины, Одиссей (бросив жребий: кому идти, а кому остаться на берегу) посылает дружину во главе с Еврилохом к жилищу волшебницы: Жеребьи в медноокованном шлеме потом потрясли мы — Вынулся жеребий твердому сердцем вождю Еврилоху. В путь собрался он, и с ним двадцать два из товарищей наших. С плачем они удалились, оставя нас, горем объятых. Скоро они за горами увидели крепкий Цирцеин Дом, сгроможденный из тесаных камней на месте открытом. Около дома толпилися горные львы и лесные Волки: питьем очарованным их укротила Цирцея. Вместо того чтоб напасть на пришельцев, они подбежали К ним миролюбно и, их окруживши, махали хвостами. Как к своему господину, хвостами махая, собаки Ластятся — им же всегда он приносит остатки обеда, — Так остролапые львы и шершавые волки к пришельцам Ластились. Их появленьем они, приведенные в ужас, К дому прекраснокудрявой богини Цирцеи поспешно 25 www.russianeurope.ru Все устремились. Там голосом звонко-приятным богиня Пела, сидя за широкой, прекрасной, божественно тонкой Тканью, какая из рук лишь богини бессмертной выходит. Цирцея предстает перед своими незваными гостями как «Хозяйка зверей», как «Баба-яга». Баба-яга — русская хозяйка зверей, богиня леса, через «избушку на курьих ножках» которой герой (точнее, человек, становящийся героем, проходящий для этого обряд инициации) должен пройти. Избушка Бабы-яги символизирует мифического зверя, пожирающего героя. Гости заходят в дом Цирцеи, все кроме Еврилоха, который предпочел спрятаться и понаблюдать: Чином гостей посадивши на кресла и стулья, Цирцея Смеси из сыра и меду с ячменной мукой и с прамнейским Светлым вином подала им, подсыпав волшебного зелья В чашу, чтоб память у них об отчизне пропала; когда же Ею был подан, а ими отведан напиток, ударом Быстрым жезла загнала чародейка в свиную закуту Всех; очутился там каждый с щетинистой кожей, с свиною Мордой и с хрюком свиным, не утратив, однако, рассудка. Плачущих всех заперла их в закуте волшебница, бросив Им желудей, и свидины, и буковых диких орехов В пищу, к которой так лакомы свиньи, любящие рылом Землю копать. К кораблю Еврилох прибежал той порою С вестью плачевной о бедствии, спутников наших постигшем. 26 www.russianeurope.ru Эдвард Бёрн-Джонс. Вино Цирцеи. 1900 год Тут те же элементы сюжета, что и в истории с Полифемом: запирание героев (соответствующее поглощению мифическим зверем) и превращение их в зверей. Вино с волшебным зельем (наркотик) лишает их памяти об отчизне. В истории с Полифемом волшебное вино пьет сам людоед, но в истории слияния человека с божеством не играет роли, кто именно из них пьет. Пьет Полифем, а памяти лишается Одиссей (назвавшись «Никто»). Роль жертвенного ножа в истории с Цирцеей исполняет «быстрый жезл» чародейки. До того, как отправить дружину к жилищу Цирцеи, Одиссей убивает оленя: …Когда ж к кораблю своему подходил я, Сжалился благостный бог надо мной, одиноким: навстречу Мне он оленя богаторогатого, тучного выслал; Пажить лесную покинув, к студеной реке с несказанной 27 www.russianeurope.ru Жаждой бежал он, измученный зноем полдневного солнца. Меткое бросив копье, поразил я бегущего зверя В спину, ее проколовши насквозь, острием на другой бок Вышло копье; застонав, он упал, и душа отлетела. Ногу уперши в убитого, вынул копье я из раны, Подле него на земле положил и немедля болотных Гибких тростинок нарвал, чтоб веревку в три локтя длиною Свить, переплетши тростинки и плотно скрутив их. Веревку Свивши, связал я оленю тяжелому длинные ноги; Между ногами просунувши голову, взял я на плечи Ношу и с нею пошел к кораблю, на копье опираясь; Просто ж ее на плечах я не мог бы одною рукою Снесть: был чрезмерно огромен олень. Перед судном на землю Бросил его я, людей разбудил и, приветствовав всех их, Так им сказал: «Ободритесь, товарищи, в область Аида Прежде, пока не наступит наш день роковой, не сойдем мы; Станем же ныне (едой наш корабль запасен изобильно) Пищей себя веселить, прогоняя мучительный голод». Было немедля мое повеленье исполнено; снявши Верхние платья, они собрались у бесплодного моря; Всех их олень изумил, несказанно великий и тучный; Очи свои удовольствовав сладостным зреньем, умыли Руки они и поспешно обед приготовили вкусный. Целый мы день до вечернего сумрака, сидя на бреге, Ели прекрасное мясо и сладким вином утешались… «Несказанно великий» олень — мифический зверь, приносимый героями в жертву. И этот олень, и Цирцея, и закут, в который волшебница загоняет героев, — ипостаси мифического зверя. Закут символизирует утробу зверя. Цирцея же, будучи «Хозяйкой зверей», есть источник жизни (и, 28 www.russianeurope.ru соответственно, смерти). Это и «Прекрасная Дама», и Баба-яга. Мы видим, что источник жизни может быть выражен не только образом мифического зверя и не только образом водной стихии, но и образом «Прекрасной Дамы», богини-матери, Изиды. Мы можем теперь немного уточнить «сущностную форму» (добавив в нее Хозяйку зверей): Герой (посвящаемый) ↔ источник жизни (мифический зверь, Хозяйка зверей) ↔ двойник-антипод (звериный двойник). Одиссей отправляется спасать своих товарищей, встречает Гермеса (Эрмия), который инструктирует нашего героя и дает ему некое зелье (наркотикпротивоядие): Близко высокого дома волшебницы хитрой Цирцеи, Эрмий с жезлом золотым пред глазами моими, нежданный, Стал, заступив мне дорогу; пленительный образ имел он Юноши с девственным пухом на свежих ланитах, в прекрасном Младости цвете. Мне ласково руку подавши, сказал он: «Стой, злополучный, куда по горам ты бредешь одиноко, Здешнего края не ведая? Люди твои у Цирцеи; Всех обратила в свиней чародейка и в хлев заперла свой. Их ты избавить спешишь; но и сам, опасаюсь, оттуда Цел не уйдешь; и с тобою случится, что с ними случилось. Слушай, однако: тебя от беды я великой избавить Средство имею; дам зелье тебе; ты в жилище Цирцеи Смело поди с ним; оно охранит от ужасного часа. Я же тебе расскажу о волшебствах коварной богини: Пойло она приготовит и зелья в то пойло подсыплет. Но над тобой не подействуют чары; чудесное средство, Данное мною, их силу разрушит. Послушай; как скоро Мощным жезлом чародейным Цирцея к тебе прикоснется, Острый свой меч обнажив, на нее устремись ты немедля, 29 www.russianeurope.ru Быстро, как будто ее умертвить вознамерясь; в испуге Станет на ложе с собою тебя призывать чародейка — Ты не подумай отречься от ложа богини: избавишь Спутников, будешь и сам гостелюбно богинею принят. Только потребуй, чтоб прежде она поклялася великой Клятвой, что вредного замысла против тебя не имеет: Иначе мужество, ею расслабленный, все ты утратишь». С сими словами растенье мне подал божественный Эрмий, Вырвав его из земли и природу его объяснив мне: Корень был черный, подобен был цвет молоку белизною; Моли его называют бессмертные; людям опасно С корнем его вырывать из земли, но богам все возможно. Эрмий, подав мне растенье, на светлый Олимп удалился. Я же пошел вдоль лесистого острова к дому Цирцеи, Многими, сердце мое волновавшими, мыслями полный. Став перед дверью прекраснокудрявой богини, я громко Начал ее вызывать; и, услышав мой голос, немедля Вышла она, отворила блестящие двери и в дом дружелюбно Мне предложила вступить; с сокрушением сердца вступил я. Введши в покои меня и на стул посадив среброгвоздный Редкой работы (для ног же была там скамейка), богиня В чашу златую влила для меня свой напиток; но прежде, Злое замыслив, подсыпала зелье в него; и когда он Ею был подан, а мною безвредно отведан, свершила Чару она, дав удар мне жезлом и сказав мне такое Слово: «Иди и свиньею валяйся в закуте с другими». Я же свой меч изощренный извлек и его, подбежав к ней, Поднял, как будто ее умертвить вознамерившись; громко Вскрикнув, она от меча увернулась и, с плачем великим Сжавши колена мои, мне крылатое бросила слово: 30 www.russianeurope.ru «Кто ты? Откуда? Каких ты родителей? Где обитаешь? Я в изумленье; питья моего ты отведал и не был Им превращен; а доселе никто не избег чародейства, Даже и тот, кто, не пив, лишь губами к питью прикасался. Сердце железное бьется в груди у тебя; и, конечно, Ты Одиссей, многохитростный муж, о котором давно мне Эрмий, носитель жезла золотого, сказал, что сюда он Будет, на черном плывя корабле от разрушенной Трои. Вдвинь же в ножны медноострый свой меч и со мною Ложе мое раздели: сочетавшись любовью на сладком Ложе, друг другу доверчиво сердце свое мы откроем». Так же как на зелье Цирцеи у Одиссея имеется ответное зелье, есть у него и ответный «жертвенный нож». Если у Цирцеи — «мощный жезл чародейный», то у Одиссея — «медноострый меч». (И в этой параллели мы видим как то, что жезл — тоже меч, так и то, что меч — не простой, а «чародейный».) «Она от меча увернулась». Меч был применен, но «Хозяйка зверей» осталась жива. Так литературное произведение передает миф об убиении мифического зверя с последующим его возрождением — в виде прошедших инициацию подростков (ставших этим зверем, ставших составляющими частями этого зверя). По требованию Одиссея волшебница возвращает его товарищам их прежний облик: Так я сказал, и немедля с жезлом из покоев Цирцея Вышла, к закуте свиной подошла и, ее отворивши, Их, превращенных в свиней девятигодовалых, оттуда Вывела; стали они перед нею; она ж, обошед их Всех, почередно помазала каждого мазью, и разом Спала с их тела щетина, его покрывавшая густо 31 www.russianeurope.ru С самых тех пор, как Цирцея дала им волшебного зелья; Прежний свой вид возвратив, во мгновенье все стали моложе, Силами крепче, красивей лицом и возвышенней станом… Подобно этому в русских сказках, пройдя через смерть, возрожденный герой (обычно рассеченный на части, затем вновь собранный, затем вспрыснутый поочередно мертвой и живой водой) становится презентабельнее. Затем герои живут у Цирцеи целый год, едя и пия (как ели и пили они, так сказать, вместе с циклопом, а также непосредственно после людоедского приключения): С тех пор вседневно, в теченье мы целого года Ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Это все то же жертвоприношение. Но есть и различие между нашими двумя историями: Цирцея предложила Одиссею «сочетаться любовью на сладком ложе», Полифем же от такого предложения воздержался. Однако с точки зрения мифа это мнимое различие. Если Цирцея — Хозяйка зверей, то Полифем — Хозяин зверей. И оба они представляют мифического зверя, его утробу (хлев Цирцеи, пещера Полифема). Утроба же эта не только пожирающая, но и порождающая, рождающая героев заново. Она не только воплощение смерти, но и источник жизни. Поэтому и Полифем с его пещерой, как это ни смешно, есть ипостась богини-матери. Чтобы Хозяйка зверей родила героя, ее нужно оплодотворить. Кто берет на себя эту роль? Как ни удивительно, это обязанность самого героя. Он погружается в источник жизни как фаллос, чтобы затем родиться из источника жизни младенцем. Хозяйка зверей для него одновременно и жена, и мать. Чтобы товарищи Одиссея успешно прошли обряд и возродились, 32 www.russianeurope.ru Одиссей должен разделить ложе Цирцеи. Это непременное условие («ты не подумай отречься от ложа богини»). Но почему герой — фаллос, по каким приметам это можно увидеть? Фаллос мы можем узнать лишь в «мощном жезле» и «остром мече» (иными словами, в «жертвенном ноже», соединяющем героя с его звериным двойником). А также в дубинке Полифема (и в изготовленном из нее коле Одиссея). Но вспомним уже цитированный пример из русской сказки: «Пошел на бойню, где бьют скот, взял пузырь, надел его на голову. Пришел к царю за милостыней. Царь и спрашивает: «Как тебя зовут?» — «Плешь!» — «По отчеству?» — «Плешавница». — «А откуда ты родом?» — «Я прохожий, сам не знаю откуда». Герой, проходящий инициацию, превращается в фаллос (в «черта лысого», говоря по-народному6). И после инициации он становится не только новорожденным, но одновременно и фаллосом. Звериный двойник героя — тоже фаллос. И Полифем Одиссея, и белочка Аджидомо Гайаваты. И единый глаз, и слепота двойника тут одинаково уместны (не говоря уж о его звериности). Вот как описывает погружение в «подземный храм» — и встречу с «ритуальным фаллосом» К. Г. Юнг в книге «Воспоминания, сновидения, размышления»: «Приблизительно тогда же… у меня было самое раннее сновидение из запомнившихся мне, сновидение, которому предстояло занимать меня всю жизнь. Мне было тогда немногим больше трех лет. Дом священника стоял особняком вблизи замка Лауфэн, рядом тянулся большой луг, начинавшийся у фермы церковного сторожа. Во сне я находился на этом лугу. Внезапно я заметил темную прямоугольную, выложенную изнутри камнями яму. Я никогда прежде не видел ничего подобного. Я подбежал и с любопытством заглянул вниз. Я увидел каменные ступени. В страхе и неуверенности я спустился. В самом низу за зеленым В поэме Гоголя «Мертвые души» Ноздрев говорит Чичикову: «Черта лысого получишь! хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же!» 33 www.russianeurope.ru 6 занавесом был вход с круглой аркой. Занавес был большой и тяжелый, ручной работы, похож был на парчовый, и выглядел очень роскошно. Любопытство мое требовало узнать, что за ним, я отстранил его и увидел перед собой в тусклом свете прямоугольную палату, метров в десять длиною, с каменным сводчатым потолком. Пол тоже был выложен каменными плитами, а в центре его лежал красный ковер. Там, на возвышении, стоял золотой трон, удивительно богато украшенный. Я не уверен, но возможно, что на сиденье лежала красная подушка. Это был величественный трон, в самом деле, — сказочный королевский трон. Что-то стояло на нем, сначала я подумал, что это ствол дерева (что-то около 4-5 м высотой и 0,5 м в толщину). Это была огромная масса, доходящая почти до потолка, и сделана она была из странного сплава — кожи и голого мяса, на вершине находилось что-то вроде круглой головы без лица и волос. На самой макушке был один глаз, устремленный неподвижно вверх. В комнате было довольно светло, хотя не было ни окон, ни какого-нибудь другого видимого источника света. От головы, однако, полукругом исходило яркое свечение. То, что стояло на троне, не двигалось, и все же у меня было чувство, что оно может в любой момент сползти с трона и, как червяк, поползти ко мне. Я был парализован ужасом. В этот момент я услышал снаружи, сверху, голос моей матери. Она воскликнула: «Ты только посмотри на него. Это же людоед!». Это лишь увеличило мой ужас, и я проснулся в испарине, напуганный до смерти. Много ночей после этого я боялся засыпать, потому что я боялся увидеть еще один такой же сон. Это сновидение преследовало меня много дней. Гораздо позже я понял, что это был образ фаллоса, и прошли еще десятилетия, прежде чем я узнал, что это ритуальный фаллос. <…> Абстрактный смысл фаллоса доказывается его единичностью и его вертикальным положением на троне. Яма на лугу была могилой, сама же могила — подземным храмом, чей зеленый занавес символизировал луг, другими словами, тайну земли с ее зеленым травяным покровом. Ковер был 34 www.russianeurope.ru кроваво-красным. А что сказать о своде? Возможно ли, чтобы я уже побывал в Муноте, цитадели Шафгаузена? Это маловероятно, — никто не возьмет туда трехлетнего ребенка. Так что это не могло быть воспоминанием. Кроме того, я не знаю, откуда взялась анатомическая правильность образа. Интерпретация самой верхней его части как глаза с источником света указывает на значение соответствующего греческого слова phalos — светящийся, яркий». Юнг во сне погружается в «подземный храм», Цирцея же дает Одиссею совет «проникнуть в область Аида», вход в которую находится за Океаном (так называлась река, которая, как считали греки, начиная свой путь в Аиде, окружала всю сушу): В доме своем я тебя поневоле держать не желаю. Прежде, однако, ты должен, с пути уклоняся, проникнуть В область Аида, где властвует страшная с ним Персефона. Душу пророка, слепца, обладавшего разумом зорким, Душу Тиресия фивского должно тебе вопросить там. <…> «О Лаэртид, многохитростный муж, Одиссей благородный, Верь, кораблю твоему провожатый найдется; об этом Ты не заботься; но, мачту поставив и парус поднявши, Смело плыви; твой корабль передам я Борею; когда же Ты, Океан в корабле поперек переплывши, достигнешь Низкого брега, где дико растет Персефонин широкий Лес из ракит, свой теряющих плод, и из тополей черных, Вздвинув на брег, под которым шумит Океан водовратный, Черный корабль свой, вступи ты в Аидову мглистую область. Роль Бабы-яги в русских сказках также заключается в том, чтобы переправить героя в иное царство, в царство смерти. 35 www.russianeurope.ru Тут можно видеть и «падение»: герой (причем через водную стихию) спускается в подземное царство. Но есть в истории с Цирцеей и совершенно прямое, откровенное падение с высоты. Один из спутников Одиссея, Ельпенор, падает с крыши и разбивается: Но и оттуда не мог я отплыть без утраты печальной: Младший из всех на моем корабле, Ельпенор, неотличный Смелостью в битвах, нещедро умом от богов одаренный, Спать для прохлады ушел на площадку возвышенной кровли Дома Цирцеи священного, крепким вином охмеленный. Шумные сборы товарищей, в путь уж готовых, услышав, Вдруг он вскочил и, от хмеля забыв, что назад обратиться Должен был прежде, чтоб с кровли высокой сойти по ступеням, Прянул спросонья вперед, сорвался и, ударясь затылком Оземь, сломил позвонковую кость, и душа отлетела В область Аида… Падение Ельпенора вторит разбиванию о землю товарищей Одиссея в пещере Полифема. Тут важно и то, что Ельпенор — «крепким вином охмеленный» (то есть находящийся в состоянии «измененного сознания»), и то, что страдает именно его голова. Кроме того, важна его перевернутость (во время падения). Она символизирует в обряде именно «измененное сознание», превращение посвящаемого в свою противоположность — в двойникаантипода. Здесь эта перевернутось отражается и в жесте Ельпенора, который как раз не повернулся в правильную сторону («от хмеля забыв, что назад обратиться должен был прежде»). Не обратившись, не повернувшись, он поступил перевернуто, превратно. То есть поступил не как человек, а как двойник-антипод. Ельпенор и есть двойник-антипод Одиссея. И не только потому, что он «младший из всех» (сравните: «мой дружок», «мой младший братец» — о 36 www.russianeurope.ru пенисе, да и в сказках герой часто предстает именно младшим братом) и «смелостью в битвах, нещедро умом от богов одаренный» («Иванушкадурачок» — в отличие от «многоумного» «градорушителя» Одиссея). Ельпенор — первая тень, которую Одиссей встречает в подземном царстве: Прежде других предо мною явилась душа Ельпенора; Бедный, еще не зарытый, лежал на земле путеносной. Не был он нами оплакан; ему не свершив погребенья, В доме Цирцеи его мы оставили: в путь мы спешили. Слезы я пролил, увидя его; состраданье мне душу проникло. Голос возвысив, я мертвому бросил крылатое слово: «Скоро же, друг Ельпенор, очутился ты в царстве Аида! Пеший проворнее был ты, чем мы в корабле быстроходном». Так я сказал; простонавши печально, мне так отвечал он: «О Лаэртид, многохитростный муж, Одиссей многославный, Демоном злым погублен я и силой вина несказанной; Крепко на кровле заснув, я забыл, что назад надлежало Прежде пойти, чтоб по лестнице с кровли высокой спуститься; Бросясь вперед, я упал и, затылком ударившись оземь, Кость изломал позвоночную; в область Аида мгновенно Дух отлетел мой. Тебя же любовью к отсутственным милым, Верной женою, отцом, воспитавшим тебя, и цветущим Сыном, тобой во младенческих летах оставленным дома, Ныне молю (мне известно, что, область Аида покинув, Ты в корабле возвратишься на остров Цирцеи) — о! вспомни, Вспомни тогда обо мне, Одиссей благородный, чтоб не был Там не оплаканный я и безгробный оставлен, чтоб гнева Мстящих богов на себя не навлек ты моею бедою. Бросивши труп мой со всеми моими доспехами в пламень, Холм гробовой надо мною насыпьте близ моря седого; 37 www.russianeurope.ru В памятный знак же о гибели мужа для поздних потомков В землю на холме моем то весло водрузите, которым Некогда в жизни, ваш верный товарищ, я волны тревожил». Так говорил Ельпенор, и, ему отвечая, сказал я: «Все, злополучный, как требуешь, мною исполнено будет». Так мы, печально беседуя, друг подле друга сидели, Я, отгоняющий тени от крови мечом обнаженным, Он, говорящий со мною, товарища прежнего призрак. Так что погружение Одиссея в подземное царство дублируется падением Ельпенора с кровли дома Цирцеи. Это Ельпенор приплыл в Аид, это Одиссей упал с крыши. 4. Мы увидели, что история с Цирцеей по сути та же самая история, что история с Полифемом. А остальные истории, в которые попадает Одиссей? Вот роковая встреча Одиссея и его спутников с лестригонами: Двух расторопнейших самых товарищей наших я выбрал (Третий был с ними глашатай) и сведать послал их, к каким мы Людям, вкушающим хлеб на земле плодоносной, достигли? Гладкая скоро дорога представилась им, по которой В город дрова на возах с окружающих гор доставлялись. Сильная дева им встретилась там; за водою с кувшином За город вышла она; лестригон Антифат был отец ей; Встретились с нею они при ключе Артакийском, в котором Черпали светлую воду все, жившие в городе близком. К ней подошедши, они ей сказали: «Желаем узнать мы, Дева, кто властвует здешним народом и здешней страною?» 38 www.russianeurope.ru Дом Антифата, отца своего, им она указала. В дом тот высокий вступивши, они там супругу владыки Встретили, ростом с великую гору, — они ужаснулись. Та же велела скорей из собранья царя Антифата Вызвать; и он, прибежав, на погибель товарищей наших, Жадно схватил одного и сожрал; то увидя, другие Бросились в бегство и быстро к судам возвратилися; он же Начал ужасно кричать и встревожил весь город; на громкий Крик отовсюду сбежалась толпа лестригонов могучих; Много сбежалося их, великанам, не людям подобных. С крути утесов они через силу подъемные камни Стали бросать; на судах поднялася тревога — ужасный Крик убиваемых, треск от крушенья снастей; тут злосчастных Спутников наших, как рыб, нанизали на колья и в город Всех унесли на съеденье. В то время как бедственно гибли В пристани спутники, острый я меч обнажил и, отсекши Крепкий канат, на котором стоял мой корабль темноносый, Людям, собравшимся в ужасе, молча кивнул головою, Их побуждая всей силой на весла налечь, чтоб избегнуть. Близкой беды: устрашенные дружно ударили в весла. Мимо стремнистых утесов в открытое море успешно Выплыл корабль мой; другие же все невозвратно погибли. Далее поплыли мы, в сокрушенье великом о милых Мертвых, но радуясь в сердце, что сами спаслися от смерти. 39 www.russianeurope.ru Нападение лестригонов. Древнеримская фреска Вы без труда найдете в этом рассказе те же основные элементы, что и в предыдущих двух, рассмотренных нами. Остается общий принцип: герой (один или со спутниками) попадает в некое замкнутое пространство, далее происходит поедание (с падением-бросанием), далее — спасение героя, выход его из рокового пространства наружу (одного или с уцелевшей частью товарищей). В истории с лестригонами примечателен также образ великанши-людоедки («ростом с великую гору»), которая, будучи женщиной, представляет собой как бы промежуточное звено между Полифемом и Цирцеей. Интересно и то, что погибшие спутники сравниваются с рыбами, приравниваются к рыбам («тут злосчастных спутников наших, как рыб, нанизали на колья и в город всех унесли на съеденье»). Рыба, будучи частью водной стихии, типичный образ как умирающего (возвращающегося в стихию), так и рождающегося (выходящего из стихии) человека. 40 www.russianeurope.ru А вот что рассказывает Цирцея Одиссею о Сцилле и Харибде (наставляя его на дальнейший путь): После ты две повстречаешь скалы: до широкого неба Острой вершиной восходит одна, облака окружают Темносгущенные ту высоту, никогда не редея. Там никогда не бывает ни летом, ни осенью светел Воздух; туда не взойдет и оттоль не сойдет ни единый Смертный, хотя б с двадцатью был руками и двадцать Ног бы имел, — столь ужасно, как будто обтесанный, гладок Камень скалы; и на самой ее середине пещера, Темным жерлом обращенная к мраку Эреба на запад; Мимо ее ты пройдешь с кораблем, Одиссей многославный; Даже и сильный стрелок не достигнет направленной с моря Быстролетящей стрелою до входа высокой пещеры; Страшная Скилла живет искони там. Без умолку лая, Визгом пронзительным, визгу щенка молодого подобным, Всю оглашает окрестность чудовище. К ней приближаться Страшно не людям одним, но и самым бессмертным. Двенадцать Движется спереди лап у нее; на плечах же косматых Шесть подымается длинных, изгибистых шей; и на каждой Шее торчит голова, а на челюстях в три ряда зубы, Частые, острые, полные черною смертью, сверкают; Вдвинувшись задом в пещеру и выдвинув грудь из пещеры, Всеми глядит головами из лога ужасная Скилла. Лапами шаря кругом по скале, обливаемой морем, Ловит дельфинов она, тюленей и могучих подводных Чуд, без числа населяющих хладную зыбь Амфитриты. Мимо ее ни один мореходец не мог невредимо С легким пройти кораблем: все зубастые пасти разинув, 41 www.russianeurope.ru Разом она по шести человек с корабля похищает. Близко увидишь другую скалу, Одиссей многославный: Ниже она; отстоит же от первой на выстрел из лука. Дико растет на скале той смоковница с сенью широкой. Страшно все море под тою скалою тревожит Харибда, Три раза в день поглощая и три раза в день извергая Черную влагу. Не смей приближаться, когда поглощает: Сам Посейдон от погибели верной тогда не избавит. 42 www.russianeurope.ru Корабль Одиссея, проходящий между Сциллой и Харибдой. Итальянская фреска. 1560 год Скилла — это одновременно и Полифем (скала с пещерой, пожирающая путников), и животное вроде собаки. У этого зверя двенадцать лап и шесть шей. Тут мы встречаемся с еще одним интересным «второстепенным членом предложения» нашей морфологии, нашей «сущностной формы». Звериный двойник нередко предстает как некое множественное существо — словно 43 www.russianeurope.ru отражение героя во многих зеркалах. Герой отражается в мире, а мир многогранен. Отражение героя в разных гранях мира дает множественность облика двойника (его многоглазость, многоликость, многорукость). (Впрочем, мы уже встречали это в отрывке из повести Де Квинси, где «англичанин, употребляющий опиум» видит на водной поверхости множество лиц.) Кроме того, герой и его спутники приравниваются к дельфинам, тюленям, к «подводным чудам», что говорит об их превращении (в обряде инициации) в живые части водной стихии, символизирующей мир в целом («ловит дельфинов она, тюленей и могучих подводных чуд»). Герой обретает звериную душу, как в стихотворении Мандельштама: Ни о чем не нужно говорить, Ничему не следует учить, И печальна так и хороша Темная звериная душа: Ничему не хочет научить, Не умеет вовсе говорить И плывет дельфином молодым По седым пучинам мировым. Еще одна задача Одиссея — миновать «остров сирен смертоносный». Вот он каков (по словам Цирцеи): Прежде всего ты увидишь сирен; неизбежною чарой Ловят они подходящих к ним близко людей мореходных. Кто, по незнанью, к тем двум чародейкам приближась, их сладкий Голос услышит, тому ни жены, ни детей малолетных В доме своем никогда не утешить желанным возвратом: Пением сладким сирены его очаруют, на светлом 44 www.russianeurope.ru Сидя лугу; а на этом лугу человечьих белеет Много костей, и разбросаны тлеющих кож там лохмотья. Ты ж, заклеивши товарищам уши смягченным медвяным Воском, чтоб слышать они не могли, проплыви без оглядки Мимо; но ежели сам роковой пожелаешь услышать Голос, вели, чтоб тебя по рукам и ногам привязали К мачте твоей корабельной крепчайшей веревкой; тогда ты Можешь свой слух без вреда удовольствовать гибельным пеньем. Если ж просить ты начнешь иль приказывать станешь, чтоб сняли Узы твои, то двойными тебя пусть немедленно свяжут. Джон Уильям Уотерхаус. Одиссей и сирены. 1891 год То же замкнутое пространство, людоедство и спасение. То же разрывание тела на части («на этом лугу человечьих белеет много костей, и разбросаны тлеющих кож там лохмотья»). Тот же звериный (здесь — птичий) двойник-антипод. Вместо одной чародейки, как в случае с Цирцеей, здесь две. Это тот довольно частый случай, когда двойничество выражено в самой удвоенности двойника-антипода (аналогичный случай — Сцилла и Харибда). 45 www.russianeurope.ru Важный элемент — связывание героя. Это частый символ смерти, реализуемый в обряде инициации. (Например, связанных мальчиков клали возле костра. Они должны были освободиться, когда перегорят веревки. Что было, конечно, и приобщением к стихии огня.) Особенно же здесь интересно противопоставление временной глухоты спутников (также символ смерти, реализуемый в обряде: подростков не только временно ослепляли, но и временно оглушали) и открытого слуха Одиссея, получающего возможность безнаказанно слышать «сладкий голос» звериного двойника. Здесь перед нами две разные стадии одного и того же обряда, данные синхронно: одна стадия — глухота (смерть), вторая стадия — слышанье (жизнь). Герой, прошедший обряд, научается слышать и понимать звериный язык, язык вступающего с ним в разговор мира-личности. Из этого потом возникнет поэзия. Пользуясь пушкинским противопоставлением, можно сказать, что Одиссей здесь — поэт, а его спутники — чернь. Историю, аналогичную прослушиванию сирен, представляет собой рассказ царя Менелая его гостю Телемаху (сыну Одиссея) о том, как его жена, царица Елена, выманивала ахейцев из Троянского коня, в котором они (под руководством Одиссея) укрывались: Вот что, могучий, он там наконец предпринял и исполнил. В чреве глубоком коня (где ахейцы избранные были Скрыты) погибельный ков и убийство врагам приготовив; К нам ты тогда подошла — по внушению злому, конечно, Демона, дать замышлявшего славу враждебным троянам, — Вслед за тобою туда же пришел Деифоб благородный; Трижды громаду ты с ним обошла и, отвсюду ощупав Ребра ее, начала вызывать поименно аргивян, Голосу наших возлюбленных жен подражая искусно. Мне ж с Диомедом и с бодрым царем Одиссеем, сокрытым В темной утробе громады, знакомые слышались звуки. 46 www.russianeurope.ru Вдруг пробудилось желанье во мне и в Тидеевом сыне Выйти наружу иль громко тебе извнутри отозваться; Но Одиссей опрометчивых нас удержал; остальные ж, В чреве коня притаяся, глубоко молчали ахейцы. Только один Антиклес на призыв твой подать порывался Голос; но царь Одиссей, многосильной рукою зажавши Рот безрассудному, тем от погибели всех нас избавил; С ним он боролся, пока не ушла ты по воле Афины. Елена Прекрасная здесь — типичная Прекрасная Дама, манящая героев. Она одна, но представляет множественность «сладких голосов». Они вполне аналогичны «гибельному пению» сирен. А Троянский конь — это мифический зверь, это замкнутое пространство, пожирающее героев. И Елена Прекрасная — конь, и Одиссей — конь. Или, точнее, он должен стать конем в результате обряда инициации. И расчленение, растерзание также произойдет — только у Гомера оно перенесено с ахейцев на троянцев, как об этом повествует во время визита Одиссея к феакам певец Демодок: После воспел он, как мужи ахейские в град ворвалися, Чрево коня отворив и из темного выбежав склепа; Как, разъяренные, каждый по-своему град разоряли… Получается, что все истории, в которые попадает Одиссей, по сути одна и та же история. «Многоумный» многократно наступает на те же грабли. 5. В истории с Навсикаей мы не видим ограниченного пространства, в котором герой оказался бы заперт (он остался один, все спутники погибли после 47 www.russianeurope.ru истории с быками Гелиоса7). Если не считать того, что корабль феаков, доставивший Одиссея на Итаку, превратился в скалу и что город феаков, возможно, Посейдон задвинет скалой, мстя феакам за их помощь Одиссею: Ныне же мной феакийский прекрасный корабль, Одиссея В землю его проводивший и морем обратно плывущий, Будет разбит, чтоб вперед уж они по водам не дерзали Всех провожать; и горою великой задвину их город. <…> И корабль, обтекатель морей, приближался Быстро. К нему подошед, колебатель земли во мгновенье В камень его обратил и ударом ладони к морскому Дну основанием крепко притиснул: потом удалился. Задвигание города горой весьма напоминает Полифема, задвигающего скалой свою пещеру («снова пещеру задвинув скалой необъятно тяжелой…»). Аналогично поступает и помогающая Одиссею Афина, укрывая в гроте наяд на Итаке подарки, полученные Одиссеем от феаков: ...богиня во внутренность грота вошла и рукою Темные стен закоулки ощупала; сын же Лаэртов Все, и нетленную медь, и богатые платья, и злато, Им от людей феакийской земли получённые, собрал; В гроте их склав, перед входом его положила огромный Камень дочь Зевса эгидодержавца Паллада Афина. Так получается, что город феаков, грот наяд, пещера Полифема — одно и то же. 7 Тоже любопытная история, в которой особенно интересны ползущие и мычащие шкуры. 48 www.russianeurope.ru Перед тем, как попасть к Навсикае, Одиссей как следует знакомится с водной стихией (благодаря Посейдону, мстящему за своего сына Полифема): В это мгновенье большая волна поднялась и расшиблась Вся над его головою; стремительно плот закружился; Схваченный, с палубы в море упал он стремглав, упустивши Руль из руки; повалилася мачта, сломясь под тяжелым Ветров противных, слетевшихся друг против друга, ударом; В море далеко снесло и развившийся парус, и райну. Долго его глубина поглощала, и сил не имел он Выбиться кверху, давимый напором волны и стесненный Платьем, богиней Калипсою данным ему на прощанье. Вынырнул он напоследок, из уст извергая морскую Горькую воду, с его бороды и кудрей изобильным Током бежавшую; в этой тревоге, однако, он вспомнил Плот свой, за ним по волнам погнался, за него ухватился, Взлез на него и на палубе сел, избежав потопленья; Плот же бросали туда и сюда взгроможденные волны: Словно как шумный осенний Борей по широкой равнине Носит повсюду иссохший, скатавшийся густо репейник, По морю так беззащитное судно повсюду носили Ветры; то быстро Борею его перебрасывал Нот, то шумящий Эвр, им играя, его предавал произволу Зефира. <…> Тою порою, как он колебался рассудком и сердцем, Поднял из бездны волну Посейдон, потрясающий землю, Страшную, тяжкую, гороогромную; сильно он грянул Ею в него: как от быстрого вихря сухая солома, Кучей лежавшая, вся разлетается, вдруг разорвавшись, Так от волны разорвалися брусья. Один, Одиссеем 49 www.russianeurope.ru Пойманный, был им, как конь, убежавший на волю, оседлан. Сняв на прощанье богиней Калипсою данное платье, Грудь он немедля свою покрывалом одел чудотворным8. Руки простерши и плыть изготовясь, потом он отважно Кинулся в волны. Могучий земли колебатель при этом Виде лазурнокудрявой тряхнул головой и воскликнул: «По морю бурному плавай теперь на свободе, покуда Люди, любезные Зевсу, тебя благосклонно не примут; Будет с тебя! Не останешься, думаю, мной недоволен». Так он сказавши, погнал длинногривых коней и умчался В Эгию, где обитал в светлозданных, высоких чертогах. <…> Тою порой, как рассудком и сердцем он так колебался, Быстрой волною помчало его на утесистый берег; Тело б его изорвалось и кости б его сокрушились, Если б он вовремя светлой богиней Афиной наставлен Не был руками за ближний схватиться утес; и, к нему прицепившись, Ждал он, со стоном на камне вися, чтоб волна пробежала Мимо; она пробежала, но вдруг, отразясь, на возврате Сшибла с утеса его и отбросила в темное море. Если полипа из ложа ветвистого силою вырвешь, Множество крупинок камня к его прилепляется ножкам: К резкому так прилепилась утесу лоскутьями кожа Рук Одиссеевых; вдруг поглощенный волною великой, В бездне соленой, судьбе вопреки, неизбежно б погиб он, Если б отважности в душу его не вложила Афина. Вынырнув вбок из волны, устремившейся прянуть на камни, Поплыл он в сторону, взором преследуя землю и тщася Это покрывало было только что подарено Одиссею богиней Левкотеей, сжалившейся над героем, принявшей облик «нырка легкокрылого» и поспешившей с подарком на его плот. Примечательна сама смена одежды. 8 50 www.russianeurope.ru Где-нибудь берег отлогий иль мелкое место приметить. Вдруг он увидел себя перед устьем реки светловодной. Самым удобным то место ему показалось: там острых Не было камней, там всюду от ветров являлась защита. Одиссей спасается на берег, где его ждет встреча с царевной феаков Навсикаей. В этом длинном отрывке обратите внимание на различные элементы обряда, уже упоминаемые раньше: разрывание (в том числе и на лоскутья кожи, содранной с рук Одиссея), кружение («стремительно плот закружился»), падение («она пробежала, но вдруг, отразясь, на возврате сшибла с утеса его и отбросила в темное море»), погружение в водную стихию («долго его глубина поглощала, и сил не имел он выбиться кверху, давимый напором волны и стесненный платьем»), превращение в коня («один, Одиссеем пойманный, был им, как конь, убежавший на волю, оседлан»). А ветры, играющие героем и передающие его друг другу, напоминают историю с ветрами, выпущенными неразумными спутниками Одиссея из мешка, подаренного Одиссею богом ветров Эолом. В результате той истории Одиссей со спутниками, уже подплывавшие к Итаке, были отброшены освобожденными ветрами обратно к острову Эола (так заключенность ветров в ограниченном пространстве отражается в заключенности в ограниченном пространстве самих путников, пусть и находящихся в открытом море): Но напоследок, когда обратился я, в путь изготовясь, С просьбой к нему отпустить нас, на то согласясь благосклонно, Дал он мне сшитый из кожи быка девятигодового Мех с заключенными в нем буреносными ветрами; был он Их господином, по воле Крониона Дия, и всех их Мог возбуждать иль обуздывать, как приходило желанье. <…> 51 www.russianeurope.ru Мех был развязан, и шумно исторглися ветры на волю; Бурю воздвигнув, они с кораблями их, громко рыдавших, Снова от брега отчизны умчали в открытое море. Я пробудился и долго умом колебался, не зная, Что мне избрать, самого ли себя уничтожить, в пучину Бросясь, иль, молча судьбе покорясь, меж живыми остаться. Я покорился судьбе и на дне корабля, завернувшись В мантию, тихо лежал. К Эолийскому острову снова Бурею наши суда принесло… Вернемся к истории с Навсикаей. Выйдя на берег, Одиссей зарывается в кучу листьев и ночует в ней: …в лес он пошел, от реки недалеко Росший на холме открытом. Он там две сплетенные крепко Выбрал оливы; одна плодоносна была, а другая Дикая; в сень их проникнуть не мог ни холодный, Сыростью дышащий ветер, ни Гелиос, знойно блестящий; Даже и дождь не пронзал их ветвистого свода: так густо Были они сплетены. Одиссей, угнездившись под ними, Лег, наперед для себя приготовив своими руками Мягкое ложе из листьев опалых, которых такая Груда была, что и двое и трое могли бы удобно В зимнюю бурю, как сильно б она ни шумела, там скрыться. Груду увидя, обрадован был Одиссей несказанно. Бросясь в нее, он совсем закопался в слежавшихся листьях. Как под золой головню неугасшую пахарь скрывает В поле далеко от места жилого, чтоб пламени семя В ней сохраниться могло безопасно от злого пожара, Так Одиссей, под листами зарывшися, грелся, и очи 52 www.russianeurope.ru Сладкой дремотой Афина смежила ему, чтоб скорее В нем оживить изнуренные силы. И крепко заснул он. На следующий день (по наущению богини Афины) Навсикая, дочь царя Алкиноя, отправляется в сопровождении своих подруг на берег моря (к устью реки), чтобы стирать одежду (готовя ее как приданое к свадьбе). Подруги, играя в мяч, будят Одиссея: Тут светлоокая дева Паллада придумала средство, Как пробудить Одиссея, чтоб, с ним повстречавшись, царевна В город людей феакийских ему указала дорогу: Бросила мяч Навсикая в подружек, но, в них не попавши, Он, отраженный Афиною, в волны шумящие прянул; Громко они закричали; их крик пробудил Одиссея. Он поднялся и, колеблясь рассудком и сердцем, воскликнул: «Горе! К какому народу зашел я? Быть может, здесь область Диких, не знающих правды людей? Иль, может быть, встречу Смертных приветливых, богобоязненных, гостеприимных? Кажется, девичий громкий вблизи мне послышался голос. Или здесь нимфы, владелицы гор крутоглавых, душистых, Влажных лугов и истоков речных потаенных, играют; Или достиг наконец я жилища людей говорящих. Встанем же; должно мне все самому испытать и разведать». С сими словами из чащи кустов Одиссей осторожно Выполз; потом жиловатой рукою покрытых листами Свежих ветвей наломал, чтоб одеть обнаженное тело. Вышел он — так, на горах обитающий, силою гордый, В ветер и дождь на добычу выходит, сверкая глазами, Лев; на быков и овец он бросается в поле, хватает Диких оленей в лесу и нередко, тревожимый гладом, 53 www.russianeurope.ru Мелкий скот похищать подбегает к пастушьим заградам. Так Одиссей вознамерился к девам прекраснокудрявым Наг подойти, приневолен к тому непреклонной нуждою. Был он ужасен, покрытый морскою засохшею тиной; В трепете все разбежалися врозь по высокому брегу. Но Алкиноева дочь не покинула места. Афина Бодрость вселила ей в сердце и в нем уничтожила робость. Якоб Йорданс (1593 — 1678). Встреча Одиссея и Навсикаи Одиссей, выбирающийся из-под кучи листьев, выползающий из чащи кустов, покрытый морской тиной («был он ужасен, покрытый морскою засохшею тиной»), есть герой, выходящий на свободу из материнской утробы. С точки зрения мифа его рожает дева (которую здесь представляет Навсикая, сравниваемая затем в обращении к ней Одиссея с Артемидой, то есть с 54 www.russianeurope.ru богиней-девственницей, богиней охоты, покровительницей рожениц, защитницей звериного молодняка). Вместе с тем это картина «непорочного зачатия», в которой рождающийся ребенок и порождающий фаллос — одно и то же. Герой сравнивается с тлеющей головней, которая параллельна дубине Полифема с ее заостренным и раскаленным на огне концом: Как под золой головню неугасшую пахарь скрывает В поле далеко от места жилого, чтоб пламени семя В ней сохраниться могло безопасно от злого пожара, Так Одиссей, под листами зарывшися, грелся… Примечательно в сцене с Навсикаей и бросание мяча. Затем этот элемент сюжета повторится во время состязания феаков, когда один из состязавшихся бросает Одиссею насмешливый вызов. Одиссей отвечает тем, что мечет камень: Камень схватил — он огромней, плотней и тяжеле всех дисков, Брошенных прежде людьми феакийскими, был; и с размаха Кинул его Одиссей, жиловатую руку напрягши; Камень, жужжа, полетел; и под ним до земли головами Веслолюбивые, смелые гости морей, феакийцы Все наклонились; а он далеко через все перемчался Диски, легко улетев из руки; и Афина под видом Старца, отметивши знаком его, Одиссею сказала: «Странник, твой знак и слепой различит без ошибки, ощупав Просто рукою; лежит он отдельно от прочих, гораздо Далее всех их. Ты в этом бою победил; ни один здесь Камня ни дале, ни так же далеко, как ты, не способен Бросить». От слов сих веселье проникло во грудь Одиссея. 55 www.russianeurope.ru Вы помните: кто-то уже что-то кидал в одной из этих историй. Затем мы (с Одиссеем) созерцаем танец с мячом, исполнением которого феаки превосходят любые другие племена: Но Алкиной повелел Галионту вдвоем с Лаодамом Пляску начать: в ней не мог превосходством никто победить их. Мяч разноцветный, для них рукодельным Полибием сшитый, Взяв, Лаодам с молодым Галионтом на ровную площадь Вышли; закинувши голову, мяч к облакам темно-светлым Бросил один; а другой разбежался и, прянув высоко, Мяч на лету подхватил, до земли не коснувшись ногами. Легким бросаньем мяча в высоту отличась пред народом, Начали оба по гладкому лону земли плодоносной Быстро плясать; и затопали юноши в меру ногами, Стоя кругом, и от топота ног их вся площадь гремела. Любителям футбола (и других игр с мячом) будет, пожалуй, интересно узнать, что в основе этой игры лежит первобытный элемент обряда. Играли (перекидываясь) головой жертвы, что символизировало как смерть, так и воскресение9. 6. Что удивительным образом почувствовал Мандельштам, сравнивший в стихотворении о футболе мяч с головой Олоферна: 9 Должно быть, так толпа сгрудилась, Когда, мучительно жива, Не допив кубка, покатилась К ногам тупая голова. Неизъяснимо лицемерно Не так ли кончиком ноги Над теплым трупом Олоферна Юдифь глумилась... 56 www.russianeurope.ru Одиссей вернулся на Итаку, прикинулся (с помощью Афины) нищим, открылся лишь своему сыну Телемаху и двум верным слугам, запер с их помощью в удобный момент женихов Пенелопы в столовой зале и перебил их. До этого Пенелопа (не узнавая его) рассказала ему свой сон: Ты же послушай: я видела сон; мне его растолкуй ты; Двадцать гусей у меня есть домашних; кормлю их пшеницей; Видеть люблю, как они, на воде полоскаясь, играют. Снилося мне, что, с горы прилетевший, орел крутоносый, Шею свернув им, их всех заклевал, что в пространной столовой Мертвые были они на полу все разбросаны; сам же В небо умчался орел. И во сне я стонала и горько Плакала; вместе со мною и много прекрасных ахейских Жен о гусях, умерщвленных могучим орлом, сокрушалось. Он же, назад прилетев и спустясь на высокую кровлю Царского дома, сказал человеческим голосом внятно: «Старца Икария умная дочь, не крушись, Пенелопа. Видишь не сон мимолетный, событие верное видишь; Гуси — твои женихи, а орел, их убить прилетавший Грозною птицей, не птица, а я, Одиссей твой, богами Ныне тебе возвращенный твоим женихам на погибель». Так он сказал мне, и в это мгновенье мой сон прекратился; Я осмотрелась кругом: на дворе, я увидела, гуси Все налицо; и, толпяся к корыту, клюют там пшеницу. Запертые в столовой зале и перебитые Одиссеем женихи — все тот же обряд инициации. Убитые женихи сравниваются с рыбами (так же как убитые лестригонами спутники Одиссея): Очи водил вкруг себя Одиссей, чтоб узнать, не остался ль 57 www.russianeurope.ru Кто неубитый, случайно избегший могущества Керы? Мертвые все, он увидел, в крови и в пыли неподвижно Кучей лежали они на полу там, как рыбы, которых, На берег вытащив их из глубокозеленого моря Неводом мелкопетлистым, рыбак высыпает на землю; Там на песке раскаленном их, влаги соленой лишенных, Гелиос пламенный душит, и все до одной умирают. Мертвые так там один на другом неподвижно лежали. Образ рыб важен, конечно, своей связью с водной стихией. Во сне Пенелопы, там женихи предстают гусями, клюющими пшеницу, которую им дает Пенелопа. Иными словами, они поедают мифического зверя в его женственной ипостаси. Пока не появляется мифический зверь в мужской ипостаси (орел-Одиссей) и не поедает их. Женихи действительно показаны почти все время в процессе еды (пирующими в зале): Все они вместе пошли и, когда в Одиссеев вступили Дом, положивши на гладкие кресла и стулья одежды, Начали крупных баранов, откормленных коз и огромных, Жирных свиней убивать; и корову зарезали также. Были изжарены прежде одни потроха, и в кратеры Влито с водою вино. Свинопас двоеручные кубки Подал, потом и в прекрасных корзинах коровник Филонтий Хлебы разнес; а Меланфий вином благовонным наполнил Кубки. И подняли руки они к приготовленной пище. Интересно их в какой-то момент видит провидец Феоклимен: …В женихах несказанный Афина 58 www.russianeurope.ru Смех пробудила, их сердце смутив и рассудок расстроив. Дико они хохотали; и, лицами вдруг изменившись, Ели сырое, кровавое мясо; глаза их слезами Все затуманились; сердце их тяжкой заныло тоскою. Феоклимен богоравный тогда поднялся и сказал им: «Вы, злополучные, горе вам! Горе! Невидимы стали Головы ваши во мгле и невидимы ваши колена; Слышен мне стон ваш, слезами обрызганы ваши ланиты. Стены, я вижу, в крови; с потолочных бежит перекладин Кровь; привиденьями, в бездну Эреба бегущими, полны Сени и двор, и на солнце небесное, вижу я, всходит Страшная тень, и под ней вся земля покрывается мраком». Так он сказал им. Безумно они хохотать продолжали. Здесь особенно хорошо заметна связь процесса еды женихов с процессом их смерти — они словно поедают самих себя. Одиссей натягивает лук (который не смогли натянуть женихи) и убивает их, начиная с главного и самого противного — с Антиноя: Так говоря, он прицелился горькой стрелой в Антиноя. Взяв со стола золотую с двумя рукоятями чашу, Пить из нее Антиной уж готов был вино; беззаботно Полную чашу к устам подносил он; и мысли о смерти Не было в нем. И никто из гостей многочисленных пира Вздумать не мог, чтоб один человек на толпу их замыслил Дерзко ударить и разом предать их губительной Кере. Выстрелил, грудью подавшись вперед, Одиссей, и пронзила Горло стрела; острие смертоносное вышло в затылок; На бок упал Антиной; покатилася по полу чаша, Выпав из рук; и горячим ключом из ноздрей засвистала 59 www.russianeurope.ru Черная кровь; забрыкавши ногами, толкнул от себя он Стол и его опрокинул; вся пища (горячее мясо, Хлеб и другое), смешавшись, свалилася на пол. Ужасный Подняли крик женихи, Антиноя узрев умерщвленным. Антиной — двойник-антипод Одиссея (равно как и Телемаха). Обратите внимание на развернутый образ падения двойника: Антиной поражен в шею (то есть, по сути, лишается головы), падает он сам, катится по полу чаша, опрокидывается стол, валится, смешавшись, на пол вся пища. Похоже падал и Полифем: Тут повалился он навзничь, совсем опьянелый; и набок Свисла могучая шея, и всепобеждающей силой Сон овладел им; вино и куски человечьего мяса Выбросил он из разинутой пасти, не в меру напившись. Падает Антиной, он же — пища. А вино в чаше есть его кровь. Одиссей съедает Антиноя. Он — мифический зверь. Вот каким его видит после завершения избиения двойников его старая кормилица Евриклея: Взорам ее Одиссей посреди умерщвленных явился, Потом и кровью покрытый; подобился льву он10, который, Съевши быка, подымается, сытый, и тихо из стада — Грива в крови и вся страшная пасть, обагренная кровью, — В лог свой идет, наводя на людей неописанный ужас. Кровию так Одиссей с головы был до ног весь обрызган. Льву уподобляется и Полифем («как лев, разъяряемый гладом…»), Одиссей же является львом и в сцене с Навсикаей: Вышел он — так, на горах обитающий, силою гордый, В ветер и дождь на добычу выходит, сверкая глазами, Лев… 60 www.russianeurope.ru 10 Стрела, пронзающая Антиноя и вызывающая его падение, представляет собой обратное движение по отношению к различным предметам, которые до этого кидали в Одиссея-нищего женихи: Так он сказал и скамейку схватил, чтоб пустить в Одиссея; Но Одиссей, отскочивши, к коленам припал Амфинома; Мимо его прошумев, виночерпия сильно скамейка В правую треснула руку, и чаша, в ней бывшая, на пол Грянулась; тот, опрокинутый, навзничь упал, застонавши. ——— Так, к женихам обратяся, сказал им Ктесипп многобуйный: «Выслушать слово мое вас, товарищи, я приглашаю: Мяса, как следует, добрую часть со стола получил уж Этот старик — и весьма б непохвально, неправедно было, Если б гостей Телемаховых кто их участка лишал здесь. Я ж и свою для него приготовил подачу, чтоб мог он Что-нибудь дать за купанье рабыне иль должный подарок Сделать кому из рабов, в Одиссеевом доме живущих». Тут он, схвативши коровью, в корзине лежавшую ногу, Сильно ее в Одиссея швырнул; Одиссей, отклонивши Голову вбок, избежал от удара; и страшной улыбкой Стиснул он губы; нога ж, пролетевши, ударила в стену. В этих примерах примечательны как падающая пища и проливающееся вино, так и сам образ опрокинутого навзничь виночерпия. Предметы, которыми женихи бросаются в Одиссея, символизируют швыряние женихами самого Одиссея, его падение вниз, что хорошо видно из его наставления Телемаху (перед тем, как идти к женихам): 61 www.russianeurope.ru Позже туда я приду с свинопасом Евмеем под видом Старого нищего в рубище бедном. Когда там ругаться Станут они надо мною в жилище моем, не давай ты Милому сердцу свободы, и что б ни терпел я, хотя бы За ногу вытащен был из палаты и выброшен в двери Или хотя бы в меня чем швырнули — ты будь равнодушен. Первым в Одиссея метнул предмет Антиной: …Антиной, рассердясь, на него исподлобья Грозно очами сверкнул и бросил крылатое слово: «Если еще грубиянить ты вздумал, бродяга, то даром Это тебе не пройдет, и добром ты не выйдешь отсюда». Тут он скамейкой швырнул — и жестоко ударила в спину Подле плеча Одиссея она; как утес, не шатнувшись, Он устоял на ногах, не сраженный ударом; он только Молча потряс головою и страшное в сердце помыслил. Примечателен образ Одиссея-утеса, напоминающий нам Полифема. Первым, кого Одиссей встретил на Итаке, был свинопас Евмей. Евмей, хотя и свинопас, — царского рода (он был ребенком похищен у своих родителей финикийской рабыней). Встреча Одиссея-нищего и Евмея-свинопаса (и каждый из них — непризнанный царь) есть встреча двойников. При этом Евмей со своим хозяйством и своей хозяйственностью напоминает Полифема: Тою порою из пристани вкруть по тропинке нагорной Лесом пошел он в ту сторону, где, по сказанью Афины, Жил свинопас богоравный, который усерднее прочих 62 www.russianeurope.ru Царских рабов наблюдал за добром своего господина. Он на дворе перед домом в то время сидел за работой; Дом же стоял на высоком, открытом и кругообразном Месте, просторный, отвсюду обходный; его для свиных там Стад свинопас, не спросясь ни с царицей, ни с старцем Лаэртом, Сам, поелику его господин был отсутствен, из твердых Камней построил; ограда терновая стены венчала; Тын из дубовых, обтесанных, близко один от другого В землю вколоченных кольев его окружал; на дворе же Целых двенадцать просторных закут для свиней находилось: Каждую ночь в те закуты свиней загоняли, и в каждой Их пятьдесят, на земле неподвижно лежащих, там было Заперто — матки одни для расплода; самцы же во внешних Спали закутах и в меньшем числе: убавляли, пируя, Их женихи богоравные (сам свинопас принужден был Лучших и самых откормленных им посылать ежедневно); Триста их там шестьдесят боровов налицо оставалось; Их сторожили четыре собаки, как дикие звери Злобные: сам свинопас, повелитель мужей, для себя их Выкормил. Сидя тогда перед домом, кроил он из крепкой Кожи воловьей подошвы для ног; пастухи же другие Были в отлучке: на пажити с стадом свиней находились Трое, четвертый самим повелителем послан был в город Лучшую в стаде свинью женихам необузданным против Воли отдать, чтоб, зарезав ее, насладились едою. Вдруг вдалеке Одиссея увидели злые собаки; С лаем они на него побежали; к земле осторожно, Видя опасность, присел Одиссей, но из рук уронил он Посох, и жалкую гибель в своем бы он встретил владенье, Если бы сам свинопас, за собаками бросясь поспешно, 63 www.russianeurope.ru Выбежать, кинув работу свою, не успел из заграды: Крикнув на бешеных псов, чтоб пугнуть их, швырять он большими Камнями начал; потом он сказал, обратясь к Одиссею: «Был бы, старик, ты разорван, когда б опоздал я минуту; Тяжким упреком легло б мне на сердце такое несчастье; Мне же и так уж довольно печалей бессмертные дали: Здесь, о моем господине божественном сетуя, должен Я, для незваных гостей боровов Одиссеевых жирных Прочить, тогда как, быть может, он сам без покрова, без пищи Странствует в чуждых землях меж народов иного языка (Если он только еще где сиянием дня веселится). В дом мой последуй за мною, старик; я тебя дружелюбно Пищею там угощу и вином; отдохнувши, ты скажешь, Кто ты, откуда, какие беды и напасти где встретил». Вы заметили, конечно, и «высокое место» дома, и свиней в закутах (зверей в запертом пространстве), и готовых растерзать Одиссея злых собак, и швыряние большими камнями. Евмей, в отличие от Полифема, добрый двойник, двойник со знаком «плюс». Он не ест Одиссея, а угощает его: Так говорил он и, поясом легкий хитон свой стянувши, К той отделенной закуте пошел, где одни поросята Заперты были; взяв двух пожирней, он обоих зарезал, Их опалил, и на части рассек, и, на вертел наткнувши Части, изжарил их; кончив, горячее мясо он подал Гостю на вертеле, ячной мукою его пересыпав. После, медвяным вином деревянный наполнивши кубок, Сел против гостя за стол и, его приглашая к обеду… 64 www.russianeurope.ru Евмей угощает двумя поросятами, Полифем съедает двух гостей (за одну свою трапезу). С точки зрения мифа угостить гостя и съесть гостя — это то же самое. Герой часто получает от своего двойника-антипода его шкуру. В литературных произведениях часто вместо получения шкуры (или обмена шкурами) происходит обмен одеждой (обычно именно верхней одеждой: тулупом, плащом). Одиссей также хочет получить шкуру от своего двойникаантипода. Погода ненастная и холодная, поэтому он рассказывает Евмею следующую байку: Мрачно-безлунна была наступившая ночь, и Зевесов Ливень холодный шумел, и Зефир бушевал дожденосный. Начал тогда говорить Одиссей (он хотел, чтоб хозяин Дал ему мантию, или свою, иль с кого из других им Снятую, ибо о нем он с великим радушием пекся): «Слушай, Евмей, и послушайте все вы: хочу перед вами Делом одним я похвастать — вино мне язык развязало; Сила вина несказанна: она и умнейшего громко Петь, и безмерно смеяться, и даже плясать заставляет; Часто внушает и слово такое, которое лучше б Было сберечь про себя. Но я начал и должен докончить. О, Для чего я не молод, как прежде, и той не имею Силы, как в Трое, когда мы однажды сидели в засаде! Были Атрид Менелай с Одиссеем вождями; и с ними Третий начальствовал я, к ним приставший по их приглашенью; К твердо-высоким стенам многославного града пришедши, Все мы от них недалёко в кустарнике, сросшемся густо, Между болотной осоки, щитами покрывшись, лежали Тихо. Была неприязненна ночь, прилетел полуночный Ветер с морозом, и сыпался шумно-холодной метелью 65 www.russianeurope.ru Снег, и щиты хрусталем от мороза подернулись тонким. Теплые мантии были у всех и хитоны; и спали, Ими одевшись, спокойно они под своими щитами; Я ж, безрассудный, товарищу мантию11 отдал, собравшись В путь, не подумав, что ночью дрожать от мороза придется; Взял со щитом я лишь пояс один мой блестящий; когда же Треть совершилася ночи и звезды склонилися с неба, Так я сказал Одиссею, со мною лежавшему рядом, Локтем его подтолкнув (во мгновенье он понял, в чем дело): «О Лаэртид, многохитростный муж, Одиссей благородный, Смертная стужа, порывистый ветер и снег хладоносный Мне нестерпимы; я мантию бросил; хитон лишь злой демон Взять надоумил меня; никакого нет средства согреться». Так я сказал. И недолго он думал, что делать: он первый Был завсегда и на умный совет, и на храброе дело. Шепотом на ухо мне отвечал он: «Молчи, чтоб не мог нас Кто из ахеян, товарищей наших, здесь спящих, подслушать». Так отвечав мне, привстал он и, голову локтем подперши, «Братья, — сказал, — мне приснился божественный сон; мы далеко, Слишком далеко от наших зашли кораблей; не пойдет ли Кто к Агамемнону, пастырю многих народов, Атриду, С просьбой, чтоб в помощь людей нам прислать с кораблей не замедлил». Так он сказал. Поднялся, пробудившись, Фоас Андремонид; Сбросив для легкости с плеч пурпуровую мантию, быстро Он побежал к кораблям; я ж, оставленным платьем одевшись, Сладко проспал до явления златопрестольной Денницы. О, для чего я не молод, не силен, как в прежние годы! мантия — так Жуковский переводит слово hlaina; хлена — обычное верхнее платье греков, теплый плащ, которым окутывались поверх хитона. 66 www.russianeurope.ru 11 Верно, тогда бы и мантию дали твои свинопасы Мне — из приязни ль, могучего ль мужа во мне уважая. Ныне ж кто хилого нищего в рубище бедном уважит?» Страннику так отвечал ты, Евмей, свинопас богоравный: «Подлинно чудною повестью нас ты, мой гость, позабавил; Нет ничего неприличного в ней, и на пользу рассказ твой Будет: ни в платье ты здесь и ни в чем, для молящего, много Бед испытавшего странника нужном, отказа не встретишь; Завтра, однако, в свое ты оденешься рубище снова; Мантий у нас здесь запасных не водится, мы не богаты Платьем; у каждого только одно: он его до износа С плеч не скидает. Когда же возлюбленный сын Одиссеев Будет домой, он и мантию даст и хитон, чтоб одеться Мог ты, и в сердцем желанную землю ты будешь отправлен». Кончив, он встал и, пошед, близ огня приготовил постелю Гостю, накрывши овчиной ее и косматою козьей Шкурою; лег Одиссей на постель; на него он набросил Теплую, толсто-сотканную мантию12, ею ж во время Зимней, бушующей дико метели он сам одевался… В этом рассказе примечательно и положение в засаде (в кустарнике), напоминающее как засаду в Троянском коне, так и Одиссея, сидящего в кустах и наблюдающего за Навсикаей. Лично мне нравится также и снег как символ стихии (он сыплется «шумно-холодной метелью»). Снежная буря, метель в качестве одушевленной стихии, зверя напоминает мне Пушкина (повесть «Капитанская дочка»13, рассказ «Метель», стихотворение «Зимний Лежащий и покрытый мантией герой нам уже встречался в истории с ветрами, выпущенными из мешка Эола: «Я покорился судьбе и на дне корабля, завернувшись / В мантию, тихо лежал…» 13 Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка, — невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». 67 www.russianeurope.ru 12 вечер»14…). В истории с Навсикаей также был образ зимней бури, создающей замкнутое пространство: Лег, наперед для себя приготовив своими руками Мягкое ложе из листьев опалых, которых такая Груда была, что и двое и трое могли бы удобно В зимнюю бурю, как сильно б она ни шумела, там скрыться. После Евмея (и до Антиноя) Одиссей встречает еще троих двойниковантиподов. Первый из них — козовод Меланфий (как свинопас Евмей, он «хозяин зверей» и поставщик еды для женихов, но относится к Евмею, как минус — к плюсу): Там козовод повстречался им — сын Долионов Меланфий; Коз, меж отборными взятых из стада, откормленных жирно, В город он гнал женихам на обед; с ним товарищей двое Было. Увидя идущих, он начал ругаться, и громко Их поносил, и разгневал в груди Одиссеевой сердце. «Подлинно здесь негодяй негодяя ведет, — говорил он, — Права пословица: равного с равным бессмертные сводят. Ты, свинопас бестолковый, куда путешествуешь с этим Нищим, столов обирателем, грязным бродягой, который, Стоя в дверях, неопрятные плечи об притолку чешет, Крохи одни, не мечи, не котлы получая в подарок. Мог бы у нас он, когда бы его к нам прислал ты, закуты Наши стеречь, выметать их, козлятам подстилки готовить; Скоро бы он раздобрел, простоквашей у нас обжираясь; Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя; То, как зверь, она завоет, То заплачет, как дитя… 14 68 www.russianeurope.ru Это, однако, ему не по нраву, одно тунеядство Любо ему; за работу не примется: лучше, таскаясь По миру, хлебом чужим набивать ненасытный желудок. Слушай, однако, и то, что услышишь, исполнится верно; Если войти он отважится в дом Одиссея — скамеек Много из рук женихов на его полетит там пустую Голову; ребра, таская его, там ему обломают Об пол». И, так говоря, Одиссея он, с ним поравнявшись, Пяткою в ляжку толкнул, но с дороги не сбил, не принудил Даже шатнуться. Обмен ударами, поединок героя с двойником-антиподом — типичнейшая вещь. Поединок (на забаву женихам) происходит у Одиссея с еще одним его двойником-антиподом — Иром. Ир — нищий, который увидел в Одиссее своего конкурента и вызвал его на бой (на свою голову): В двери вошел тут один всем известный бродяга; шатаясь По миру, скудным он жил подаяньем и в целой Итаке Славен был жадным желудком своим, и нахальством, и пьянством; Силы, однако, большой не имел он, хотя и высок был Ростом. По имени слыл Арнеоном (так матерью назван Был при рожденье), но в городе вся молодежь величала Иром его, потому что у всех он там был на посылках. В двери вступив, Одиссея он стал принуждать, чтоб покинул Дом свой; и бросил ему, раздраженный, крылатое слово: «Прочь от дверей, старичишка, иль за ноги вытащен будешь; Разве не видишь, что все мне мигают, меня понуждая Вытолкать в двери тебя; но марать понапрасну своих я Рук не хочу; убирайся, иль дело окончится дракой». 69 www.russianeurope.ru Ир, естественно, терпит поражение: Оба тут вышли; в плечо кулаком Одиссея ударил Ир. Одиссей же его по затылку близ уха: вдавилась Кость сокрушенная внутрь, и багровая кровь полилася Ртом; он, завыв, опрокинулся; зубы его скрежетали, Об пол он пятками бил. Женихи же, всплеснувши руками Все помирали от смеха… Между прочим, поражение Ира в голову и его падение напоминает (и предвосхищает) поражение и падение Антиноя. Одиссей побеждает сначала Ира, а потом женихов. Но Ир — это символ всех женихов, вместе взятых. Женихи — коллективный двойник-антипод Одиссея. Женихи — это Ир. Одиссей появляется на Итаке в облике нищего (с помощью Афины): С сими словами богиня к нему прикоснулася тростью. Разом на членах его, вдруг иссохшее, сморщилось тело, Спали с его головы злато-темные кудри, сухою Кожею дряхлого старца дрожащие кости покрылись, Оба столь прежде прекрасные глаза подернулись струпом, Плечи оделись тряпицей, в лохмотье разорванным, старым Рубищем, грязным, совсем почерневшим от смрадного дыма; Сверх же одежды оленья широкая кожа повисла, Голая, вовсе без шерсти; дав посох ему и котомку, Всю в заплатах, висящую вместо ремня на веревке… Где-то это уже было. А именно в рассказе царицы Елены о разведке Одиссея (в этом рассказе она хочет представить себя помощницей ахеян, но Менелай затем расскажет о ее коварном поведении — попытке выманить ахеян из коня): 70 www.russianeurope.ru Радуйтесь ныне, сидя за трапезой вечерней и сладким Сердце свое веселя разговором; а я о бывалом Вам расскажу — хоть всего рассказать и припомнить нельзя мне, — Как Одиссей, непреклонный в бедах, подвизался, и что он, Дерзко-решительный муж, наконец предприял и исполнил В крае троянском, где много вы бед претерпели, ахейцы. Тело свое беспощадно иссекши бичом недостойным, Рубищем бедным покрывши плеча, как невольник, вошел он В полный сияющих улиц народа враждебного город; Образ принявши чужой, он в разодранном платье казался Нищим, каким никогда меж ахеян его не видали. Так посреди он троян укрывался; без смысла, как дети, Были они; я одна догадалася, кто он; вопросы Стала ему предлагать я — он хитро от них уклонился; Но когда, и омывши его, и натерши елеем, Платье на плечи ему возложила я с клятвой великой: Тайны его никому не открыть в Илионе враждебном Прежде его возвращения в стан к кораблям крутобоким, Всё мне о замысле хитром ахеян тогда рассказал он. Многих троян длинноострою медью меча умертвивши, Выведал в городе все он и в стан невредим возвратился. Подобным же бомжем предстает Одиссей и перед Навсикаей. Дело на самом деле в том, что и Елена, и Навсикая, и Пенелопа оказываются на рандеву с фаллосом. Вы уже читали про плешь (в сказках) и про светящийся фаллос в сновидении Юнга. И вот вам, пожалуйста: Тою порой женихов и Афина сама возбуждала К дерзко-обидным поступкам, дабы разгорелось сильнее 71 www.russianeurope.ru Мщение в гневной душе Одиссея, Лаэртова сына. Так говорить Евримах, сын Полибиев, начал (обидеть Словом своим Одиссея, других рассмешивши, хотел он): «Слух ваш склоните ко мне, женихи Пенелопы, дабы я Высказать мог вам все то, что велит мне рассудок и сердце. Этот наш гость, без сомнения, демоном послан, чтоб было Нам за трапезой светлей; не от факелов так все сияет Здесь, но от плеши его, на которой нет волоса боле». Прикидываясь нищим, Одиссей сам превращается в своего двойникаантипода. Нищий в мифе — это и фаллос (пациенты Юнга описывают встречу с фаллосом во сне следующим образом: «Тут появился какой-то грязный оборванец…»), и зверь. Еще один двойник-антипод Одиссея — его старая собака по кличке Аргус. Он встречает ее перед тем, как в первый раз войти в столовую залу к женихам. Увидев хозяина и узнав его, Аргус подыхает: Уши и голову, слушая их, подняла тут собака Аргус; она Одиссеева прежде была, и ее он Выкормил сам; но на лов с ней ходить не успел, принужденный Плыть в Илион. Молодые охотники часто на диких Коз, на оленей, на зайцев с собою ее уводили. Ныне ж, забытый (его господин был далеко), он, бедный Аргус, лежал у ворот на навозе, который от многих Мулов и многих коров на запас там копили, чтоб после Им Одиссеевы были поля унавожены тучно; Там полумертвый лежал неподвижно покинутый Аргус. Но Одиссееву близость почувствовал он, шевельнулся, Тронул хвостом и поджал в изъявление радости уши; Близко ж подползть к господину и даже подняться он не был 72 www.russianeurope.ru В силах. И, вкось на него поглядевши, слезу, от Евмея Скрытно, обтер Одиссей, и потом он сказал свинопасу: «Странное дело, Евмей; там на куче навозной собаку Вижу, прекрасной породы она, но сказать не умею, Сила и легкость ее на бегу таковы ль, как наружность? Или она лишь такая, каких у господ за столами Часто мы видим: для роскоши держат их знатные люди». Так, отвечая, сказал ты, Евмей свинопас, Одиссею: «Это собака погибшего в дальнем краю Одиссея; Если б она и поныне была такова же, какою, Плыть собираясь в троянскую землю, ее господин мой Дома оставил, — ее быстроте и отважности, верно б, Ты подивился; в лесу ни в каком захолустье укрыться Дичь от нее не могла; в ней чутье несказанное было. Ныне же бедная брошена; нет уж ее господина, Вчуже погиб он; служанки ж о ней и подумать ленятся; Раб нерадив; не принудь господин повелением строгим К делу его, за работу он сам не возьмется охотой: Тягостный жребий печального рабства избрав человеку, Лучшую доблестей в нем половину Зевес истребляет». Кончил и, в двери светло-населенного дома вступивши, Прямо вошел он в столовую, где женихи пировали. В это мгновение Аргус, увидевший вдруг через двадцать Лет Одиссея, был схвачен рукой смертоносною Мойры. Двойник-антипод вообще часто умирает, поскольку он символизирует прохождение героя через смерть. Погибает Антиной, умирает Аргус. Аргус, лежащий на навозе, — тоже нищий, как и его хозяин Одиссей. И даже похож на Одиссея, лежащего в кустах и облепленного морской тиной (перед тем, как тот вышел к Навсикае). 73 www.russianeurope.ru Вы смотрели забавную американскую комедию «День сурка» (Groundhog Day, 1993 год, режиссер Гарольд Рэмис)? Вот ее содержание15. Каждый год второго февраля в небольшом американском городке Панксатони (в Пенсильвании) проводится праздник под названием «День сурка». В этот день люди будят от зимней спячки сурка по имени Фил и предсказывают по его поведению погоду. И каждый год на этот праздник в Панксатони из Питсбурга вынужден ездить самовлюбленный и высокомерный телеобозреватель погоды Фил Коннорс, которому до смерти надоела его работа и который глубоко ненавидит этот фестиваль в глухом городишке. И вот, однажды, посетив в очередной раз фестиваль сурка, Фил не может уехать из города в тот же день — из-за снежной бури. Следующим утром он с ужасом понимает, что проснулся опять второго февраля (а не третьего, как должно было бы быть в немифическом мире). Он оказывается в некоей петле времени, из которой нет выхода — третье февраля просто не наступает. Уехать из города у него также не получается, потому что снежная буря каждый раз второго февраля заметает дороги. Фил вынужден снова и снова переживать второе февраля на фестивале сурка, снова вести оттуда репортаж, снова возвращаться в гостиницу, и так каждый новый день. При этом никто, кроме него, не замечает временного кольца, потому что на следующее второе февраля они не помнят событий предыдущего второго февраля. Поразмыслив, Фил решает предаться удовольствиям: объесться сладостями, заняться сексом, ограбить банк и промотать все деньги — ведь последствий не будет. Но развлечения ему быстро надоедают. Тогда он пытается соблазнить свою коллегу Риту, в которую тайно влюблен. Но она никак не поддается на уловки Фила, пытающегося затащить ее в постель в первый же вечер, а второго у него просто нет. Отчаявшись соблазнить Риту и устав от скучного городка, Фил решает покончить жизнь самоубийством, прихватив на тот свет ненавистного тезку — сурка Фила. Но все усилия тщетны — Фил снова просыпается второго февраля в том же номере отеля. Он пробует 15 В рассказе о содержании фильма использован текст Википедии. 74 www.russianeurope.ru несколько способов суицида (первый и последний из которых — падение с высоты), но ничто не помогает — третье февраля все равно не наступает. Испробовав всё, изучив Панксатони вдоль и поперек, Фил, наконец, решает посвятить этот роковой день добрым делам. Благородные и бескорыстные поступки, которые Фил совершает изо дня в день (о чем знает только он сам), к вечеру делают его самым популярным человеком в городе. Из-за этого Рита сама обращает на него внимание и они сближаются. После того как Фил и Рита просыпаются в номере отеля вместе, для Фила наконец наступает завтра. Билл Мюррэй в роли Фила (со своим тезкой — звериным двойником). Через пару мгновений оба Фила полетят с горы и разобьются Та же, в общем, история, что с Одиссеем. Одно и то же приключение — попытка спастись из замкнутого пространства, выйти из чрева мифического 75 www.russianeurope.ru зверя (в фильме символизируемого снежной бурей). И в конце — успешное соединение с Пенелопой (в фильме — с Ритой), которая тоже — в параллель Одиссею — неоднократно переживала свой «День сурка» — тем, что днями ткала, а по ночам распускала саван, предназначаемый Лаэрту, отцу Одиссея (надеясь дождаться Одиссея, она сказала женихам, что выберет в мужья одного из них, как только закончит работу). Таким образом, ткань Пенелопы есть ткань судьбы Одиссея. Ткань, кстати сказать, ткала и «чародейка» Цирцея: К дому прекраснокудрявой богини Цирцеи поспешно Все устремились. Там голосом звонко-приятным богиня Пела, сидя за широкой, прекрасной, божественно тонкой Тканью, какая из рук лишь богини бессмертной выходит. В данной работе я попробовал угадать основной и повторяющийся узор этой ткани. Сущностная форма (любого сюжетного литературного произведения) Герой ↔ Источник жизни ↔ Двойник-антипод героя Герой погружается в источник жизни, растворяется в нем, умирает, возрождается. В результате этого он обретает волшебного помощника (некое «судьбообразующее» существо): вне себя или в себе самом (гения, сократовского «даймона», подсказывающего ему линию правильного поведения). Это существо — одновременно и сам герой, и некто другой. Это его отражение (в Источнике жизни), его двойник-антипод. 76 www.russianeurope.ru Источник жизни чаще всего представлен либо пожирающим героя мифическим зверем (а то и прямо наоборот: зверем, убитым и принесенным героем в жертву), либо «Хозяйкой зверей» (Прекрасной Дамой или Бабойягой), либо стихией (например, морем или снежной бурей). Иногда это дерево или зеркало. Иона и кит. Персидская миниатюра из исторического сочинения «Джамиат-таварих» («Сборник летописей»). Начало XIV века Примеры: Измаил ↔ Белый кит ↔ Квикег; Одиссей ↔ Пещера ↔ Полифем; князь Мышкин ↔ Настасья Филипповна ↔ Рогожин; Петр Гринёв ↔ снежная буря (а также Маша и императрица) ↔ Пугачев; 77 www.russianeurope.ru д’Артаньян ↔ г-жа Бонасье/Миледи ↔ де Рошфор; Раскольников ↔ убитая лошадь/старухапроцентщица/Лизавета/Соня/девочка-утопленница ↔ Мармеладов/Свидригайлов; Гильгамеш ↔ блудница Шамхат/Хумбаба/бык богини Иштар ↔ Энкиду; Иисус Христос ↔ река Иордан ↔ Иоанн Креститель; Малыш ↔ фрёкен Бок ↔ Карлсон, который живет на крыше. Сцена из мультфильма Бориса Степанцева «Малыш и Карлсон» (1968), по повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (1955) Источник жизни (варианты и приметы) 1. Мифический зверь, поглощающий героя и извергающий его. Или зверь, убиваемый поглощенным и стремящимся наружу героем. Или зверь, поедающий / разгрызающий героя (с последующим оживлением 78 www.russianeurope.ru оного). Может быть и так, что герой ест мифического зверя (приносит его в жертву). Обоюдное поедание. 2. Замкнутое пространство (на самом деле утроба мифического зверя), в котором оказывается герой. Пещера, туннель, подземелье, тюрьма, запертый дом, мешок, закрытая территория. Это может быть оживающий дом (как в некоторых фильмах ужасов). 3. Стихия, в которую герой оказывается погруженным. Вода (море, озеро, река, подводное царство). Огонь (а также кипящая вода). Снег (снежная буря). Песок. Лес. (На самом деле здесь то же поедание мифическим зверем, отчего стихия нередко сравнивается с живым существом.) 4. «Хозяйка леса», Богиня-мать (Баба-яга, Прекрасная Дама, богиня охоты). «Хозяйка леса» в произведении может быть не одна: герой может встретить как ее положительную, так и ее отрицательную ипостась. Кроме того, могут быть одновременно представлены разные возрастные ипостаси «Хозяйки зверей»: девочка-подросток, жена или сестра, мать (грани между этими ипостасями могут стираться — и тогда мы видим девочку-жену, жену-сестру, жену-мать, сестру-мать16). Герой входит в «Хозяйку зверей», чтобы затем из нее родиться. Герой поглощается Прекрасной Дамой и выходит из нее. (На самом деле Прекрасная Дама — вариант мифического зверя.) Герой одновременно и любовник, и фаллос, и новорожденный ребенок. Однако, поскольку «Хозяйка леса» обычно появляется наряду с замкнутым пространством (или стихией, или мифическим зверем), ее можно также рассматривать как женскую ипостась двойника-антипода героя. Прекрасная Дама, 16 Так, в романе Харуки Мураками «Кафка на взморье» (замешанном на истории Эдипа) пятнадцатилетний герой (Кафка Тамура) встречает Саэки-сан, которая предстает перед ним одновременно пятнадцатилетней и пятидесятилетней: «Женщина вздохнула. — Но ты же понимаешь… Тебе пятнадцать лет, а мне уже за пятьдесят. — Все не так просто. Дело не в возрасте. Я знаю вас пятнадцатилетней девчонкой. И влюбился в пятнадцатилетнюю. Без памяти. И уже через нее полюбил вас. Эта девчонка и сейчас с вами. Спит внутри вас. Но когда засыпаете вы, она просыпается. Мне все это видно». В фильме Андрея Тарковского «Зеркало» в восприятии героя сливаются (но и противопоставляются) мать и жена (которых играет одна актриса). 79 www.russianeurope.ru будучи очеловеченной стихией, нередко является в виде оживающей картины, статуи, куклы17 (материя оживает, природа обретает лицо, обращенное к герою), а также очеловеченного дерева, вступающего в диалог с героем (такова, например, рябина в «Докторе Живаго» Пастернака). По той же причине Прекрасная Дама может предстать как утопленница или русалка (ожившее лицо неживой стихии). Она часто возникает на фоне моря. Прекрасная Дама нередко приносится в жертву: бывает убита (часто зарезана) двойником-антиподом героя или самим мифическим зверем. В роли которого, кстати сказать, могут выступать также автомобиль, трамвай, поезд и тому подобное. (И привидевшийся как Вронскому, так и Анне «старичок с взлохмаченной бородой», который «что-то делал, нагнувшись над железом, приговаривая бессмысленные французские слова», есть двойникантипод — плоть от плоти зверя-поезда — так сказать, дух поезда.) 5. Зеркало, в которое смотрит герой — и видит двойника. Зеркало равнозначно погружению в водную стихию и может быть представлено водной поверхностью. Примечание. Если герой — женщина, то повествование может вестись с позиции «Хозяйки зверей» (как в стихотворениях Марины Цветаевой) или ожившей статуи (как в стихотворениях Анны Ахматовой). Так, Марина Цветаева предстает перед нами и Мировым Древом (рябиной: «Красною кистью / Рябина зажглась, / Падали листья. / Я родилась.»), и стихией («Кто создан из камня, кто создан из глины, — / А я серебрюсь и сверкаю! / Мне дело — измена, мне имя — Марина, / Я — бренная пена морская.»), и «Мирской Женой» — Артемидой, девственной богиней охоты, которая вместе с тем является покровительницей Такова, например, кукла Олимпия в «Песочном человеке» Гофмана. Герой рассказа Натанаэль смотрит на Олимпию (которая видна, но неясно, через окно противоположного дома), после чего в его комнате появляется его двойник-антипод Коппола (он же, как выясняется позже, конструктор Олимпии) — и предлагает Натанаэлю купить множество глаз: Коппола выкладывает на стол очки, которые называет глазами и которые представляются глазами потенциальному покупателю («тысячи глаз взирали на Натанаэля, судорожно мигали и таращились…»). Затем Коппола дает Натанаэлю подзорную трубку, Натанаэль смотрит через нее на Олимпию. Одним словом, здесь перед нами сущностная форма в обнаженном виде. 80 www.russianeurope.ru 17 молодняка и рожениц (то есть непосредственно «Хозяйкой зверей», причем с отсылкой к античным изображениям Артемиды с лебедем): Доблесть и девственность! Сей союз Древен и дивен как смерть и слава. Красною кровью своей клянусь И головою своей кудрявой — Ноши не будет у этих плеч, Кроме божественной ноши — Мира! Нежную руку кладу на меч: На лебединую шею Лиры. В этом смысле примечательна Марья Тимофеевна Лебядкина из романа Достоевского «Бесы». Она и Царевна Лебедь из сказки, ждущая своего «рыцаря» (и читающая «большею частию рыцарские рассказы»), «сокола», «князя» (и не узнающая его затем в Ставрогине), и дева Мария — причем возникает мотив непорочного зачатия: «И всё больше о своем ребеночке плачу… — А разве был? — подтолкнул меня локтем Шатов, всё время чрезвычайно прилежно слушавший. — А как же: маленький, розовенький, с крошечными такими ноготочками, и только вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещеного понесла, и несу это я его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю. — А может, и был? — осторожно спросил Шатов. 81 www.russianeurope.ru – Смешон ты мне, Шатушка, с своим рассуждением. Был-то, может, и был, да что в том, что был, коли его всё равно что и не было? Вот тебе и загадка нетрудная, отгадай-ка! – усмехнулась она. — Куда же ребенка-то снесла? — В пруд снесла, — вздохнула она. Шатов опять подтолкнул меня локтем. — А что, коли и ребенка у тебя совсем не было и всё это один только бред, а? — Трудный ты вопрос задаешь мне, Шатушка, — раздумчиво и безо всякого удивления такому вопросу ответила она, — на этот счет я тебе ничего не скажу, может, и не было; по-моему, одно только твое любопытство; я ведь всё равно о нем плакать не перестану, не во сне же я видела? — И крупные слезы засветились в ее глазах». Есть, кстати сказать, в Марье Тимофеевне и некоторое сходство с куклой: «Она была болезненно худа и прихрамывала, крепко набелена и нарумянена, с совершенно оголенною длинною шеей, без платка, без бурнуса, в одном только стареньком темном платье, несмотря на холодный и ветреный, хотя и ясный сентябрьский день; с совершенно открытою головой, с волосами, подвязанными в крошечный узелок на затылке, в которые с правого боку воткнута была одна только искусственная роза, из таких, которыми украшают вербных херувимов». 82 www.russianeurope.ru Кадр из фильма Анджея Вайды «Бесы» (1988) Двойник-антипод героя (варианты и приметы) 83 www.russianeurope.ru Энкиду (дикий человек, созданный из глины). Статуя из дворца Саргона II в Дур-Шаррукине. Энкиду, звероподобный двойник-антипод 84 www.russianeurope.ru Гильгамеша, является герою в пророческом сне, причем сначала в образе камня, а затем в образе топора. 1. Двойник-антипод — персонаж, оказывающий (по своей воле или невольно) решающее воздействие на судьбу героя. Он появляется на фоне Источника жизни. Поскольку он — «судьбообразующий» персонаж, то может явиться с книгой (при этом жизнь приравнивается к книге, в которой судьба героя уже написана). (Так происходит в романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген», где юный Генрих обнаруживает у отшельника в пещере книгу, иллюстрированную миниатюрами, на непонятном ему провансальском языке — и узнает на миниатюрах себя в различных ситуациях своей будущей жизни.) Иногда с книгой является Прекрасная Дама/Хозяйка зверей (например, в фильме Тарковского «Зеркало»). Павел Филонов. Герой и его судьба. 1909 год 85 www.russianeurope.ru 2. Герой видит своего буквального двойника. Наяву или в воображении («Годы учения Вильгельма Мейстера» Гёте, «Эликсиры дьявола» Гофмана, «Двойник» и «Подросток» Достоевского, «Двойник» Жозе Сарамаго). 3. Двойником-антиподом часто выступает брат, сводный брат (Евграф в «Докторе Живаго»), двоюродный брат. 4. Герой встречает териоморфного (звериного или звероподобного) двойника-антипода. Это зверь, полузверь или человек в шкуре (тулупе и т.п.), обычно лохматый-волосатый-бородатый. Или человек в сопровождении зверя (собаки, медведя18). Возможны и другие признаки (дикое поведение, страшные зубы, звериный взгляд). В романе Пушкина «Евгений Онегин» такой зверь (медведь) возникает из снежной стихии: Как на досадную разлуку, Татьяна ропщет на ручей; Не видит никого, кто руку С той стороны подал бы ей; Но вдруг сугроб зашевелился, И кто ж из-под него явился? Большой, взъерошенный медведь; Татьяна ах! а он реветь, И лапу с острыми когтями Ей протянул; она скрепясь Дрожащей ручкой оперлась И боязливыми шагами Перебралась через ручей; Пошла — и что ж? медведь за ней! 18 86 www.russianeurope.ru Кадр из фильма Жана Ренуара «Будю, спасенный из воды» (1932). Бродяга Будю с его собакой. Оба кучерявые, оба едят один кусок, оба падают в воду. В фильме Будю надевает одежду своего спасителя (а в конце фильма — одежду, снятую с пугала), делает стойку на руках, пускает по реке свой черный котелок... А зовут его Приап — и свое 87 www.russianeurope.ru имя он в фильме отрабатывает по полной. (Обо всех этих элементах речь впереди.) 5. Герой встречает некую Тень, некий призрак. Встречает свою Тень. Вариант Тени — черт, Мефистофель, Чернобог (у западных славян). Двойник может являться во сне или как бы во сне, то есть представать перед просыпающимся героем — как бы в продолжение сна. Так возникает перед Раскольниковым Свидригайлов в «Преступлении и наказании», перед Обломовым — Штольц19 в романе Гончарова «Обломов» («Обломов очнулся: перед ним наяву, не в галлюцинации, стоял настоящий, действительный Штольц»), перед Николкой — Лариосик (Ларион Ларионович) в романе Булгакова «Белая гвардия» — кстати сказать, с птичьей клеткой («Я птицу захватил с собой, — сказал неизвестный, вздыхая, — птица — лучший друг человека»). 6. Герой встречает двойника-антипода в виде восточного чужеземца (перса, монгола20, просто смуглого человека, человека с узкими глазами). На самом деле это вариант Тени (о чем говорит смуглость, иногда — высокий рост). 7. Герой встречает двойника-антипода в виде человека в черном костюме (черном плаще). «Черный человек» (у Пушкина, Есенина) — вариант Тени. Штольц любопытен тем, что, с одной стороны, он двойник-антипод, постоянно противопоставляемый герою и стремящийся влиять на судьбу героя, с другой же стороны, Штольц — липовый двойник, потому что на судьбу Обломова у него как раз таки и не получается повлиять (как и Ольга Ильинская — липовая Прекрасная Дама). 20 Например, Мандельштам (в «Шуме времени») рисует В. В. (Владимира Васильевича) Гиппиуса, своего учителя словесности (своего «друго-врага»), как именно такого двойника-антипода (причем сразу с целым набором признаков двойничества): «Спутник мой, выйдя из литераторской квартиры-берлоги, из квартирыпещеры с зеленой близорукой лампой и тахтой-колодой, с кабинетом, где скупо накопленные книги угрожают оползнем, как сыпучие стенки оврага, выйдя из квартирки, где табачный дым кажется запахом уязвленного самолюбия, — спутник мой развеселился не на шутку и, запахнувшись в не по чину барственную шубу, повернул ко мне румяное, колючее русско-монгольское лицо». Это, между прочим, говорит о том, что и в жизни нас влечет и ведет сквозь себя сущностная форма. 88 www.russianeurope.ru 19 8. Герой встречает двойника-антипода в виде нищего, оборванца, человека в лохмотьях21. В виде человека, утратившего социальный статус, ставшего частью природы, вернувшегося в грязь. В виде человека, забывшего себя. Лохмотья символизируют разрывание (разорванность, растерзанность) героя мифическим зверем. (Таков и раздавленный Мармеладов — один из двойников Раскольникова.) 9. Герой встречает двойника-антипода в виде лысого человека или карлика (или мелкой зверушки вроде белки Аджидомо у Гайаваты). В этом случае двойник-антипод представляет собой картинку фаллоса22. Фаллический аспект может быть передан и подчеркнутым наличием шляпы, тросточки, а также странной походкой (проблемы с ногами) и странной обувью (в мифах встречается отделившийся от человека и самостоятельно передвигающийся фаллос). Вы узнаете, конечно, Чарли Чаплина. Таков, например, «полупомешанный пустынник» Бен Ганн из романа «Остров сокровищ» Стивенсона: «С обрывистого каменистого склона посыпался гравий и покатился вниз, шурша и подскакивая между деревьями. Я невольно посмотрел вверх и увидел странное существо, стремительно прыгнувшее за ствол сосны. Что это? Медведь? Человек? Обезьяна? Я успел заметить только что-то темное и косматое и в ужасе остановился. <…> — Кто вы такой? — спросил я. — Бен Ганн, — ответил он; голос у него был хриплый, как скрип заржавленного замка. — Я несчастный Бен Ганн. Три года я не разговаривал ни с одним человеком. Это был такой же белый человек, как и я, и черты его лица были, пожалуй, приятны. Только кожа так сильно загорела на солнце, что даже губы у него были черные. Светлые глаза с поразительной резкостью выделялись на темном лице. Из всех нищих, которых я видел на своем веку, этот был самый оборванный. Одежда его состояла из лохмотьев старого паруса и матросской рубахи. Один лоскут скреплялся с другим либо медной пуговицей, либо прутиком, либо просмоленной паклей. Единственной неизодранной вещью из всего его костюма был кожаный пояс с медной пряжкой». 22 Выразительную характеристику фаллоса как двойника-антипода мы читаем в романе Гюнтера Грасса «Жестяной барабан»: «Вот так Оскар обзавелся третьей барабанной палочкой — по возрасту она была ему уже в самый раз. Только барабанил я не по жести, а по моховой подушке, барабанил и сам не знал, я ли там барабаню или Мария. Мой это мох или ее? <…> А этот тип внизу, у него что, свой разум, своя воля? <…> А Мария, которая наверху спала, а внизу принимала живое участие, <…> которая <…> не хотела того, кого не хотел и я, кто начал вести самостоятельный образ жизни, кто доказал наличие собственного ума, кто выдавал то, чего я в него не вкладывал, кто встал, когда я лег, кто видел другие сны, чем видел их я, кто не умел ни читать, ни писать, однако же расписывался за меня, кто и по сей день идет собственным путем, кто отделился от меня в тот самый день, когда я впервые ощутил его, кто мой враг, с которым я то и дело должен заключать союз, кто предает меня и бросает в беде, кого я сам готов предать и продать, кого я стыжусь, кому я надоел, кого я мою, кто меня грязнит, кто ничего не видит и все чует, кто настолько мне чужд, что я готов обращаться к нему на "вы"…» 89 www.russianeurope.ru 21 Римско-галльская бронзовая фигурка Приапа (I век н.э.). Колпак Приапа есть символ его «лысины». 10.Герой встречает двойника-антипода в виде хромого или одноногого человека. (В самом неравенстве ног заключена картинка: герой — и его двойник-антипод.) Например, одноног и однорук капитан Копейкин (двойник Чичикова). 11.Герой встречает двойника-антипода, обладающего некими двойными предметами: рогами, очками (Иван Карамазов о Смердякове: «Этакая тварь, да еще в очках!»). Так двойничество подчеркивается внешней 90 www.russianeurope.ru картинкой. Появление двойника может предвещаться двойным именем: Акакий Акакиевич, Кинг-Конг23, Чичиков, Гумберт Гумберт24... 12.Двойник-антипод подает герою знак глазами. Он подмигивает герою, или имеет разные (разноцветные) глаза, или он одноглаз. Глаза, как и очки, — парный предмет, удобный для подчеркивания двойничества. 13.Двойник-антипод слеп25 (или глух, или нем). Поскольку он, как и «Хозяйка зверей», — не совсем человек, но олицетворение природы и судьбы, жизни в целом. Он — оживший камень26. Иногда это человек без лица (как в фильме Бергмана «Земляничная поляна»). Иногда это Кинг-Конг (в одноименном фильме 1933 года) является звериным двойником помощника капитана (Джека), влюбленного в главную героиню. В начале путешествия Джек был груб с ней — и именно его и героиню другой персонаж назвал: «красавица и чудовище». Примечательно и то, что в конце фильма КингКонг падает (сначала вниз головой, а затем переворачиваясь в воздухе) с небоскреба. 24 В «Лолите» Набокова автор сам подчеркивает, открывает читателю связь между двойным именем главного героя, лежащими на пляже темными очками (взгляд невидимки!) и выходящими из моря двойниками — «двумя бородатыми купальщиками, морским дедом и его братцем». Подробнее об этом — в моей книге «Тень от шпаги». 25 Или ослепляется, как например, Полифем, или ослепляет (в общем, является носителем слепоты), как Песочный человек в одноименном рассказе Гофмана (который затем воплотится в адвоката Коппелиуса, алхимика, а затем в торговца барометрами и конструктора роботов Копполу): «Ах, маменька, кто ж этот злой Песочник, что всегда прогоняет нас от папы? Каков он с виду?" — "Дитя мое, нет никакого Песочника, — ответила мать, — когда я говорю, что идет Песочный человек, это лишь значит, что у вас слипаются веки и вы не можете раскрыть глаз, словно вам их запорошило песком». 26 Встал Гильгамеш и сон толкует, Вещает он своей матери: «Мать моя, сон я увидел ночью: Мне явились в нем небесные звезды, Падал на меня будто камень с неба. Поднял его — был меня он сильнее, Тряхнул его — стряхнуть не могу я, Край Урука к нему поднялся, Против него весь край собрался, Народ к нему толпою теснится, Все мужи его окружили, Все товарищи мои целовали ему ноги. Полюбил я его, как к жене прилепился. И к ногам твоим его принес я, Ты же его сравняла со мною». Мать Гильгамеша мудрая, — все она знает, — вещает она своему господину, <…> Сильный придет сотоварищ, спаситель друга, Во всей стране рука его могуча, Как из камня с небес, крепки его руки, — Ты полюбишь его, как к жене прильнешь ты, Он будет другом, тебя не покинет — Сну твоему таково толкованье». 91 www.russianeurope.ru 23 невидимка27 (герой лишь слышит его голос28 или ощущает на себе его взгляд). Кадр из фильма Ф. Ф. Копполы «Апокалипсис сегодня» (1979). Герой (Уиллард) впервые видит своего двойника-антипода (Куртца), за которым он отправился в глубь джунглей (то есть в глубь стихии — Источника жизни) и которого ему предстоит убить (зарезать мечом). (Куртц позволяет себя убить, так как видит в Уилларде своего преемника. Параллельно убийству двойника совершается и жертвоприношение: отрубают голову быку.) Куртц здесь не только человек без лица, значимо и то, что вместо лица у него — тень (то есть он — человек-Тень), к тому же он лысый, да и вообще его голова напоминает луну (двойника солнца). А еще Куртц — звериный двойник (он такое же порождение джунглей, как напугавший героя и его спутников тигр — в самом начале их одиссеи). Ну и оживший Сравните с тем, что довольно типично для обряда посвящения: посвящаемый превращается в «мальчика, который спрятался». 28 Такой двойник «являлся», например, Гоголю: «Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, когда простолюдины объясняют так: что душа стосковалась за человеком и призывает его; после которого следует неминуемо смерть. Признаюсь, мне всегда был страшен этот таинственный зов. Я помню, что в детстве я часто его слушал, иногда вдруг позади меня кто-то явственно произносил мое имя». («Старосветские помещики») 92 www.russianeurope.ru 27 мертвец, конечно, так как при виде героя он садится из лежачего положения (в своей темной нише)29. 14.Двойник-антипод может предстать в виде куста (поскольку он — плоть от плоти Источника жизни, нередко предстающего деревом). 15.Двойник-антипод подает герою знак головой. Он кивает герою (этот жест свойствен и Прекрасной Даме). Двойник-антипод часто либо лишается головы, либо повреждает голову (ему отрубают голову, он оказывается смертельно поражен или ранен в голову, имеет шрам30 на лице или на шее). Двойник-антипод может предстать перед героем в виде одного лишь туловища либо одной лишь головы («Старшая Эдда», «Прорицания вёльвы»: «с черепом Мимира / Óдин беседует»). В повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы» (1902), которая вдохновила Копполу на его фильм (в целом весьма слабый), Куртц предстает настоящим «Кощеем Бессмертным» — истощенным, ненасытимым, вечно голодным людоедом: «Его одеяло откинулось, и обнажилось тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось, одушевленная статуя смерти, вырезанная из старой слоновой кости, потрясала рукой, угрожая неподвижной толпе людей из темной сверкающей бронзы. Я видел, как он широко раскрыл рот… в этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним». Река же предстает в повести мифическим зверем: «Но была там одна река, могучая, большая река, которую вы можете найти на карте, — она похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца; голова ее опущена в море, тело извивается по широкой стране, а хвост теряется где-то в глубине страны». 30 Шрам, например, есть на лице у де Рошфора. А Миледи, конечно, Источник смерти. Она предстает как зверь и как ожившая стихия: «Гроза разразилась около десяти часов вечера. Миледи было отрадно видеть, что природа разделяет смятение, царившее в ее душе; гром рокотал в воздухе, как гнев в ее сердце; ей казалось, что порывы ветра обдавали ее лицо подобно тому, как они налетали на деревья, сгибая ветви и срывая с них листья; она выла, как дикий зверь, и голос ее сливался с могучим голосом природы, которая, казалось, тоже стонала и приходила в отчаяние». 93 www.russianeurope.ru 29 Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» (1969 год, режиссер Владимир Мотыль). Закопанный Саид, который потом будет ненавязчиво помогать откопавшему его главному герою (Сухову) 16.Двойник-антипод часто погибает (символизируя тем самым проход героя через смерть — через Источник жизни, который вместе с тем является и Источником смерти). 17.Двойник-антипод может быть в виде мертвеца (или ожившего мертвеца — вроде Франкенштейна в романе Мэри Шелли «Франкенштейн»). Нередко это утопленник (то есть некто, явившийся к герою из водной стихии — как ее представитель). 94 www.russianeurope.ru 18.Двойник-антипод сжимает героя31. Рукопожатие статуи командора в «Каменном госте» Пушкина32, сжатие героя (мальчика, бежавшего из монастыря в лес во время грозы) барсом (звериным двойником героя) в поэме Лермонтова «Мцыри» («Сдавил меня в последний раз…»). Двойник-антипод Ивана Карамазова (Смердяков) наводит на него судорогу («Иван Федорович внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и — еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова». «Да и сам он ни за что не объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. Двигался и шел он точно судорогой»). 19.Двойник-антипод обладает особым пристальным взглядом (вроде взгляда, которым можно сглазить). Этот взгляд нередко герой чувствует на себе, еще не видя двойника-антипода. Взгляд невидимки, взгляд сам по себе, как бы лишенный тела (взгляд Рогожина, который чувствует на себе князь Мышкин; лежащие на пляже темные очки в «Лолите» Набокова33). Лишенный тела взгляд может быть присущ и Прекрасной Даме (например, таков он у блоковской «Незнакомки»). 20.Встреча с двойником-антиподом вызывает у героя головокружение, а также падение с высоты (или страх высоты)34. Падают Ленский35 (в Вот, например, сжатие руки дьявольским двойником героя в романе Метьюрина «Мельмот Скиталец»: «Вздрогнув, Мельмот вскочил с кровати — было уже совсем светло. Он осмотрелся: в комнате, кроме него, не было ни одной живой души. Он почувствовал легкую боль в правом запястье. Он посмотрел на руку: место это посинело, как будто только что его с силой кто-то сжимал». 32 Статуя. Дай руку. Дон Гуан. Вот она... о, тяжело Пожатье каменной его десницы! Оставь меня, пусти — пусти мне руку... Я гибну — кончено — о Дона Анна! Проваливаются. 33 «…мы наскоро обменялись жадными ласками, единственным свидетелем коих были оброненные кем-то темные очки». 34 В романе Сарамаго «Двойник»: «И тут он вспомнил о Марии да Пас. Он представил себе другую комнату, другую кровать, ее тело, такое ему знакомое, лежащее тело Антонио Кларо, абсолютно такое же, как его собственное, и вдруг понял, что он дошел до конца, дорогу перед ним преграждает стена, на которой написано: проезда нет, пропасть, а потом увидел, что пути назад тоже нет, приведшая его сюда дорога исчезла, остался только маленький кусочек, на котором едва помещались ступни ног. Ему снился сон, но он не осознавал этого. Тоска переросла в ужас и разбудила его в тот самый миг, когда стена проломилась и огромные руки, что может быть страшнее, чем руки, выросшие из стены, стали тащить его в пропасть». 35 Ленский падает не с высоты. Однако посмотрите, с чем сравнивается его падение: На грудь кладет тихонько руку И падает. Туманный взор Изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, 95 www.russianeurope.ru 31 романе Пушкина «Евгений Онегин»), Молчалин36 (в комедии Грибоедова «Горе от ума»), Грушницкий (в романе Лермонтова «Геро нашего времени»), набоковский Лужин («Защита Лужина»). В романе Толстого «Война и мир» Пьер Безухов хочет подражать своему двойнику-антиподу Долохову, который выпивает бутылку рома, сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами. Причем это пари, да и медведь тут же неподалеку. Падение часто происходит вниз головой. Падать может как герой, так и двойник-антипод, но чаще все же падает двойник. Двойник-антипод нередко оказывается в перевернутом положении, делает стойку кверх ногами (м-сье Пьер в «Приглашении на казнь»37) Набокова. Кружение часто сочетается со стихией огня (или с ее ощущением), а падение — со стихией воды, с погружением. (На самом деле падение-потопление есть погружение в утробу мифического зверя, а кружение-сожжение есть раздробление, поедание героя в этой утробе.) На солнце искрами блистая, Спадает глыба снеговая. 36 Кому назначено-с, не миновать судьбы: Молчалин на лошадь садился, ногу в стремя, А лошадь на дыбы, Он об землю и прямо в темя. 37 «Бросив ему платок, м-сье Пьер вскричал по-французски и оказался стоящим на руках. Его круглая голова понемножку наливалась красивой розовой кровью; левая штанина опустилась, обнажая щиколотку; перевернутые глаза, — как у всякого в такой позитуре, — стали похожи на спрута». 96 www.russianeurope.ru Кадр из фильма «Серьезный человек» (2009) братьев Коэн 21.Двойник-антипод может уметь летать (Карлсон, ангел). Полет — вариант падения или прыжка (и нам страшно за Малыша). 22.Двойник-антипод братается с героем. Он и герой обмениваются шкурами или тулупами (Гринёв с Пугачевым в «Капитанской дочке» Пушкина), крестиками (князь Мышкин с Рогожиным), кровью, водой или вином, пищей, они спят с одной и той же женщиной38 или ухаживают за ней. При этом шкура говорит о причастности двойникаантипода к миру зверей, совместная трапеза — о жертвоприношении мифического зверя (и поедании героя мифическим зверем), секс — о прохождении героя через «Хозяйку зверей». 23.Между героем и двойником-антиподом возникает «жертвенный нож» (в разных видах: нож, меч, топор, копье, кол, трость, иногда даже в «Ура! За Анечку! И сегодня, кстати... слушайте: я... сообщу вам приятное... сегодня, Кавалеров, ваша очередь спать с Анечкой. Ура!» (концовка «Зависти» Олеши). Спят с одной женщиной и двойники в романе Сарамаго «Двойник», предварительно поменявшись одеждой и автомобилями. (Кроме того, они обмениваются накладной бородой, что подчеркивает звериный аспект двойничества.) 97 www.russianeurope.ru 38 виде карандаша или сигареты39). Иногда «жертвенный нож» заменяется на пистолет, но при этом за пистолетом все равно маячит холодное оружие. (Например, Ленский будет убит из пистолета, но в вещем сне Татьяна видит, что он убит ножом40. В романе Сарамаго «Двойник» сначала говорится о перочинном ножике41, и только потом ножик превращается в пистолет.) 24.Герой вступает с двойником-антиподом в поединок. При этом особенно характерны (в ходе поединка) тесное объятие и катание (перекатывание друг через друга). (В «Мцыри» Лермонтова, в «Лолите» Набокова.) Такой поединок нередко сравнивается с дружбой или с любовью (то есть отсылает либо к двойнику, либо к Прекрасной Даме). как в «Улиссе» Джойса, где зажженная сигарета Леопольда Блума, препирающегося с Гражданином (парнем типа «крымнаш»), соотносится с раскаленным и заостренным колом, которым Одиссей выкалывает глаз Полифему. 40 Хватает длинный нож, и вмиг Повержен Ленский… 41 «Если вы думаете, что я способен вас похитить или уничтожить, чтобы остаться в этом мире одному с тем лицом, которое у нас общее на двоих, то не бойтесь, у меня с собой не будет никакого оружия, даже перочинного ножа». 98 www.russianeurope.ru 39 Кадр из фильма «Серьезный человек» 25.Двойник-антипод находится в состоянии измененного сознания (и вовлекает в это состояние героя). Алкоголь (тот же Мармеладов), наркотики. Двойник-антипод может быть безумцем или шутом. Или человеком, утратившим память. Либо прикидывающимся безумным или утратившим память. 26.Двойник-антипод владеет особым языком (и приобщает к нему героя). Это звериный или птичий язык, это тайный (священный) язык — в том числе и воровской жаргон. Некий универсальный язык, язык природы. Поэтому двойник-антипод часто умеет говорить на разных языках. Нередко таким языком предстает музыка, и двойник-антипод — музыкант42, певец. Часто он умеет играть на разных инструментах43. 27.Двойник-антипод является мастером (портной Петрович в «Шинели»44, повар Смердяков в «Братьях Карамазовых»). Двойник-антипод шьет В повести Конрада «Сердце тьмы»: «Но два дня спустя явился еще один субъект, назвавший себя кузеном Куртца: ему хотелось узнать о последних минутах дорогого родственника. Затем он дал мне понять, что Куртц был великим музыкантом. «Он мог бы иметь колоссальный успех», — сказал мой посетитель, бывший, кажется, органистом. Его жидкие седые волосы спускались на засаленный воротник пиджака. У меня не было оснований сомневаться в его словах. И по сей день я не могу сказать, какова была профессия мистера Куртца — если была у него таковая — и какой из его талантов можно назвать величайшим. Я его считал художником, который писал в газетах, или журналистом, умевшим рисовать, но даже кузен его (который нюхал табак в продолжение нашей беседы) не мог мне сказать, кем он, собственно, был, Куртц был универсальным гением…» 43 Таков, например, в «Степном волке» Гессе музыкант Пабло, двойник Гарри (главного героя), с которым его знакомит Гермина («Прекрасная Дама»): «…познакомила меня с саксофонистом, смуглым, красивым молодым человеком испанского или южноамериканского происхождения, который, как она сказала, умел играть на всех инструментах и говорить на всех языках мира». 44 «…который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, — разумеется, когда бывал в трезвом состоянии…» У Петровича проблемы с лицом, а дальше в тексте намекается, что он вообще человек без лица: «Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки». Похожая проблема с лицом и у Квикега — экзотического гарпунщика, двойника-антипода героя в романе Мелвилла «Моби Дик»: «Что я увидел! Какая рожа! Цвета темно-багрового с прожелтью, это лицо было усеяно большими черными квадратами. Ну вот, так я и знал: эдакое пугало мне в сотоварищи!» Квикег, как и Петрович, является с отделенной головой: «...он взял новозеландскую голову — вещь достаточно отвратительную — и запихал ее в мешок. Затем он снял шапку — новую бобровую шапку, — и тут я чуть было не взвыл от изумления. На голове у него не было волос, во всяком случае ничего такого, о чем бы стоило говорить, только небольшой черный узелок, скрученный над самым лбом. Эта лысая багровая голова была как две капли воды похожа на заплесневелый череп». 99 www.russianeurope.ru 42 или варит судьбу (Смердяков не только прекрасный повар, он составляет наперед план событий, чем поражает Ивана Карамазова). Двойник в романе «Двойник» Сарамаго вообще многостаночник — он актер, играющий множество второстепенных ролей. Однако все они имеют отношение к организации событий или к наблюдению за ними (дежурный администратор в гостинице, учитель танцев, театральный импресарио, полицейский фотограф, кассир в банке, крупье…). Это подходящие роли для Гермеса или Мефистофеля. 28.Поскольку двойник-антипод есть существо судьбообразующее, при встрече с ним героя возникает образ игры (в кости, в карты, в шахматы45, в рулетку). Часто это игра в мяч, возможно, потому, что мяч — это и символ отрезанной головы. 29.Двойник-антипод предстает перед героем в умноженном виде46. Это как бы раздробившееся отражение героя на колеблющейся водной поверхности. Герой видит себя умноженным каждой гранью жизни. Он растворился в Источнике жизни — с тем чтобы ожить уже не замкнутой особью, а существом, единым с жизнью в целом. Двойникантипод может быть многоголовым, или многоглазым47 («Портрет» Так, в романе Сарамаго «Двойник»: «У него вдруг появилось такое ощущение, будто он разыгрывает с Антонио Кларо партию в шахматы и ждет его очередного хода». Образ шахмат — сквозной в этом романе. 46 Например, в повести Достоевского «Двойник»: «…с каждым шагом его, с каждым ударом ноги в гранит тротуара, выскакивало, как будто из-под земли, по такому же точно, совершенно подобному <…> господину Голядкину. И все эти совершенно подобные пускались тотчас же по появлении своем бежать один за другим, и длинною цепью, как вереница гусей, тянулись и ковыляли за господином Голядкиным-старшим, так что некуда было убегать от совершенно подобных, — так что дух захватывало всячески достойному сожаления господину Голядкину от ужаса, — так что народилась, наконец, страшная бездна совершенно подобных…» 47 В поэме Лермонтова «Мцыри» (при этом герой оказывается в замкнутом пространстве — в чреве лесной стихии): Напрасно в бешенстве порой Я рвал отчаянной рукой Терновник, спутанный плющом: Все лес был, вечный лес кругом, Страшней и гуще каждый час; И миллионом черных глаз Смотрела ночи темнота Сквозь ветви каждого куста… В повести Гофмана «Песочный человек» герой в детстве увидел своего отца и своего будущего двойникаантипода (а пока что двойника-антипода отца), производящих некий алхимический опыт. И видит множество лиц с пустыми глазницами: «О Боже! Когда старый мой отец склонился над огнем, — какая ужасная случилась с ним перемена! Казалось, жестокая судорожная боль преобразила его кроткое честное 100 www.russianeurope.ru 45 Гоголя; павлин, раскрывающий свой усеянный «глазами» хвост в снегопаде — в фильме Феллини «Амаркорд»), или многоруким. Кадр из фильма Федерико Феллини «Амаркорд» (1973). Этот павлин появляется после того, как мы видим в снежном лабиринте (стихия и замкнутое пространство) героя → Градиску («Прекрасную Даму») → мотоциклиста в черном, в очках и кожаном шлеме (кентавра), который своим движением прошивает и сшивает эпизоды фильма. В этом же смысле он часто предстает перед героем в виде поразительного множества живых существ, например птиц или рыб (нередко мертвых). Но это может быть и людская толпа или некий универсальный набор людей (нередко сравниваемых с рыбами, листьями и т.п.). В повести Толстого «Казаки» (1863) это комары (и связанное с ними прозрение Оленина, увидевшего себя таким же лицо в уродливую отвратительную сатанинскую личину. Он походил на Коппелиуса! Сей последний, взяв раскаленные щипцы, вытаскивал ими добела раскаленные комья какого-то вещества, которое он потом усердно бил молотком. Мне чудилось, что везде вокруг мелькает множество человеческих лиц, только без глаз, — вместо них ужасные, глубокие черные впадины. "Глаза сюда! Глаза!" — воскликнул Коппелиус глухим и грозным голосом. Объятый неизъяснимым ужасом, я вскрикнул и рухнул из моей засады на пол». 101 www.russianeurope.ru комаром48). В романе Кнута Гамсуна «Мистерии» (1892) это мириады слепых ангелов. В повести Конрада «Сердце тьмы» это дикари как одушевленное проявление лесной стихии, подчиняющейся двойникуантиподу49. В фильмах ужасов — какое-нибудь устрашающее множество мелких (часто фантастических) существ, губительных для человека или для человечества в целом. В поэме Лонгфелло «Песнь о Гайавате», после того как героем и его звериным помощником (белкой Аджидомо) был побежден (изнутри) Великий Осетр (и царь рыб) Мише-Нама, появляются чайки, помогающие Гайавате выбраться наружу. И они представляют собой как символ разрывания мифического зверя на части, так и множественный взгляд: И опять забился Нама, Заметался, задыхаясь, А потом затих — и волны Понесли его к прибрежью. И когда под Гайаватой Зашуршал прибрежный щебень, Понял он, что Мише-Нама, Бездыханный, неподвижный, Оленин отправляется в лес (Источник жизни) за оленем (его звериный двойник, двойник-антипод), после чего ему являются комары (множественный двойник-антипод — то есть герой не только отраженный, но и умноженный Источником жизни): «Оленин готов был бежать от комаров: ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но, вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И, странное дело, к полдню это ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека и булькающей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. <…> Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть», — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него». 49 «Я видел, как он широко раскрыл рот… в этот момент он выглядел прожорливым и страшным, словно хотел проглотить воздух и всех людей, стоявших перед ним. До меня слабо доносился низкий голос. Должно быть, он кричал. Вдруг он откинулся назад. Дрогнули носилки, когда носильщики снова зашагали вперед, и почти в тот же момент я обратил внимание, что толпа дикарей незаметно исчезла, как будто лес, выбросивший внезапно этих людей, снова втянул их в себя, как легкие втягивают воздух». 102 www.russianeurope.ru 48 Принесен волной к прибрежью. Тут бессвязный крик и вопли Услыхал он над собою, Услыхал шум длинных крыльев, Переполнивший весь воздух, Увидал полоску света Меж широких ребер Намы И Кайошк, крикливых чаек, Что блестящими глазами На него смотрели зорко И друг другу говорили: "Это брат наш, Гайавата!" И в восторге Гайавата Крикнул им, как из пещеры: "О Кайошк, морские чайки, Братья, сестры Гайаваты! Умертвил я Мише-Наму, — Помогите же мне выйти Поскорее на свободу, Рвите клювами, когтями Бок широкий Мише-Намы, И отныне и вовеки Прославлять вас будут люди, Называть, как я вас назвал!" Дикой, шумной стаей чайки Принялися за работу, Быстро щели проклевали 103 www.russianeurope.ru Меж широких ребер Намы, И от смерти в чреве Намы, От погибели, от плена, От могилы под водою Был избавлен Гайавата. Примечание. Повествование может вестись с позиции двойника (а не героя). «Хромой бес» Луиса Велеса де Гевары (1641), «Мертвые души» Гоголя (Чичиков — двойник-антипод по отношению к каждому встречаемому им помещику), фильмы Чаплина, «Улисс» Джойса. В «Улиссе» Леопольд Блум — Улисс, Стивен Дедал — Телемак. Вместе с тем Стивен Дедал — Гамлет, Леопольд Блум — Тень отца Гамлета. По мысли Джойса (которую высказывает Стивен), Шекспир отождествлял себя с Тенью отца, а своего сына — с Гамлетом. Так в «Улиссе» «сущностная форма» оказывается перевернутой: двойник-антипод (Блум, Тень) ↔ Прекрасная Дама (Молли и др.) ↔ герой (Стивен). 104 www.russianeurope.ru Кадр из фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка» (1925) Общие замечания. 1. Помимо основной «сущностной формы», в произведении возникают перпендикулярные (к линии сюжета) как бы миражи, проекции этой самой формы: «пустые двойки» (или «пустые двойники») (Бобчинский и Добчинский; два писаря, повстречавшиеся Свидригайлову перед самоубийством; двое помощников землемера в «Замке» Кафки50; два Прием, нередко используемый и в современной тривиальной литературе. Например, в романе Харуки Мураками «Кафка на взморье» Кафка Тамура добирается до входа в другой мир, в котором ему предстоит путь через лес и встреча с Прекрасной Дамой (Саэки-сан) в обеих ее возрастных ипостасях. У входа в этот мир (закрытый камнем) он встречает двух сторожащих этот вход солдат (они во время Второй мировой войны затерялись в этом лесу, их искали, но безуспешно). Солдаты провожают его в домик, где затем происходит встреча с Прекрасной Дамой. В облике самих солдат выражено антиподное двойничество — они похожи на клоунов (худого и длинного — и широкого коротышку): «Пройдя еще немного, я увидел двух солдат. На них была полевая форма старой императорской армии. Летняя, с короткими рукавами. На ногах обмотки, вещмешки за спиной. Вместо касок – солдатские панамы, лица для маскировки вымазаны черной краской. Оба молодые. Один – долговязый, в круглых очках с металлической оправой, худой. Его товарищ – низенький, широкий в плечах, коренастый. Солдаты сидели рядом на большом плоском камне; вид у них был совсем не воинственный». 105 www.russianeurope.ru 50 русских мужика в начале «Мертвых душ»…) и «пустые тройки» (три богини судьбы; три волхва; Атос, Портос и Арамис; три квартиросъемщика в «Превращении» Кафки; три проходимца в кинокомедии «Кавказская пленница»…). 2. Персонажей может быть сколько угодно, но их расстановка на шахматной доске произведения происходит согласно с «сущностной формой»: сначала выставляется герой (обычно так или иначе отражающий самого автора, ставленник автора), затем — Источник жизни (испытание) и двойник-антипод героя, затем другие двойникиантиподы героя (например, в «Капитанской дочке» двойником Гринёва является не только Пугачев, но и Зурин51, но и Швабрин52, в «Герое нашего времени» двойник Печорина не только Грушницкий, но и Вулич, в «Докторе Живаго» антиподами Юрия Живаго выступают его сводный брат Евграф — кстати, в оленьей дохе и с киргизскими глазами, муж Лары Павел Стрельников, адвокат Комаровский — кстати, с собакой, укусившей Лару), затем реализуются перпендикулярные двойки (два поляка в «Братьях Карамазовых») и тройки (три сестры в «Идиоте», три брата в «Братьях Карамазовых»), затем к каждому, например, брату можно дать Даму (положительную и Иван Иванович Зурин — это первая встреча Гринёва, выехавшего на свою инициацию (на армейскую службу). Зурин «находится в Симбирске при приеме рекрут». Он обыгрывает шестнадцатилетнего юношу в Симбирском трактире (в бильярд), приобщает к алкоголю («повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба!») и к женскому обществу («поедем к Аринушке»). Роль жертвенного ножа у Зурина играет бильярдный кий, видим мы и халат — довольно обычное для двойника-антипода облачение: «Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах». В конце повести Гринёв, увозя Машу из пугачевских мест, вновь встречает Зурина, и эта встреча для него спасительна: «Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире! — Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли? — Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?» 52 Швабрин ранит Гринёва (как бы приносит его в жертву или невольно посвящает в рыцари). Кроме того, Гринёв, нырнув в чужой ему мир русского бунта, в мир смерти, выходит невредимым (подобно Ивану в сказке Ершова «Конек-Горбунок», ныряющему в кипящее молоко), а Швабрин — погибает. 106 www.russianeurope.ru 51 отрицательную) и двойников-антиподов, например серьезного и комического53… и т.д. Пример из повести Садека Хедаята «Слепая сова»: «Тень моя была гораздо более густой, плотной и четкой, чем мое живое тело, она падала на стену и представлялась гораздо более реальной, чем мое существование. Казалось, что оборванный старикашка, мясник, няня, моя жена-потаскуха — все они мои тени, среди которых я заперт». 3. Для того чтобы указать на двойника-антипода, недостаточно одного признака, нужна совокупность ряда признаков при главном условии: двойник-антипод (вольно или невольно) решающим образом влияет на судьбу героя. Иоанн Креститель является двойником-антиподом Иисуса Христа не потому только, что ему отрезают голову, а потому, что он играет судьбообразующую в отношении Иисуса роль и обладает, помимо отрезанной головы, другими признаками двойникаантипода. Обладает пучком признаков. Такими, как, например, «звериная» одежда и «звериный» образ жизни, встреча с Иисусом и крещение (с разговором, кто у кого должен креститься) в реке Иордан (Источник жизни), подражание Иисуса Иоанну (Иисус отправляется после крещения в пустыню). Блюдо, на котором лежит голова Иоанна, — символ кружения (как все круглые предметы, в том числе и венец. И непосредственно до отрезания головы Саломея кружилась в танце). Иисус и Иоанн традиционно воспринимаются как братья (хотя и не прямые — что даже больше свойственно двойникам). И так далее. Грушницкий является двойником-антиподом Печорина потому, что он влияет коренным образом на судьбу героя, а также потому, что он вступает с героем в поединок, потому что гибнет, потому что падает с высоты (с которой до этого с ужасом смотрит Печорин), потому что он Так, у Чацкого есть серьезный антипод — Молчалин, и два более или менее комических — Скалозуб (кстати, Сергей Сергеевич) и Репетилов. 53 107 www.russianeurope.ru «смугл и черноволос», потому что хромает (из-за ранения в ногу), потому что носит «толстую солдатскую шинель» — чужую шкуру, потому что является соперником Печорина в ухаживании за княжной Мери и так далее. Пугачев является двойником-антиподом Петра Гринёва, потому что влияет на его судьбу, потому что он — «вожатый» (возникает перед героем из стихии — из похожей на море снежной бури54 — и выводит из нее), потому что лишается головы (успев кивнуть ею герою), потому что меняется с героем тулупами (обмен шкурами, братание), потому что сравнивается то с волком55, то со львом, то с орлом (звериный двойник), потому что видится герою во сне, полном крови и трупов, с топором (жертвенный нож): «комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах…», потому что он — страшный мужик с черной бородою56, потому что говорит (с хозяином постоялого двора) на особом языке (воровском жаргоне), потому что не раз «мигает значительно», потому что, хотя сам он и не восточный чужеземец, но повелевает «киргизцами» и «башкирцами»57, и так далее. И стихия эта — одушевленная, то есть одновременно является и мифическим зверем (что вообще часто у Пушкина): «Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»... Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным…» 55 «Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А Бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек». Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком». 56 Это не случайно, а именно художественно: у реального Пугачева борода была русая. 57 Кроме того, отрубленная голова Пугачева «рифмуется» в повести с отрубленной головой калмыка Юлая: «Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта». 108 www.russianeurope.ru 54 Пугачев (Амедео Надзари) в фильме Марио Камерини «Капитанская дочка» (1947) Приложение первое. Английский поэт-романтик Уильям Вордсворт (1770— 1850) в поэме «Прелюдия» рассказывает историю своего духовного развития. Одним из этапов этой истории явилась встреча (во сне) с арабом, от которого он слышит пророчество о судьбах человечества, причем, как замечает поэт: «на неизвестном языке, который я, однако, понимал». Вот начало описания встречи (в дословном переводе): Мои чувства поддались знойному воздуху, Сон охватил меня, и я перешел в сновидение. Я увидел, что предо мной расстилается бескрайняя равнина Песчаной дикой местности, черная и пустынная, И, когда я огляделся, тоска и страх 109 www.russianeurope.ru Овладели мной, и тут возле меня, Совсем близко возле меня появилась грубая фигура На одногорбом верблюде, сидящая высоко. Это, казалось, был араб одного из бедуинских племен: В руке он держал копье…58 Приложение второе. Явление Мармеладова как двойника-антипода — непосредственно после посещения Раскольниковым старухи-процентщицы (Бабы-яги, богини смерти). Обратите внимание на то, что Раскольников спускается в распивочную, словно в чрево мифического зверя (духом которого является Мармеладов — кстати, довольно двойническая фамилия), где все грязно, липко, где «все пропитано винным запахом», от которого кружится голова, на то, что появлению Мармеладова словно предшествовало предчувствие Раскольниковым его появления (иначе говоря, Мармеладов является Раскольникову как бы во сне), а также на «пустую двойку», встреченную героем при входе: «Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей, как раз в эту минуту, выходили двое пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до …My senses yielding to the sultry air, Sleep seized me, and I passed into a dream. I saw before me stretched a boundless plain Of sandy wilderness, all black and void, And as I looked around, distress and fear Came creeping over me, when at my side, Close at my side, an uncouth shape appeared Upon a dromedary, mounted high. He seemed an Arab of the Bedouin tribes: A lance he bore… 58 110 www.russianeurope.ru сих пор не входил он в распивочные, но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу, за липким столиком, спросил пива и с жадностию выпил первый стакан. <…> Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и все до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в пять минут сделаться пьяным. <…> Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно и даже со скукой, а вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить. Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, — пожалуй, был и смысл и ум, — но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный черный фрак, с осыпавшимися пуговицами. Одна только еще держалась кое-как, и на нее-то он и застегивался, видимо желая не удаляться приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито, по-чиновничьи, но 111 www.russianeurope.ru давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно-чиновничье. Но он был в беспокойстве, ерошил волосы и подпирал иногда, в тоске, обеими руками голову, положа продранные локти на залитый и липкий стол. Наконец он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твердо проговорил: — А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным?» Приложение третье. Обломов у госпожи Пшеницыной (герой попадает к Цирцее, к Хозяйке зверей): «— Скажи хозяйке дома, — говорил Обломов, — что я хочу с ней видеться: я нанял здесь квартиру… — Вы, стало быть, новый жилец <…>? Вот погодите, я скажу. Она отворила дверь, и от двери отскочило несколько голов и бросилось бегом в комнаты. Он успел увидеть какую-то женщину, с голой шеей и локтями, без чепца, белую, довольно полную, которая усмехнулась, что ее увидел посторонний, и тоже бросилась от дверей прочь. <…> Она не ожидала гостей, и когда Обломов пожелал ее видеть, она на домашнее будничное платье накинула воскресную свою шаль, а голову прикрыла чепцом. Она вошла робко и остановилась, глядя застенчиво на Обломова. Он привстал и поклонился. — Я имею удовольствие видеть госпожу Пшеницыну? — спросил он. — Да-с, — отвечала она. — Вам, может быть, нужно с братцем поговорить? — нерешительно спросила она. — Они в должности, раньше пяти часов не приходят. — Нет, я с вами хотел видеться, — начал Обломов, когда она села на диван, как можно дальше от него, и смотрела на концы своей шали, которая, как попона, покрывала ее до полу. Руки она прятала тоже под шаль. 112 www.russianeurope.ru — Я нанял квартиру; теперь, по обстоятельствам, мне надо искать квартиру в другой части города, так я пришел поговорить с вами… Она тупо выслушала и тупо задумалась. — Теперь братца нет, — сказала она потом. — Да ведь этот дом ваш? — спросил Обломов. — Мой, — коротко отвечала она. — Так я и думал, что вы сами можете решить… — Да вот братца-то нет; они у нас всем заведывают, — сказала она монотонно, взглянув в первый раз на Обломова прямо и опустив опять глаза на шаль. <…> В это время вдруг в комнату ворвалась Акулина; в руках у ней бился крыльями и кудахтал, в отчаянии, большой петух. — Этого, что ли, петуха, Агафья Матвевна, лавочнику отдать? — спросила она. — Что ты, что ты! Поди! — сказала хозяйка стыдливо. — Ты видишь, гости! — Я только спросить, — говорила Акулина, взяв петуха за ноги, головой вниз, — семьдесят копеек дает. — Поди, поди в кухню! — говорила Агафья Матвеевна. — Серого с крапинками, а не этого, — торопливо прибавила она, и сама застыдилась, спрятала руки под шаль и стала смотреть вниз. — Хозяйство! — сказал Обломов. — Да, у нас много кур; мы продаем яйца и цыплят. Здесь, по этой улице, с дач и из графского дома всё у нас берут, — отвечала она, поглядев гораздо смелее на Обломова. И лицо ее принимало дельное и заботливое выражение; даже тупость пропадала, когда она заговаривала о знакомом ей предмете. На всякий же вопрос, не касавшийся какой-нибудь положительной известной ей цели, она отвечала усмешкой и молчанием. 113 www.russianeurope.ru <…> Усмешка у ней была больше принятая форма, которою прикрывалось незнание, что в том или другом случае надо сказать или сделать. — Мне долго ждать его прихода, — сказал Обломов, — может быть, вы передадите ему, что, по обстоятельствам, я в квартире надобности не имею и потому прошу передать ее другому жильцу, а я, с своей стороны, тоже поищу охотника. Она тупо слушала, ровно мигая глазами. — Насчет контракта потрудитесь сказать… — Да нет их дома-то теперь, — твердила она, — вы лучше завтра опять пожалуйте: завтра суббота, они в присутствие не ходят… — Я ужасно занят, ни минуты свободной нет, — отговаривался Обломов. — Вы потрудитесь только сказать, что так как задаток остается в вашу пользу, а жильца я найду, то… — Нету братца-то, — монотонно говорила она, — нейдут они что-то… — И поглядела на улицу. — Вот они тут проходят, мимо окон: видно, когда идут, да вот нету! — Ну, я отправлюсь… — сказал Обломов. — А как братец-то придут, что сказать им: когда вы переедете? — спросила она, встав с дивана. — Вы им передайте, что я просил, — говорил Обломов, — что по обстоятельствам… — Вы бы завтра сами пожаловали да поговорили с ними… — повторила она. — Завтра мне нельзя. — Ну, послезавтра, в воскресенье: после обедни у нас водка и закуска бывает. <…> — И послезавтра мне нельзя, — отговаривался с нетерпением Обломов. — Так уж на той неделе… — заметила она. — А когда переезжать-то станете? Я бы полы велела вымыть и пыль стереть, — спросила она. — Я не перееду, — сказал он. 114 www.russianeurope.ru — Как же? А вещи-то куда же мы денем? — Вы потрудитесь сказать братцу, — начал говорить Обломов расстановисто, упирая глаза ей прямо в грудь, — что по обстоятельствам… — Да вот долго нейдут что-то, не видать, — сказала она монотонно, глядя на забор, отделявший улицу от двора. — Я знаю и шаги их; по деревянной мостовой слышно, как кто идет. Здесь мало ходят… — Так вы передадите ему, что я вас просил? — кланяясь и уходя, говорил Обломов. — Вот через полчаса они сами будут… — с несвойственным ей беспокойством говорила хозяйка, стараясь как будто голосом удержать Обломова. — Я больше не могу ждать, — решил он, отворяя дверь. Собака, увидя его на крыльце, залилась лаем и начала опять рваться с цепи. Кучер, спавший опершись на локоть, начал пятить лошадей; куры опять, в тревоге, побежали в разные стороны; в окно выглянуло несколько голов. — Так я скажу братцу, что вы были, — в беспокойстве прибавила хозяйка, когда Обломов уселся в коляску. — Да, и скажите, что я, по обстоятельствам, не могу оставить квартиры за собой и что передам ее другому или чтоб он… поискал… — Об эту пору они всегда приходят… — говорила она, слушая его рассеянно. — Я скажу им, что вы хотели побывать. — Да, на днях я заеду, — сказал Обломов. При отчаянном лае собаки коляска выехала со двора и пошла колыхаться по засохшим кочкам немощеного переулка. В конце его показался какой-то одетый в поношенное пальто человек средних лет, с большим бумажным пакетом под мышкой, с толстой палкой и в резиновых калошах, несмотря на сухой и жаркий день. 115 www.russianeurope.ru Он шел скоро, смотрел по сторонам и ступал так, как будто хотел продавить деревянный тротуар. Обломов оглянулся ему вслед и видел, что он завернул в ворота к Пшеницыной. «Вон, должно быть, и братец пришли! — заключил он. — Да черт с ним! Еще протолкуешь с час, а мне и есть хочется, и жарко! Да и Ольга ждет меня… До другого раза!» — Ступай скорей! — сказал он кучеру». Если бы я снимал фильм, то этот петух, сначала в отчаянии бьющийся и кудахтающий, а затем взятый за ноги и висящий головой вниз, непременно чем-либо напомнил бы самого Обломова. А может быть, я выделил бы в Агафье Матвеевне и ее схожесть с ожившей статуей или куклой («Она тупо слушала, ровно мигая глазами»). И с лошадью («и смотрела на концы своей шали, которая, как попона, покрывала ее до полу»). Сходство хозяйки с лошадью далее подчеркивается автором неоднократно, например: «— Ну, поцелуйте же меня! — Вот, Бог даст, доживем до Пасхи, так поцелуемся, — сказала она, не удивляясь, не смущаясь, не робея, а стоя прямо и неподвижно, как лошадь, на которую надевают хомут. Он слегка поцеловал ее в шею. — Смотрите, просыплю корицу; вам же нечего будет в пирожное положить, — заметила она». С лошадью ее сравнивает и «братец»: «…ее хоть ударь, хоть обними — все ухмыляется, как лошадь на овес». Как видите, и корм тут же упоминается (в обоих примерах). Госпожа Пшеницына (обратите внимание и на имя) — Хозяйка зверей, а также еды и выпивки (как и положено Цирцее с ее свиньями, угощением, вином). У нее есть еще одна любопытная примета Хозяйки зверей. Дело в том, что Хозяйка зверей еще со времен неолита изображается либо с двумя зверями по бокам (что дает как раз картинку двойничества, «сущностную форму», универсальный код всей дальнейшей культуры), либо этих зверей 116 www.russianeurope.ru означают ее поднятые руки (либо мы видим как поднятые руки, так и зверей возле этих рук). (Сравните: руки Лары в «Докторе Живаго».) Хозяйку Обломова также окружают двое зверушек — это ее голые локти: «Какой славный кофе! Кто это варит? — спросил Обломов. — Сама хозяйка, — сказал Захар, — шестой день все она. «Вы, говорит, много цикорию кладете да не довариваете. Дайте-ко я!» — Славный, — повторил Обломов, наливая другую чашку. — Поблагодари ее. — Вон она сама, — говорил Захар, указывая на полуотворенную дверь боковой комнаты. — Это у них буфет, что ли; она тут и работает, тут у них чай, сахар, кофе лежит и посуда. Обломову видна была только спина хозяйки, затылок и часть белой шеи да голые локти. — Что это она там локтями-то так живо ворочает? — спросил Обломов. <…> Чрез пять минут из боковой комнаты высунулась к Обломову голая рука, едва прикрытая виденною уже им шалью, с тарелкой, на которой дымился, испуская горячий пар, огромный кусок пирога. — Покорно благодарю, — ласково отозвался Обломов, принимая пирог, и, заглянув в дверь, уперся взглядом в высокую грудь и голые плечи. Дверь торопливо затворилась. — Водки не угодно ли? — спросил голос. — Я не пью; покорно благодарю, — еще ласковее сказал Обломов, — у вас какая? — Своя, домашняя: сами настаиваем на смородинном листу, — говорил голос. — Я никогда не пивал на смородинном листу, позвольте попробовать! Голая рука опять просунулась с тарелкой и рюмкой водки. Обломов выпил: ему очень понравилось. — Очень благодарен, — говорил он, стараясь заглянуть в дверь, но дверь захлопнулась. 117 www.russianeurope.ru — Что вы не дадите на себя взглянуть, пожелать вам доброго утра? — упрекнул Обломов. Хозяйка усмехнулась за дверью. — Я еще в будничном платье, все на кухне была. Сейчас оденусь; братец скоро от обедни придут, — отвечала она». Богиня Мокошь (предположительно). Узор с калужской вышивки Интересен и братец «с большим бумажным пакетом под мышкой, с толстой палкой и в резиновых калошах, несмотря на сухой и жаркий день». Он появляется сразу после Цирцеи, как и положено двойнику. Уже по первому разговору Агафьи Матвеевны с Обломовым становится ясно, что «братец» — мифический персонаж (на это намекает и само сказочное слово «братец»). Цирцея удерживает героя, все время ссылаясь на отсутствующего братца. Но что у него в «большом бумажном пакете»? Может быть, списки мужиков, как в шкатулке Чичикова (которая столь подробно описывается автором при визите Чичикова к Коробочке)? «А где ваш братец служит? — В канцелярии. — В какой? — Где мужиков записывают… я не знаю, как она называется. 118 www.russianeurope.ru Она простодушно усмехнулась, и в ту ж минуту опять лицо ее приняло свое обыкновенное выражение». Вот еще один из аспектов двойника-антипода59: черт с мешком, в который упрятаны собранные им души60. Мешок — символ закрытого пространства, утробы мифического зверя. Такая вот портативная утроба. В произведениях может принимать разные виды — например, кожаного портфеля или чемодана. Так, в романе Харуки Мураками «Кафка на взморье» некто, называющий себя Джонни Уокером, ловит на пустыре кошек в кожаный чемодан, отрезает им головы и складывает их в холодильник61. Черный пес приводит к нему героя романа — Накату. (Наката — полуидиот, но умеет говорить с кошками на их языке и потому подрабатывает поиском пропавших кошек.) Джонни Уокер демонстрирует Накате свой чемодан: «Джонни Уокер встал, вытащил из тени под столом большой кожаный чемодан и поставил на кресло, где только что сидел. Весело насвистывая, открыл крышку и, как фокусник, извлек из чемодана кота — пепельного полосатика. Наката его раньше не встречал. Кот, молодой, но уже взрослый, выглядел каким-то вялым, размякшим, хотя глаза у него были открыты — наверное, все-таки понимал, что происходит. Джонни Уокер поднял его обеими руками, как рыбак пойманную рыбу, продолжая при этом Такого аспекта нет в нашем списке, который на самом деле не претендует на полноту. Смешно размышлять, сколько именно признаков у двойника-антипода, как их лучше разложить по пунктам, в каком порядке… Это Протей, но мы его поймали, сказав, что он — двойник-антипод и являет собой образ героя, проходящего через смерть. 60 Например, «Песочный человек» Гофмана: «Подстрекаемый любопытством и желая обстоятельно разузнать все о Песочном человеке и его отношении к детям, я спросил наконец старую нянюшку, пестовавшую мою младшую сестру, что это за человек такой, Песочник? "Эх, Танельхен, — сказала она, — да неужто ты еще не знаешь? Это такой злой человек, который приходит за детьми, когда они упрямятся и не хотят идти спать, он швыряет им в глаза пригоршню песку, так что они заливаются кровью и лезут на лоб, а потом кладет ребят в мешок и относит на луну, на прокорм своим детушкам, что сидят там в гнезде, а клювы-то у них кривые, как у сов, и они выклевывают глаза непослушным человеческим детям"». 61 «— Открой левую дверцу, — тихо проворчал пес, хотя даже Накате было ясно, что это не его голос. На самом деле говорил Джонни Уокер. Он общался с Накатой через эту собаку. Смотрел на него ее глазами. <…> Внутри ровными рядами лежали какие-то круглые плоды. Штук двадцать. И больше ничего. Наката наклонился, чтобы рассмотреть их поближе. Белое облачко рассеялось, и он понял, что это — совсем не плоды. В морозилке на трех полках, как во фруктовой лавке апельсины, были расставлены отрезанные кошачьи головы. Разных цветов и размеров. Все замороженные головы были повернуты прямо на Накату. Он чуть не задохнулся». 119 www.russianeurope.ru 59 свистеть. Он исполнял песенку гномов из диснеевского мультика про Белоснежку: «Хей-хо! Хей-хо…» — У меня в этом чемодане сидят пять кошек. Все с того самого пустыря. Я их совсем недавно наловил. Свеженькие, прямая поставка!» Кошатник Джонни Уокер — типичный черт, чем-то напоминающий, кстати сказать, и Чичикова: «В кожаном вращающемся кресле, закинув ногу на ногу, сидел высокий мужчина в черном шелковом цилиндре. На нем был длиннополый и узкий ярко-красный сюртук, надетый поверх черного жилета, черные сапоги и белоснежные брюки в обтяжку. Мужчина поднес руку к цилиндру, как если бы приветствовал даму. Левой рукой он сжимал черный стек, инкрустированный золотом. Судя по шляпе, это был тот самый Кошатник <…>. Неприметные черты лица — в отличие от одеяния. Не молодой, не старый. Не сказать, что красавец, но и не урод62. Густые брови, здоровый румянец на щеках. Лицо на удивление гладкое — на таком ни борода, ни усы не растут. Прищуренные глаза, на губах играет насмешливая улыбка. В общем, лицо не запоминающееся. Взгляд на таком не останавливался — не то что на костюме, в который вырядился обладатель этого лица. Попадись он на улице в другой одежде, вполне возможно, Наката бы его и не заметил». Он — как бы иностранец, что также типично для черта (чем напоминает нам Воланда из романа Булгакова «Мастер и Маргарита»): «— Знаешь, как меня зовут? — Нет. Наката совсем забыл сказать, у него голова не в порядке. <…> Губы чуть скривились. По ним, как рябь по воде, пробежала саркастическая ухмылка, исчезла и появилась снова. «В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод» (начало поэмы Гоголя «Мертвые души»). 62 120 www.russianeurope.ru — Кто виски пьет, тот с первого раза меня узнает. Ну да ладно. Меня зовут Джонни Уокер. Джонни Уокер. Большинство людей со мной знакомы. Скажу без хвастовства: меня знают во всем мире. Я знаменит, как какаянибудь икона. Хотя я Джонни Уокер не настоящий. Английская компания, которая делает виски, тут совсем ни при чем. Просто позаимствовал этот наряд с этикетки. И имя тоже. Без разрешения. Потому что так было надо. В комнате наступила тишина. Наката понятия не имел, о чем говорил этот человек. До него дошло только, что его зовут Джонни Уокер. — Джонни Уокер-сан, вы иностранец? Джонни Уокер слегка наклонил голову и сказал: — Ну ты даешь. Ладно. Пусть будет так, если тебе так понятнее. Так или эдак. Все равно. Как хочешь. И опять Наката ничего не понял. <…> — И иностранец, и не иностранец? Разве так бывает? — Бывает». Явление же Джонни Уокера Накате напоминает явление черта Ивану Карамазову: «Пес спокойно ожидал, когда Наката закончит приводить себя в порядок, затем провел его по коридору, отделанному полированным деревом, в одну из комнат — то ли гостиную, то ли кабинет. В комнате было темно. На улице смеркалось, а выходившее в сад окно закрывали плотные гардины. Свет не горел. В глубине комнаты стоял большой стол, возле которого кто-то сидел. Но не привыкшие к темноте глаза мало что могли разобрать. Зрение различало лишь смутно маячивший во мраке черный силуэт человека, будто вырезанный из бумаги. Когда Наката вошел, силуэт шевельнулся. Похоже, некто, сидевший в комнате, медленно повернулся на вращающемся кресле в его сторону». 121 www.russianeurope.ru Джонни Уокер демонстрирует Накате отрезание кошачьей головы63 и обращается к Накате с просьбой убить его, Джонни Уокера: «— У нас не так много времени. Вот, что я от тебя хочу. Ты должен меня убить. Прикончить. Наката уставился на своего собеседника, забыв о руке, которой поглаживал свою голову. — Наката должен убить Джонни Уокера? — Именно, — ответил тот. — Откровенно говоря, надоела мне такая жизнь, Наката-сан. Я столько живу на этом свете. Так долго, что уж и не помню, сколько мне лет. Больше не хочется. Кошек убивать и то надоело. Но пока я жив, я должен их убивать. Должен собирать их души». Наката выполняет просьбу-приказание Джонни Уокера (после того как тот демонстративно приготовился резать сиамскую кошку Мими — старую добрую знакомую Накаты — так сказать, его звериную Прекрасную Даму): «Ни слова не говоря, Наката встал. Никто — и он сам в том числе — не смог бы его остановить. Быстро подошел к столу и решительно схватил один из ножей. Большой, похожий на те, какими режут отбивные. Сжав его в руке, Наката не колеблясь по самую деревянную рукоятку всадил лезвие в грудь Джонни Уокеру. Удар пришелся в неприкрытое черным жилетом место. Наката вытащил нож и вонзил со всей силы еще раз, в другое место. Вдруг что-то загрохотало. В первые мгновения Наката не понял, что это за звук, но тут же сообразил: это Джонни Уокер разразился хохотом64. С ножом, глубоко засевшим в груди, обливаясь кровью, он громко смеялся. «Под аккомпанемент «Хей-хо!» Джонни Уокер привычными движениями принялся пилить коту голову. Зубья пилы со скрипом крушили кости. Кости были тонкие, и времени операция почти не заняла, но в эти несколько секунд скрежет пилы буквально вдавливал в пол. Джонни Уокер бережно положил отрезанную голову на тарелку и, отступив немного, какое-то время оценивающе смотрел на нее, прищурившись, точно оценивал произведение искусства». 64 Смеется и убиваемая старуха во сне Раскольникова: «Он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукою салоп и увидал, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней: «боится!» — подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой. Но странно: она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, — так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал». 122 www.russianeurope.ru 63 — Есть! — воскликнул он. — Молодец! Зарезал! И не поколебался! Высший класс! Даже падая, Джонни Уокер не переставал хохотать. Ха-ха-ха-ха-ха! То был странный хохот. Так смеются, когда не могут больше сдерживаться. Но очень скоро смех перешел в рыдание, в горле забулькала кровь. Похожий звук бывает, когда прочищают канализационные трубы. Тело сотрясали жестокие судороги, изо рта потоком хлынула кровь и вместе с ней выскочили какие-то скользкие темные комочки — кусочки только что пережеванных Джонни Уокером кошачьих сердец. Кровь разлилась по столу, забрызгала даже рубашку для гольфа, в которую был одет Наката. В крови были все — и Джонни Уокер, и Наката, и лежавшая на столе Мими. Опомнившись, Наката увидел распростертое у его ног тело Джонни Уокера. Тот лежал на боку, свернувшись калачиком, как ребенок в холодную ночь. Никаких сомнений — он был мертв. Левая рука Джонни Уокера сдавливала горло, правая была вытянута вперед, точно чего-то искала. Конвульсии прекратились, и уж, конечно, теперь ему было не до смеха. Но на губах еще лежала бледная тень насмешливой улыбки. Казалось, ее зачемто навеки приклеили к его лицу. По деревянному полу растекалась лужа крови, свалившаяся с головы шелковая шляпа откатилась в угол. Оказалось, что на затылке у Джонни Уокера волос совсем мало, даже кожа просвечивала. Без шляпы он выглядел гораздо старше, казался слабым и бессильным». Собирание голов в мешок (или другую какую-либо емкость) — довольно обычный сюжет, встречающийся даже в детской литературе — например, в сказке Вильгельма Гауфа «Карлик Нос»: «— Садись, сынок, — ласково сказала старуха и усадила Якоба на диван, пододвинув к дивану стол, чтобы Якоб не мог никуда уйти со своего места. — Отдохни хорошенько — ты, наверно, устал. Ведь человеческие головы — не легкая ноша. 123 www.russianeurope.ru — Что вы болтаете! — закричал Якоб. — Устать-то я и вправду устал, но я нес не головы, а кочаны капусты. Вы купили их у моей матери. — Это ты неверно говорить, — сказала старуха и засмеялась. И, раскрыв корзинку, она вытащила из нее за волосы человеческую голову». Здесь Хозяйка зверей (которую можно рассматривать и как женскую ипостась двойника, как «двойницу») с корзинкой-портативной утробой. Итак, Обломов встречается с Хозяйкой зверей и с ее братцем, который таскает с собой большой пакет: «До сих пор он с «братцем» хозяйки еще не успел познакомиться. Он видел только, и то редко, с постели, как, рано утром, мелькал сквозь решетку забора человек, с большим бумажным пакетом под мышкой, и пропадал в переулке, и потом, в пять часов, мелькал опять, с тем же пакетом, мимо окон, возвращаясь, тот же человек и пропадал за крыльцом. Его в доме не было слышно. <…> Братец вошел на цыпочках и отвечал троекратным поклоном на приветствие Обломова. Вицмундир на нем был застегнут на все пуговицы, так что нельзя было узнать, есть ли на нем белье или нет; галстук завязан простым узлом, и концы спрятаны вниз. Он был лет сорока, с прямым хохлом на лбу и двумя небрежно на ветер пущенными такими же хохлами на висках, похожими на собачьи уши средней величины. Серые глаза не вдруг глядели на предмет, а сначала взглядывали украдкой, а во второй раз уж останавливались. Рук своих он как будто стыдился, и когда говорил, то старался прятать или обе за спину, или одну за пазуху, а другую за спину. Подавая начальнику бумагу и объясняясь, он одну руку держал на спине, а средним пальцем другой руки, ногтем вниз, осторожно показывал какую-нибудь строку или слово и, показав, тотчас прятал руку назад, может быть, оттого, что 124 www.russianeurope.ru пальцы были толстоваты, красноваты и немного тряслись, и ему не без причины казалось не совсем приличным выставлять их часто напоказ. — Вы изволили, — начал он, бросив свой двойной взгляд на Обломова, — приказать мне прийти к себе. — Да, я хотел поговорить с вами насчет квартиры. Прошу садиться! — вежливо отвечал Обломов. Иван Матвеич, после двукратного приглашения, решился сесть, перегнувшись телом вперед и поджав руки в рукава». Примечателен и «двойной взгляд» двойника-антипода, и его несколько собачий вид. Интересны также его руки, перекликающиеся с руками его сестры. Руки и брата, и сестры то прячутся так, словно их нет, то действуют так, будто они — самостоятельные особи. Обломов попал в сказку, и когда он хочет нарушить законы сказки и ухаживать за Ольгой Ильинской, дух сказки посылает ему «пустую двойку» («пустых двойников») с предупреждающим сигналом: «В антракте он пошел в ложу к Ольге и едва протеснился до нее между двух каких-то франтов. Чрез пять минут он ускользнул и остановился у входа в кресла, в толпе. Акт начался, и все торопились к своим местам. Франты из ложи Ольги тоже были тут и не видели Обломова. — Что это за господин был сейчас в ложе у Ильинских? — спросил один у другого. — Это Обломов какой-то, — небрежно отвечал другой. — Что это за Обломов? — Это… помещик, друг Штольца. — А! — значительно произнес другой. — Друг Штольца. Что ж он тут делает? — Dieu sait!65 — отвечал другой, и все разошлись по местам. Но Обломов потерялся от этого ничтожного разговора. 65 Бог его знает! 125 www.russianeurope.ru «Что за господин?.. какой-то Обломов… что он тут делает… Dieu sait», — все это застучало ему в голову». Такие сигналы — моменты истины, глупо не обращать на них внимание. Обломову нужна не Ольга, а госпожа Пшеницына, которая (сразу после окончательного объяснения-разрыва Обломова с Ольгой) возвращает ему его звериную шкуру: «Бог знает, где он бродил, что делал целый день, но домой вернулся поздно ночью. Хозяйка первая услыхала стук в ворота и лай собаки и растолкала от сна Анисью и Захара, сказав, что барин воротился. Илья Ильич почти не заметил, как Захар раздел его, стащил сапоги и накинул на него — халат! — Что это? — спросил он только, поглядев на халат. — Хозяйка сегодня принесла: вымыли и починили халат, — сказал Захар. Обломов как сел, так и остался в кресле». Приложение к третьему приложению. Черт с мешком из романа Гюнтера Грасса «Жестяной барабан». Здесь примечательны также лошадиная голова (и тем, что именно голова, и тем, что именно лошади, и тем, что достается из воды) и порождаемая встречей с двойником множественность (угри, чайки): «Мы добрались почти до навигационной вышки на самом конце мола. Под вышкой сидел пожилой мужчина в шапке грузчика и ватнике. Рядом лежал мешок, который все время вздрагивал и двигался. А человек, по всей вероятности житель Брезена или Нойфарвассера, держал в руках конец бельевой веревки. Опутанная морской травой веревка уходила в затхлую воду Моттлау, которая, еще не осветленная и без помощи морских волн, билась в устье о камни мола. Мы полюбопытствовали, почему этот человек удит рыбу с помощью обычной бельевой веревки и явно без поплавка. Матушка задала свой вопрос тоном добродушной насмешки и назвала его дядей. Дядя хмыкнул, обнаружив побуревшие от табака пеньки на месте зубов, и без иных 126 www.russianeurope.ru объяснений послал длинный, перемешанный с крошками хлеба, растекающийся на лету плевок в месиво, кипевшее между нижними, покрытыми смолой и нефтью гранитными горбылями. Там плевок и качался до тех пор, покуда не прилетела чайка и, искусно уклонившись от встречи с камнями, не подхватила его, после чего увлекла за собой остальных крикливых чаек. Мы уже собрались уходить, потому что на молу было холодно и солнце ничуть не грело, но тут человек в грузчицкой шапке начал понемногу выбирать веревку. <…> То и дело приговаривая: "Чуток посмотрим!" и "Чего там у него есть!" — грузчик продолжал выбирать канат, хотя сейчас уже с натугой, потом он полез вниз по камням к канату и запустил — матушка не успела вовремя отвернуться, — широко раскинув, запустил руки в клокочущую воду бухты между гранитных глыб, пошарил, нащупал, схватил и, громко требуя посторониться, швырнул что-то мокротяжелое, что-то бурлящее жизнью на землю перед нами: лошадиную голову, свежую, совершенно как настоящую, голову вороного коня, то есть черногривой лошади, которая вчера еще, позавчера еще, возможно, заливалась ржанием, потому что она совсем не разложилась, эта голова, и не издавала зловония, разве что речной водой от нее пахло, но этой водой пахло все на молу. И вот уже человек в шапке стоит, широко расставив ноги над останками коня, из которого яростно прут светло-зеленые маленькие угри. Грузчик не без труда ловил их, потому что угри быстро и ловко скользили на гладких, мокрых еще камнях. Вдобавок над нами тотчас возникли чайки со своим обычным криком. Они налетели играючи, втроемвчетвером подхватывали маленького либо среднего угря, и отогнать их не было никакой возможности, потому что мол принадлежал им». Приложение четвертое. Три фрагмента романа Харуки Мураками «Кафка на взморье». 1. Фантастическая множественность как результат встречи с двойникомантиподом. Наката видит избиваемого (и убиваемого) группой 127 www.russianeurope.ru приятелей парня — вдруг вспоминает, как он убил Джонни Уокера — раскрывает зонтик — идет снег из пиявок: «Наката зажмурился, почувствовав, как внутри у него что-то медленно закипает. Такое, с чем он не в состоянии справиться. Его стало подташнивать. Неожиданно в памяти ожила картина: он убивает Джонни Уокера. Рука снова четко ощутила, как зажатый в ней нож вонзается человеку в грудь. «Вот она — взаимосвязь!» — подумал Наката. <…> Голоса парней поплыли, стали неразличимы. Слились с непрерывным и невнятным гулом шин, доносившимся со скоростного шоссе. Сердце работало мощными толчками, разгоняя кровь по всему организму. Ночь окружила его со всех сторон. Посмотрев на небо, Наката медленно раскрыл над головой зонтик. Осторожно сделал несколько шагов назад, отойдя от парней подальше. Огляделся и отступил еще на пару шагов. Парни покатились со смеху. — Бодрый старикан! Еще шевелится, — гоготал один из них. — Смотри-ка, и вправду зонтик раскрыл. Но смеялись они недолго. С неба вдруг посыпались какие-то непонятные скользкие предметы. Послышались странные шлепки, что-то ударялось о землю — шлеп! шлеп! Парни перестали пинать свою жертву и один за другим задрали головы кверху. Небо было ясное, но один его уголок словно прохудился — из него все валилось и валилось. Сначала понемногу, потом сильнее и сильнее, пока в один момент не начался настоящий обвал из какихто кусочков, сантиметра три длиной, черных, как уголь. В свете фонарей, освещавших стоянку, они выглядели как блестящий черный снег. Зловещие снежинки приземлялись на плечи, руки, затылки и тут же прилипали. Парни пытались их отодрать, но без особого успеха. — Пиявки! — крикнул кто-то. И тут, как по сигналу, все завопили на разные голоса…» 128 www.russianeurope.ru 2. Некто Ворона, играющий роль, аналогичную внутреннему сократовскому «демону», объясняет в начале романа пятнадцатилетнему Кафке Тамуре, что такое судьба. Подростку предстоит «стать по-настоящему крутым», то есть пройти некий обряд посвящения и стать героем: «Ворона вздыхает и надавливает пальцами на веки. Закрывает глаза и вещает из своего мрака: — Поиграем в нашу игру? — Давай, — откликаюсь я, зажмуриваюсь и медленно набираю в грудь воздуха. — Поехали? Представь себе стра-а-а-ш-шную песчаную бурю. Выкинь остальное из головы. Делаю, как он сказал: представляю стра-а-а-ш-шную песчаную бурю , выбрасываю из головы все остальное. Даже самого себя забываю. Превращаюсь в пустое место. И сразу все вокруг меня плывет. А мы с Вороной сидим, как обычно, в отцовском кабинете на старом диване, и это все наше, общее… — Судьба иногда похожа на песчаную бурю, которая все время меняет направление, — слышу я голос Вороны. Судьба иногда похожа на песчаную бурю, которая все время меняет направление. Хочешь спастись от нее — она тут же за тобой. Ты в другую сторону — она туда же. И так раз за разом, словно ты на рассвете втянулся в зловещую пляску с богом смерти. А все потому, что эта буря — не то чужое, что прилетело откуда-то издалека. А ты сам. Нечто такое, что сидит у тебя внутри. Остается только наплевать на все, закрыть глаза, заткнуть уши, чтобы не попадал песок, и пробираться напрямик, сквозь эту бурю. Нет ни солнца, ни луны, ни направления. Даже нормальное время не чувствуется. Только высоко в небе кружится белый мелкий песок, которым, кажется, дробит твои кости. Вообрази себе такую бурю. 129 www.russianeurope.ru И я вообразил: белый смерч поднимается в небо столбом, напоминая толстый скрученный канат. Плотно зажимаю обеими руками глаза и уши, чтобы песчинки не проникли в тело. Песчаный смерч движется прямо на меня. Он все ближе и ближе. Я кожей чувствую, что ветер еще далеко, но уже давит на меня. Сейчас проглотит… Ворона мягко кладет мне руку на плечо, и буря исчезает. Но я не открываю глаза. — Ты должен стать самым крутым среди пятнадцатилетних. Что поделаешь: хочешь выжить в этом мире — другого выхода нет. А для этого нужно самому понять, что это такое: стать по-настоящему крутым. Понимаешь?» 3. Кафка Тамура ночью видит призрак Саэки-сан: «В ту ночь я увидел призрака. Не знаю, правильно ли назвать то, что я увидел, «призраком». Но, во всяком случае, оно не было живым существом и нашему миру явно не принадлежало; я это с первого взгляда понял. Я проснулся сразу, словно по какому-то сигналу, и увидел ее – эту девушку. Посреди ночи в комнате было на удивление ярко — через окно ее заливала светом луна. Шторы почему-то были широко раздвинуты, хотя обычно, перед тем как лечь, я их задергивал. Четкий силуэт девушки омывали потоки белого, как сахарная кость, лунного сияния. Лет девушке было примерно сколько мне — пятнадцать или шестнадцать. Скорее все-таки пятнадцать. Да, пятнадцать. Ведь это совсем не то, что шестнадцать. Разница большая. Невысокая, хрупкая, но фигура что надо, и на кисейную барышню она не походила. Прямые волосы закрывали сзади шею, не доходя до плеч, на лоб падала челка. На ней было расширяющееся книзу бледно-голубое платье. Не длинное и не короткое. И босиком – ни чулок, ни туфель. Пуговицы на манжетах аккуратно застегнуты. 130 www.russianeurope.ru Уткнув подбородок в руки, она сидела за столом и смотрела куда-то в стенку. Наверное, думала о чем-то. На тяжелые раздумья было не похоже. Казалось, она витает в приятных воспоминаниях о не столь далеком прошлом. Время от времени на ее губах проступала едва заметная улыбка. Однако при свете луны я не мог разобрать со своего места, что написано у нее на лице. Я притворился, что сплю. Что бы она здесь ни делала, мешать ей не хотелось. Я затаил дыхание. Я понял, что эта девушка — призрак. Во-первых, она была чересчур красива. Я имею в виду не только лицо. Весь ее облик был слишком отточен и безупречен. В реальной жизни такого не бывает. Она будто перенеслась в эту комнату из чьего-то сна. И эта чистая, без малейшей примеси красота будила во мне печаль. Такую естественную, но в то же время – какую-то чужую в этом месте. Укутавшись в одеяло, я старался не дышать. А девушка сидела все в той же позе, лишь изредка чуть шевеля головой. Больше ничто в комнате не двигалось. Большой куст кизила под окном безмолвно купался в лунном свете. Ветер стих. До уха не доносилось ни единого звука. Такое ощущение, что я умер, сам того не заметив. Умер и теперь вместе с этой девушкой тону в глубоком озере в кратере вулкана. Неожиданно девушка резко выпрямилась и положила руки на колени. Две белые коленки, что выглядывали из-под платья. Она вдруг отвела взгляд от стены, словно ей в голову пришла какая-то мысль, повернулась и посмотрела в мою сторону. Поднесла руку ко лбу, коснулась челки. Тонкие девичьи пальцы замерли на несколько секунд — как будто она старалась что-то вспомнить. Девушка смотрела на меня. Сердце глухо заколотилось в груди. Но, как ни странно, я не чувствовал на себе чужого взгляда. Быть может, девушка смотрела не на меня, а на кого-то или что-то за моей спиной… На дне вулканического озера, куда мы погружались, было тихо. Вулкан спал уже много лет. В озере, как мягкая грязь, копилось одиночество. Слабый свет, проникавший сквозь толщу воды, расползался вокруг белесыми 131 www.russianeurope.ru пятнами, словно обрывки воспоминаний о давно минувших днях. На дне признаков жизни я не заметил. Сколько времени она смотрела на меня… или на то место, которое я занимал? Время потеряло установленный ход. Здесь оно может растягиваться или останавливаться, откликаясь на порывы души. Наконец девушка неожиданно поднялась со стула, неслышно направилась к двери и, не открывая ее, беззвучно исчезла». Приложение пятое. Явление «Хозяйки зверей» в повести Конрада «Сердце тьмы». Эта дикарка — спутница Куртца (двойника-антипода). Она — душа леса. А еще ее сопровождают два звероподобных дикаря, а еще она воздевает руки к небу: «Вдали виднелись темные силуэты людей, скользившие на мрачном фоне леса, а у реки две освещенные солнцем бронзовые фигуры в фантастических головных уборах из пятнистых звериных шкур стояли, опираясь на длинные копья, — воинственные и неподвижные фигуры, похожие на статуи. По залитому солнечным светом берегу скользил справа налево чудовищный и великолепный призрак женщины. Она шла размеренными шагами, закутанная в полосатую, обшитую бахромой одежду, гордо ступая по земле. Звенели и сверкали варварские украшения. Она высоко несла голову; прическа ее напоминала шлем. Медные набедренники закрывали ноги до колен; проволочные латные рукавицы поднимались до локтя; красные пятна горели на ее коричневых щеках; бесчисленные ожерелья из стеклянных бусин украшали шею. Странные амулеты — подарки шаманов — сверкали на ее одежде. Должно быть, немало слоновых бивней стоили ее украшения. Она была великолепной дикаркой с пламенными глазами; что-то зловещее и величественное было в ее спокойной поступи. И в тишине, внезапно спустившейся на скорбную страну, необъятная глушь, плодородная таинственная жизнь, казалось, смотрела на нее задумчиво, словно в ней видела воплощенной свою мрачную и страстную душу. 132 www.russianeurope.ru <…>. Она смотрела на нас, словно жизнь ее зависела от этого пристального, немигающего взгляда. Вдруг она всплеснула обнаженными руками и подняла их над головой, казалось обуреваемая безумным желанием коснуться неба… и в этот момент быстрые тени скользнули по земле, легли на реку и темным кольцом сомкнулись вокруг парохода. Нависло грозное молчание. Медленно она повернулась, прошла вдоль берега и вступила в заросли». Приложение шестое. Два фрагмента повести Томаса Манна «Смерть в Венеции» (самое начало повести и видение главного героя ближе к ее концу). В начале повести ее герой, писатель Густав фон Ашенбах, выходит погулять, чтобы нагулять рабочее настроение к вечеру, — и встречает двойникаантипода, у которого есть целый набор уже знакомых нам черт, в том числе и торчащие наружу «белые длинные зубы». Этот типичный признак богини смерти может быть свойствен и двойнику-антиподу героя (отсюда, кстати сказать, и всяческие вампиры с вампиршами). Обратите внимание также на тигра (который потом еще не раз будет упомянут на страницах «Смерти в Венеции»). В результате этой «судьбообразующей» встречи Ашенбах почувствовал, как «неимоверно расширилась его душа», и захотел отправиться в «дебри первозданного мира». Он уезжает в Венецию, попадает в город, на который наступает холера и которому угрожает карантин (закрытое пространство), — и умирает в нем. До этого его посещает «страшное сновидение» (второй фрагмент) — он видит мифическое дионисийское празднество «блуда и неистовства гибели», присоединяется к хороводу «Чуждого бога», представленного «непристойным символом»: «Густав Ашенбах, или фон Ашенбах, как он официально именовался со дня своего пятидесятилетия, в теплый весенний вечер 19... года — года, который в течение столь долгих месяцев грозным оком взирал на наш континент, — вышел из своей мюнхенской квартиры на Принцрегентштрассе и в одиночестве отправился на дальнюю прогулку. 133 www.russianeurope.ru Возбужденный дневным трудом (тяжким, опасным и как раз теперь потребовавшим от него максимальной тщательности, осмотрительности, проникновения и точности воли), писатель и после обеда не в силах был приостановить в себе работу продуцирующего механизма, того «totus animi continuus66», в котором, по словам Цицерона, заключается сущность красноречия; спасительный дневной сон, остро необходимый при все возраставшем упадке его сил, не шел к нему. Итак, после чая он отправился погулять, в надежде, что воздух и движение его приободрят, подарят плодотворным вечером. Было начало мая, и после сырых и промозглых недель обманчиво воцарилось жаркое лето. В Английском саду, еще только одевшемся нежной ранней листвой, было душно, как в августе, и в той части, что прилегала к городу, — полным-полно экипажей и пешеходов. В ресторане Аумейстера, куда вели все более тихие и уединенные дорожки, Ашенбах минуту-другую поглядел на оживленный народ в саду, у ограды которого стояло несколько карет и извозчичьих пролеток, и при свете заходящего солнца пустился в обратный путь, но уже не через парк, а полем, почувствовав усталость. К тому же над Ферингом собиралась гроза. Он решил у Северного кладбища сесть в трамвай, который прямиком доставит его в город. По странной случайности на остановке и вблизи от нее не было ни души. Ни на Унгарерштрассе, где блестящие рельсы тянулись по мостовой в направлении Швабинга, ни на Ферингском шоссе не видно было ни одного экипажа. Ничто не шелохнулось и за заборами каменотесных мастерских, где предназначенные к продаже кресты, надгробные плиты и памятники образовывали как бы второе, ненаселенное кладбище, а напротив в отблесках уходящего дня безмолвствовало византийское строение часовни. На его фасаде, украшенном греческими крестами и иератическими изображениями, выдержанными в светлых тонах, были еще симметрически расположены 66 надписи, выведенные золотыми буквами, — речения, беспрерывное движение души (лат.) 134 www.russianeurope.ru касающиеся загробной жизни, вроде: «Внидут в обитель господа» или: «Да светит им свет вечный». В ожидании трамвая Ашенбах развлекался чтением этих формул, стараясь погрузиться духовным взором в их прозрачную мистику, но вдруг очнулся от своих грез, заметив в портике, повыше двух апокалиптических зверей, охранявших лестницу, человека, чья необычная наружность дала его мыслям совсем иное направление. Вышел ли он из бронзовых дверей часовни, или неприметно приблизился и поднялся к ней с улицы, осталось невыясненным. Особенно не углубляясь в этот вопрос, Ашенбах скорее склонялся к первому предположению. Среднего роста, тощий, безбородый и очень курносый, этот человек принадлежал к рыжеволосому типу с характерной для него молочно-белой веснушчатой кожей. Обличье у него было отнюдь не баварское, да и широкополая бастовал шляпа, покрывавшая его голову, придавала ему вид чужеземца, пришельца из дальних краев. Этому впечатлению, правда, противоречили рюкзак за плечами — как у заправского баварца — и желтая грубошерстная куртка; с левой руки, которою он подбоченился, свисал какой-то серый лоскут, надо думать, дождевой плащ, в правой же у него была палка с железным наконечником; он стоял, наклонно уперев ее в пол, скрестив ноги и бедром опираясь на ее рукоятку. Задрав голову, так что на его худой шее, торчавшей из отложных воротничков спортивной рубашки, отчетливо и резко обозначился кадык, он смотрел вдаль своими белесыми, с красными ресницами глазами, меж которых, в странном соответствии со вздернутым носом, залегали две вертикальные энергические складки. В позе его — возможно, этому способствовало возвышенное и возвышающее местонахождение — было что-то высокомерно созерцательное, смелое, дикое даже. И то ли он состроил гримасу, ослепленный заходящим солнцем, то ли его лицу вообще была свойственна некая странность, только губы его казались слишком короткими, оттянутые кверху и книзу до такой степени, что обнажали десны, из которых торчали белые длинные зубы. 135 www.russianeurope.ru Возможно, что Ашенбах, рассеянно, хотя и пытливо, разглядывая незнакомца, был недостаточно деликатен, но вдруг он увидел, что тот отвечает на его взгляд и притом так воинственно, так в упор, так очевидно желая его принудить отвести глаза, что, неприятно задетый, он отвернулся и зашагал вдоль заборов, решив больше не обращать внимания на этого человека. И мгновенно забыл о нем. Но либо потому, что незнакомец походил на странника, либо в силу какого-нибудь иного психического или физического воздействия, Ашенбах, к своему удивлению, внезапно ощутил, как неимоверно расширилась его душа; необъяснимое томление овладело им, юношеская жажда перемены мест, чувство, столь живое, столь новое, или, вернее, столь давно не испытанное и позабытое, что он, заложив руки за спину и взглядом уставившись в землю, замер на месте, стараясь разобраться в сути и смысле того, что произошло с ним. Это было желанье странствовать, вот и все, но оно налетело на него как приступ лихорадки, обернулось туманящей разум страстью. Он жаждал видеть, его фантазия, еще не умиротворившаяся после долгих часов работы, воплощала в единый образ все чудеса и все ужасы пестрой нашей земли, ибо стремилась их представить себе все зараз. Он видел: видел ландшафт, под небом, тучным от испарений, тропические болота, невероятные, сырые, изобильные, подобие дебрей первозданного мира, с островами, топями, с несущими ил водными протоками; видел, как из густых зарослей папоротников, из земли, покрытой сочными, налитыми, диковинно цветущими растениями, близкие и далекие, вздымались волосатые стволы пальм; видел причудливо безобразные деревья, что по воздуху забрасывали свои корни в почву, в застойные, зеленым светом мерцающие воды, где меж плавучими цветами, молочно-белыми, похожими на огромные чаши, на отмелях, нахохлившись, стояли неведомые птицы с уродливыми клювами и, не шевелясь, смотрели куда-то вбок; видел среди узловатых стволов бамбука искрящиеся огоньки — глаза притаившегося тигра, — и сердце его билось от ужаса и непостижимого влечения. Затем 136 www.russianeurope.ru виденье погасло, и Ашенбах, покачав головой, вновь зашагал вдоль заборов каменотесных мастерских». *** «В эту ночь было у него страшное сновидение — если можно назвать сновидением телесно-духовное событие, явившееся ему, правда, в глубоком сне, но так, что вне его он уже не видел себя существующим в мире. Местом действия была как будто самая его душа, а события ворвались извне, разом сломив его сопротивление — упорное сопротивление интеллекта, пронеслись над ним и обратили его бытие, культуру его жизни в прах и пепел. Страх был началом, страх и вожделение и полное ужаса любопытство к тому, что должно совершиться. Стояла ночь, и чувства его были насторожены, ибо издалека близился топот, гудение, смешанный шум: стук, скаканье, глухие раскаты, пронзительные вскрики и вой — протяжное «у», — все это пронизывали и временами пугающе-сладостно заглушали воркующие, нечестивые в своем упорстве звуки флейты, назойливо и бесстыдно завораживающие, от которых все внутри содрогалось. Но он знал слово, темное, хотя и дававшее имя тому, что надвигалось: «Чуждый бог». Зной затлел, заклубился, и он увидел горную местность, похожую на ту, где стоял его загородный дом. И в разорванном свете, с лесистых вершин, стволов и замшелых камней, дробясь, покатился обвал: люди, звери, стая, неистовая орда — и наводнил поляну телами, пламенем, суетой и бешеными плясками. Женщины, путаясь в длинных одеждах из звериных шкур, которые свисали у них с пояса, со стоном вскидывая головы, потрясали бубнами, размахивали факелами, с которых сыпались искры, и обнаженными кинжалами, держали в руках извивающихся змей, перехватив их за середину туловища, или с криками несли в обеих руках свои груди. Мужчины с рогами на голове, со звериными шкурами на чреслах и мохнатой кожей, склонив лбы, задирали ноги и руки, яростно били в медные тимпаны и литавры, в то время как упитанные мальчики, цепляясь за рога козлов, 137 www.russianeurope.ru подгоняли их увитыми зеленью жезлами и взвизгивали при их нелепых прыжках. А вокруг стоял вой и громкие клики — сплошь из мягких согласных с протяжным «у» на конце, сладостные, дикие, нигде и никогда не слыханные. Но здесь оно полнило собою воздух, это протяжное «у» — точно трубил олень, там и сям многоголосо подхваченное, разгульно ликующее, подстрекающее к пляске, к дерганью руками и ногами. Оно никогда не смолкало. Но все пронизывали, надо всем властвовали низкие, влекущие звуки флейты. Не влекут ли они — бесстыдно, настойчиво — и его, сопротивляющегося и сопричастного празднеству, к безмерности высшей жертвы? Велико было его омерзение, велик страх, честное стремление до последнего вздоха защищать свое от этого чужого, враждебного достоинству и твердости духа. Но гам, вой, повторенный горным эхо, нарастал, набухал до необоримого безумия. Запахи мутили разум, едкий смрад козлов, пот трясущихся тел, похожий на дыхание гнилой воды, и еще тянуло другим знакомым запахом: ран и повальной болезни67. В унисон с ударами литавр содрогалось его сердце, голова шла кругом, ярость охватила его, ослепление, пьяное сладострастие, и его душа возжелала примкнуть к хороводу бога. Непристойный символ, гигантский, деревянный, был открыт и поднят кверху: еще разнузданнее заорали вокруг, выкликая все тот же призыв. С пеной у рта они бесновались, возбуждали друг друга любострастными жестами, елозили похотливыми руками, со смехом, с кряхтеньем вонзали острые жезлы в тела близстоящих и слизывали выступавшую кровь. Но, покорный власти чуждого бога, с ними и в них был теперь тот, кому виделся сон. И больше того: они были он, когда, рассвирепев, бросались на животных, убивали их, зубами рвали клочья дымящегося мяса, когда на изрытой мшистой земле началось повальное совокупление — жертва богу. И его душа вкусила блуда и неистовства гибели. Густав фон Ашенбах попал внутрь мифического зверя, в его смрадное чрево. Дальше будет происходить расчленение. 138 www.russianeurope.ru 67 От этого сна Ашенбах очнулся разбитый, обессилевший, безвольно подпавший демону». Приложение седьмое. Сцена из фильма Андрея Тарковского «Зеркало» (1976). Сон Алексея (главного героя фильма). Алексею снится его мать в виде богини (скажем, Изиды). Сначала она предстает опустившей волосы в круглый таз с водой, лица не видно (волосы богини — символ ее родства с водной стихией). Затем она поднимает голову — и внимание зрителя акцентируется на обнаженных руках, которые двигаются немотивированно, как бы независимо от ее тела (словно два зверя). При этом темная комната начинает разрушаться, разлагаться: под влиянием водной стихии падают вниз размокшие куски потолка. 139 www.russianeurope.ru До этой сцены было явление двойника. Это прохожий, появляющийся — вместо отца — из-за куста, возвышающегося посреди поля68. (Двойникантипод вообще может являться в виде куста69. Не случайно потом в фильме возникает библейский образ горящего куста и ангела, обращающегося из него к Моисею.) Прохожий — с кожаным саквояжем70, врач. Садится рядом с матерью героя на жердочку забора, забор обрушивается, оба падают. Мать вскакивает, прохожий лежит и смеется. «А знаете, вот я упал, и такие тут какие-то вещи... корни, кусты... А вы никогда не думали... вам никогда не казалось, что растения чувствуют, сознают, может, даже постигают?» Очень типичные слова для двойника-антипода, весь смысл которого — соединить героя с множественностью жизни. Прохожий лежит, но в кадре он — почти вниз головой (по диагонали из левого верхнего угла в нижний правый). «Обычно мы узнавали своих только тогда, когда они появлялись из-за широкого куста, возвышающегося посреди поля. Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец. Если нет, то это не отец, и это значит, что он не приедет уже никогда». 69 Так и в «Песочном человеке»: перед последним роковым появлением Копполы героиня указывает герою на движущийся куст: «— Посмотри, какой странный маленький серый куст, он словно движется прямо на нас, — сказала Клара». 70 Фильм «Жертвоприношение» также начинается явлением главному герою (Александру, бывшему актеру) человека с портфелем или сумкой: Александр сажает засохшее дерево, после чего к нему подъезжает на велосипеде почтальон Отто и достает письмо из закрепленной спереди сумки. Этот кентавр с двойническим именем (в которое словно вставлено зеркало: От-то) и душами в мешке потом еще и падает, собравшись уехать, так как сын Александра незаметно привязал его велосипед к кусту. Затем Отто упадет еще раз («Как вы думаете, что это было? <…> Это меня злой ангел коснулся»). В определенный момент Отто разговаривает с Александром через стекло (то есть выступает как его отражение). И по цвету он соотносится с Александром, как черное с белым. Отто — хозяин судьбы («В некотором роде я коллекционер. Я собираю события…»). И он посылает Александра к служанке Марии, которая в фильме есть «источник жизни» (наряду с деревом): «— Ты должен сейчас же идти к Марии! <…> Это очень, очень важно! <…> Ты разве не хочешь, чтобы все это закончилось? <…> Ты должен пойти к Марии и лечь с ней! <…> Если ты загадаешь всего одно желание, чтобы всему этому пришел конец, то так оно и будет! Больше не будет ужаса! <…> Она обладает особыми качествами, я собрал доказательства. Она ведьма! — В каком смысле? — В хорошем смысле!» Отто одалживает Александру свой велосипед, на котором тот едет к Марии (упав по дороге). У Марии, оказывается, тоже есть велосипед (что говорит о ее «зверином» родстве с Отто). В результате взаимодействия Александра, Марии и Отто (то есть в результате реализации сущностной формы) мир оказывается спасен. Так, во всяком случае, видится Александру. Хотя его и забирают в сумасшедший дом два санитара. Второй двойник в фильме — доктор Виктор — тоже с саквояжем. И этому саквояжу в фильме отведена важная, практически центральная роль. Почему Александр бывший актер? Потому что, хотя он и отказался уже от своего ремесла, жизнь требует от него «не читки <…>, а полной гибели всерьез» (Пастернак). Он сам рассуждает об этом («…что касается актеров … здесь автор сам выступает в роли собственного произведения…»). Сущностная форма работает в самой жизни, а не только в художественном произведении. 140 www.russianeurope.ru 68 Так же потом будет лежать в кадре Сталкер (из одноименного фильма 1979 года) — причем головой почти окунаясь в воду. А под водой — всякие вещи… И с другой стороны воды к нему подойдет пес. Прохожий («Зеркало») встает и уходит. Приблизившись к кусту, оборачивается и смотрит на мать Алексея. И тут от него идет ветер, превращающий травы в ожившую стихию. Приложение восьмое. В романе Достоевского «Бесы» Ставрогину является его двойник-антипод — Федька Каторжный. Найдите (как говорится в школьных учебниках) в данном отрывке признаки двойника-антипода: «Он прошел всю Богоявленскую улицу; наконец пошло под гору, ноги ехали в грязи, и вдруг открылось широкое, туманное, как бы пустое пространство — река. Дома обратились в лачужки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков71. Николай Всеволодович долго пробирался около 71 Обратите внимание: герой спускается в подземный лабиринт, в царство мертвых. 141 www.russianeurope.ru заборов, не отдаляясь от берега, но твердо находя свою дорогу и даже вряд ли много о ней думая. Он занят был совсем другим и с удивлением осмотрелся, когда вдруг, очнувшись от глубокого раздумья, увидал себя чуть не на средине нашего длинного, мокрого плашкотного моста. Ни души кругом, так что странно показалось ему, когда внезапно, почти под самым локтем у него, раздался вежливо-фамильярный, довольно, впрочем, приятный голос, с тем услащенно-скандированным акцентом, которым щеголяют у нас слишком цивилизованные мещане или молодые кудрявые приказчики из Гостиного ряда. – Не позволите ли, милостивый господин, зонтиком вашим заодно позаимствоваться72? В самом деле, какая-то фигура пролезла, или хотела показать только вид, что пролезла, под его зонтик. Бродяга шел с ним рядом, почти «чувствуя его локтем», — как выражаются солдатики. Убавив шагу, Николай Всеволодович принагнулся рассмотреть, насколько это возможно было в темноте: человек росту невысокого и вроде как бы загулявшего мещанинишки; одет не тепло и неприглядно; на лохматой, курчавой голове торчал суконный мокрый картуз с полуоторванным козырьком. Казалось, это был сильный брюнет, сухощавый и смуглый; глаза были большие, непременно черные, с сильным блеском и с желтым отливом, как у цыган; это и в темноте угадывалось. Лет, должно быть, сорока, и не пьян. — Ты меня знаешь? — спросил Николай Всеволодович. — Господин Ставрогин, Николай Всеволодович; мне вас на станции, едва лишь машина остановилась, в запрошлое воскресенье показывали. Окромя того, что прежде были наслышаны. – От Петра Степановича? Ты… ты Федька Каторжный? И другой двойник-антипод Ставрогина, Лебядкин, тоже «позаимствуется» тем же его зонтиком (обычный для двойников обмен шкурами): «— Не прикажете ли, я на крылечке постою-с… чтобы как-нибудь невзначай чего не подслушать… потому что комнатки крошечные. — Это дело; постойте на крыльце. Возьмите зонтик. — Зонтик ваш… стоит ли для меня-с? — пересластил капитан. — Зонтика всякий стоит. — Разом определяете minimum прав человеческих…» 142 www.russianeurope.ru 72 — Крестили Федором Федоровичем...» Помимо целого набора двойнических признаков (не менее семи73), Ставрогина с Федькой Каторжным соединяет такой важный признак двойничества, как нож. Марья Тимофеевна, отвергая Ставрогина, бредит, что у него в кармане нож. Выйдя от нее, Ставрогин машинально и навязчиво твердит про себя о ноже. Затем он встречает Федьку Каторжного (встреча героем двойника-антипода после посещения Прекрасной Дамы — обычная вещь) — и действительно видит у того в руке нож: «— Прочь, самозванец! — повелительно вскричала она. — Я моего князя жена, не боюсь твоего ножа! — Ножа! — Да, ножа! у тебя нож в кармане. Ты думал, я спала, а я видела: ты как вошел давеча, нож вынимал! <...> «Нож, нож!» — повторял он в неутолимой злобе, широко шагая по грязи и лужам, не разбирая дороги. Правда, минутами ему ужасно хотелось захохотать, громко, бешено; но он почему-то крепился и сдерживал смех. Он опомнился лишь на мосту, как раз на самом том месте, где давеча ему встретился Федька; тот же самый Федька ждал его тут и теперь и, завидев его, снял фуражку, весело оскалил зубы и тотчас же начал о чем-то бойко и весело растабарывать. Николай Всеволодович сначала прошел не останавливаясь, некоторое время даже совсем и не слушал опять увязавшегося за ним бродягу. Его вдруг поразила мысль, что он совершенно забыл про него, и забыл именно в то время, когда сам ежеминутно повторял про себя: «Нож, нож». Он схватил бродягу за шиворот и, со всею накопившеюся злобой, из всей силы ударил его об мост. Одно мгновение тот думал было бороться, но, почти тотчас же догадавшись, что он пред своим противником, напавшим к тому же нечаянно, — нечто вроде соломинки, затих и примолк, даже нисколько не сопротивляясь. Стоя на коленях, 73 К которым стоит добавить и тот, что Федьку Каторжного потом найдут «с проломленною головой». 143 www.russianeurope.ru придавленный к земле, с вывернутыми на спину локтями, хитрый бродяга спокойно ожидал развязки, совершенно, кажется, не веря в опасность. Он не ошибся. Николай Всеволодович уже снял было с себя, левою рукой, теплый шарф, чтобы скрутить своему пленнику руки; но вдруг почему-то бросил его и оттолкнул от себя. Тот мигом вскочил на ноги, обернулся, и короткий широкий сапожный нож, мгновенно откуда-то взявшийся, блеснул в его руке». Приложение девятое. В сказке Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» герой созерцает Прекрасную Даму (с которой его объединяет стояние на одной ноге), затем появляется двойник-антипод, вызывающий полет-падение героя вниз головой: «Не трогались с места только оловянный солдатик да танцовщица. Она попрежнему стояла на одном носке, протянув руки вперед, а он браво стоял на своей единственной ноге и не сводил с нее глаз. Вот пробило двенадцать, и — щелк! — крышка табакерки отскочила, только в ней оказался не табак, нет, а маленький черный тролль. Табакеркато была с фокусом. — Оловянный солдатик, — сказал тролль, — не смотри куда не надо! Но оловянный солдатик сделал вид, будто не слышит. — Ну погоди же, вот наступит утро! — сказал тролль. И наступило утро; встали дети, и оловянного солдатика поставили на подоконник. Вдруг, по милости ли тролля, или от сквозняка, окно как распахнется, и солдатик как полетит вниз головой с третьего этажа! Это был ужасный полет. Солдатик взбросил негу в воздух, воткнулся каской и штыком между камнями мостовой, да так и застрял вниз головой». Приложение десятое. Мой личный опыт «сущностной формы». Когда мне было немногим более двадцати, я увидел то, что обычно называют «видéнием». Это было что-то вроде «дневного сновидения», то есть видение 144 www.russianeurope.ru не выключило то, что в тот момент действительно находилось перед моими глазами, а наложилось на него подобно пленке (или, может быть, встало за ним подобно фону). Я увидел девушку на фоне моря, с ней рядом лежал мертвый дельфин, выброшенный штормом. Берег был также полон выброшенных морем водорослей и мусора. Дельфин был уже частично то ли разложившимся, то ли кем-то покусанным: местами торчала какая-то основа его кожи, похожая на картонную. Ощущение кожи дельфина было очень сильным — словно я ее трогал. Я смотрел на девушку, она же, поглядев на меня, отвела взгляд в сторону. Затем она под моим взглядом начала расплываться (и весь мир вокруг нее стал колебаться, искажаться), разлагаться. Запах моря и водорослей все усиливался. Затем видение пропало. Это не было некоей легкой фантазией, но очень сильным, значительным, каким-то коренным переживанием — подобным тому, что выпало на долю Хоме Бруту из повести Гоголя «Вий» («Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу»). Несколько дней спустя я пережил второе «видение», точнее говоря, «видение-ощущение». Мое тело оказалось облечено в некое другое тело. Я оказался внутри своего двойника. Он был темный (я как-то одновременно это видел и ощущал — видел изнутри), дико тяжелый и плотный, безмерно сильный. (Помните, как Энкиду явился Гильгамешу во сне в образе камня: «Падал на меня будто камень с неба. Поднял его — был меня он сильнее, Тряхнул его — стряхнуть не могу я…») Он был лишен головы и, соответственно, лица, но все его тело было зрячим — словно усеянным глазами. Мне было очень страшно. Это видение-ощущение продлилось какое-то мгновение (дольше нескольких секунд выдержать такое, наверное, мне было бы невозможно) и затем исчезло. После этого у меня (всего лишь на несколько дней) открылась странная способность предвидения образов и событий в читаемых мною текстах. Например, читая незнакомое мне стихотворение, я, не зная следующих слов 145 www.russianeurope.ru (и закрывая продолжение текста листом бумаги), точно знал, какой образ появится следующим (солнце, дерево, олень и тому подобное). В тот же период времени у меня получалось и предвидеть события своей жизни (неожиданные встречи и тому подобное), но совсем немного, так как те несколько дней я провел дома за чтением. Поскольку я сам пережил «сущностную форму», я вижу ее в художественных произведениях. Очень важно: «сущностная форма» присутствует в произведениях не потому, что наши предки устраивали обряд посвящения и этот обряд продолжает жить в дальнейшей культуре, а потому, что она свойственна человеку. Это она порождает как обряд (например, отразившийся в истории о Гайавате и Мише-Наме), так и непосредственную встречу человека с «Источником жизни» и «двойником-антиподом». Если мы возьмем видение героя повести Жерара де Нерваля «Аврелия, или Сновидение и жизнь», увидевшего сначала Изиду, а затем встретившего двойника74, или экстатическое состояние Оленина в повести Толстого «Казаки», то поймем, что речь идет не о трансформации мифологического сюжета в литературное произведение, а о непосредственном, личном видении-ощущении. 74 «Распростертый на походной кровати, я верил, что вижу, как с неба совлекаются покровы, и оно распускается тысячью неслыханных великолепий. Судьба освобожденной Души, казалось, открывается передо мной, будто для того, чтобы внушить мне сожаление о том, что всеми силами моего духа я пожелал вновь ступать по земле, которую должен был покинуть... Огромные круги прорисовывались в бесконечности, подобные кругам, образующимся на воде, взволнованной падением тела; каждая область, населенная лучезарными фигурами, окрашивалась, колебалась и таяла в свой черед, и божество, всегда одно и то же, сбрасывало с улыбкой летучие маски своих разнообразных воплощений и скрывалось наконец, неуловимое, в мистическом сиянии неба Азии. Это небесное видение, в силу одного из тех феноменов, что каждый мог испытывать иногда в дреме, не исключало полностью сознания того, что творилось вокруг. Лежа на походной кровати, я слышал, что солдаты рассуждают о некоем неизвестном, задержанном подобно мне, голос которого раздавался тут же в комнате. По особому чувству вибрации мне казалось, что этот голос звучал у меня в груди и что моя душа, так сказать, раздваивалась — поделенная отчетливо между видением и реальностью. На мгновение мне пришла в голову идея повернуться с усилием к тому, о ком шла речь, но затем я задрожал от ужаса, вспомнив предание, хорошо известное в Германии, которое говорит, что у каждого человека есть двойник и что, если его видишь, смерть близка. — Я закрыл глаза и пришел в смутное состояние духа, в котором фантастические или реальные фигуры, которые меня окружали, дробились в тысяче ускользающих видений. Одно мгновение я видел рядом двух моих друзей, которые требовали выдать меня, солдаты на меня указывали; затем открылась дверь, и некто моего роста, чьего лица я не видел, вышел вместе с моими друзьями, которых я звал понапрасну. "Но это ошибка! — вскричал я про себя, — за мной они пришли, а другой уходит!" Я производил столько шума, что меня поместили в карцер». 146 www.russianeurope.ru 1+1=1 В фильме Андрея Тарковского «Ностальгия» (1983) русский писатель Андрей, оказавшись в Италии, едет (с переводчицей Эудженией) в Банья Виньони, чтобы увидеть капеллу Мадонны дель Парто75 (Богоматери, помогающей роженицам) и фреску Пьеро делла Франческа (ок. 1420 — 1492) с изображением Мадонны: 75 Parto (ит.) — роды. 147 www.russianeurope.ru В тех же краях Андрей знакомится с сумасшедшим Доменико (в водолечебнице Святой Екатерины Сиенской). Вот как выглядит сцена их знакомства: 148 www.russianeurope.ru Андрей подходит к Доменико и встает перед ним. Доменико сидит на велосипеде и крутит педали. Велосипед не движется, поскольку у него приподнято заднее колесо (которое, соответственно, прокручивается). Позади Доменико сидит его собака. Велосипед установлен перед темным входом в дом Доменико. Доменико — двойник-антипод Андрея. Почему? По целому ряду признаков. Перечислим их. Во-первых, он сумасшедший (измененное сознание). Во-вторых, на нем постоянно надеты черная шерстяная шапочка и черная шерстяная кофта (то есть шкура-тень и подчеркнутый головной убор, притом из того же материала, что и шкура). В-третьих, он сопровождаем собакой (то есть является териоморфным, «звериным» двойником). В-четвертых, он сидит на велосипеде (то есть он — что-то вроде современного кентавра). В-пятых, велосипед сам по себе представляет собой картинку двойничества, подобно очкам. 149 www.russianeurope.ru И совсем интересно получилось: здесь картинка именно антиподов: одно колесо крутится, а другое — нет. Велосипед подмигивает (вот вам и вшестых). Андрею соответствует неподвижное колесо, а Доменико — подвижное. Отвлечемся на секунду и вспомним подмигивающие очки Сарториуса из фильма «Солярис» (1972): Сарториус говорит Крису Кельвину (на космическом костюме которого, встати сказать, — инициалы КК): «Человек создан природой, чтобы познавать ее. <…> Все остальное — блажь». И на словах «познавать ее» стукает очками о стол, отчего одно стекло вылетает. А еще у Сарториуса в этой сцене длинная ссадина на лбу (в общем, шрам де Рошфора). Велосипед, едущий на месте, конечно, означает и две противоположные вещи: как безнадежность того, что хочет предпринять Доменико, так и сущностную незыблемость его предприятия. Иными словами, такой велосипед есть картинка «остановившегося мгновения», в котором совместились время и вечность. Затем Доменико заходит в дом, Андрей следует за ним. Андрей смотрится в зеркало, через некоторое время в зеркало смотрится Доменико (вот вам и в150 www.russianeurope.ru седьмых). Позже, кстати, будет и такое: Андрей посмотрит в зеркало — и увидит в нем Доменико. В доме Доменико капает себе на ладонь две капли оливкого масла (одну за другой) и говорит: «Одна капля, потом еще одна — образуют одну большую каплю — не две». На стене мы видим надпись: 1 + 1 = 1. Не будем засчитывать, просто налицо формула двойничества. В-восьмых, Доменико определяет судьбу Андрея, так как просит его выполнить то, что не удается самому Доменико, а именно: пройти с зажженной свечой через минеральный источник — дымящуюся паром купальню Святой Екатерины — и тем самым спасти весь мир («— Нужно пройти через воду с зажженной свечой. — Через какую воду? — Через горячую воду <> …воду, что дымится»). То есть просит его выполнить обряд посвящения-жертвоприношения, просит слиться со стихией, просит войти в воду и сгореть. В конце фильма Доменико (уже в Риме) стоит на статуе всадника (на крупе лошади, за всадником) — и проповедует собранию сумасшедших, протягивая вперед руку. И всадник протягивает вперед руку. Так Доменико превращается в статую (причем конную — перед нами вновь кентавр), сливается со статуей, делает статую живой, оживающей — наподобие Медного всадника (вот вам в-девятых). Слушающие Доменико безумцы стоят на лестнице — кто выше, кто ниже. 151 www.russianeurope.ru Сцена повторяет известную картину Рене Магритта «Голконда», на которой размноженный двойник висит в воздухе на разных уровнях (вот вам вдесятых). В этом кадре, конечно, проступает и лестница Иакова с ангелами, спускающимися и поднимающимися по ней (и у Тарковского намечены оба эти направления движения: все стоят, но одна женщина спускается, а один мужчина поднимается). Затем Доменико обливается бензином, поджигает себя и падает со статуи. 152 www.russianeurope.ru Падение (совершенно типичное для двойника-антипода) подчеркивается тем, что одновременно один из сумасшедших также валится и бьется в судорогах (вот вам в-одиннадцатых). Сумасшедший, кстати сказать, в такой же шерстяной шапочке, что и Доменико. Шапочку эту он с себя во время судорог срывает. Сорванная шапочка или упавшая шляпа двойника-антипода обычно символизируют оторванную или отрубленную голову. В течение этого драматического события в Риме камера на какой-то момент возвращается к водолечебнице — и мы видим возле купальни обгорелую куклу с оторванной головой, лежащую вверх ногами, а рядом с куклой — велосипедное колесо (колесо и кружение как правило предвещают огонь76). Сравните с начальными кадрами Ф. Ф. Копполы «Апокалипсис сегодня» (1979), где мы видим перевернутую голову героя, вращающийся пропеллер и пламя. В кадре Тарковского этим элементам соответствуют колесо, перевернутая безголовая кукла, фонарь. В следующих кадрах фильма Копполы мы наблюдаем все ту же перевернутую голову, но справа от нее всплывает лицо храмовой статуи (кукла же есть вариант статуи). 153 www.russianeurope.ru 76 В то время как Доменико поджигает себя, в водолечебнице происходит следующее: Андрей зажигает свечу, проходит через купальню, ставит горящую свечу на карниз, падает и умирает. И мы понимаем, что горящая свеча в руках Андрея есть его двойник-антипод, что это сам Доменико, горящий в Риме. Дав Андрею свечу, Доменико дал ему самого себя. Горящая свеча к тому же является фаллическим символом77. Доменико — фаллос, входящий в «Источник жизни» — в купальню Святой Екатерины (в которой, по легенде, иногда под водой можно увидеть образ самой святой). Доменико хочет спасти весь мир — он говорит, что человеку невозможно спастись в одиночку или только со своей семьей. Он говорит о том, что нужно вернуться к истокам жизни, а также: «В единый миг я могу ощутить бесконечное множество явлений. <…> Мы должны во все стороны растягивать нашу душу, словно это полотно, растягиваемое до бесконечности». Перед нами типичный двойник-антипод, представляющий Помните образ «ритуального фаллоса» из сна Юнга, рассказ о котором я уже приводил в работе «Одиссей, или День сурка»: «Интерпретация самой верхней его части как глаза с источником света указывает на значение соответствующего греческого слова phalos — светящийся, яркий». 154 www.russianeurope.ru 77 собой отражение героя в разных плоскостях жизни, олицетворяющий мир в целом. Доменико связан с музыкой: он настаивает, чтобы при его самосожжении звучала Девятая симфония Бетховена, включающая в себя «Оду к радости» Шиллера. (Что опять же говорит о двойнике-антиподе как об олицетворении мира в целом, как об объединенном человеке: «Обнимитесь, миллионы! / Слейтесь в радости одной!») Вот вам в-двенадцатых (владение универсальным языком либо связь с музыкой — один из признаков двойника-антипода). Источник жизни в фильме представляют две женщины: жена Андрея (которая ему грезится днем и которую он видит во сне) и сопровождающая его переводчица Эуджения. Обе женщины суть ожившие картины. Жена — Мадонна, как становится ясно из разговора Андрея с Доменико в доме Доменико: «— Извини, но почему именно я? — У тебя дети есть? — Да, двое: дочь постарше и мальчик поменьше. — А жена у тебя красивая? — Ты помнишь Мадонну дель Парто? — Пьеро делла Франческа? — Она такая же, только намного темнее. — Ты пойдешь со свечой. Мы тоже в Риме готовим кое-что важное, огромное». (Тут-то мы и видим на стене уравнение 1 + 1 = 1. А Доменико начинает крутиться вокруг своей оси и звать собаку.) Если жена — Мадонна, то переводчица Эуджения — леди Лилит (картина Данте Габриэля Россетти, 1868): 155 www.russianeurope.ru Во сне Андрея эти две женщины появляются как антиподы: 156 www.russianeurope.ru Фильм кончается сценой, являющей «сущностную форму»: Мы видим героя и его звериного двойника сидящими перед «Источником жизни» — перед лужей (водная стихия и зеркало), в которой отражаются три проема храма. Эта наблюдаемая нами в воде «троица» есть отражение 157 www.russianeurope.ru троичности самой сущностной формы: герой ↔ «Источник жизни» ↔ двойник-антипод. * Троицей заканчивается и кинокартина Тарковского «Андрей Рублев» (1966) (что, конечно, логично, поскольку это фильм о художнике, написавшем Святую Троицу). Андрей Рублев (герой фильма) встречает своего двойника-антипода в самом начале фильма. Идет дождь, трое монахов-живописцев (один из них — Андрей) укрываются от ливня в сарай, в котором в это время выступает скоморох. Похоже на «Капитанскую дочку»: разбушевавшаяся стихия загоняет в закрытое пространство, появляется звериный двойник (снежная буря, Пугачев, постоялый двор). Скоморох обладает довольно большим набором двойнических признаков: он шут и поэт (то есть человек, все переворачивающий, человек с «измененным сознанием»), он играет на музыкальных инструментах, причем один из них круглый (на бубне и гуслях), он переворачивается и ходит на руках, он седлает (в шутку) козленка, 158 www.russianeurope.ru а когда снимает меховую шапку, оказывается, что он лысый (да еще и кружку ставит на голову, подчеркивая тем самым как лысину, так и «съемность» головы), выйдя на улицу, он стягивает с себя (под дождем) рубаху (оборотень снимает шкуру). Затем он заглядывает неожиданно в сарай, свисая в двери головой вниз и крича петухом, затем получает удар в голову (два стражника берут его по бокам за руки и ударяют о дерево). Затем стражники кладут его на лошадь поперек седла и увозят. 159 www.russianeurope.ru Когда скоморох встречается Андрею в конце фильма, мы узнаем, что ему отрезали пол-языка. Скоморох, думая, что это Андрей выдал его тогда властям, бьет Андрея кулаком в лицо (и разбивает губу), бросается на него с топором (вот и жертвенный нож-топор из сна Гринёва). Потом прощает Андрея, выпивает кружку водки, а в это время с него сваливаются штаны (рифма к снятой при первой встрече рубахе). Скоморох — не единственный двойник-антипод Андрея. Из сна Андрея мы узнаем, что ему явился умерший Феофан, свесившись головой вниз в окне: «Феофан, ты же помер? Ты мне приснился. Будто из окна вниз головой свешиваешься и заглядываешь, и пальцем мне грозишь. А я поперек седла на коне лежу и два ордынца голову мне перекручивают. А ты смотришь — и пальцем в окошко стук-стук». Тут скоморох как бы разделяется на Феофана (тем, что свешивается головой вниз в окне) и Андрея (тем, что два стражника положили его поперек седла и повреждают ему голову). А еще Андрей лезет по лестнице за воином-насильником, который тащит юродивую, зарубает его топором, после чего тот падает с лестницы кверх ногами с расколотой головой. Есть также моменты, объединяющие Андрея с двумя другими монахами — его наставником Данилой («Я ведь твоими глазами на мир гляжу, твоим ушами слушаю, твоим сердцем…») и Кириллом (который, собственно, и выдал скомороха и который при второй встрече предложил скомороху убить его вместо Андрея). Несомненным двойником-антиподом Андрея является и Бориска — юноша, отливший колокол («Вот пойдем мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать…»). Бориска падает-скатывается со склона (причем во время дождя) — и именно в этот момент находит необходимую для отлива колокола глину (которую долго искал). И как раз в этот момент скатившегося Бориску впервые видит проезжающий мимо Андрей. Обратите, кстати, 160 www.russianeurope.ru внимание на то, как одет Бориска (в другой сцене, когда он говорит Андрею: «Ну что, что смотришь? Что, язык проглотил? Или оглох?»). Заметьте его оборванный тулупчик, меховую шапку, мех под головой. И даже симметричная ему охапка соломы важна. Бориска падает — и находит искомое. Фильм, собственно говоря, и начинается с падения (с полета монаха на воздушном шаре, закончившегося падением). Вот еще двойник, еще рифма. А во во время захвата города татарами падает лошадь — с вала (то есть с высоты). В центре сюжета стоят два князя-брата, который играет один актер. Вот и «пустые двойники». А в конце фильма о них говорят другие «пустые двойники» — восседающие на конях итальянские гости. Как раз в тот момент, когда раскачивают язык колокола, — таким образом они своим двойничеством (и своим пустым разговором) подчеркивают напряженное ожидание звона (или его отсутствия, неудачи), которым должно завершиться колебательное движение колокола (или наоборот, как раз это движение оттеняет их «пустое двойничество»): «— Вы слыхали, Ваше Превосходительство, что Великий князь отрубил голову своему брату. Кажется, они были близнецами? — Какая поразительная девушка, Вы видите? О, мой Бог!» 161 www.russianeurope.ru Из дождя появляется скоморох, из дождя появляется и дурочка (юродивая). И здесь рифма. Она заходит в храм, неся охапку сена. (С охапкой сена будет лежать и Бориска. А в «Солярисе» с охапкой соломы идет главный герой в детстве. Такая охапка — талисман, переносной кусочек тарковских водорослей, трав или веток.) Дурочка, глядя на дождь, писает (тем самым подтверждая свою идентичность со стихией дождя, сама становясь дождем). Затем в храм забегает лошадь. Позже мы видим дурочку с двумя собаками. В общем, перед нами «Хозяйка зверей», напоминающая Джельсомину из «Дороги» Феллини (вокруг которой тоже то и дело возникают звери: то лошадь протрусит мимо, то собака пробежит, то овечье стадо встретится, то осел подойдет). 162 www.russianeurope.ru Лошадь — это бог (точнее, богиня) Тарковского. Это сама «Источник жизни». Вы помните, «Источник жизни» имеет три основные ипостаси: Хозяйка зверей/Прекрасная Дама, стихия, мифический зверь. В данном случае нам разом явлены все три ипостаси, так как мы видим дурочку, дождь и лошадь. Богиня-лошадь может быть одна, но может и быть умноженной — так монах на воздушном шаре (в начале фильма) видит внизу бегущий от него в страхе табун лошадей. Монах разбивается — и превращается (в следующем кадре) в переворачивающуюся лошадь (предвосхищая, таким образом, переворачивающегося скомороха в следующем сюжете). 163 www.russianeurope.ru Вернемся к дурочке и собакам. На бросаемые татарином куски конины сбегаются собаки и дерутся между собой, затем конину пытается получить и получает дурочка. Затем ее увозят на коне (соблазнив кониной и блестящими доспехами), как увезли когда-то скомороха стражники (насильно). Это уже блоковский образ — соблазненная Прекрасная Дама, она же — Русь («Пускай заманит и обманет…»). Дурочка — немая, скоморох — с обрезанным языком, Андрей же принимает обет молчания (еще и монаху Патрикею, которого играет Никулин, вливают в глотку расплавленный свинец). Немота (равно как глухота и слепота) — частый признак двойника (ведь он не совсем человек, он — олицетворение природы). В данном случае молчит «сущностная форма» в полном своем составе (Андрей, дурочка, скоморох) — до тех пор, пока не зазвучит колокол. Именно в то мгновение, когда звонит колокол, Андрей оборачивается на его звон — и мы (вместе с Андреем) видим дурочку, ведущую под уздцы лошадь. Только она уже перестала быть юродивой, вошла в ум и стала «Прекрасной Дамой». Пока язык колокола раскачивался, мы видели двойников, когда ударил — узрели «Источник жизни». 164 www.russianeurope.ru Когда обжигали колокол, мы видели огонь. Это тот же огонь, что был в «Зеркале» и будет как в «Ностальгии», так и в «Жертвоприношении». И недаром скоморох поработал в начале фильма своим бубном (кружение и круглые предметы пробуждают стихию огня). Так что же, в фильме Андрея Тарковского нет никого, кроме главного героя Андрея — и его двойников-антиподов? Похоже на то. Ведь сказано в «Солярисе»: «Число двойников может быть бесконечным». Это как в удачном стихотворении: все перекликается-рифмуется со всем. Стихотворение (давно замечено) есть единое слово, есть имя. Примечательно, что Тарковский думал снимать фильм о Достоевском под названием «Двойник». Итак, заканчивается фильм «Святой Троицей» Рублева. Картину размывает дождь. Затем следует сцена с лошадьми на косе, выдающейся в озеро, под дождем. 165 www.russianeurope.ru Лошади тут изображают «живую картину» сущностной формы: две лошади стоят по бокам, глядя в противоположные стороны, а в середине две лошади стоят «в обнимку», перпендикулярно друг другу. Такая вот лошадиная троица, в которой «Источник жизни» представляют объединенные двойники в середине (1 + 1 = 1). Он расположен между раздельными и разнонаправленными двойниками по бокам. Жизнь есть сон, или Явление узбеков Сюжет сна формируется душой человека, который видит этот сон. Подобно тому, как сюжет книги формируется душой писателя. Сюжет жизни, сюжет того, что с человеком случается, формируется его душой или нет? Вообще-то нет. Мало ли что там моя душа собралась формировать — жизнь как придет, как начнет бить ключом… Но иногда происходит странная вещь: в предстоящей тебе действительности образуется как бы воронка, которая тебя втягивает. Если ты даешь себя втянуть в нее, то становишься героем неслучайного сюжета. Как в детской сказке о мальчике, шагнувшем из действительности в книгу. 166 www.russianeurope.ru Один такой случай я и хочу здесь рассмотреть. Передо мной рассказ Бориса Белкина «Законы общежития», написанный в 2000 году. Да, это художественное произведение, но вместе с тем и реальный случай из студенческой жизни. Так и будем его рассматривать — как непридуманную историю. Борис прислал мне этот рассказ, прочтя «Прыжок через быка» (2015) — мою первую книгу о «сущностной форме». «Сущностная форма» — это трехэлементная основа любого сюжета: герой ↔ Источник жизни (либо Хозяйка зверей, либо стихия, либо мифический зверь) ↔ двойник-антипод героя. У Источника жизни и у двойника-антипода есть некоторый набор вторичных признаков. Вторичные признаки не являются бессвязным набором, но служат основному смыслу «сущностной формы»: прохождению героя через смерть. Схема может показаться банальной. Она оказывается совершенно удивительной, когда вы видите довольно толстый пучок вторичных признаков. Борис прислал мне этот рассказ, потому что увидел, что «сущностная форма» работает не только в применении к литературному сюжету, но и в действительной жизни, в судьбе человека. Когда в действительности возникает втягивающая человека воронка, он уже может быть готовым к встрече с рядом вторичных признаков «сущностной формы» в виде явлений или событий своей жизни. Я это и имел в виду, когда писал о «сущностной форме» (мной руководил отнюдь не только литературный интерес). Недоставало хорошего примера. Пройдемся по рассказу Бориса Белкина «Законы общежития». Студент физфака одного из московских вузов попадает в летний стройотряд (время — середина семидесятых): «Как и многие рядовые смертные с нашего курса, которых никто не освобождал от общественно-полезного труда летом, я, не мудрствуя, записался в московский стройотряд — строительство нового общежития нашего института не сулило больших денег, но и не грозило серьезными лишениями. Правда, бойцам московского стройотряда для большего 167 www.russianeurope.ru сплочения вменялось в обязанность на месяц поселиться в старом институтском общежитии. Жизнь в старом, ветхом, прогнившем и грозящем рухнуть со дня на день здании, должна была каждодневно убеждать бойцов стройотряда в необходимости скорейшего построения нового. Все это не слишком меня страшило — наоборот, я находился в приподнятом состоянии ожидания: я ждал новых встреч и событий». Борис (по его собственному признанию) написал рассказ про инициацию. А во время инициации мальчиков действительно уводили из деревни в некое большое здание, где они должны были находиться все время обряда. Поскольку же инициация есть опыт прохождения через смерть, то вполне оправданно (в этом сюжете) опасное состояние здания студенческого общежития. Это мифический зверь, растерзывающий и пожирающий посвящаемых. Мы видим героя в преддверии испытания-инициации. (Хотя он, не будучи мальчиком из первобытного племени, этого пока не знает. Тем труднее ему придется, тем сильнее будет шок.) Интересно, в какой именно момент происходит затягивание человека в воронку? Вот уже появляется Хозяйка зверей (она же богиня и Прекрасная Дама, она же ведьма и Баба-яга): «Эту девушку я заметил сразу — на первом же организационном собрании отряда. Она громко смеялась, закинув голову. Светлые волосы, свободными волнами спускались до пояса, длинные и вместе с тем плотные, тяжелые ноги вытянулись и переплелись, руки с изящными запястьями переламывались, жестикулируя, лучащиеся глаза вспыхивали и разбрасывали голубые искры… Формы Брунгильды контрастировали с поведением babydоll. Соседство (и как я потом узнал, постоянное), с маленькой и хрупкой подругой — внешне ее полной противоположностью — усиливало ощущение телесной роскоши и избыточности. Но этим дело, похоже, не ограничивалось. Подруга тоже была не проста и так же сразу производила впечатление — силы характера и интеллектуальности — и в результате сама возможность этого союза, образованного то ли по принципу 168 www.russianeurope.ru дополнительности, то ли глубинного сходства, таила загадку и питала воображение предвосхищением скрытых от поверхностного взгляда достоинств». Примечательно, что Прекрасная Дама сама двоится, является со своим двойником (двойницей)-антиподом. Я уже показывал в других книгах и главах, что при работе «сущностной формы» появляются «пустые двойники», подчеркивающие-пересекающие основную линию двойничества, и «пустые троицы», в которых отражается тройственность «сущностной формы», — как бы тень основной «сущностной формы» («пустые троицы» обычно появляются в роли «богинь судьбы»). Еще в самом начале рассказа шла речь о таких «пустых двойниках», причем с подчеркиванием в них эротического начала (то есть с привязыванием их к имеющей вскоре появиться двоящейся Прекрасной Даме): «Я не вошел в элиту курса, ядро которой составляли актеры так называемой агитбригады, собиравшие в праздники полные залы капустниками из студенческой жизни, — именно они безоговорочно признавались носителями истинно студенческого духа и продолжателями славных факультетских традиций. Не нашлось для меня на курсе и подходящей девушки. Обрел я, пожалуй, только сомнительную репутацию подозрительно отдельного человека и имя — однокурсники называли меня “Боб”. Те, кто узнал о моих школьных занятиях борьбой самбо, иногда к имени “Боб” добавляли “Великолепный”, подразумевая персонажа Ж. П. Бельмондо из недавно прошедшего пародийного боевика под тем же названием. Но и это уважительное прозвище звучало скорее иронично, поскольку не совсем вязалось с моим благочинным и вполне еще детским обликом. Настоящими же суперменами считались мои товарищи по учебной группе Хрулев и Васькин — любимцы девушек, весельчаки и гуляки, признанные лидеры агитбригады, державшиеся на факультете после двух сессий исключительно успехами в художественной самодеятельности. Особое великолепие отличало фатоватого Хрулева — он отпустил волосы 169 www.russianeurope.ru до плеч и мушкетерские усы, носил черные замшевые джинсы и золотую цепочку на шее. Хрулев не расставался с длинным черным зонтом с изогнутой деревянной ручкой. Длинное жало зонта время от времени оказывалось свернутым на сторону — облизываясь от самодовольства, Хрулев неизменно объяснял, что в метро он попал в “половую щель”. Было похоже, что из этой самой щели Хрулев практически и не вылезал — его многочисленные победы были общеизвестны и сомнений не вызывали». Интересно и то, что герой соотносится с Бельмондо, — это как раз и обещает художественный сюжет (может, втягивание в воронку началось уже с клички “Боб”, обещающей двойничество: Б-О-Б)? Но вернемся к Брунгильде, к Хозяйке зверей: «А голос… Этот голос я услышал, когда накануне начала работ нас впервые привезли на стройплощадку — на экскурсию. Не успели мы высадиться из автобуса, как тут же прибежала огромная овчарка-сторож с дурным взглядом буйнопомешанного. Она тряслась от бешенства и злобы, короткий лай срывался с ее губ как плевки дегенерата. Сошедшие жались к автобусу, в дверях образовалась пробка. Собака же, похоже, никак не могла решить, в чье именно горло вцепиться в первую очередь. И тут из глубины автобуса наметилось какое-то встречное движение, столпившиеся в дверях расступились — Брунгильда легко спрыгнула на землю и, не раздумывая, решительно направилась к стелящейся от ярости по земле собаке. “Собак, — услышал я наконец ее голос, грудной и протяжный, — собак, милый…” Она ласкала собаку голосом, и овчарка вдруг замолчала, потерявшись. Она подошла вплотную, протянула руку и погладила собаку по голове, а затем и по морде. Овчарка закрыла глаза. Красавица присела на корточки — джинсовая юбка распахнулась, обнажив круглое тяжелое бедро, — она обняла собаку за шею (хриплое дыхание овчарки стало похожим на сладостный стон), прижалась к ней и зарылась головой в густую собачью шерсть. “Собак, милый, — шептала она ( ее голос дрожал и срывался от 170 www.russianeurope.ru нежности), — ты такой хороший… такой славный… такой сильный… ты мой милый… милый…” Я неожиданно почувствовал острое желание оказаться на месте собаки. Более того, я вдруг увидел для себя вполне конкретный смысл и перспективу в наступающей строительной эпопее. “Ну, ты и даешь, Ирка…” — сказал кто-то с уважением. Красавица подняла лицо. Укрощенная собака стояла рядом, ее морда светилась от счастья. “Кому даю, а кому и не даю”, — скромно потупясь, сказала красавица и пронзительно улыбнулась. Кровь прилила к моему лицу. Но, не успев пережить разочарование, я тут же неожиданно успокоился — словно мгновенно повзрослел и распрощался с детским идеализмом. Я принял как должное новые реалии и понял, что ничего не изменилось, я вдруг почувствовал твердую уверенность — как будто все уже случилось… В этом странном состоянии, сочетавшем спокойную уверенность с приподнятостью ожидания, вечером, я собрал дорожную сумку и отправился в общежитие. Навстречу новой жизни, уже казавшейся мне неотвратимой…» Всё, герой — в неотвратимой воронке. Мальчик перешел в книжку. И все уже идет по плану, то есть вовсю работает «сущностная форма». Появилась Хозяйка зверей (Источник жизни, он же — Источник смерти), дальше обязательно должен был появиться двойник-антипод. Двойник-антипод часто является в виде зверя (один из его второстепенных признаков, из его вариантов), что вполне логично, поскольку он является из Хозяйки зверей, представляет собой отражение героя в Хозяйке зверей. Двойничество подчеркнуто тем, что герой испытывает «острое желание оказаться на месте собаки». Важны также концентрация внимания на «собачьей шерсти» (так как двойник-антипод нередко меняется шкурой с героем, а то и просто предстает оборотнем) и на эротической подоплеке сцены (потому что в обряде инициации герой входит в Хозяйку зверей как мужчина — и затем 171 www.russianeurope.ru рождается из нее, как ребенок-щенок, как полузверь). «Буйнопомешанный» вид собаки тоже есть один из признаков двойника-антипода (ведь во время инициации мальчика старалась привести в «состояние измененного сознания», а после обряда он либо действительно был «не в себе», либо симулировал безумие ради исполнения обряда). Если бы Борис знал тогда про выявленную мной «сущностную форму» (но до ее выявления оставалось сорок лет), он бы в момент ощущения «острого желания оказаться на месте собаки» понял, в какой водоворот его уже некоторое время втягивает и что дальше все будет происходить по плану и довольно сурово. Тогда он мог бы решить, надо ему это или нет. (Мне, например, уже однажды удалось вырваться из такой воронки. Поняв, что заработала «сущностная форма», я «сломал» ситуацию: отменил, например, поездку и встречу. А кому-то, может быть, интересно нырнуть в воронку, пройти инициацию. Но тогда он должен знать, на что идет.) Итак, на пути к опасному дому (чрево мифического зверя, «избушка на курьих ножках») неотвратимо появляется Хозяйка зверей, из Хозяйки зверей — собака («собак»), в котором герой («Боб») признает себя самого. Кто дальше выскочит из этой матрешки? «Еще в автобусе мы, физики, договорились вечером достойно отметить начало нашей трудовой деятельности. Я надел польские джинсы с широким кожаным ремнем, венгерскую тенниску, взял заранее купленную бутылку красного вина и постучал в комнату, где постоянно проживали иногородние студенты Корнюхин, Ананьев и Барбосин». Похоже на «пустую троицу», на богинь (или богов) судьбы. Атос, Портос и Арамис. Лахесис, Клото и Атропос. Важно, что иногородние, важно и вино. «В комнате было людно. Я сразу же заметил, что наряду с несколькими наиболее котирующимися девицами с факультета в комнате оказалась и моя принцесса со своей неразлучной подругой, и не удивился, увидев в этом подтверждение правильности моего понимания грядущего. Стол ломился от вина и закусок». 172 www.russianeurope.ru Последняя фраза удостоверяет, что герой — в пещере Полифема, в гостях у Цирцеи, в доме Одиссея, в котором пируют женихи. Появляется еще одна «пустая двойка» — две подруги, оказавшиеся «студентками факультета английского языка — они удачно прошли мимо во время приготовлений к празднику и тут же получили приглашение». Дальше — танцы, герой приглашает Брунгильду: «…я уже успел взглянуть на красавицу и поймать ответный взгляд. Вино чуть кружило мне голову. <…> Давно я не чувствовал себя таким сильным и уверенным. “Как у вас, у физиков, хорошо, — мечтательно произнесла красавица (мои руки лежали на ее талии, грудь ощущала упругость ее тяжелого тела), — и, вообще, вы такие у-умные…” Я не спорил. Взгляд красавицы упал на ракетки для бадминтона, висящие на стене. “А кто это тут у вас играет в бадминтон?” — вдруг спросила она. Кто тут играет в бадминтон, я не знал, и меня это мало интересовало. Я ждал развития событий. “Как тут жарко”, — доверительно шепнула красавица. Я тут же спросил, не хочет ли она выйти. “Выйти? — заинтересовалась красавица, — а зачем?” Я сказал, что мы можем, например, пойти поиграть в бадминтон. С впечатляющей готовностью красавица сразу же согласилась. Я снял со стены ракетки, прихватил со стола недопитую бутылку вина, и мы вышли в коридор». Один из дополнительных признаков, сопровождающих появление двойника (и шире: работы «сущностной формы»), является игра в мяч. Здесь она принимает вид игры в бадминтон и имеет ясное сходство с половым актом: «В коридоре было безлюдно и сумрачно, тихо жужжа, мигали лампы дневного света, мы дошли до поворота, повернули и остановились недалеко от лестницы. Красавица излучала аромат порока, безгрешного в своей чистоте. Она стояла в ожидании. Уже ничего нельзя было изменить. Все переживания и неудачи последних лет встали на свои места и обрели свой смысл. Меня переполняла тихая печаль обретенной мудрости. На душе было светло и торжественно. Глядя красавице прямо в глаза, я подкинул волан и 173 www.russianeurope.ru сделал пробную подачу. Прогнувшись в талии, красавица с легким вздохом потянулась и взяла ее. Я попробовал иначе. Красавица ответила. Я вдруг почувствовал, что в бадминтон она играет вполне профессионально, и что мне потребуются серьезные усилия, чтобы соответствовать ее уровню. Хорошо, что ей мешали босоножки на платформе. Я собрал воедино все свои умения и внимание. “Подожди-ка”, — вдруг властно сказала красавица. Пристально глядя мне в глаза, она скинула босоножки и движением ноги отшвырнула их в сторону. Она сразу же стала меньше ростом, ее движения сделались мягче, стремительнее и бесшумней. Я почувствовал, как на мир опускается тишина. Звуки поплыли и задрожали, время стало пробуксовывать и едва ли не замерло, движения сделались тягучими… Красавица мягко подпрыгивала, отталкиваясь от пола босыми ногами, взлетала под потолок и медленно опускалась… грудь ее колыхалась… Из-за угла вдруг вырвался какой-то неясный шум, и снова все стихло. Игра шла своим чередом. При каждом ударе у красавицы вырывался протяжный выдох-стон и окутывал теплым облаком, соединяющее нас пространство. “Ну, же…ну…”, — все время повторяла раскрасневшаяся красавица. Мы поймали ритм — волан не падал». Вот тут-то и появляются узбеки. Как я уже рассказывал (в других работах), двойник-антипод, появившись, часто (и даже обычно) множится. Как глаза восточного старика на портрете в повести Гоголя «Портрет». Двойникантипод множится потому, что он представляет собой отражение героя в Хозяйке зверей, как в зеркале Мира, а Мир — множествен. Герой отражается в разных его плоскостях. Двойник-антипод может предстать как в виде зверя, так и в виде восточного чужеземца (это его варианты). Ни я, ни Борис Белкин ничего не имеем против узбеков (мы вообще против расценки людей по национальному признаку). Поймите правильно, речь идет о причудливой реализации «сущностной формы», о страшном сне Боба. И вот узбеки органично возникают из «буйнопомешанной» собаки, которая органично возникла из Брунгильды: 174 www.russianeurope.ru «И снова из-за угла вылетел какой-то звук, а точнее, гул — но на этот раз он не исчез, а становился все отчетливей и резче. “Что там такое?” — недовольно спросила красавица и остановила игру. Мы подошли к повороту. Гул становился все отчетливее, резче, неприятнее. Мы заглянули за поворот. Еще недавно пустынный коридор был переполнен — неведомо откуда выплеснувшееся человеческое море разлилось в коридоре, волнуясь и качаясь. “Что это?” — в голосе красавицы послышалась тревога. Я слегка придерживал разгоряченную красавицу за талию, она взмокла от пота, тяжело дышала и источала сладкий запах молока и меда. Я сказал, что пойду посмотрю. “Пойду разберусь” — так, вроде бы, я тогда выразился. Еще я, кажется, сказал, что я быстро. Я пошел в толпу, улыбнувшись и даже помахав рукой красавице на прощание. Коридор был забит людьми самым непостижимым образом. На периферии сознания шевельнулась смутная тревога и тут же исчезла. Сильный и уверенный, я шел по коридору сквозь странную толпу невесть откуда взявшихся смуглых и темноволосых, казавшихся мне на одно лицо. Я ловил на себе озлобленные взгляды, но упрямо продолжал протискиваться вперед — вглубь этой загадочной толпы, к эпицентру напряжения, откуда и расходились эти странные волны — вибрации агрессии и еще чего-то тревожного. По потолку и стенам метались тени, мигали лампы дневного света, их жужжание нарастало и сдвигалось в область ультразвука…» 175 www.russianeurope.ru Тяжело вооруженный воин-узбек (XVI века) Дальше происходит конфликт с узбеками. Оказывается, это они ранее стучали сверху по трубе (словно некие боги или духи), когда физики веселились внизу («Гремела музыка. Сверху уже несколько раз стучали по 176 www.russianeurope.ru трубе»). Конечно, узбеки в общежитии появились не для того, чтобы сыграть в спектакле (с Бобом в главной роли), чтобы предстать перед ним умноженной мужской фигурой картин Рене Магритта. Они появились в результате природного бедствия: «Мне объяснили, что толпа в коридоре — студенты и аспиранты узбекского отделения филологического факультета, что наш институт приютил группу ташкентских студентов после землетрясения 68 года, и с тех пор так и повелось… что узбеки чувствуют себя в общежитии силой, которой нечего противопоставить…» Но Бобу они предстают по той же художественной логике, по которой художнику Чарткову у Гоголя предстает множество глаз на портрете. Это-то и удивительно, даже жутко. Затем герой рассказа укрывается в комнате трех иногородних знакомцев. Туда заходят два узбека: «…узбеки подошли ко мне. “А ты, сука…”, — сказал высокий. Он говорил, распаляясь бешенством, о том, что они сейчас со мной сделают. Ничего подобного в жизни мне еще слышать не доводилось. Большинство угроз носило не просто садистский, а еще и откровенно содомитский характер. Я молчал, не находясь чем ответить. Неожиданно высокий узбек отошел за шкаф, перегораживающий комнату… <…> Я пошел за шкаф. За шкафом было темно, узбек сливался с темнотой, лишь белела его светлая рубашка. Узбек уставился мне прямо в глаза, он глядел, не мигая. “Ти, пилять, — заговорил он наконец дрожащим голосом (его перекосило от ненависти, в углах рта вскипала пена), — я тибя сейчас… верьтеть буду, я тибе, сука, сейчас бутилька засуну, я тибя…”Я смотрел в глаза кровожадному узбеку, тоскливо поражаясь его изобретательности, и молчал. За дверью все так же плескалось человеческое море, слышались резкие возгласы и гортанные выкрики. Внезапно, не выдержав напряжения, мой собеседник размахнулся и ударил меня по лицу. Я успел закрыться, а затем обхватил узбека, прижав его руки к туловищу. Пораженный в праве на свободные действия узбек 177 www.russianeurope.ru задрожал и затрясся. "Пусти, сука — отчаянно забился он в моих руках, — пусти, я же тебя убью сейчас”. Я отпустил. Неукротимый узбек тут же снова ударил меня по лицу. Выхода не было. Я снова схватил узбека за руки и потащил его из-за шкафа на середину комнаты. По дороге мы опрокинули какую-то тумбочку, упала и разбилась ваза. Я успел заметить многочисленные лица бледных физиков, все так же сидящих рядком у стены. Я вытащил узбека на середину комнаты, бросил его подножкой на пол и сел сверху, взяв захват на удержание. Что делать дальше, я не знал. “Пусти, пусти,” — выгибался подо мной дугой узбек, но я знал, что ему не вырваться. Внезапно засуетился второй узбек, он говорил без акцента, обращался ко мне “брат” и просил отпустить его товарища. “Отпусти его и мы уйдем, — повторял он, — Клянусь!” И я отпустил». При взаимодействии героя с двойником важными признаками являются схватка-объятие и поражение головы. Узбек здесь явно обнаруживает свое родство с «буйнопомешанной» собакой (это на самом деле единый двойникантипод, вышедший из Брунгильды). Собака угрожающе лаяла, узбек ругается и угрожает. Неудивительно и то, что данная сцена, как и сцена с собакой, имеет явный эротический оттенок. В обряде инициации смерть и половой акт — одно и то же. Один из самых ярких признаков двойника представляет собой появление «жертвенного ножа», который в то же время есть фаллос. Эта штука уже появлялась (как предвестие) — в самом начале рассказа, у одного из «пустых двойников», помните? «Хрулев не расставался с длинным черным зонтом с изогнутой деревянной ручкой. Длинное жало зонта время от времени оказывалось свернутым на сторону — облизываясь от самодовольства, Хрулев неизменно объяснял, что в метро он попал в “половую щель”». И вот отпущенный узбек хватается за нож, подчиняясь сюжету, — словно он снится нашему герою, а не существует на самом деле. И нож уже заготовлен 178 www.russianeurope.ru «работой сновидения» (термин Фрейда), а не принесен узбеком. Этим ножом до начала танцев один из персонажей «очищал апельсины, делил на дольки и угощал девушек» (важная, кстати, обрядовая вещь — разрезание и дележ еды): «Высокий узбек вскочил и схватил лежавший на столе фруктовый нож. Небо стремительно упало и придавило меня, я вдруг разучился дышать. Если бы не третий этаж и не высокие потолки, я бы прыгнул в окно. Я ощутил удар об асфальт и увидел себя лежащим на каменном дне двора-колодца. Земля вывернулась у меня из-под ног, я покачнулся, завис над пустотой и чтобы не упасть, схватил узбека за руку с ножом. Узбек завизжал. Его тонкое запястье жгло мне ладонь. Я все так же не знал, что делать. Мы ходили по комнате, держась за руки и толкаясь. Узкое лезвие ножа высвечивало тщетность ожидания помощи. Ждать было нечего. Я наконец перехватил руку узбека двумя руками, и стал медленно выламывать ее, оставляя возможность самому выпустить нож до того, как рука будет сломана». А вот и еще одно важнейшее сопутствующее двойнику-антиподу явление: падение в пропасть или страх высоты (то есть виртуальное падение в пропасть). Оно уже было обещано опрокинутой тумбочкой и разбившейся вазой. Еще раз: как только появилась Хозяйка зверей, жди двойникаантипода (а также ожидай, что он так или иначе умножится), жди нож, жди падение (хорошо, если виртуальное). У Брунгильды своя траектория, у собаки — своя, у узбеков — своя, у фруктового ножа — своя. Но если тебя втянуло в воронку «сущностной формы», то все эти траектории каким-то немыслимым образом или «задним числом» подстраиваются к тебе, становятся вехами твоей траектории. Расстанемся с Бобом на самом интересном месте. Может быть, вы найдете этот рассказ и прочтете его целиком. Приведу лишь последнюю фразу: «А в моем отношении к законам человеческого общежития что-то решительно и непоправимо переменилось». 179 www.russianeurope.ru Это нормально, на то и инициация. То есть совершенно ненормальное, из ряда вон выходящее явление. Из письма Бориса Белкина, прочитавшего мой разбор: «Неправильна, по-моему, последняя фраза — я, конечно, понимаю, что в современной жизни подобная инициация — явление совершенно дикое и ненормальное, но на самом деле все наоборот — инициация в тех или иных формах естественна и необходима, поэтому необходимость, стоявшая раньше за ушедшим из культурного обихода ритуалом, ищет своего выхода и иногда по каким-то причинам находит его в столь архаически-брутальном виде. И еще — но это уже совсем между нами, и ни в коем случае ни для каких исправлений — если тебе образом всей истории кажется перемещение из жизни в сон или книгу, то мне наоборот — из сна, книги (Бельмондо, самбо — самооборона без оружия, между прочим, Брунгильда и т. д.) — в жизнь в самых жестких реликтовых формах — прямо мордой об стол». Одиссея Чичикова: Коробочка и птица тройка "Открой мне?" "А ты кто? Куда ты идешь? Как твое имя?" "Я — один из вас, имя моей лодки — собиратель душ… Пусть мне будут даны сосуды молока с лепешками, хлебами… и кусками мяса… Пусть эти вещи мне даны будут полностью… Пусть мне будет сделано так, чтобы я мог продвигаться дальше подобно птице Бенну..." Египетская «Книга мертвых» В третьей главе поэмы Гоголя «Мертвые души» Чичиков демонстрирует (правда, невольно) помещице Коробочке свою наготу: «…в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно все. Выглянувшее 180 www.russianeurope.ru лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе: кто бы это был, и наконец вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало возле него». Эта забавная сценка меня, признаюсь, всегда немного «задевала», настораживала. Ее архетипический смысл я увидел, прочтя статью В. Я. Проппа «Ритуальный смех в фольклоре». Мне и раньше было понятно, что Коробочка «не лыком шита», что она — «Хозяйка зверей». Коробочка — Баба-яга и Цирцея (и Прекрасная Дама), к которой попадает герой. К Хозяйке зверей герой обычно попадает случайно — сбившись с пути. И только потом становится понятно, что Хозяйку зверей (и ее жилище) герою не суждено было обойти (не бывает пути в обход «избушки на курьих ножках»). Николай Рерих. Изба смерти. 1905 год. 181 www.russianeurope.ru Чичиков попадает к Коробочке после того, как он сбился с пути. В повести «Вий» сбивается с пути Хома Брут — и попадает к ведьме: «Один раз во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону, с тем чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были: богослов Халява, философ Хома Брут и ритор Тиберий Горобець. <…> Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки; ритор Тиберий Горобець сбивал палкою головки с будяков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. Отлогости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину. Показавшаяся в двух местах нива с вызревавшим житом давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния. — Что за черт! — сказал философ Хома Брут, — сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор. Богослов помолчал, поглядел по окрестностям, потом опять взял в рот свою люльку, и все продолжали путь. — Ей-Богу! — сказал, опять остановившись, философ. — Ни чертова кулака не видно. — А может быть, далее и попадется какой-нибудь хутор, — сказал богослов, не выпуская люльки. Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге. 182 www.russianeurope.ru Философ, пошаривши ногами во все стороны, сказал наконец отрывисто: — А где же дорога? Богослов помолчал и, надумавшись, примолвил: — Да, ночь темная. Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисьи норы. Везде была одна степь, по которой, казалось, никто не ездил. Путешественники еще сделали усилие пройти несколько вперед, но везде была та же дичь. Философ попробовал перекликнуться, но голос его совершенно заглох по сторонам и не встретил никакого ответа. Несколько спустя только послышалось слабое стенание, похожее на волчий вой. — Вишь, что тут делать? — сказал философ. — А что? оставаться и заночевать в поле! — сказал богослов и полез в карман достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта четыре сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков. — Нет, Халява, не можно, — сказал он. — Как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаке? Попробуем еще; может быть, набредем на какое-нибудь жилье и хоть чарку горелки удастся выпить на ночь. При слове "горелка" богослов сплюнул в сторону и примолвил: — Оно конечно, в поле оставаться нечего. Бурсаки пошли вперед, и, к величайшей радости их, в отдалении почудился лай. Прислушавшись, с которой стороны, они отправились бодрее и, немного пройдя, увидели огонек. — Хутор! ей-Богу, хутор! — сказал философ. Предположения его не обманули: через несколько времени они увидели, точно, небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в 183 www.russianeurope.ru одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Десяток сливных дерев торчало под тыном. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, установленный чумацкими возами. Звезды кое-где глянули в это время на небе. — Смотрите же, братцы, не отставать! во что бы то ни было, а добыть ночлега! Три ученые мужа яростно ударили в ворота и закричали: — Отвори! Дверь в одной хате заскрыпела, и минуту спустя бурсаки увидели перед собою старуху в нагольном тулупе. — Кто там? — закричала она, глухо кашляя. — Пусти, бабуся, переночевать. Сбились с дороги. Так в поле скверно, как в голодном брюхе. — А что вы за народ? — Да народ необидчивый: богослов Халява, философ Брут и ритор Горобець. — Не можно, — проворчала старуха, — у меня народу полон двор, и все углы в хате заняты. Куды я вас дену? Да еще всё какой рослый и здоровый народ! Да у меня и хата развалится, когда помещу таких. Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли! пошли! Тут вам нет места. — Умилосердись, бабуся! Как же можно, чтобы христианские души пропали ни за что, ни про что? Где хочешь помести нас. И если мы чтонибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, — то пусть нам и руки отсохнут, и такое будет, что Бог один знает. Вот что! Старуха, казалось, немного смягчилась. — Хорошо, — сказала она, как бы размышляя, — я впущу вас; только положу всех в разных местах: а то у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе. — На то твоя воля; не будем прекословить, — отвечали бурсаки. Ворота заскрыпели, и они вошли во двор. 184 www.russianeurope.ru — А что, бабуся, — сказал философ, идя за старухой, — если бы так, как говорят... ей-Богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту. — Вишь, чего захотел! — сказала старуха. — Нет у меня, нет ничего такого, и печь не топилась сегодня. — А мы бы уже за все это, — продолжал философ, — расплатились бы завтра как следует — чистоганом. Да, — продолжал он тихо, — черта с два получишь ты что-нибудь! — Ступайте, ступайте! и будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес какие нежных паничей! <…> Старуха разместила бурсаков: ритора положила в хате, богослова заперла в пустую комору, философу отвела тоже пустой овечий хлев. Философ, оставшись один, <…> осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью и поворотился на другой бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев. — А что, бабуся, чего тебе нужно? — сказал философ. Но старуха шла прямо к нему с распростертыми руками. "Эге-гм! — подумал философ. — Только нет, голубушка! устарела". Он отодвинулся немного подальше, но старуха, без церемонии, опять подошла к нему. — Слушай, бабуся! — сказал философ, — теперь пост; а я такой человек, что и за тысячу золотых не захочу оскоромиться. Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось страшно, особливо когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском. — Бабуся! что ты? Ступай, ступай себе с Богом! — закричал он. 185 www.russianeurope.ru Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он вскочил на ноги, с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться, ноги не двигались; и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его: слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце; он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротою кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги; но они, к величайшему изумлению его, подымались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна. Когда уже минули они хутор и перед ними открылась ровная лощина, а в стороне потянулся черный, как уголь, лес, тогда только сказал он сам в себе: "Эге, да это ведьма". Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажнотеплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хома Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода, и трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря; по крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшею на спине старухою. Он видел, как вместо месяца светило там какое-то солнце; он слышал, как голубые колокольчики, 186 www.russianeurope.ru наклоняя свои головки, звенели. Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось, — и вот она опрокинулась на спину, и облачные перси ее, матовые, как фарфор, не покрытый глазурью, просвечивали пред солнцем по краям своей белой, эластически-нежной окружности. Вода в виде маленьких пузырьков, как бисер, обсыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде... Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит, и вьется, и подступает, и вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью...» 187 www.russianeurope.ru Русалка. Рисунок И. Я. Билибина (1876 — 1942) Цирцея хочет превратить Одиссея в животное, в зверя. Для этого Хома Брут помещается в хлев (и видит свинью — в свиней же были превращены спутники Одиссея, да и самому Одиссею грозила та же участь), затем ведьма на нем скачет (то есть превращение в животное — в коня — частично удается). Львов у малороссийской Цирцеи нет, зато сама она сравнивается с кошкой. И вместе с тем она — Прекрасная Дама, видение, которое герой прозревает в водной стихии. Ведьма легко меняет имидж: то она старуха, то прекрасная русалка. 188 www.russianeurope.ru Подобно трем бурсакам, сбивается с дороги и Чичиков. Селифана (кучера Чичикова) у Манилова хорошо угостили дворовые люди — и он с пьяных глаз поворачивает не туда, куда ему было указано. В повести «Вий» находящихся в пути героев было трое («богослов Халява, философ Хома Брут и ритор Тиберий Горобець»). Главный герой — Хома Брут, два других — сопровождающие герои. Герой часто появляется на дороге (жизненной или буквальной) не один, а в виде, так сказать, трехколесного велосипеда (или тройки). Вот ведь и Чичиков в поэме не один, а с кучером Селифаном и лакеем Петрушкой. (Хотя помещиков объезжает только Чичиков с Селифаном: «Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом». Тут троица превращается в двоицу — на манер Дон-Кихота и Санчо Пансы, то есть перед нами герой и пародирующая его Тень.) Речь пьяного Селифана в начале третьей главы, обращенная к лошадям чичиковской тройки, очеловечивает их (причем становится ясно, что чубарый78 — это Чичиков). Тройка Чичикова не просто сбивается с дороги. Как в «Капитанской дочке» Пушкина, вступает в действие стихия (в повести Пушкина кибитка Гринёва попадает в снежную бурю): «…мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя; все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменив и образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо в верх его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными занавесками с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, Селифан обращается к чубарому, в частности, со словами: "Ты думаешь, что скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение". 78 189 www.russianeurope.ru и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что, точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: "Эй вы, други почтенные!" — и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога. Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи. — Селифан! — сказал он наконец, высунувшись из брички. — Что, барин? — отвечал Селифан. — Погляди-ка, не видно ли деревни? — Нет, барин, нигде не видно!» (В сказке подобное буйство стихии говорит о том, что на подлете Баба-яга или змей: «Поднималась сильная буря, гром гремит, земля дрожит, дремучий лес долу преклоняется: летит трехглавый змей»79.) Или, в древнеегипетской «Сказке о потерпевшем кораблекрушение»: «Тут услыхал голос грома. Подумал я, что это волны моря. Деревья трещали, земля дрожала.Когда же раскрыл я лицо свое, то увидел, что это змей приближается ко мне. <...> И я обмер от страха. Тогда забрал он меня в пасть свою, и отнес в жилище свое, и положил на землю, невредимого, ибо я был цел и члены мои не оторваны от туловища. Сказал он мне: "Не бойся, не бойся, малыш, не закрывай от страха лица своего здесь, предо мною. Вот бог даровал тебе жизнь, он принес тебя на этот остров ка". (То есть на остров двойника. — И.Ф.) В связи с этой историей, кстати сказать, Пропп вплотную подходит к тому, что я называю «сущностной формой»: «Но если рожденный от змеи сам есть змей или превращается в него и если этот рожденный от змея убивает змея, то не здесь ли кроется разгадка «супротивника»? Не потому ли герой убивает змея, что он исторически — сам 190 www.russianeurope.ru 79 Затем оказывается, что бричка едет уже не по дороге, а по полю (так же поехала, следуя указанию «вожатого», и кибитка Гринёва, так же сошли с дороги в поле три бурсака из повести «Вий»): «Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова. — Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? — сказал Чичиков. — Да что ж, барин, делать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма! — Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял. — Держи, держи, опрокинешь! — кричал он ему». Дальше происходит падение — обычное происшествие на фоне встречи героя с Цирцеей или двойником (помните, как падает Ельпенор с крыши дома Цирцеи?80). Здесь же падает не двойник-антипод, а сам герой: «— Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул, — говорил Селифан. — Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину. — Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и наконец выворотил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил, впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подперся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, силясь змей или сам — рожденный от змея, т. е. вышел из змея? Ведь почему-то в египетском мифе-сказке остров, на котором обитает змей, называется островом двойника. Не двойника ли боится и наш сказочный змей?» Это в книге «Исторические корни волшебной сказки». А в книге «Морфология волшебной сказки» Пропп говорит: «Отметая все местные, вторичные образования, оставив только основные формы, мы получим ту сказку, по отношению к которой все волшебные сказки явятся вариантами. Произведенные нами в этом отношении разыскания привели нас к тем сказкам, где змей похищает царевну, где Иван встречает ягу, получает коня, улетает, при помощи коня побеждает змея...» Герой ↔ яга/царевна↔ змей (двойник-антипод героя). 80 О значении этого падения — в моей работе «Одиссей, или День сурка». 191 www.russianeurope.ru оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: "Вишь ты, и перекинулась!" — Ты пьян как сапожник! — сказал Чичиков». 192 www.russianeurope.ru Микеланджело да Караваджо. Обращение Савла по дороге в Дамаск. 1601 год. Гоголь соотносил путь Павла Ивановича Чичикова с путем апостола Павла (по замыслу Гоголя, Чичиков должен был духовно переродиться). Обратите внимание на перевернутое (вниз головой) положение упавшего81. Сравните его с тем положением двойника-антипода, которое принимает, упав, заблудившийся незнакомец в фильме Тарковского «Зеркало» (смотрите мою работу «Сущностная форма»). Обратите внимание и на свалившийся с головы головной убор (шлем) Савла, намекающий на его дальнейшую судьбу (усекновение головы)82. А также на коня (который вообще занимает в картине главное место), чья поднятая над Савлом нога символизирует поразивший героя свет. Конь здесь — мифический зверь (Источник жизни и смерти). В том, что происходит с тройкой Чичиковым дальше, мы видим соединение мотивов «Капитанской дочки» и «Вия». Селифан, подобно Пугачеву, обладает тонким (скажем так: звериным) чутьем, благодаря которому он и определяет расположение жилья83. Кроме того, подобно трем бурсакам, он слышит собачий лай: «Но в это время, казалось, как будто сама судьба решилась над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо Подробнее об этом можно прочесть в книге А. Х. Гольденберга «Архетипы в поэтике Н.В. Гоголя». Гольденберг проводит параллель между мечом апостола Павла (присутствующем на многих изображениях апостола — как символ его мученичества) и саблей, которую возит с собой Чичиков. Мне видится за этим и более общий «архетип» (связанный с двойником-антиподом) — жертвенный нож. 81 82 «Я уж решился, предав себя Божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава Богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай». — А почему мне ехать вправо? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило недалече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды». 83 193 www.russianeurope.ru глаз; от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя ни зги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился тогда только, когда бричка ударилася оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и досягнул туманною струею до забора, указавши нашим дорожным ворота. Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос: — Кто стучит? чего расходились? — Приезжие, матушка, пусти переночевать, — произнес Чичиков. — Вишь ты, какой востроногий, — сказала старуха, — приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор: помещица живет. — Что ж делать, матушка: вишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи. — Да, время темное, нехорошее время, — прибавил Селифан». Переночевать пускают, как и в «Вие», — не сразу, но все же пускают. Спутников Одиссея Цирцея превратила в свиней, у Коробочки же, кажется, собаки были некогда людьми и хотят дать знать об этом приезжим: «Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал Бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно молодого щенка, и все это, наконец, повершал бас, может быть, старик, наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе: тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и 194 www.russianeurope.ru все, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла». Я понимаю, конечно, что здесь шутливое сравнение, а не миф. Однако фигуры речи (сравнение, метафора и другие), пришедшие в речь из мифа, у такого странного писателя, как Гоголь, в миф возвращаются. В собаках здесь запрятаны люди. Затем, в подтверждение, что он находится у Хозяйки зверей, Чичиков видит «картины с какими-то птицами». Подобно ведьме в «Вие», Коробочка сначала не кормит Чичикова: «Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом. — Ничего, ничего, — сказала хозяйка. — В какое это время вас Бог принес! Сумятица и вьюга такая... С дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя». Почему не кормит? Потому что в царстве мертвых живых не кормят (и во время обряда посвящения его участники часто «постились» — ничего не ели несколько дней). Ведь Хозяйка зверей (она же Баба-яга) одновременно есть Хозяйка мертвецов, «мертвых душ». Она же, понятное дело, и Царица ночи («время темное, нехорошее время»). Далее появляются змеи (опять же в виде шутливого сравнения): «Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево». 195 www.russianeurope.ru Надо сказать, что и Медуза Горгона (с ее змеиными волосами) когда-то работала Хозяйкой зверей (сохранились такие древнегреческие изображения, я привожу одно из них в книге «Прыжок через быка»). 196 www.russianeurope.ru Джон Колльер. «Лилит». 1892 год. 197 www.russianeurope.ru Затем следует еще одно сравнение: «— <…> Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи! где так изволил засалиться? — Еще славу Богу, что только засалился, нужно благодарить, что не отломал совсем боков». Это сравнение возвращает нас к мифу о Цирцее, превращающей героя (посвящаемого) в животное, а именно в свинью. Может быть, здесь также кроется намек на суровые испытания (в частности, побои), которым подвергался посвящаемый. Коробочка отдает распоряжение служанке Фетинье насчет постели для Чичикова, а затем и насчет чистки его одежды: «— Слышишь, Фетинья! — сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходившей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбивши ее с обоих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате. — Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как делывали покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько. — Слушаю, сударыня! — говорила Фетинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки. — Ну, вот тебе постель готова, — сказала хозяйка. — Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал. Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого 198 www.russianeurope.ru пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту». Тут два примечательных момента. Во-первых, вполне волшебный вид перины, напоминающий сказку братьев Гримм «Госпожа Метелица» (“Frau Holle84”): «Пришла она к избушке и увидела в окошке старуху, и были у той такие большие зубы85, что стало ей страшно, и она хотела было убежать. Но старуха крикнула ей вслед: — Милое дитятко, ты чего боишься! Оставайся у меня. Если ты будешь хорошо исполнять у меня в доме всякую работу, тебе будет хорошо. Только смотри, стели как следует мне постель и старательно взбивай перину, чтобы перья взлетали, и будет тогда во всем свете идти снег; я — госпожа Метелица». 84 85 «Фрау Холле» происходит от древнескандинавской Хель, повелительницы мира мертвых. Большие зубы — признак богини смерти (и сохранились подобные изображения неолитических богинь). 199 www.russianeurope.ru Иллюстрация Отто Уббелоде (1867 — 1922) к сказке «Госпожа Метелица» Заснув на такой (или, точнее, в такой) перине-стихии (или так: поглощающей его перине), герой проходит сквозь смерть (и тут его уже можно и нужно покормить86). Во-вторых, Коробочка, хотя и не эротична (не похожа на молодую ведьму, на русалку, на Прекрасную Даму), все же не раз предлагает Чичиков прекрасно подкрепился у Коробочки. Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки» пишет (в главе «Напоила-накормила»): «Отметим, что это постоянная, типичная черта яги. Она кормит, угощает героя. <...> приобщившись к еде, назначенной для мертвецов, пришелец окончательно приобщается к миру умерших. Отсюда запрет прикасания к этой пище для живых. Мертвый не только не чувствует отвращения к этой еде, он должен приобщиться к ней, так как подобно тому, как пища живых дает живым физическую силу и бодрость, пища мертвых придает им специфическую волшебную, магическую силу, нужную мертвецам. Требуя еды, герой тем самым показывает, что он не боится этой пищи, что он имеет право на нее, что он «настоящий». Вот почему яга и смиряется при его требовании дать ему поесть». 200 www.russianeurope.ru 86 Чичикову все устроить так, «как делывали покойнику барину», то есть ее мужу. В этом проглядывает какая-то особая связь Чичикова с Коробочкой. Когда Чичиков на следующее утро просыпается, происходит то, с чего мы начали разговор: «…в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе: кто бы это был, и наконец вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало возле него». Важно (с точки зрения обряда посвящения), что с Чичикова было снято, обновлено и вновь на него надето платье. И то, что это платье было соотнесено с платьем покойника (с платьем коробочкиного мужа). Эротическое отношение между Чичиковым и Коробочкой находит отзвук и в разговоре двух дам (просто приятной и приятной во всех отношениях) из девятой главы поэмы: «— Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, если бы вы могли только представить то положение, в котором я находилась, вообразите: приходит ко мне сегодня протопопша — протопопша, отца Кирилы жена — и что бы вы думали: наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а? — Как, неужели он и протопопше строил куры? — Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего; слушайте только, что рассказала протопопша: приехала, говорит, к ней помещица Коробочка, перепуганная и бледная как смерть, и рассказывает, и как рассказывает, послушайте только, совершенный роман: вдруг в глухую полночь, когда все уже спало в доме, раздается в ворота стук, опаснейший, какой только можно себе представить; кричат: "Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота!" Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник? — Да что Коробочка, разве молода и хороша собою? — Ничуть, старуха. 201 www.russianeurope.ru — Ах, прелести! Так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашли в кого влюбиться. — Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина, и требует: "Продайте, говорит, все души, которые умерли". Коробочка отвечает очень резонно, говорит: "Я не могу продать, потому что они мертвые". — "Нет, говорит, они не мертвые, это мое, говорит, дело знать, мертвые ли они, или нет, они не мертвые, не мертвые, кричит, не мертвые"». Это ничего, что Коробочка не молода и не хороша собою. Ведь и ведьма в «Вие» тоже «устарела», а потом вон как все повернулось! «Баба Яга с мужиком, с плешивым стариком скачут пляски». Лубок 202 www.russianeurope.ru Любопытно и то, что из царства Коробочки не так легко выбраться. Это лабиринт, нужна нить Ариадны. Роль Ариадны исполняет девчонка, которую Коробочка предоставляет Чичикову в качестве провожатой: «— Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова, — сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо. — Будет, будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги. — Как же бы это сделать? — сказала хозяйка. — Рассказать-то мудрено, поворотов много; разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила. Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей. — Как не быть. — Пожалуй, я тебе дам девчонку; она у меня знает дорогу, только ты смотри! не завези ее, у меня уже одну завезли купцы. <...> Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж; к тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпают из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине». Да, это подземный лабиринт, в который невольно погрузился, в котором запутался Чичиков. Помните, как он подъезжал к поместью Коробочки? Это уже было похоже на лабиринт: «Но Селифан никак не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо». Причем на лабиринт именно подземный: «Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжелее тащить бричку». Чичиков погружался, нисходил в подземное царство! Теперь же, когда герой выезжает (поднимается), земля (здесь в образе грязи) отпускает 203 www.russianeurope.ru его неохотно. Подземный туннель или лабиринт — обычный и понятный элемент обряда, смысл которого — прохождение через царство смерти. В книге «Исторические корни волшебной сказки» Пропп отмечает, что дом яги символизирует гроб (и потому у нее «нос в потолок врос»). Имя «Коробочка» значит то же, что и имя «Питер Гроб» (Peter Coffin) в романе Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит87». (Любопытно, что роман Мелвилла писался практически в то же время, что и поэма Гоголя. Да и произведение Мелвилла — это скорее поэма, современный эпос. Если у романтиков сказка вторгалась в быль извне, то Гоголь и Мелвилл одновременно совершили великое открытие: они увидели сказку в самой были, то есть увидели мифическую основу обыденной жизни.) В начале романа Мелвилла герой (Измаил), подобно Павлу Ивановичу Чичикову, падает и пачкается, а затем попадает в мир «мертвых душ», в ловушкукоробочку, на «утлое суденышко бедного Павла»: «Что за унылые улицы! По обе стороны тянулись кварталы тьмы, в которых лишь кое-где мерцал свет свечи, словно несомой по черным лабиринтам гробницы. Тогда в последний час последнего дня недели этот конец города казался совсем обезлюдевшим. Но вот я заметил дымную полоску света, падавшего из заманчиво приоткрытой двери какого-то низкого длинного строения. Здание имело весьма запущенный вид, из чего я сразу заключил, что оно предназначено для общественного пользования. Перешагнув порог, я прежде всего упал, споткнувшись о ящик с золой, оставленный в сенях. «Ха-ха, — сказал я себе, едва не задохнувшись в облаке взлетевших частиц праха, — уж не от погибшего ли града Гоморры этот пепел? Там были «Скрещенные гарпуны», потом «Меч-рыба». А сейчас я, наверное, попал в «Ловушку»?» Тем не менее я поднялся с пола и, слыша изнутри громкий голос, толчком отворил вторую дверь. Белый кит — это, конечно, мифическое животное, поглощающее посвящаемых. Белый цвет символизирует невидимость, призрачность, принадлежность к миру «мертвых душ». Белому цвету кита в романе Мелвилла посвящена отдельная глава («О белизне кита») — так сказать, лирическое отступление. 204 www.russianeurope.ru 87 Что это? Заседание черного парламента в преисподней? Ряды черных лиц, числом не менее ста, обернулись, чтобы поглядеть на меня; а за ними в глубине черный ангел смерти за кафедрой колотил рукой по раскрытой книге. Это была негритянская церковь, и проповедник держал речь о том, как черна тьма, в которой раздаются лишь вопли, стоны и скрежет зубовный. «Да, Измаил, — пробормотал я, пятясь к двери, — неприятное развлечение ждало тебя под вывеской „Ловушки“». И я снова пошел по улицам, пока не различил наконец поблизости от пристани какой-то тусклый свет и не уловил в воздухе тихий унылый скрип. Подняв голову, я увидел над дверью раскачивающуюся вывеску, на которой белой краской было изображено нечто, отдаленно напоминающее высокую отвесную струю туманных брызг, а под ней начертаны следующие слова: «Гостиница „Китовый фонтан“, Питер Гроб». «Гроб? Китовый фонтан? Звучит довольно зловеще при данных обстоятельствах», — подумал я. Впрочем, ведь говорят, в Нантакете это распространенная фамилия, и сей Питер, вероятно, просто переселился сюда с острова. Свет оттуда шел такой тусклый, вокруг в этот час все казалось таким спокойным, да и сам этот ветхий деревянный домишко выглядел так, словно его перевезли сюда из погорелого района, и так понищенски убого поскрипывала над ним вывеска, что я понял — именно здесь я смогу найти пристанище себе по карману и наилучший гороховый кофе». Странное это было сооружение — старый дом под островерхой крышей совсем перекосился на один бок, словно несчастный паралитик. Он стоял зажатый в какой-то тесный и мрачный угол, а буйный ветер Евроклидон не переставая завывал вокруг еще яростнее, чем некогда вокруг утлого суденышка бедного Павла». Герой русской сказки о царевне Несмеяне тоже падает в грязь. И падение это вызывает смех царевны88. Вспомним (частично) эту сказку: Порадует королевну грязью и «Дурень Ганс» из одноименной сказки Андерсена: «— Ну, что ты там еще нашел? — спросили братья. — О-о, — сказал Дурень Ганс, — просто и слов не подберешь. То-то королевна обрадуется. 88 205 www.russianeurope.ru «Сам пришел в город; там людей, там дверей! Загляделся, завертелся работник на все стороны, куда идти — не знает. А перед ним стоят царские палаты, сребром-золотом убраты, у окна Несмеяна-царевна сидит и прямо на него глядит. Куда деваться? Затуманилось у него в глазах, нашел на него сон, и упал он прямо в грязь. Откуда ни взялся сом с большим усо́м, за ним жучок-старичок, мышка-стрижка; все прибежали. Ухаживают, ублаживают: мышка платьице снимает, жук сапожки очищает, сом мух отгоняет. Глядела-глядела на их услуги Несмеяна-царевна и засмеялась. «Кто, кто развеселил мою дочь?» — спрашивает царь. Тот говорит: «Я»; другой: «Я». — «Нет! — сказала Несмеяна-царевна. — Вон этот человек!» — и указала на работника. Тотчас его во дворец и стал работник перед царским лицом молодец-молодцом! Царь свое царское слово сдержал; что обещал, то и даровал. Я говорю: не во сне ли это работнику снилось? Заверяют, что нет, истинная правда была, — так надо верить». По Проппу (статья «Ритуальный смех в фольклоре») за образом Несмеяны стоит богиня земли и плодородия. В книге «Проблемы комизма и смеха» (в главе «Обрядовый смех») Пропп пишет: «Смеху приписывалась способность вызывать жизнь в самом буквальном смысле этого слова. Это касалось как жизни человека, так и жизни растительной природы. Очень интересен в этом отношении древнегреческий миф о Деметре и Персефоне. Деметра — богиня плодородия. Аид, бог подземного царства, похищает у нее дочь Персефону. Богиня отправляется ее искать, но не может найти. Она погружается в свое горе и перестает смеяться. От горя богини плодородия на земле прекращается произрастание трав и злаков. Тогда служанка Ямба совершает непристойный жест и тем заставляет богиню смеяться. Со смехом богини природа вновь оживает, на землю возвращается весна. Это один из эпизодов мифа. — Тьфу!.. — сказали братья. — Да это грязь из канавы. — Верно, — сказал Дурень Ганс, — первейшего сорта. На ладони не удержишь, так и ползет. — И он набил себе грязью карман». 206 www.russianeurope.ru Есть множество свидетельств о том, что человеческое мышление никогда не делало различий между плодородием земли и плодовитостью живых существ. Земля в античности воспринималась как женский организм, а урожай — как разрешение от бремени. Фаллические процессии античности возбуждали всеобщий смех и веселье, и этот смех и все, что с ним связано и чем он вызван, должно было воздействовать на урожай. Есть теоретики и историки литературы, которые к таким процессиям возводят происхождение комедии. Концепции о жизнедательной силе смеха прослеживаются не только в античности, но и в других ранних представлениях, относящихся к родовому строю. Древние якуты поклонялись богине родов Ийехсит. Эта богиня навещает рожениц и помогает им тем, что во время родов сильно смеется. Смех у некоторых народов когда-то был обязательным во время обряда посвящения при наступлении половой зрелости, сопровождая момент символического нового рождения посвящаемого. Смех способствовал воскрешению из мертвых. В средние века был распространен так называемый пасхальный смех: на Пасху в католических странах во время церковной службы священник смешил прихожан непристойными шутками, чтобы вызвать у них смех. Религия умирающего и воскресающего божества в своих основах есть религия земледельческая: воскресение божества знаменует воскресение к новой жизни всей природы после зимнего сна. Воскресению природы способствуют разгульные праздники, во время которых допускаются всяческие вольности. В сказочном фольклоре поэтическим отголоском этих представлений служит обряд царевны, от улыбки которой расцветают цветы. То, что сейчас — поэтическая метафора, было некогда предметом веры: улыбка богини земледелия возвращает умершую землю к новой жизни. Апрельские шутки, которые должны вызвать смех, производящиеся только в апреле, весной, когда расцветает вся природа, дожили до сегодняшнего дня. Это 207 www.russianeurope.ru последнее звено некогда имевшей место широкой обрядности, связанной со смехом». По примерам в статье «Ритуальный смех» ясно, что обрядовый смех использовался не только для взаимодействия с богиней плодородия, то есть не только после освоения человеком земледелия, но и ранее — на охотничьем этапе, во времена «Хозяйки зверей»: «Если с вступлением в царство смерти прекращается и запрещается всякий смех, то, наоборот, вступление в жизнь сопровождается смехом. Мало того: если там мы видели запрет смеха, то здесь мы наблюдаем завет смеха, принуждение к смеху. Мышление идет и еще дальше: смеху приписывается способность не только сопровождать жизнь, но и вызывать ее. Раз мы коснулись обряда инициации, мы должны рассмотреть его и с этой стороны. Ужe выше мы говорили, что он плохо известен, так как европейцами он не может наблюдаться. Допущение европейца уже указывает на падение, вырождение его. Косвенным источником для пополнения наших знаний о нем служат мифы. Одна из форм обряда состояла в том, что посвящаемый как бы проглатывался чудовищем и вновь им извергался. Мифов о проглоченных и извергнутых имеется чрезвычайно много. Эти мифы позволяют высказать предположение, что, в то время как пребывание в состоянии смерти сопровождалось запретом смеха, возвращение к жизни, т. е. момент нового рождения, наоборот, сопровождался смехом — может быть, даже обязательным. В индейском мифе два брата проглочены китом. Кит переносит их в другую страну. В брюхе кита так жарко, что они теряют волосы, становятся лысыми. Выходя из кита, каждый видит лысину другого, и оба смеются. Для нас важно, что выход из кита сопровождается смехом, который задним числом рассказчиком мотивирован потерей волос». Обратите также внимание на двойничество (два брата) и на сопутствующие двойничеству признаки (лысину, огонь-жар). Пропп рассказывает и такой случай: 208 www.russianeurope.ru «Это, может быть, поможет нам понять стадиально гораздо более поздний случай, но случай, стоящий на одной линии с затронутыми здесь явлениями, а именно ритуальное символическое убиение двух юношей во время римского празднества луперкалий. Если мальчик, выходя из рыбы, смеется, то это происходит потому, что здесь мы имеем вступление из области смерти в область жизни. «Во время весеннего праздника луперкалий над двумя римскими юношами свершалось символическое убиение и воскрешение. Ножом, опушенным в жертвенную кровь, прикасались к их лбу, затем кровь стиралась шерстью, и юноши, которые таким образом символически были возвращены к жизни, должны были смеяться. <…> Мальчикам на лоб наносилась рана, и, что особенно важно, во время обряда убивали двух козлов». Обратите попутно внимание на то, что двойники — звериные двойники, а также на жертвенный нож и на поражение в голову (столь типичное в ситуации двойничества). Чтобы Несмеяна рассмеялась, герой должен сделать непристойный жест: «Во всех этих случаях супружество не осуществляется, подробнее об этом мы будем говорить ниже. Не обязательно, чтобы оно совершалось на самом деле. Для магии достаточно совершения соответствующего жеста. Так мы поймем жест царевны, показывающей свои приметы, жест Ямбы перед лицом Деметры и еще один жест, известный в мировом фольклоре и также необходимый нам для сравнений, — жест Локи перед лицом Скади в младшей Эдде. В младшей Эдде асы убили отца великанши Скади. Но Скади заключает сними мировую сделку. Первое условие сделки — она выберет себе супруга. Это — одна сторона дела. Другое условие словами Эдды выражено так: «И то еще имела она в своей мировой, что асы должны были то сделать, что, как она полагала, им никогда не удастся, именно 209 www.russianeurope.ru рассмешить ее». Сделать это берется Локи. Он совершает жест фаллического характера89, и Скади смеется». Приведем еще один пример подобного поведения — из сказки Петра Ершова «Конек-Горбунок». Иван проходит обряд инициации (проходит через смерть) — и выходит из него невредимым (возрожденным и преображенным) — с помощью своего звериного двойника. При этом он показывает «царице молодой» свою наготу: Вот и двери растворились; Царь с царицей появились И готовились с крыльца Посмотреть на удальца. "Ну, Ванюша, раздевайся И в котлах, брат, покупайся!" — Царь Ивану закричал. Тут Иван одежду снял, Ничего не отвечая. А царица молодая, Чтоб не видеть наготу, Завернулася в фату. Вот Иван к котлам поднялся, Глянул в них — и зачесался. "Что же ты, Ванюша, стал? — Царь опять ему вскричал. — Исполняй-ка, брат, что должно!" Говорит Иван: "Не можно ль, Ваша милость, приказать «Еще она поставила условием мира, чтобы асы ее рассмешили, а это, думалось ей, им не удастся. Тогда Локи обвязал веревкой козу за бороду, а другим концом — себя за мошонку. То один тянул, то другой, и оба громко кричали. Наконец Локи повалился Скади на колени, тут она и рассмеялась. Тогда между асами и нею был заключен мир». 210 www.russianeurope.ru 89 Горбунка ко мне послать. Я впоследни б с ним простился". Царь, подумав, согласился И изволил приказать Горбунка к нему послать. Тут слуга конька приводит И к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, В те котлы мордой макнул, На Ивана дважды прыснул, Громким посвистом присвистнул. На конька Иван взглянул И в котел тотчас нырнул, Тут в другой, там в третий тоже, И такой он стал пригожий, Что ни в сказке не сказать, Ни пером не написать! Вот он в платье нарядился, Царь-девице поклонился, Осмотрелся, подбодрясь, С важным видом, будто князь. Вот и Чичиков перед Коробочкой — обнажился, а затем нарядился. Хотя Коробочка и не смеялась (смех перешел к Ноздреву, которого Чичиков встречает сразу после Коробочки, — об этом дальше). Интересно, что герой либо «совершает жест фаллического характера», либо он вынуждает обнажиться богиню. Пропп пишет (в статье о ритуальном смехе): «Зато другой мотив, а именно мотив пляшущих свинок, оказался по нашим материалам очень важным для понимания истории Несмеяны. Он чаще 211 www.russianeurope.ru входит в состав другой сказки, обычно называемой «Приметы царевны». Между этими сказками существует настолько близкое родство и по форме и, как будет видно ниже, по общности происхождения, что одна не может быть изучена без другой. Сюжет этой сказки весьма прост. Здесь рука царевны обещана тому, кто узнает ее приметы. При помощи пляшущих свинок герой эту задачу разрешает. За свинку она показывает герою свои приметы90». Подобный же сюжет — в сказке Андерсена «Свинопас», где принцесса расплачивается с героем поцелуями — за «инструмент». Тот же сюжет — в русской сказке «Чудесная дудочка»: «Жил-был мальчик крестьянский, у него была чудесная дудочка да скотины всего одна свинья с тремя поросятами. Выгонит он свинью в поле пасти, сядет на пенечке да заиграет в дудочку. Свинья с поросятами знай пляшет перед ним. Была у царя дочь — прекрасная царевна. Узнала, что у этого-то мальчика свинка с поросятами пляшет, и вздумала купить хоть поросеночков. Приезжает в поле. Мальчик сидит на пенечке, играет в дудочку, а свинья пляшет с поросятами. Говорит царевна: «Продай мне поросяток!» — «У меня они не продажные, а заветные». — «Сколько у тебя завету?» — «Показать свое тело по колена». Царевна показала ему свое белое тело по колена, он ей и отпустил поросяток». Так и в повести «Вий» русалка показывает ножку, при этом имеет место и смех: «Он видел, как из-за осоки выплывала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная из блеска и трепета. Она оборотилась к нему — и вот ее лицо, с глазами светлыми, сверкающими, острыми, с пеньем вторгавшимися в душу, уже приближалось к нему, уже было на поверхности и, задрожав сверкающим смехом, удалялось…» 90 «Это — явный эвфемизм», — замечает Пропп. 212 www.russianeurope.ru «Дудочка» — фаллический символ, но Пропп обращает внимание, что на секс намекает и образ свиньи. Собственно говоря, плодовитая свинья — символ возрождающейся жизни (и потому священное животное Деметры). Свинья присутствует во всех этих сказках, а также в истории Цирцеи91. В виде свиньи (борова) является Коробочке и Чичиков. Пропп пишет: «Мы уже не раз видели тесную связь между образом царевны и Деметрой, как богиней плодородия. Свинья играла большую роль в культе Деметры, как животное, приносящее плодородие. В греческой античности свинья имела связь с брачной жизнью. В расщелину, где, как полагали, обитала Деметра, бросали поросят». Вернемся в третью главу «Мертвых душ». Чичиков подходит к зеркалу — а в это время петух подходит к окну. Глянул в зеркало — и оно тут же превратилось в окно, и увидел он не себя, а петуха. Так происходит встреча со «звериным» двойником-антиподом. Чичиков разговаривает с ним (и, кажется, понимает птичий язык): «Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух — окно же было очень близко от земли — заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно "желаю здравствовать", на что Чичиков сказал ему дурака. Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник; по крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик, или курятник, переграждал дощатый забор, за которым И в «Вие»: «Философ, оставшись один, <…> осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду просунувшуюся из другого хлева любопытную свинью…» 91 213 www.russianeurope.ru тянулись пространные огороды с капустой, луком, картофелем, светлой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах, с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец самой хозяйки». 214 www.russianeurope.ru Этрускская статуя Приапа — прототип огородного чучела (пугала). Здесь хорошо видно, что фаллос — это сам человек. А еще становится ясно, откуда на пугале шляпа. Отметим множественность этого птичьего и звериного царства (покорного Хозяйке зверей): «индейкам и курам не было числа», «косвенными тучами» 215 www.russianeurope.ru перелетают сороки и воробьи. Такая множественность есть частое явление, сопутствующее появлению двойника-антипода. Примечательны и чучелы, особенно то из них, что представляет саму хозяйку (и вместе с тем — мертвеца мужского пола, Кощея — мужскую ипостась Хозяйки зверей). Чучелы отсылают к черепам на шестах, окружавших предназначенный для посвящаемых дом. Эта связь становится очевидной в разговоре Чичикова с Коробочкой о продаже мертвых душ: «— Страм, страм, матушка! просто страм! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто же станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать? — А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся... — возразила старуха, да и не кончила речи, открыта рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет. — Мертвые в хозяйстве! Эк куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли? — С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! — проговорила старуха, крестясь». В книге «Исторические корни волшебной сказки» Пропп так пишет об избушке-мифическом звере: «Избушка, хатка или шалаш — такая же постоянная черта обряда, как и лес. Эта избушка находилась в глубине леса, в глухом и секретном месте. Иногда она специально выстраивалась для этой цели, нередко это делали сами неофиты. Кроме расположения в лесу, можно отметить еще несколько типичных черт ее: она часто имеет вид животного. Особенно часто имеют животный вид двери. Далее, она обнесена забором. На этих заборах иногда выставлены черепа». Сделаем шаг в сторону и сравним с тем, что видит герой повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы»: «Я направил бинокль на дом. Там не заметно было признаков жизни; виднелась разрушенная крыша, длинная стена из глины, поднимающаяся над 216 www.russianeurope.ru травой, три маленьких четырехугольных дыры вместо окон; бинокль все это ко мне приблизил, и я, казалось, мог рукой прикоснуться к дому. Затем я резко повернулся, и один из уцелевших столбов изгороди попал в поле зрения. Вы помните, я вам говорил, что еще издали удивился этой попытке украсить столбы, тогда как дом имел такой запущенный вид. Теперь я всмотрелся и отпрянул, словно мне нанесли удар. Потом стал наводить бинокль на все столбы по очереди и окончательно убедился в своей ошибке. Эти круглые шары были не украшением, но символом, выразительным, загадочным и волнующим, пищей для размышления, а также — для коршунов, если бы таковые парили в небе; и, во всяком случае, они служили пищей для муравьев, не поленившихся подняться на столб. Еще большее впечатление производили бы эти головы на кольях, если бы лица их не были обращены к дому. Только первая голова, какую я разглядел, была повернута лицом в мою сторону. Возмущен я был не так сильно, как, быть может, думаете. Я отшатнулся потому, что был изумлен: я рассчитывал увидеть деревянный шар. Спокойно навел я бинокль на первую замеченную мною голову. Черная, высохшая, с закрытыми веками, она как будто спала на верхушке столба; сморщенные сухие губы слегка раз двинулись, обнажая узкую белую полоску зубов; это лицо улыбалось, улыбалось вечной улыбкой какому-то нескончаемому и веселому сновидению». Да-да, белые зубы и улыбка (то есть смех). Улыбка богини смерти, обнажающая ее зубы92. Итак, Чичиков переродился-переоделся, подобно пастуху в сказке Андерсена «Свинопас»: «А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду — и вот перед ней уже принц в царственном облачении, да такой пригожий, что принцесса невольно сделала реверанс». А вот Марья Тимофеевна Лебядкина из «Бесов» Достоевского: «— Соскучилось, что ли, одному по светелке шагать? — засмеялась она, причем открылись два ряда превосходных зубов ее». Она, как и Ставрогин, «заряжена смехом». Смех Лебядкиной то и дело перекликается со смехом Ставрогина — и контрастирует с ним. 92 217 www.russianeurope.ru Чичиков выходит к завтраку — и следует сцена его основательного кормления Коробочкой. (Так и в сказке бывает — в гостях у яги: «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! Мне в тебя лезть, хлеба есть».) И, конечно, мы слышим деловое предложение о покупке мертвых душ. Поедание разных блюд (в том числе и блинов, которые традиционно входят в меню масленицы и поминок) накладывается на желание присвоить (так сказать, пожрать) мертвые души93. Подчеркивается в разговоре и особая связь героя с Хозяйкой зверей, их как бы родство: «— А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся… приехал в ночное время… — Коробочка, коллежская секретарша. — Покорнейше благодарю. А имя и отчество? — Настасья Петровна. — Настасья Петровна? хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна». И идет это как бы родство, между прочим, по материнской линии, что для сказки является правилом. Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки» пишет: «Мы можем наблюдать следующее: если яга или другая дарительница или обитательница избушки состоит в родстве с кем-нибудь из героев, то она всегда приходится сродни жене или матери героя, но никогда не самому герою или его отцу. В вятской сказке она говорит: "Ах ты дитетко! Ты мне будешь родной племянничек, твоя мамонька сестрица мне будет". «Сестрицу» здесь нельзя понимать буквально. Эти слова в системе иных форм родства означают, что его мать принадлежит к тому родовому объединению, к которому принадлежит сама яга». «Побьется Чичиков с Коробочкой над заключением фантастической сделки, переведет умерших мужиков от Коробочки в свой заветный ящик и садится уписывать блины. Те блины прямое производное операции с мертвецами, список блюд непосредственно следует за списком купленных душ» (Андрей Синявский «В тени Гоголя»). 218 www.russianeurope.ru 93 Коробочка, будучи хозяйкой не только зверей, но и, как всякая Баба-яга, хозяйкой царства мертвых, неохотно расстается со своими мертвецами («А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся…»). Пока Коробочка удаляется, чтобы распорядиться насчет блинов и пирога, Чичиков открывает свою шкатулку и автор подробно знакомит с ней читателя. Чичиков со своей шкатулкой, в которую он складывает списки мертвых душ (а также и другие вещи, например, разные события в виде афишек и билетиков94), есть традиционный черт, собирающий в мешок души грешников. Черт же есть вариант двойника-антипода. Любопытной особенностью поэмы Гоголя является то, что герой, будучи сам вылитым двойником-антиподом, проходит обряд посвящения, цель которого состоит в знакомстве с двойником-антиподом. Черт, понятное дело, тесно связан с Бабой-ягой. В этом смысле любопытно наблюдение Набокова (в работе «Николай Гоголь»), который видит связь между шкатулкой Чичикова и экипажем Коробочки, приезжающей в город: «Внешность и внутреннее устройство коляски описаны с той же дьявольской дотошностью, что и внутренности шкатулки. Вытянутые в длину подушки — это "длинные отделения" в ящичке; всевозможные печенья соответствуют легкомысленным сувенирам, которые хранит Павел Иванович; бумагу для записи приобретенных мертвых душ жутковато символизирует крепостной в пеструшке, а потайное отделение шкатулки, то есть сердце Чичикова, — сама Коробочка». Может быть, это так, может быть, нет. Но то, что попадание Чичикова к «ведьме» Коробочке соответствует попаданию посвящаемого во время обряда в закрытое пространство («коробочку»), символизирующее чрево мифического зверя, это точно так. Такой «коробке» Пропп в книге «…потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память…» 94 219 www.russianeurope.ru «Исторические корни волшебной сказки» посвятил отдельную главу — «Герой в бочке». Он пишет: «Это — мотив героя в бочке, коробке или шлюпке, спущенной на воду. Мотив героя в бочке родственен мотиву героя в рыбе и происходит от него. <...> Бочка — <...> чрево животного, дающего магическую силу». Пропп приводит, в частности, примеры подобной «коробки» из Библии: Ноев ковчег, корзина Моисея. Но и черт может сидеть в коробочке! Например, в сказке Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»: «Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил с красавицы глаз. Пробило двенадцать. И вдруг — щёлк! — раскрылась табакерка. В этой табакерке никогда и не пахло табаком, а сидел в ней маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки, как на пружине, и огляделся кругом». Чичиков с Коробочкой поминают черта — так же, как чертыхались между собой Хома и старуха в «Вие»: «— Ей-Богу, товар такой странный, совсем небывалый! Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта. Черта помещица испугалась необыкновенно. — Ох, не припоминай его, Бог с ним! — вскрикнула она, вся побледнев. — Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то Бог и наслал его. Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих. — Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся…» (Как там у Мелвилла: «Ряды черных лиц, числом не менее ста, обернулись, чтобы поглядеть на меня...») Кстати сказать, во втором томе Чичиков предстает нарядившимся в персидский халат, что роднит его с инфернальными персиянами из «Невского проспекта» и «Портрета»: 220 www.russianeurope.ru «В то самое время, когда Чичиков в персидском новом халате <…> При этом Чичиков надел на голову ермолку, вышитую золотом и бусами, и очутился, как персидский шах, исполненный достоинства и величия». Выехав от Коробочки, Чичиков попадает в трактир, где продолжает есть (уже в четвертой главе поэмы). В частности, он ест поросенка. В романе Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников, выйдя от старухипроцентщицы, попадает в пивную, где «случайно» встречает Мармеладова — и кто бы мог подумать, насколько эта случайная встреча определит его дальнейшую судьбу. В поэме Гоголя Чичиков после Коробочки случайно встречает Ноздрева. После Хозяйки зверей — двойника-антипода. Ноздрев — яркий, типичный двойник-антипод. Он, судя по фамилии, представляет собой Нос, то есть отделившуюся, ставшую самостоятельной часть героя. Не случайно уже в самом начале книги, когда читатель не успел еще даже услышать фамилии героя, нос Чичикова громко дает о себе знать: «В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба». Из «Носа» Гоголя Достоевский потом извлечет своего «Двойника» — подражание гоголевскому сюжету и его развитие. Иногда думаешь: вот, развертывается действие произведения, происходят разные вещи — одна за другой. А приглядишься: ничего на самом-то деле и не происходит, а просто появляется, например, двойник-антипод — и начинает поворачиваться разными своими сторонами, начинает отрабатывать свою роль — прямо по списку своих признаков, типичных действий и сопутствующих явлений (смотрите мою работу «Сущностная форма»). Вместо динамики — статика, картина. Но это «лирическое отступление», вернемся к Ноздреву. Он двойник-антипод Чичикова прежде всего потому, что сыграет роковую роль в его судьбе (наряду, кстати говоря, с Коробочкой, — именно благодаря этим двум персонажам откроется чичиковская афера). 221 www.russianeurope.ru Ноздрев, как и Коробочка, тесно связан с животным миром (собаки95, лошади), он предлагает Чичикову приобрести животных. Если Коробочка — Хозяйка зверей (Цирцея), то Ноздрев — Хозяин зверей (Полифем96). Забавно и жутковато, что он, как и Коробочка, сравнивает Чичикова с боровом: «Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя! Мижуев, смотри, вот судьба свела: ну что он мне или я ему? Он приехал Бог знает откуда, я тоже здесь живу...» Ноздрев фамильярен (тоже свойство двойника: почему бы ему не быть фамильярным, если он и герой — одно лицо?): «Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить "ты", хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода». Сравните с фамильярностью Смердякова (двойника-антипода Ивана Карамазова) в романе Достоевского «Братья Карамазовы»: «Но главное, что раздражило наконец Ивана Федоровича окончательно и вселило в него такое отвращение, — была какая-то отвратительная и особая фамильярность, которую сильно стал выказывать к нему Смердяков, и чем дальше, тем больше». Ноздрев лезет целоваться, обниматься, а затем и драться — и это все признаки двойника-антипода, особенно в таком совмещении: объятие-драка. «Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства; все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собачеев правúлами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву на плеча». 96 В книге «Исторические корни волшебной сказки» Пропп сопоставляет Бабу-ягу и Полифема. Он приводит примеры, как при посещении яги герой лишается пальца (отрезание пальца символизирует расчленение и смерть посвящаемого). Пропп пишет: «Другая ситуация, при которой герой теряет палец, это — пребывание у Полифема и ему подобных. Уже эта деталь заставляет сопоставить ягу и Полифема. Русский Полифем живет в лесу, в загоне, за изгородью. Его одноглазость может быть сопоставлена со слепотой яги. Если герой перед бегством заливает ему глаза оловом, то это может быть сопоставлено с девушкой, залепляющей ведьме глаза тестом. Наконец, подобно яге, Полифем — хозяин животных, но в отличие от лесных животных, которыми распоряжается яга, Полифем разводит овец, коров или коз. В одной из версий герой перекинут Лихом через забор вместе с быком, за которого он ухватился. Чтобы удержать героя, Лихо ("Нужда") бросает ему вслед золотой топор и золотую цепь (вспомним, что и Полифем бросает за Одиссеем камень). Герой — кузнец, он соблазняется. "Кузнец позавидовал, хотел утащить цепь, побоялся и приложил один палец, палец-то и прирос к цепи. Кузнец видит — дело плохо, вынул ножик да и отрезал палец и ушел домой"». 222 www.russianeurope.ru 95 Ноздрев — кутила, то есть связан с алкоголем — так сказать, с «божественной сомой», вызывающей «изменение сознания» («Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского!») Ноздрев — универсальный великий комбинатор, он хочет во все влезть и все перемешать, это трикстер, но только бесплодный, совершенно пустой — такой своего рода негатив Петра Великого: «Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. <…> Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все что ни есть на все, что хотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть: это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера». Мена и игра — признаки двойника-антипода. Он и с Чичиковым садится играть в шашки. А также предлагает поменяться бричками, что вполне заменяет обмен шкурами между двойниками: «Когда ты не хочешь на деньги, так вот что, слушай: я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня, мертвые души, а ты мне дай свою бричку и триста рублей придачи. — Ну вот еще, а я-то в чем поеду? — Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее! Ты ее только перекрасишь, и будет чудо бричка». Ноздрев представляет Чичикову весь мир, он хозяин не только зверей, но и всего мира (такова роль двойника-антипода — приобщение героя к миру в целом). Ноздрев похож на Гермеса — бога границ и пути, покровителя купцов и воров, быстроногого посланника богов и проводника душ умерших: «Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами; он уж в одно мгновенье ока был там…» 223 www.russianeurope.ru «— Вот на этом поле, — сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле, — русаков такая гибель, что земли не видно; я сам своими руками поймал одного за задние ноги. — Ну, русака ты не поймаешь рукою! — заметил зять. — А вот же поймал, нарочно поймал! — отвечал Ноздрев — Теперь я поведу тебя посмотреть, — продолжал он, обращаясь к Чичикову, — границу, где оканчивается моя земля. Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичиков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где бόльшая, а где меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, увидели, точно, границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва. — Вот граница! — сказал Ноздрев. — Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, которым вон синеет, и все, что за лесом, все мое». Здесь любопытно и то, что Ноздрев заводит Чичикова в поле — и в грязь, чем опять же выдает свое коренное родство с Коробочкой. На следующее утро Чичиков встречается с Ноздревым — и мы видим их обоих в халатах, а халат — типичная одежда двойника, его звериная шкура — и вместе с тем знак его вольности: «Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате, с трубкою в зубах». Коробочка не смеялась, зато Ноздрев любит это дело (вот куда перешел смех!): 224 www.russianeurope.ru «Здесь Ноздрей захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, а сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: "Эк его разобрало!" — Что ж тут смешного? — сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом. Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая: — Ой, пощади, право, тресну со смеху!» И позже, на губернаторском балу: «— А, херсонский помещик, херсонский помещик! — кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие, румяные, как весенняя роза, щеки. — Что? много наторговал мертвых?» В этих двух примерах бросается в глаза внешность Ноздрева. Это, пожалуй, самое интересное, об этом и поговорим. Вот каким встречает Ноздрева Чичиков: «…вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его». Совершенно очевидно, что перед нами упырь — то есть напившийся крови мертвец, который всеми силами пытается выглядеть живым человеком — и оттого «переигрывающий»97. И зубы обычно особо выделены, что вполне логично. Сравните с другим таким упырем — с Ламбертом из романа Достоевского «Подросток»: Гольденберг в книге «Архетипы в поэтике Н. В. Гоголя» сопоставляет облик Ноздрева с внешностью «молодца» в величальной свадебной песне: «У тебя же, у молодца, / У тебя лицо белое, / Примени к снегу белому! / У тебя брови черные, / Как у черного соболя, / У тебя щечки алые, / Поалей маку алого…». Ноздрев имеет отношение к свадьбе, поскольку он потом скажет, что помогал Чичикову устроить похищение губернаторской дочки. Это так. Но ведь и двойник-антипод имеет отношение к свадьбе (точнее, к сексу)! Так гениально совпали у Гоголя образы жениха (или дружки жениха) — и вампира. 225 www.russianeurope.ru 97 «Волосы у него были черные ужасно, лицо белое и румяное, как на маске, нос длинный, с горбом, как у французов, зубы белые, глаза черные». Из того же племени и Ставрогин98 в романе Достоевского «Бесы»: «Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые, — казалось бы, писаный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили, что лицо его напоминает маску…» Кадр из фильма Анджея Вайды «Бесы» (1988). Как видите, Ставрогин здесь — вампир, Дракула (и это сделано сознательно — он похож на классического Дракулу старых фильмов). Кровь на губе — от только что нанесенного Шатовым удара (а не от кровопийства99). Но и у Достоевского окровавленный рот и шатающийся (а потом окрепший) зуб Ставрогина не Интересно, что Шатов в разговоре со Ставрогиным и в самом деле (хотя и мельком) сравнивает того с Ноздревым. 99 «И это Ставрогин, «кровопийца Ставрогин», как называет вас здесь одна дама, которая в вас влюблена!» 226 www.russianeurope.ru 98 случайны. Жаль только, что в фильме у Ставрогина нет приличного румянца (режиссер пошел по накатанной дороге и сделал традиционного Дракулу). Сравните с описанием вампирши из романа Брэма Стокера «Дракула»: «В гробу лежала Люси, точь-в-точь такая же, какой мы видели ее накануне похорон. Она, казалось, была еще прекраснее, чем обыкновенно, и мне никак не верилось, что она умерла. Губы ее были пунцового цвета, даже более яркого, чем раньше, а на щеках играл нежный румянец. — Что это — колдовство? — спросил я. — Вы убедились теперь? — сказал профессор в ответ; при этом он протянул руку, отогнул мертвые губы и показал мне белые зубы. Я содрогнулся». Вернемся к Чичикову, временно ускользнувшему от Ноздрева. Дальнейшее наметим совсем пунктирно. После Коробочки (Хозяйки зверей, Цирцеи) Чичиков встречает Ноздрева (двойник-антипода), после Ноздрева — губернаторскую дочку (опять Цирцею, Прекрасную Даму), после губернаторской дочки приезжает к Собакевичу (к медведю, то есть звериному двойнику, двойнику-антиподу). Здесь интересная симметрия100. Примечательно, что именно с очарованности губернаторской дочкой и началось падение (общественное) Чичикова. А также то, что потом пошли слухи, будто Ноздрев собирался помочь Чичикову ее похитить (что сам Ноздрев с удовольствием подтвердил). Губернаторская дочка — такое же «виденье» для Чичикова («хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то Бричка Чичикова налетела на коляску, в которой ехала губернаторша с красавицей дочкой, упряжи перепутались. Тут еще на сцену выходят «пустые двойники»: дядя Митяй и дядя Миняй, которые, пытаясь помочь распутать, пересаживаются с лошади на лошадь. Тоже симметрия. Причем перепутались не только упряжи, и сами лошади встали крест-накрест (мы опять в зверином мире): «Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал то же, лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись, переступивши постромки. При этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами, и, положивши свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами». 227 www.russianeurope.ru 100 похожее на виденье»), как белеющая в воде русалка для Хомы Брута. Вот какой, например, Чичиков видит ее на балу у губернатора: «Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы». Если ведьме-старухе (Коробочке) Чичиков показывает нагого себя, то молодой ведьме, русалке (губернаторской дочке) он показывает Ноздрева. Это одно и то же, поскольку Ноздрев — двойник-антипод. И правы те, кто увидел в Носе фаллос101 майора Ковалева. 101 В работе «Одиссей, или День Сурка» мы в том же духе разбирали сценку появления Одиссея перед Навсикаей. Герой, кстати сказать, прежде чем предстать перед Прекрасной Дамой, вывалялся — пусть не в грязи, но в куче опавших листьев: «Груду увидя, обрадован был Одиссей несказанно. / Бросясь в нее, он совсем закопался в слежавшихся листьях». 228 www.russianeurope.ru «Гермес Пропилей (Привратный)», герма, приписываемая Алкамену (V век до н. э.) Чичиков пытается развеселить свою даму — и появляется Ноздрев: 229 www.russianeurope.ru «А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность: в то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историйки, и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев». Результатом стало падение, перекликающееся с падением в грязь перед посещением Коробочки («Он стал чувствовать себя неловко, неладно: точьточь как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную, вонючую лужу…) Вернемся к симметрии. Ее можно раздвинуть: начинает Чичиков путь с Манилова, а заканчивает Плюшкиным. Манилов похож на утро или на «утро жизни» (хотя и туманное, тусклое), а Плюшкин — на безрадостный вечер. (Героя сначала что-то манило, а потом он — плюх!) Манилов, как и Чичиков, прожектер (пусть Манилов — пустой мечтатель, но и у Чичикова ведь ничего не выйдет), а Плюшкин, как и Чичиков, собиратель и приобретатель (тотальное архивирование — одно из свойств двойника-антипода). Вещи Плюшкина напоминают мне один кадр из фильма Тарковского «Сталкер» — там, где камера скользит по покоящимся под водой предметам: «На бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множества всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов». Плюшкин интересен и своей андрогинностью («Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик» — сравните с переодеванием 230 www.russianeurope.ru распорядителей обряда посвящения в женскую одежду102), а также халатом, превратившимся в нищенские отрепья (и халат, и порванная одежда, и нищенский вид — признаки двойника антипода, здесь же — «три в одном»): «Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано чтото такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош». Манилов же, получив предложение о продаже Чичикову мертвых душ, образует с главным героем живую (и в то же время неживую, застывшую) картинку «сущностной формы»: «Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала». Герой ↔ источник жизни (здесь представленный зеркалом) ↔ двойникантипод. Симметрию можно раздвинуть и еще дальше, прибавя в начало схемы того молодого человека, который встретился Чичикову в самом начале поэмы, при Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки», в главе «Травестизм» пишет по этому поводу: «В большинстве случаев записавшие или описывающие этот обряд путешественники или исследователи ничего не говорят о том, чтобы распорядителями обряда были женщины. Но в некоторых случаях мы видим, что здесь играли роль мужчины, переодетые в женщин. По другим свидетельствам все члены союзов (т. е. мужских союзов, для вступления в которые проводился обряд посвящения. — И.Ф.) имели одну общую мать — старуху. Рассмотрим некоторые относящиеся сюда случаи. Неверман описывает начало обряда в бывшей Нидерландской Новой Гвинее у племени маринд-аним следующим образом: "Мужчины, переодетые старухами, с женскими передниками, пестро раскрашенные и с клыками над ртом в знак того, что им нельзя говорить, приблизились к майо-аним (т. е. посвящаемым). Последние обхватили шеи «праматерей» и те стали тащить их в потаенное место. Здесь они сбрасывались на землю и прикидывались спящими". Мы имеем не что иное, как мимическое изображение похищения в лес старухой-женщиной». 231 www.russianeurope.ru 102 въезде в город, а в конец схемы — умершего прокурора, похоронная процессия которого преграждает дорогу при выезде Чичикова из города — в самом конце поэмы. Тоже в некотором смысле двойники. Прокурор не только вместе с Чичиковым покидает город (причем вполне по-двойнически — умирая), но и обладает таким двойническим свойством, как подмигивание («...встретил <...> прокурора с весьма черными густыми бровями и с несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: "Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу"»). Не случайна и неустойчивость головного убора молодого человека («Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой»). Вспомним другой неустойчивый головной убор у Гоголя — в его произведении «Рим», сюжет которого образует неожиданная встреча героя (князя) с Прекрасной Дамой (Аннунциатой): «…народное движение сбило с него шляпу, которую он теперь бросился подымать. Поднявши шляпу, он поднял вместе и глаза, и остолбенел: перед ним стояла неслыханная красавица. Она была в сияющем альбанском наряде в ряду двух других тоже прекрасных женщин, которые были пред ней как ночь пред днем. Это было чудо в высшей степени. Всё должно было померкнуть пред этим блеском. Глядя на нее, становилось ясно, почему италиянские поэты и сравнивают красавиц с солнцем. Это именно было солнце, полная красота. Всё, что рассыпалось и блистает поодиночке в красавицах мира, всё это собралось сюда вместе103». Ну упала шляпа, подумаешь! Однако свалившийся головной убор — вполне сказочный элемент сюжета. Например, в сказке «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» из собрания Афанасьева мы читаем: «Шел-шел и сильно уморился; прибились его ноги скорые, опустились руки белые. «Эх, — говорит, — Шмат-разум! Если б ты ведал, как я устал; Аннунциата предстает здесь ожившей статуей (что нередко случается с Хозяйкой зверей). В самом начале «Рима» о ней говорится: «Всё напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы». 103 232 www.russianeurope.ru просто ноги отымаются». — «Что ж ты мне давно не скажешь? Я б тебя живо на место доставил». Тотчас подхватило стрельца буйным вихрем и понесло по воздуху так шибко, что с головы шапка свалилась. «Эй, Шматразум! Постой на минутку, моя шапка свалилась». — «Поздно, сударь, хватился! Твоя шапка теперь за пять тысяч верст назади». Города и деревни, реки и леса так и мелькают перед глазами...» В этом отрывке сказки примечательны также полет героя и открывающийся ему «вид с птичьего полета», о чем речь впереди. Но что-то очень гоголевское вы уже, наверное, ощущаете в последнем предложении... Упавшая шляпа князя свидетельствует о том, что двойник-антипод близок (в сказке это был Шмат-разум — кстати сказать, невидимка, что является одним из двойнических признаков). Шляпа выражает как падение, так и обезглавливание. Ее, собственно говоря, сбивает с князя толпа, теснящаяся вслед за шагающим на ходулях человеком: «Внимание толпы занял какой-то смельчак, шагавший на ходулях вравне с домами, рискуя всякую минуту быть сбитым с ног и грохнуться насмерть о мостовую. Но об этом, кажется, у него не было забот. Он тащил на плечах чучело великана…» Так уже появляется некая фигура-Тень, предвещающая двойника-антипода и внушающая герою идею падения и смерти. Затем падает шляпа, затем князь видит Аннунциату, затем он поручает разыскать Прекрасную Даму Пеппе — своему двойнику-антиподу (вот он, появился!). Пеппе — опустившийся бедняк, выполняющий разные мелкие поручения (как и положено Гермесу или Мефистофелю). А еще он — игрок: «…то вдруг определялся слугой у какого-нибудь иностранца, то был на посылках у адвоката, то являлся убирателем студии какого-нибудь художника, то сторожем виноградника или виллы, и по мере того изменялся на нем беспрестанно костюм. <> Часто ему перепадали порядочные деньги, но деньгами он распоряжался по-римски, то есть на завтра никогда почти 233 www.russianeurope.ru их не ставало, не потому чтобы он тратил на себя или проедал, но потому что всё у него шло на лотерею, до которой был он страшный охотник». Пеппе — тоже Нос (то бишь фаллос, которым герой ищет Прекрасную Даму), причем нос его таже является жертвенным ножом: «В это время выглянул из перекрестного переулка огромный запачканный нос и, как большой топор, повиснул над показавшимися вслед за ним губами и всем лицом. Это был сам Пеппе». Все эти встречи происходят, конечно, во время карнавала — и как князь, так и Пеппе оказываются обсыпанными мукой (что подчеркивает их двойничество): «— Вот я, eccelenza, вот! сказал Пеппе, снимая шапку. Он, как видно, уже успел попробовать карнавала. Его откуда-нибудь сбоку хватило сильно мукою. Весь бок и спина были у него выбелены совершенно, шляпа изломана, и всё лицо было убито белыми гвоздями». Из-за муки-то герой и покинул карнавал, прервав свое созерцание Аннунциаты: «Его пробудил крик: пред ним остановилась громадная телега. Толпа находившихся в ней масок в розовых блузах, назвав его по имени, принялась качать в него мукой, сопровождая одним длинным восклицаньем: у, у, у… И в одну минуту с ног до головы был он обсыпан белою пылью, при громком смехе всех обступивших его соседей. Весь белый, как снег, даже с белыми ресницами, князь побежал наскоро домой переодеться». Любопытна и толпа масок, называющая князя по имени — обычное явление множественности (умноженного двойника-антипода) при реализации «сущностной формы». Но вы опять меня отвлекли, вернемся к «Мертвым душам». Оканчивается поэма описанием падения Люцифера — «молнией, сброшенной с неба» (хотел этого Гоголь или нет): «И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух. 234 www.russianeurope.ru Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? <…> Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства». С одной стороны, полет есть синоним падения, знак чертовщины. Люди не летают, летают лишь черти и ведьмы104. (И так бывает: кто-то падает — а стоящие вокруг испуганно сторонятся. Дают ему, так сказать, дорогу.) С другой стороны, в сказке такой чудо-полет — необходимейший элемент, без него — никуда. Так, например, происходит в «Вие»: «Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух». Полет самого Хомы (с оседлавшей его ведьмой) свидетельствует о том же. 235 www.russianeurope.ru 104 Виктор Васнецов. «Баба-яга». 1917 год Герой, пройдя через избушку Бабы-яги, летит затем в «тридевятое царство» — в другой мир. Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки» пишет об этом следующее: «Что же здесь происходит? Почему нужно избушку повернуть? Почему нельзя войти просто? Часто перед Иваном гладкая стена — "без окон без дверей" — вход с противоположной стороны. "У этой избушки ни окон, ни дверей, — ничего нет". Но отчего же не обойти избушки и не войти с той стороны? Очевидно, этого нельзя. Очевидно, избушка стоит на какой-то такой видимой или невидимой грани, через которую Иван никак не может перешагнуть. Попасть на эту грань можно только через, сквозь избушку, и избушку нужно повернуть, "чтобы мне зайти и выйти". Здесь интересно будет привести одну деталь из американского мифа. Герой хочет пройти мимо дерева. Но оно качается и не пускает его. "Тогда он 236 www.russianeurope.ru попытался обойти его. Это было невозможно. Ему нужно было пройти сквозь дерево". Герой пробует пройти под деревом, но оно опускается. Тогда герой с разбега пускается прямо на дерево, и оно разбивается, а сам герой в ту же минуту превращается в легкое перо, летающее по воздуху. Мы увидим, что и наш герой из избушки не выходит, а вылетает или на коне, или на орле, или превратившись в орла». Пройдя через избушку Коробочки, Чичиков летит на «птице тройке» — в потустороннем мире, в царстве теней, обозревая мир мертвых душ. (Из этого, кстати, становится понятно, почему Гоголь так часто — и, казалось бы, некстати — употребляет слово «русский», вообще нередко заговаривает о чем-либо «русском». В сказке «русский» означает «живой». Гоголь ведет речь с позиции мертвеца, смотрит мертвым взглядом — взглядом своего героя105.) Коробочка — «Хозяйка зверей», но особенно она — «Хозяйка птиц». Пропп показывает, что крылатый конь — это более поздний вариант волшебной птицы (например, орла), на котором герой попадает в иной мир. Конь этот — огненный (как, кстати сказать, и Люцифер — «молния»), это конь-огонь (отсюда древнеиндийский конь Агни106, колесница Илии Пророка). Полет амбивалентен, лететь может как огненный черт, так и огненный бог. Это полет шамана, впустившего в себя огонь. Пропп в связи с этим замечает: «...роль посредника между двумя мирами может играть не только божество (это уже знак поздней культуры, какой и является культура ведической религии), но и шаман. Шаман также действует при помощи огня. Штернберг описывает камлание, виденное им самим107. "Если бес 105 Когда в сказках говорится: «Русским духом пахнет!», это означает, что слышен запах человека, то есть запах, непривычный для Бабы-яги или Кощея Бессмертного. 106 «Вот как Ольденберг описывает церемонию возжигания священного коня: "Старший жрец приказывает одному из подчиненных жрецов: "Приведи коня". Конь стоит около того места, на котором должно происходить трение огня, так, чтобы он взирал на процесс трения… Нет никакого сомнения, что конь есть не что иное, как воплощение Агни". Здесь конь взирает на трение, но в ведических гимнах он добывается из огнива: "Агни, которого новорожденным произвели путем трения две палочки" (Ригведа). Агни не только по очень многим деталям, но и по существу, по своей основной функции совпадает с конем. Он — богпосредник ("вестник") между двумя мирами, в огне отводящий умерших в поднебесье». 107 Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. 237 www.russianeurope.ru больного упорно не хочет уходить, то шаман призывает особого духа, который обращается в огненный шар и забирается в брюхо шамана, а оттуда во все самые отдаленные части его тела, так что шаман во время сеанса выпускает огонь изо рта, из носа, из любой части тела". Этот случай показывает, что выпускание огня из рта, глаз, ушей и т. д. вовсе не есть нечто, свойственное только сказке». В повести Гоголя «Невский проспект» полет-падение (в восприятии главного героя — художника Пискарева) вызван роковой встречей с «Прекрасной Дамой»: «…не упускал из виду ни одного шага незнакомки. Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише; красавица оглянулась, и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки; нет, это собственные мечты смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, всё в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели и всё перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И всё это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки». Так в начале истории, а оканчивается повесть следующими словами: «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде». 238 www.russianeurope.ru Вот и в «Мертвых душах» все кончается падением Люцифера и обманом, что было уже предвосхищено встречей брички Чичикова с экипажем губернаторской дочки: «Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на виденье, и опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных и неопрятно-плесневеющих низменных рядов ее, или среди однообразнохладных и скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, не похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде поперек каким бы ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и так же скрылась». Примечательно, что конце первого тома «Мертвых душ» мы видим полет, «птицу тройку», второй же том начинается с вида необозримого пространства: «Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. От изумленья у него захватывало в груди дух, и он только вскрикивал: "Господи, как здесь просторно!" Без конца, без пределов открывались пространства». 239 www.russianeurope.ru Так сибирский шаман становится пернатым и отправляется в «магический полет» (временно умирая как человек), чтобы затем видеть всё — всю землю. Вот что, например, рассказывает один якутский шаман (в книге Г. В. Ксенофонтова «Легенды и рассказы о шаманах у якутов, бурятов и тунгусов»): «Бог Грома спустился с небес и разнес меня на маленькие кусочки <…> Теперь я вернулся обратно к жизни шаманом, и я могу видеть все, что делается в округе на расстоянии в тридцать верст». Гоголь также, видимо, обладал подобной сверхчеловеческой способностью. В повести «Страшная месть» мы, например, читаем: «За Киевом показалось неслыханное чудо. Все паны и гетьманы собирались дивиться сему чуду: вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш. По левую руку видна была земля Галичская. — А то что такое? — допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся на небе и больше похожие на облака серые и белые верхи. — То Карпатские горы! — говорили старые люди, — меж ними есть такие, с которых век не сходит снег, а тучи пристают и ночуют там. Тут показалось новое диво: облака слетели с самой высокой горы, и на вершине ее показался во всей рыцарской сбруе человек на коне, с закрытыми очами, и так виден, как бы стоял вблизи». Полетом тройки (предвещающим концовку первого тома «Мертвых душ») и широкой, невозможной (во времена Гоголя) для человеческого глаза картиной земли заканчивается повесть «Записки сумасшедшего»: «Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с 240 www.russianeurope.ru темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!» При помощи своего сверхчеловеческого дара Гоголь видит и «Русь» в первом томе «Мертвых душ» — причем любопытно, что «Русь» тоже видит Гоголя, смотрит на него и чего-то от него хочет: «... Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу… <…> Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи108?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..» Жуть какая! Гоголю ничего не было известно о сибирском шаманизме. Однако он — по одной природе своей! — был самым настоящим сибирским шаманом — «истинным чародеем» (по выражению Белинского). Чего стоит, например, его «перевернутый вверх ногами желудок» (именно на такое состояние своего желудка он жаловался)! И последние слова Гоголя перед смертью были вполне словами шамана: «Лестницу, поскорее, давай Сравните с тем, что пишет Гоголь в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» о поэзии Державина: «Дико, громадно все; но где только помогла ему сила вдохновенья, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами глядит он». И сравните этот встречный множественный взгляд «предмета» с глазами, глядящими на художника Чарткова в повести «Портрет»: «…все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз». И со словами Рильке в стихотворении «Архаический торс Аполлона»: «…ведь здесь нет ни единого места, которое бы тебя не видело». 241 www.russianeurope.ru 108 лестницу!» По лестнице «Мирового Древа» шаман восходит на небо (чтобы выручить там душу больного или чтобы отвести душу умершего в загробный мир). Послушайте, что говорит Пропп по этому поводу: «Сходное происхождение имеет мотив дерева, по которому попадают на небо. "Взял он мешок и полез на дуб. Лез, лез и взобрался на небо". Здесь русская сказка отражает широкое представление, что два мира (а иногда и три — подземный, земной и небесный) соединены деревом. Этому представлению посвящена VII глава работы Штернберга о культе орла у сибирских народов. Самое интересное для нас то, что представление о дереве-посреднике связано с представлением о птице. У якутов каждый шаман имеет "шаманское дерево", т. е. высокий шест с перекладинами наподобие лестницы и с изображением орла на вершине. Это дерево связано с посвящением в шаманы. "Поразительно, — пишет Штернберг, — что у бурят центральный момент посвящения в шаманы — это восхождение на особо воздвигнутое дерево, причем происходит его высшее приобщение к божествам путем бракосочетания с небесной девой… Такое же дерево поменьше воздвигается в его юрте. На нагруднике орочского шамана изображены три мира — верхний, средний и нижний. На нем фигурирует мировое дерево — лиственница, по которой шаман взбирается в верхний мир. Падение шамана с этого дерева вниз повлечет за собой гибель всего мира". Штернберг исследует название этого дерева у разных сибирских народов и приходит к заключению, что оно означает "дорога"». Разве это не похоже на гоголевский замысел его трехтомной поэмы? 242 www.russianeurope.ru Сибирский шаман с бубном, на котором изображено Мировое Древо. Бубен — символ небесной жены шамана. Кстати, насчет «небесной жены» шамана, вот рассказ одного шамана из книги Штернберга (судите сами, насколько это соотносится с нашей темой и с приведенными выше текстами): «Однажды во время болезни, когда я спал, явился ко мне дух. То была маленькая, всего в поларшина ростом, очень красивая женщина. Лицом и по одежде совсем наша женщина — гольдка109. Волосы до плеч, черные, косы маленькие. Другие шаманы рассказывают, что к ним являются женщины, у которых половина лица черная, другая — красная. Она сказала: — Я — ajami твоих предков-шаманов. Я их учила шаманить. Теперь тебя буду учить. Старые шаманы поумирали, некому стало людей лечить. Ты должен стать шаманом. Потом сказала: — Я люблю тебя, мужа нет у меня теперь, ты будешь моим мужем, я — твоей женой. Будем спать вместе. Я дам тебе 109 Гольды — устаревшее название нанайцев. 243 www.russianeurope.ru духов-помощников, с их помощью лечить будешь, и сама тебя учить и помогать тебе буду. Люди кормить нас будут. Я испугался, стал отказываться. Тогда она сказала: — Если не послушаешься меня, тебе плохо будет, убью тебя! С тех пор она стала приходить ко мне, и я сплю с ней, как с собственной женой, но детей у нас нет. Живет она одиноко, без сородичей, в юрте на горе, но часто меняет свое местопребывание. Иногда она является в виде старухи, иногда в виде волка, смотреть страшно! Иногда в виде крылатого тигра, я сажусь на него, и он возит меня, чтобы показать разные страны». С Гоголем (и с Чичиковым) в «Мертвых душах» происходит то же, что с Хомой Брутом в «Вие» — встреча с Прекрасной Дамой, затем полет и всеохватывающее видение дали, в свою очередь смотрящей на него бесчисленными глазами: «Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все, казалось, как будто спало с открытыми глазами». Подобное мы наблюдаем и в повести «Тарас Бульба». Андрию в мечтах является «Прекрасная Дама», вполне похожая на русалку из «Вия»: «Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его; он, слушая философические диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Пред ним беспрерывно мелькали ее сверкающие, упругие перси, нежная, прекрасная, вся обнаженная рука; самое платье, облипавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов, дышало в мечтах его какимто невыразимым сладострастием». Затем Андрий встречает красавицу110. При этом он падает в грязь (да, как Чичиков!) — и тем самым ее смешит111: Примечательно, что «Прекрасная Дама» Андрия позже (в осажденным городе) предстанет ожившей картиной или статуей: «…теперь это было произведение, которому художник дал последний удар кисти». «На миг остолбенев, как прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала…» 111 Русалка в «Вие» тоже смеется: «Она вся дрожит и смеется в воде...» Панночка позже (в осажденным городе), подобно русалке, словно выплывает из воды перед Андрием: «Опять вынырнула перед ним, как из 244 www.russianeurope.ru 110 «Один раз, когда он зазевался, наехала почти на него колымага какого-то польского пана, и сидевший на козлах возница с престрашными усами хлыснул его довольно исправно бичом. Молодой бурсак вскипел: с безумною смелостию схватил он мощною рукою своею за заднее колесо и остановил колымагу. Но кучер, опасаясь разделки, ударил по лошадям, они рванули — и Андрий, к счастию успевший отхватить руку, шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь. Самый звонкий и гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую у окна красавицу, какой еще не видывал отроду: черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, которою еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая толпою, в богатом убранстве, стояла за воротами, окружив игравшего молодого бандуриста. Но дворня подняла смех, увидевши его запачканную рожу, и не удостоила его ответом». Это падение Андрия, казалось бы, не очень серьезно, но оно предвещает другое его падение — когда он упадет, убитый отцом: «Как хлебный колос, подрезанный серпом, как молодой барашек, почуявший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву, не сказавши ни одного слова». Иногда, кстати сказать, такое падение главного героя оттеняется падением какого-либо второстепенного персонажа, как-то связывающего героя с его двойником-антиподом или его Прекрасной Дамой: «Один молодой полковник, живая, горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обворожившей бедного Андрия, не подумал долго и бросился со всех сил с конем за козаками: перевернулся три раза в воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утесы. В куски изорвали его острые камни, темной морской пучины, гордая женщина. Вновь сверкнули в его памяти прекрасные руки, очи, смеющиеся уста, густые темно-ореховые волосы, курчаво распавшиеся по грудям, и все упругие, в согласном сочетанье созданные члены девического стана». 245 www.russianeurope.ru пропавшего среди пропасти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрызгал росшие по неровным стенам провала кусты». Подобное же падение (и тоже «брата»!) происходит в повести «Портрет» (первой редакции): «Дверь в мастерской была несколько растворена; я как-то нечаянно заглянул в отверстие, видел, что отец мой придвинулся ближе к священнику, и услышал даже, как он сказал ему: "Наконец я открою всю эту тайну"... Вдруг мгновенный крик заставил меня оборотиться: брата моего не было. Я подошел к окну и, — Боже! я никогда не могу забыть этого происшествия: на мостовой лежал облитый кровью труп моего брата. Играя, он, верно, как-нибудь неосторожно перегнулся чрез окошко и упал, без сомнения, головою вниз, потому что она вся была размозжена». Вернемся к Андрию. Панночка и падение в грязь вспоминаются ему, пока он с отцом Тарасом и братом Остапом едет в Сечь (опять, кстати сказать, тройка — обычная фольклорная троичность, представляющая собой отражение «сущностной формы»). Затем следует полет этой тройки, который вполне параллелен полету «птицы тройки» в «Мертвых душах»: «А между тем степь уже давно приняла их всех в свои зеленые объятия, и высокая трава, обступивши, скрыла их, и только козачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями. — Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли? — сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости. — Как будто какие-нибудь чернецы! Ну, разом все думки к нечистому! Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами! И козаки, принагнувшись к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть; одна только струя сжимаемой травы показывала след их быстрого бега». Сравните: «И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух» («Мертвые души»). «Видит ли он это или не видит? Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка: звенит, звенит, и вьется, и подступает, и 246 www.russianeurope.ru вонзается в душу какою-то нестерпимою трелью...» («Вий»). Бег-полет сверлит воздух, сжимает и превращает в струю траву, ветром или музыкой «вонзается в душу». И сразу после этого в «Вие» мы читаем: «"Что это?" — думал философ Хома Брут, глядя вниз, несясь во всю прыть. Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение». Итак, полет Люцифера и в «Тарасе Бульбе». И полет тут же дает всеобъемлющее, нечеловеческое, шаманское видение. И, как в «Страшной мести», «вдруг стало видимо далеко во все концы света» — стала видима вся степь, вся Новороссия — «до самого Черного моря»: «Солнце выглянуло давно на расчищенном небе и живительным, теплотворным светом своим облило степь. Все, что смутно и сонно было на душе у козаков, вмиг слетело; сердца их встрепенулись, как птицы. Степь чем далее, тем становилась прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою, девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волошки; желтый дров выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный Бог знает откуда колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву. Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался Бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих 247 www.russianeurope.ru волнах воздуха. Вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою. Вон она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем… Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..» Обратите внимание на различные проявления множественности, особенно на: «Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов». А также на «Воздух был наполнен тысячью разных птичьих свистов». Затем настает ночь — и опять эта множественность, проступающая из стихии. Одушевленный мир глядит на человека множеством глаз, говорит с ним множеством голосов: «Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотанье, — все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем воздухе и убаюкивало дремлющий слух. Если же кто-нибудь из них подымался и вставал на время, то ему представлялась степь усеянною блестящими искрами светящихся червей». В связи с полетом и открывающимся в результате этого полета кругозором намечается еще одна тема, которую я здесь не стану разворачивать112: тема времени и пространства у Гоголя. Звучит банально, однако фокус в том, что у Гоголя время (движение) переходит в пространство (картину), застывает пейзажем. И это не просто какая-то индивидуальная черта Гоголя-писателя, это удивительное прозрение Гоголя-культуролога в строение и ход его эпохи. Поговорим еще о гоголевском «у!» («И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль!») Это «у» мы уже слышали в «Риме» («Его пробудил крик: пред ним остановилась громадная телега. Толпа находившихся в ней масок в розовых блузах, назвав его по имени, принялась качать в него мукой, сопровождая одним длинным восклицаньем: у, у, у…»). Гоголевское «у!» аукнется потом в повести Томаса Манна «Смерть в Венеции», где герой (стареющий писатель 112 Смотрите мои работы «Весь горизонт в огне» и «Горячие и холодные эпохи русской поэзии». 248 www.russianeurope.ru Ашенбах) услышит его сперва в имени мальчика (в которого он влюблен), а затем — в своем видении шабаша: «Море, вероятно, и там было мелкое, но на берегу уже встревожились, из кабинок стали раздаваться женские голоса, выкрикивавшие его имя, и оно заполнило все взморье мягкими своими согласными с протяжным "у" на конце, имя, сладостное и дикое в то же время: "Тадзиу! Тадзиу!"» <…> «Стояла ночь, и чувства его были насторожены, ибо издалека близился топот, гудение, смешанный шум: стук, скаканье, глухие раскаты, пронзительные вскрики и вой — протяжное «у», — все это пронизывали и временами пугающе-сладостно заглушали воркующие, нечестивые в своем упорстве звуки флейты, назойливо и бесстыдно завораживающие, от которых все внутри содрогалось. Но он знал слово, темное, хотя и дававшее имя тому, что надвигалось: «Чуждый бог». Зной затлел, заклубился, и он увидел горную местность, похожую на ту, где стоял его загородный дом. И в разорванном свете, с лесистых вершин, стволов и замшелых камней, дробясь, покатился обвал: люди, звери, стая, неистовая орда — и наводнил поляну телами, пламенем, суетой и бешеными плясками». Вот и Гоголь любил вставлять в свои произведения бешеную пляску: «Все неслось. Все танцевало». («Сорочинская ярмарка») «Толпа росла; к танцующим приставали другие, и нельзя было видеть без внутреннего движенья, как все отдирало танец самый вольный, самый бешеный, какой только видел когда-либо свет и который, по своим мощным изобретателям, назван козачком». («Тарас Бульба») «Галопад летел во всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский — все поднялось и понеслось». («Мертвые души») Чтобы не заканчивать наш разговор этим неистовым безобразием, посмотрим на «двойническое» (то есть подчеркивающие двойничество) имя: Чичиков 249 www.russianeurope.ru (Чи-чи-ков), его же называют Ринальдо Ринальдином (то есть героем популярного в то время романа Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников»). (Забавно, что само имя «Го-голь» также является «двойническим», предвещает появление двойника. Как, впрочем, и длинный нос автора.) Вспомним Тентетникова из второго тома. Я бы так разложил его имя: Тент-тетн-иков. Двойник, но при этом антипод (буквы во втором блоке переставлены). Переставленными оказываются и функции героев: в первом томе Ноздрев «помогает» Чичикову добыть «Прекрасную Даму» (губернаторскую дочку), во втором томе Чичиков помогает Тентетникову добыть Улиньку (Прекрасную Даму — уже даже без кавычек113). То Ноздрев — двойник-антипод и «помощник», то Чичиков. Ленивый Тентетников к тому же в дальнейшем превратится в Обломова, Илью Ильича. В поэму вставлена еще одна поэма (так сказать, «театр в театре») — «Повесть о капитане Копейкине»114. Повесть рассказывает почтмейстер, который почему-то решил, что Чичиков и капитан Копейкин — одно и то же лицо. Таким образом капитан Копейкин — двойник Чичикова. И вслушайтесь: «капитан Копейкин». Чин и имя вместе образуют «двойническое» имя, вполне похожее на «Ринальдо Ринальдина». Скажу еще пару слов по поводу перестановок букв (а это все шуточки двойника-антипода!) Посмотрите, какую шинель предлагает пошить Акакию Акакиевичу его двойник Петрович («одноглазый черт»): «Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: "Уж новую я вам сошью беспримерно, в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике"». ЛаПКи — аПЛиКе. Здесь хорошо видно, как с помощью двойничества рождается и поэтическое слово. «…существо дотоле невиданное, странное. Оно было что-то живое, как сама жизнь». И вместе с тем Улинька — ожившая картина: «Такого чистого, благородного очертанья лица нельзя было отыскать нигде, кроме разве только на одних древних камейках». 114 «Капитан Копейкин, — сказал почтмейстер, уже понюхавши табаку, — да ведь это, впрочем, если рассказать, выйдет презанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма». 250 www.russianeurope.ru 113 Шинель для Акакия Акакиевича, как об этом недвусмысленно говорит сам автор, есть Прекрасная Дама: «С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу». Вместе с тем в шинели заключена идея звериного двойника (это шкура, подлежащая обмену). Выйдя от Петровича в совершенно обалделом виде, Акакий Акакиевич переживает эквивалентное падению перевертывание115, причем встречается с пачкающим его трубочистом (сравните с тем, как были испачканы бок и спина Чичикова, а также как был испачкан мукой князь в «Риме») и подвергается падению на него извести: «…вместо того чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома». Между прочим, намазывание тела чем-то белым означает в обряде посвящения символическую смерть посвящаемых. И ту же роль играло намазывание тела черным (например, грязью). Оба цвета (белый или черный) как бы делали посвящаемых невидимыми (или слепыми, что для обряда одно и то же). (И вместе с тем черный цвет и грязь говорят о погружении в подземное царство.) В книге «Исторические корни волшебной сказки» Пропп пишет по поводу белого цвета в обряде посвящения: Перевертывание — вполне сказочная вещь, например, в «Коньке-горбунке»: Кобылица та была Вся, как зимний снег, бела... <...> К кобылице подбегает, За волнистый хвост хватает И прыгнул к ней на хребeт — Только задом наперeд. 115 251 www.russianeurope.ru «Неверманн сообщает из Океании: "После нескольких дней отдыха неофиты покрываются известковой кашей, так что они выглядят совершенно белыми и не могут раскрыть глаз". Смысл этих действий становится ясным из смысла всего обряда. Белый цвет есть цвет смерти и невидимости. Временная слепота также есть знак ухода в область смерти. После этого происходит обмывание от извести и вместе с тем прозрение — символ приобретения нового зрения, так же как посвящаемый приобретает новое имя. Это — последний этап всей церемонии, после этого неофит возвращается домой». А вот что говорит Пропп в связи с мотивом «грязного жениха» в сказке: «В сказке неузнанный герой часто бывает грязен, вымазан в саже и пр. Это — «Неумойка». Он заключил союз с чертом, который запрещает ему мыться. За это черт дает ему несметное богатство, после чего герой женится. Он "не стрижется, не бреется, носа не утирает, одежды не переменяет". Это продолжается 14 лет <...>, после чего герой говорит: "Ну, служба моя кончена". "После этого черт изрубил его на мелкие части, бросил в котел и давай варить; сварил, вымыл и собрал все воедино, как следует". Он взбрызгивает его живой и мертвой водой. <...> Запрет умываться не только часто встречается в обряде, но он составляет почти непременную часть церемонии. <...> Посвящаемый не только не умывался, но обмазывался золой. Это обмазывание очень существенно: неумывание связано с обмазыванием или сажей или глиной, т. е. собственно с окраской в черный или белый цвет. "Во время первых 100 дней он не моется и становится таким грязным, что при выходе его не узнают: они говорят, что он так грязен, что он невидим". Таким образом неумывание связано с невидимостью. С этим, по-видимому, связана окраска в белый цвет. "Они с головы до ног окрашены в белый цвет, и поэтому представляют отталкивающий, а так как они не моются — неаппетитный и грязный вид". Уже выше мы видели, как окраска в белый цвет связана со слепотой и 252 www.russianeurope.ru невидимостью. С этим же, по-видимому, связана окраска в черный цвет. <...> Таким образом, неумыванье есть очень сложное явление, связанное с невидимостью и слепотой, с животным обликом и с неузнаваемостью. Связано оно также с пребыванием в стране смерти. <...> сибирский шаман, отправляющийся в царство мертвых с душой умершего, вымазывает лицо сажей. В свете этих материалов можно утверждать, что так часто встречающееся в фольклоре переодевание героя, обменивание одеждой с нищим и пр. есть частный случай такой перемены облика, связанной с пребыванием в ином мире». Раз такие дела с белым и черным цветом, то примечательна масть коня, в котором отражается Чичиков. Чубарый — это конь, имеющий темные пятна на светлой шерсти, полюбуйтесь: Ну чем не Акакий Акакиевич — после встречи с трубочистом и осыпанием известью? Чем не «грязный жених»? 253 www.russianeurope.ru В книге «Исторические корни волшебной сказки», в главе «Масть коня» Пропп пишет: «На русских иконах, изображающих змееборство, конь почти всегда или совершенно белый или огненно-красный. В этих случаях красный цвет явно представляет собой цвет пламени, что соответствует огненной природе коня. Белый же цвет есть цвет потусторонних существ, <...> цвет существ, потерявших телесность. Поэтому привидения представляются белыми. Таким является и конь, и не случайно он иногда назван невидимым: "В некотором царстве, в некотором государстве есть зеленые луга, и там есть кобылица-невидимка, и у ей 12 жеребят". <...> Везде, где конь играет культовую роль, он всегда белый. <...> В якутском мифе змей насмешливо приглашает героя сесть "на посмертного коня". Он садится на "чисто белого коня… имеющего с середины спины, подобно птице, серебряные крылья". В германских народных представлениях смерть является верхом на тощей белой кляче. <...> Подобные примеры показывают, что масть не случайное, не безразличное явление... <...> эта форма коня вяжется с образом коня в целом и его связью с замогильным миром». Подобный смысл белой масти исследовал уже и Мелвилл — в «Моби Дике» (глава «О белизне кита»): «У нас на Дальнем Западе особой известностью пользуются индейские сказания о Белом Коне Прерий — о великолепном молочно-белом скакуне с огромными глазами, маленькой головкой, крутой грудью и с величавостью тысяч монархов в надменной, царственной осанке. <...> И если судить по тому, что гласят легенды об этом царственном коне, то истоком всей его божественности, вне всякого сомнения, служила только его призрачная белизна, и божественность эта, вызывая поклонение, одновременно внушала какой-то необъяснимый ужас. <...> Да и сам обыденный многовековый опыт человечества тоже говорит о сверхъестественных свойствах этого цвета. Ничто не внушает нам при взгляде на покойника такого ужаса, как 254 www.russianeurope.ru его мраморная бледность; будто бледность эта знаменует собой и потустороннее оцепенение загробного мира, и смертный земной страх. У смертельной бледности усопших заимствуем мы цвет покровов, которыми окутываем мы их. И в самых своих суевериях мы не преминули набросить белоснежную мантию на каждый призрак, который возникает перед человеком, поднявшись из молочно-белого тумана. Да что там перечислять! Вспомним лучше, пока от этих ужасов мороз по коже подирает, что у самого царя ужасов, описанного евангелистом, под седлом — конь блед. <...> Воплощением всего этого был кит-альбинос. Можно ли тут дивиться вызванной им жгучей ненависти?» Акакия Акакиевича, помимо грабителя, поджидают белый снег и чернота («сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки). Так и должно быть, ведь он испачкался черным и белым! 255 www.russianeurope.ru Поединок Парцифаля с Фейрефицем, его восточным сводным братом — из рыцарского романа Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» (около 1200 — 256 www.russianeurope.ru 1210). Средневековая миниатюра. Фейрефиц говорит Парцифалю после поединка: «mit dir selben hâstu hie gestriten — С самим собой ты здесь сражался». Фейрефиц — и звериный двойник (во время поединка фигурка сказочного зверька Эцидемона на шлеме Фейрефица воспринимается как живая — именно зверька ранит Парцифаль, нанося удары по шлему противника), и двойник-чужеземец. Он родился после встречи Гахмурета с чернокожей королевой Белаканой, родился пятнистым (ja ist beidiu swarz unde blanc — да, он и черный, и белый. В общем, шахматный. Имя Фейрефица — от старофранцузского vaire fiz — пестрый сын. (Миниатюра пестроту Фейрефица не отражает.) Позднее белокожая королева Херцелойда рожает от Гахмурета Парцифаля. Парцифаль в какой-то момент прибывает ко двору короля Артура в дурацком наряде, вызывая тем самым смех у одной давно не смеявшейся дамы, что имеет далеко идущие последствия116. Есть в этом романе и момент, когда Парцифаля застают обнаженным (в замке Анфортаса, после того как он увидел Грааль), — и он быстро прячется под одеяло. Обзаведясь шинелью, Акакий Акакиевич делает попытку бега-полета (причем за дамой, причем возникает образ «молнии», знакомый нам по Даму зовут Куневаре, на служение ей Парцифаль посылает всех побежденных им рыцарей. Рыцарский род дамы имеет в качестве герба дракона — и дракон, как живой, красуется и шевелится на верхушке («яблоке») шатра Кунневаре (благодаря тому, что в этом «яблоке» сходятся все натяжки шатра). Посылает этой даме Парцифаль и побежденного им Орилуса, который, как затем выясняется, приходится ей братом. Одеяние Орилуса и покров его коня украшают сто драконов — и когда наш герой сражался с Орилусом, ему казалось, что эти драконы грозно уставились на него своими рубиновыми глазами. Парцифаль вступил в поединок с Орилусом, защищая жену Орилуса Йешуту (которую тот отверг и наказал из-за подозрения в измене — с Парцивалем же). Две женщины (связанные между собой через Орилуса) образуют постоянный фон романа — Куневаре (рассмеявшаяся и за то наказанная — побитая сенешалем Кейем) и Йешута (несущая наказание из-за юношеской неотесанности Парцифаля, который ее скомпрометировал). Йешута — весьма эротичный образ. Орилус наказал Йешуту, заставив ее, одетую в одну рубашку, сопровождать его в путешествиях. Рубашка истрепалась и порвалась, Вольфрам то и дело описывает, как сквозь лохмотья виднеется прекрасное, белое, нежное тело Йешуты. Героини Вольфрама напоминают героинь Достоевского (вспомним, например, Марию Тимофеевну Лебядкину из «Бесов», которую бьет ее брат, или многих других обиженных, мерзнущих, полураздетых женщин и девочек из произведений Федора Михайловича). Стоит же за этим образ умирающей, распадающейся, разлагающейся богини — хозяйки жизни и смерти. Подобную роль играет и третья «фоновая дама» Парцифаля — его двоюродная сестра Сигуна, не расстающаяся с трупом павшего в рыцарском поединке возлюбленного и вечно его оплакивающая. Она направляет путь Парцифаля, Парциваль в определенный момент приезжает к ее келье в лесу, словно к избушке Бабы-яги. Прямой же ягой в романе является волшебница Кундри, которая в конце книги отводит Парцифаля и Фейрефица к Граалю. 257 www.russianeurope.ru 116 концовке первого тома «Мертвых душ»), а затем героя повести встречает «бесконечная площадь», похожая на море, «страшная пустыня». Эта стихия, в отличие от ночного пейзажа в «Вие», от степи в «Тарасе Бульбе» или от «Руси» в «Мертвых душах», незрячая («…фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось <…> сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки»). И здесь также можно воскликнуть «у!» — но уже с отчаянья. Стихия (она же жизнь) не смотрит на героя (или скажем так: уставилась на него слепыми глазами) — и он, в свою очередь, предпочитает не глядеть: «Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять попрежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею. Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. "Нет, лучше и не глядеть", — подумал и шел, закрыв глаза…» Приложение 258 www.russianeurope.ru Лоскутное одеяло Квикега, или Поэтика Гоголя Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду117. <...> Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, И взяли его и бросили его в ров... И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью; И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли... Итак, в романе Мелвилла Измаил попадает в гостиницу Питера Гроба. И тут выясняется, что свободных постелей нет. В результате Измаилу приходится спать в одной постели с экзотическим смуглым гарпунщиком118 — с двойником-антиподом, который в дальнейшем проявит себя как его «добрый гений»: «Я нашел глазами хозяина и, заявив ему о своем намерении снять у него комнату, услышал в ответ, что его гостиница полна — нет ни одной свободной постели. — Однако постойте, — тут же добавил он, хлопнув себя по лбу, — вы ведь не станете возражать, если я предложу вам разделить ложе с одним гарпунщиком, а? Вы, я вижу, собрались поступать на китобоец, вот вам и надо привыкать к таким вещам. Я сказал ему, что не люблю спать вдвоем в одной постели, что если уж я когда-нибудь и пошел бы на это, то здесь все зависит от того, что представляет собой гарпунщик; если же у него (хозяина) действительно нет другого места и если гарпунщик будет не слишком неприемлем, то, уж конечно, чем и дальше бродить в такую морозную ночь по улицам чужого города, я готов удовлетвориться половиной одеяла, которым поделится со мной любой честный человек. <...> кэтонет пассим (пас — полоса). Гарпунщика герой сначала не видит — тот задержался, поскольку торговал «новозеландскими бальзамированными головами». Одну из них (проломленную) ему так и не удалось продать, он приносит ее и кладет (на глазах пораженного Измаила) в мешок. 259 www.russianeurope.ru 117 118 Никто не любит спать вдвоем. Право же, даже с родным братом вы всей душой предпочли бы не спать вместе. Не знаю, в чем тут дело, но только люди, когда спят, склонны проделывать это в уединении. Ну, а уж если речь идет о том, чтоб спать с чужим, незнакомым человеком, в незнакомой гостинице, в незнакомом городе, и незнакомец этот к тому же еще гарпунщик, в таком случае ваши возражения умножаются до бесконечности. Да и не было никаких реальных резонов для того, чтобы я как матрос спал с кем-нибудь в одной кровати, ибо матросы в море не чаще спят вдвоем, чем холостые короли на суше. Спят, конечно, все в одном помещении, но у каждого есть своя койка, каждый укрывается собственным одеялом и спит в своей собственной шкуре». Обратите внимание, что одеяло, которым накроются Измаил и Квикег, это как бы их общая шкура. Интересен и томагавк Квикега, который, наряду с гарпуном, есть воплощение жертвенного ножа или жертвенного топора: «— Твоя сюда полезай, — добавил он, махнув в мою сторону томагавком и откинув край одеяла. И, право же, он проделал это не просто любезно, а я бы сказал даже, очень ласково и по-настоящему гостеприимно. Минуту я стоял и глядел на него. Несмотря на всю татуировку, это был в общем чистый, симпатичный каннибал. И с чего это я так расшумелся, сказал я себе, он такой же человек, как и я, и у него есть столько же оснований бояться меня, как у меня — бояться его. Лучше спать с трезвым каннибалом, чем с пьяным христианином». После этого идет глава под названием «Лоскутное одеяло». С чего бы вдруг автору называть так целую главу? Что за важность в одеяле, под которым лежат наши двойники-антиподы? И почему оно именно лоскутное, зачем это подчеркивать? Но сначала присмотримся к этой постельной принадлежности119: Сейчас вас ждет большая цитата. Не верьте глазам своим — это не цитата! В моих книгах нет ни одной цитаты. Мне иногда говорят: «Зачем столько цитат, да еще таких больших!» Цитата служит для подтверждения какой-либо определенной мысли, мои же «цитаты» появляются сами по себе — и ведут хоровод с многими другими цитатами (иногда даже неоднократно мелькая перед глазами читателей). Смешно упрекать в обилии элементов художника, который строит из этих элементов коллаж. Заодно отведу 260 www.russianeurope.ru 119 «Назавтра, когда я проснулся на рассвете, оказалось, что меня весьма нежно и ласково обнимает рука Квикега. Можно было подумать, что я — его жена. Одеяло наше было сшито из лоскутков — из множества разноцветных квадратиков и треугольничков всевозможных размеров, и его рука, вся покрытая нескончаемым критским лабиринтом узоров, каждый участок которых имел свой, отличный от соседних оттенок, чему причиной послужило, я полагаю, его обыкновение во время рейса часто и неравномерно подставлять руку солнечным лучам, то засучив рукав до плеча, то опустив немного, — так вот, та самая рука теперь казалась просто частью нашего лоскутного одеяла. Она лежала на одеяле, и, право же, узоры и тона все так перемешались, что, проснувшись, только по весу и давлению я мог определить, что это Квикег меня обнимает. Странные ощущения испытал я. Сейчас попробую описать их. Помню, когда я был ребенком, со мной однажды произошло нечто подобное — что это было, грёза или реальность, я так никогда и не смог выяснить. А произошло со мною вот что. Я напроказничал как-то — кажется, попробовал пролезть на крышу по каминной трубе, в подражание маленькому трубочисту, виденному мною за несколько дней до этого, а моя мачеха, которая по всякому поводу постоянно порола меня и отправляла спать без ужина, мачеха вытащила меня из дымохода за ноги и отослала спать, хотя было только два часа пополудни 21 июня, самого длинного дня в нашем полушарии. Это было ужасно. Но ничего нельзя было поделать, и я поднялся по лестнице на третий этаж в свою каморку, разделся по возможности медленнее, чтобы убить время, и с горьким вздохом забрался под одеяло. Я лежал, в унынии высчитывая, что еще целых шестнадцать часов должны пройти, прежде чем я смогу восстать из мертвых. Шестнадцать часов в постели. При одной этой мысли у меня начинала ныть спина. А как светло и другой упрек — в ненаучном способе изложения мысли. Нет у меня ни мысли никакой, ни изложения! Я пишу то, что вижу — и стараюсь при этом поменьше рассуждать. И потом: изложение предполагает линию, а у меня — лабиринт. 261 www.russianeurope.ru еще; солнце сияет за окном, грохот экипажей доносится с улицы, и по всему дому звенят веселые голоса. Я чувствовал, что с каждой минутой положение мое становится все невыносимее, и наконец я слез с кровати, оделся, неслышно в чулках спустившись по лестнице, разыскал внизу свою мачеху и, бросившись внезапно к ее ногам, стал умолять ее в виде особой милости избить меня как следует туфлей за дурное поведение, готовый претерпеть любую кару, лишь бы мне не надо было так непереносимо долго лежать в постели. Но она была лучшей и разумнейшей из мачех, и пришлось мне тащиться обратно в свою каморку. Несколько часов пролежал я там без сна, чувствуя себя значительно хуже, чем когда-либо впоследствии, даже во времена величайших своих несчастий. Потом я, вероятно, все-таки забылся мучительной кошмарной дремотой; и вот, медленно пробуждаясь, — еще наполовину погруженный в сон, — я открыл глаза в своей комнате, прежде залитой солнцем, а теперь окутанной проникшей снаружи тьмой. И вдруг все мое существо пронизала дрожь, я ничего не видел и не слышал, но я почувствовал в своей руке, свисающей поверх одеяла, чью-то бесплотную руку. И некий чудный, непостижимый облик, тихий призрак, которому принадлежала рука, сидел, мерещилось мне, у самой моей постели. Бесконечно долго, казалось целые столетия, лежал я так, застыв в ужаснейшем страхе, не смея отвести руку, а между тем я все время чувствовал, что стоит мне только чуть шевельнуть ею, и жуткие чары будут разрушены. Наконец это ощущение незаметным образом покинуло меня, но, проснувшись утром, я снова с трепетом вспомнил его, и еще много дней, недель и месяцев после этого терялся я в мучительных попытках разгадать тайну. Ей-богу, я и по сей день нередко ломаю над ней голову. Так вот, если отбросить ужас, мои ощущения в момент, когда я почувствовал ту бесплотную руку в своей руке, совершенно совпадали по своей необычности с ощущениями, которые я испытал, проснувшись и обнаружив, что меня обнимает языческая рука Квикега. Но постепенно в трезвой осязаемой реальности утра мне припомнились одно за другим все 262 www.russianeurope.ru события минувшей ночи, и тут я понял в каком комическом затруднительном положении я нахожусь. Ибо как ни старался я сдвинуть его руку и разорвать его супружеские объятия, он, не просыпаясь, попрежнему крепко обнимал меня, словно ничто, кроме самой смерти, не могло разлучить нас с ним120. Я попытался разбудить его: «Квикег!», — но он только захрапел мне в ответ. Тогда я повернулся на бок, чувствуя словно хомут на шее, и вдруг меня что-то слегка царапнуло. Откинув одеяло, я увидел, что под боком у дикаря спит его томагавк, точно черненький остролицый младенец. Вот так дела, подумал я, лежи тут в чужом доме среди бела дня в постели с каннибалом и томагавком!» Так, разберемся. Вы, конечно, уже сами заметили много вещей, о которых мы говорили раньше. Что Квикег имеет и женскую ипостась, что в нем (или сквозь него) видна «Хозяйка зверей» («Прекрасная Дама», «Баба-яга»). Что томагавк — одновременно и фаллос, и младенец. Что речь идет о поедании героя «симпатичным каннибалом». Что Квикег — типичный двойник-антипод в типичной позе (обнимает героя — причем так, что разлучить их сможет только смерть). Что Квикег уже являлся герою в детстве, ночным кошмаром, невидимкой, сжимающим его руку. (И вот опять, в гостинице, героя давит рука Квикега. Сдавливание героя — один из признаков двойника-антипода.) Что герой (в детстве) лезет в дымоход, подобно маленькому трубочисту, то есть погружается в царство мертвых и при этом пачкается121. (А перед тем, Cравните, в рассказе Мелвилла «Писец Бартлби» (рассказчик разговаривает с Бартлби — со своим двойником-антиподом): — Уйдете вы от меня или нет? — спросил я, внезапно вспылив и подступая к нему. — Я бы предпочел не уходить от вас, — отвечал он, мягко выделив слово «не». 121 Трубочист, как вы помните, испачкал Акакия Акакиевича. Что касается «Шинели» (тоже шкура!), есть сходство также между Квикегом и Петровичем, «который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, — разумеется, когда бывал в трезвом состоянии…» У Петровича проблемы с лицом, а дальше в тексте намекается, что он вообще человек без лица: «Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки». Похожая проблема с лицом и у Квикега: «Что я увидел! Какая рожа! Цвета темно-багрового с прожелтью, это лицо было усеяно большими черными квадратами. Ну вот, 263 www.russianeurope.ru 120 как остановиться в гостинице Питера Гроба, он споткнется об ящик с золой и упадет.) Что мачеха, отсылающая мальчика спать в неурочное время, есть Богиня смерти. Что Квикег и одеяло — едины. Это самое главное, привожу этот ключевой отрывок еще раз: «Одеяло наше было сшито из лоскутков — из множества разноцветных квадратиков и треугольничков всевозможных размеров, и его рука, вся покрытая нескончаемым критским лабиринтом узоров, каждый участок которых имел свой, отличный от соседних оттенок, чему причиной послужило, я полагаю, его обыкновение во время рейса часто и неравномерно подставлять руку солнечным лучам, то засучив рукав до плеча, то опустив немного, — так вот, та самая рука теперь казалась просто частью нашего лоскутного одеяла. Она лежала на одеяле, и, право же, узоры и тона все так перемешались, что, проснувшись, только по весу и давлению я мог определить, что это Квикег меня обнимает». Одеяло здесь — сама жизнь, или, как я это формулирую, «Источник жизни и смерти». Квикег же является герою из этого одеяла, он плоть от плоти этого одеяла (одеяло — его шкура, его кожа, которой он делится с Измаилом), он — представитель, посланник одеяла. Перед нами то, что я называю «сущностной формой»: герой (Измаил) ↔ Источник жизни и смерти (лоскутное одеяло) ↔ двойник-антипод героя (Квикег). Герой, чередуясь с антиподом (умирая и возрождаясь) образует узор этого «лоскутного одеяла». Обратите внимание на «нескончаемый критский лабиринт узоров». Лоскутное одеяло (как и кожа Квикега) есть подземный лабиринт. Образ так я и знал: эдакое пугало мне в сотоварищи!» Квикег, как и Петрович, является с отделенной головой: «...он взял новозеландскую голову — вещь достаточно отвратительную — и запихал ее в мешок. Затем он снял шапку — новую бобровую шапку, — и тут я чуть было не взвыл от изумления. На голове у него не было волос, во всяком случае ничего такого, о чем бы стоило говорить, только небольшой черный узелок, скрученный над самым лбом. Эта лысая багровая голова была как две капли воды похожа на заплесневелый череп». 264 www.russianeurope.ru лабиринта уже возникал в романе — когда Измаил еще только искал гостиницу: «Что за унылые улицы! По обе стороны тянулись кварталы тьмы, в которых лишь кое-где мерцал свет свечи, словно несомой по черным лабиринтам гробницы». Сквозь уже указанную сущностную форму проступает другая: Тесей ↔ лабиринт ↔ Минотавр. Речь идет о погружении героя в царство смерти. Или об узоре из жизни и смерти. Таково и лицо Квикега («усеяно большими черными квадратами»), равно как лицо Петровича из «Шинели» (вспомните «рябизну по всему лицу»). Нам, кстати сказать, уже встречалось «лоскутное одеяло» у Гоголя и у Пушкина — в виде пересеченной местности перед попаданием героя к «Хозяйке» или «Хозяину»: «Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. Отлогости и небольшие горы, зеленые и круглые, как куполы, иногда перемежевывали равнину» (Гоголь). «Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю» (Пушкин). Мы говорили, что в поэме «Мертвые души» Чичиков попадает (при встрече с Коробочкой) в подземный лабиринт. Между тем с самого начала поэмы ее текст строится по принципу лоскутного одеяла, живое и мертвое, плюс и минус — не только тема произведения, но и основа его поэтики. Я уже описывал это в книге «Прыжок через быка», приведу из нее здесь маленькую выдержку: «Стоит только открыть «Мертвые души» Гоголя, как в глаза бросается один замечательный прием. Судите сами: «После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник». 265 www.russianeurope.ru Чичиков подкладывает под спину подушку, чтобы ему было мягко сидеть. А подушка вовсе не мягкая, а словно кирпич в нее набит! И говорится это все на одном дыхании, словно все так и должно быть, все в порядке вещей. Никакого контраста, никакого возмущения, просто ровный поток речи. Прием таков: сначала дается плюс (подушка, которая должна быть мягкой согласно своему предназначению), затем минус (подушка оказывается крайне жесткой — в противоположность своему предназначению). Посмотрим дальше: «Домы были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов». Красивы ли эти мезонины на самом деле? Сначала говорится, что очень красивы, но продолжение фразы — «по мнению губернских архитекторов» — спокойно, тихо перечеркивает утверждение о красоте мезонинов. Мезонины вовсе не красивы, они уродливы. И так построен практически весь текст «Мертвых душ» — во всяком случае пока Чичиков объезжает помещиков и скупает мертвые души. Я, конечно, постарался подобрать примеры почетче и покомпактнее, где плюс и минус имеют место в пределах одного предложения. Но они могут быть разнесены шире...» Подобная поэтика характерна и для Мелвилла. Например, в начале рассказа «Писец Бартлби» мы читаем: «Контора моя помещалась на Уолл-стрит, в доме под номером **. С одной стороны окно ее выходило в просторный белый колодец со стеклянной крышей, прорезавший все здание сверху донизу. Можно, конечно, сказать, что вид из этого окна был скучноватый; художник-пейзажист сказал бы, что в нем «мало жизни». Но недостаток этот сторицею возмещался видом, открывавшимся из моей конторы в противоположную сторону. Здесь перед окнами расстилался ничем не заслоненный вид на высокую кирпичную стену, почерневшую от времени и никогда не освещаемую солнцем...» 266 www.russianeurope.ru Гоголь здесь очень узнается. Действие еще не началось, но ясно, что оно будет происходить между белым и черным цветом — одинаково безрадостными. Призрачный плюс и действительный минус. Во время написания работы, которую вы сейчас читаете, мне довелось посмотреть на youtube лекцию Михаила Ямпольского «Травма реального. Линия и лабиринт» (от 10.04.2013). Вопрос в том, как мы можем увидеть новое (т. е. реальное), если мы воспринимаем лишь то, что попадает на накатанные колеи (т. е. гештальты) в нашем мозгу. Лектор говорит: «Лабиринт чаще всего связан со смертью, как вы знаете, с прохождением из нашего мира в потусторонний мир. По лабиринту должны идти души мертвых. Принципиальная особенность лабиринта мертвых заключается в том, что он не имеет поверхности. Поэтому лабиринт мертвых должен находиться под землей. Поверхность как бы провалена, лабиринт уходит под землю. Там, где нет поверхности, мы не можем гештальтировать. <...> В такого рода лабиринтах мы очень хорошо видим, каким образом гештальтируемое, лежащее на плоскости (поверхности, носителе), в них проваливается, и каким образом (я считаю это главным вообще свойством лабиринта) происходит переход от следа к нити. (След — это линия на поверхности. Нить — это линия, не имеющая поверхности, поэтому нить не гештальтируется.) Мы проваливаемся в темноту (адепт проваливается в темноту), гештальт (который можно видеть сверху, со стороны и на картинке) исчезает. <...> Лабиринт для меня — это фигура, в которой воображаемое разваливается — и возникает реальное». Вот и я думаю, что «сущностная форма» (применительно к данному случаю: герой ↔ лабиринт ↔ двойник-антипод) является не только наиболее общей схемой сюжета литературного произведения, но и шансом увидеть реальное (и именно по этой причине она является общей формой сюжета). 267 www.russianeurope.ru Эвард Бёрн-Джонс (1833 — 1898). Тесей и Минотавр в Лабиринте Провал поверхности, ведущий к реальности, можно выразить не только с помощью образа лабиринта (и лоскутного одеяла), но и с помощью образа кита. Ведь кита невозможно увидеть (с корабля) полностью: он только частично выходит на поверхность, затем погружается. Он движется волной, он как бы пульсирует. В «Моби Дике», в главе «Чудовищные изображения китов», автор размышляет об этом так: «Но все столь многочисленные неправильности в изображении кита в конечном счете вовсе не так уж и удивительны. Посудите сами. Зарисовки 268 www.russianeurope.ru по большей части делались с прибитых к берегу дохлых китов, и они примерно так же достоверны, как достоверно рисунок потерпевшего крушение корабля со взломанной палубой воспроизводит благородный облик этого гордого создания во всем великолепии его корпуса и рангоута. Слонам вот случалось выстаивать, позируя для своих поясных портретов, а живые левиафаны еще никогда не служили натурщиками для собственных изображений. Живого кита во всем его величии и во всей его мощи можно увидеть только в море, в бездонной пучине; его огромная плавучая туша в мгновение ока исчезает из виду, подобно быстроходному линейному кораблю; и никакому смертному не под силу поднять его из водной стихии, оставив при этом на нем нетронутыми величественные холмы и возвышенности. И, не говоря уже о весьма значительной разнице в контурах между молодым китом-сосунком и взрослым платоновым левиафаном, даже если кита-сосунка удастся втащить на палубу, его сверхъестественную, змеевидную, гибкую, зыбкую форму сам черт не в состоянии уловить». Кроме того, «вопрос на засыпку»: какого цвета Белый кит? Правильно, он пятнистый. Белым Моби Дик кажется именно из-за своих белых пятен и по контрасту с темной водой: «Но даже если откинуть сверхъестественные свойства, в земном облике этого чудовища, в его необоримом норове остается довольно силы, чтобы потрясти человеческое воображение. Среди других китов его выделяли не столько сами грандиозные размеры туши, сколько — как уже упоминалось выше — небывалый белоснежный, изборожденный складками лоб и высокий пирамидальный белый горб. Таковы были его отличительные черты, знаки, по которым он даже в бескрайних диких морях позволял своим старым знакомцам узнавать себя с большого расстояния. И все его тело было покрыто полосами, пятнами и прожилками того же мертвенного цвета, так что в конце концов за ним и закрепилось прозвище Белый Кит; да он и вправду казался совершенно белым, когда в самый 269 www.russianeurope.ru полдень скользил по темно-синим волнам, оставляя за собою млечный путь желтоватой пены, тут и там искрящейся золотистыми отблесками». В самой масти кита мы видим лабиринт. Более того, поверхность кита — одновременно и лабиринт, и неразгаданный иероглифический текст: «Открытая взорам поверхность туши живого кашалота является одним из многих его чудес. Она почти всегда бывает густо испещрена бесчисленными косо перекрещенными прямыми полосами, вроде тех, что мы видим на первоклассных итальянских штриховых гравюрах. Но линии эти идут не по упомянутому выше желатиновому слою, они просвечивают сквозь него, нанесенные прямо на тело. И это еще не все. Иногда быстрый внимательный взгляд открывает, совершенно как на настоящей гравюре, сквозь штриховку какие-то другие очертания. Очертания эти иероглифичны; я хочу сказать, если загадочные узоры на стенах пирамид называются иероглифами, то это и есть самое подходящее тут слово. Я прекрасно запомнил иероглифическую надпись на одном кашалоте и впоследствии был просто потрясен, когда нашел ее как-то на картинке, воспроизводящей древнеиндейские письмена, высеченные на знаменитых иероглифических скалах Верхней Миссисипи. Подобно этим загадочным камням, загадочно расписанный кит по сей день остается нерасшифрованным». А где текст, там и писец. В «Моби Дике» таким писцом выступает Квикег. Квикег в конце книги, как и приличествует двойнику, погибает (вместе со всей командой судна) — а Измаил благодаря ему спасается — выплыв в лодке-гробе, которую Квикег смастерил для себя — во время своей болезни. Какое-то время Квикег лежал в этой лодке (словно яга в своей избушке), но не умер, выздоровел. И вот он расписывает свою лодку-гроб, не понимая смысла знаков, просто списывая их со своего тела122, то есть действует именно как переписчик, как писец: На текст похоже и тело Фейрефица — экзотического двойника-антипода Парцифаля: «als ein geschriben permint, / swarz und blanc her unde dâ — словно исписанный пергамент, черный и белый тут и там = местами черный, местами белый». 270 www.russianeurope.ru 122 «Свой гроб он, по дикарской прихоти, надумал теперь использовать как матросский сундук; вывалил в него из парусинового мешка все свои пожитки и в порядке их там разложил. Немало часов досуга потратил он на то, чтобы покрыть крышку удивительными резными фигурами и узорами; при этом он, видимо, пытался на собственный грубый манер воспроизвести на дереве замысловатую татуировку своего тела. А ведь эта татуировка была делом рук почившего пророка и предсказателя у него на родине, который в иероглифических знаках записал у Квикега на теле всю космогоническую теорию вместе с мистическим трактатом об искусстве познания истины; так что и собственная особа Квикега была неразрешенной загадкой, чудесной книгой в одном томе, тайны которой даже сам он не умел разгадать, хотя его собственное живое сердце билось прямо о них; и значит, этим тайнам предстояло в конце концов рассыпаться прахом вместе с живым пергаментом, на котором они были начертаны, и так и остаться неразрешенными». Мы уже наблюдали пестрого, татуированного Квикега как посланника, представителя лоскутного одеяла. А тут мы понимаем, что лоскутное одеяло Квикега есть космический текст. 271 www.russianeurope.ru Древнеегипетский бог Тот (бог мудрости и магии, изобретатель письменности) в виде павиана (около 1400 г. до н. э.) Акакий Акакиевич из гоголевской «Шинели» также во всем видит текст: «Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине улицы». 272 www.russianeurope.ru «Лошадиная морда», однако, «проваливает поверхность» его текста. Видимо, текст, который видит Акакий Акакиевич, — ненастоящий, хотя сама идея (космического текста) верна. А лошадь вводит героя в подлинный текст — текст, в котором строками являются улицы, в текст-лабиринт. Гоголь с Мелвиллом написали по гениальному рассказу о писце («Шинель» и «Писец Бартлби»), потому что перед каждым из них стоял коренной вопрос: как писец может дотронуться до реальности? Может быть, для этого нужно, чтобы писец заказал у Петровича новую шинель и благодаря ей совершил путешествие в царство мертвых душ? Или, может быть, нужно научиться видеть мир так, как видит его кашалот, у которого глаза-антиподы смотрят в противоположные стороны123? Писец Бартлби — двойник-антипод рассказчика. В конце рассказа он умирает — и оказывается, что до того, как поступить на работу в контору рассказчика, он работал в Отделе невостребованных писем (это в русском переводе они «невостребованные», а в американском тексте они «мертвые» — dead letters, посланные мертвыми душами — dead men): «Во дворике стояла тишина. Других заключенных сюда не выпускали. Сквозь окружающие стены не проникал ни один звук, такой они были поразительной толщины. Египетский стиль построек угнетал меня своей мрачностью. Но под ногами росла мягкая узница-трава. Словно здесь было сердце вечных пирамид, в трещинах которого, как по волшебству, проросли семена, оброненные птицами. И вдруг я увидел, что у самой стены, весь скрючившись, поджав колени, головой касаясь холодного камня, лежит бледный, исхудавший Бартлби. Совершенно неподвижный. Я замер на месте; потом подошел к нему, наклонился и увидел, что мутные глаза его открыты, а сперва мне показалось, что он крепко спит. Что-то побудило меня коснуться его. Я «А столь своеобразное, боковое, положение китового глаза ясно указывает на то, что кит не может видеть предмета, находящегося прямо перед ним, как он не может видеть того, что у него позади. Иначе говоря, положение китового глаза совпадает с положением человеческого уха; так что вы сами можете представить себе, каково бы вам пришлось, если бы вы могли видеть только с боков, ушами». 273 www.russianeurope.ru 123 дотронулся до его руки, и дрожь пробежала у меня к плечу, вниз по спине, к ногам124. Тут на меня глянуло круглое лицо кухмистера. — Обед ему готов. Или он сегодня тоже не будет обедать? Он что же, так и живет, не обедая? — Живет, не обедая, — сказал я и закрыл невидящие глаза. — Эге, да он спит? — Опочил с царями и советниками земли, — прошептал я задумчиво. Как будто и нет нужды продолжать эту повесть. Краткий рассказ о похоронах бедного Бартлби легко восполнить воображением. Но, прежде нежели расстаться с читателем, я все-таки добавлю, что если эта история его заинтересовала и ему захотелось узнать, кто же был Бартлби и какова была его жизнь до знакомства с рассказчиком, я могу только сказать, что полностью разделяю его любопытство, однако удовлетворить его не могу. И я даже затрудняюсь, следует ли мне передать один незначительный слух, который дошел до меня через несколько месяцев после кончины переписчика. На чем он был основан, мне так и не удалось установить, а значит, и о достоверности его судить не берусь. Но, поскольку смутный этот слух не лишен был для меня известного своеобразного интереса, — пусть вызванные им мысли и были печального свойства, — возможно, что им заинтересуются и другие; поэтому я в нескольких словах все же упомяну о нем. Заключался он в следующем: будто бы Бартлби состоял младшим клерком в Отделе невостребованных писем в Вашингтоне и был оттуда неожиданно уволен в связи со сменой начальства. Не могу выразить, какие чувства охватывают меня, когда я думаю об этом слухе. Невостребованные письма! Разве это не те же мертвецы? (Dead letters! does it not sound like dead men?) Представьте себе человека, от природы и под влиянием жизненных невзгод склонного к вялой безнадежности; есть ли работа, более способная усилить такую 124 В «Моби Дике» было: «...я почувствовал в своей руке <...> чью-то бесплотную руку». 274 www.russianeurope.ru склонность, чем бесконечная разборка этих невостребованных писем, предшествующая их сожжению? А сжигают их каждый год целыми возами. Порою из сложенного листка бумаги бледный клерк вынимает кольцо, — палец, для которого оно предназначалось, возможно, уже истлел в могиле; или кредитный билет, посланный в порыве сострадания, — тот, кого он должен был выручить, уже не ест и не знает голода. В этих письмах — прощение для тех, кто умер, во всем изверившись; надежда для тех, кто умер в отчаянии; добрые вести для тех, кто умер, задохнувшись под гнетом несчастий. Посланцы жизни, эти письма гибнут в огне. О, Бартлби! О, люди!» Ножевой мир Федерико Гарсиа Лорки Вышел месяц из тумана Вынул ножик из кармана, Буду резать, буду бить, Всё равно тебе водить. (Считалка) Когда Федерико Гарсиа Лорке было восемь лет, ему явился его двойникантипод. Федерико рассказал об этом так (в лекции «Цыганское романсеро»): «Скажу несколько слов об одной темной андалузской силе — об Амарго, кентавре ненависти и смерти. Мне было восемь лет, я играл у себя дома в Фуэнте Вакеросе, и вдруг в окно заглянул мальчик — он показался мне великаном. В глазах его было столько презрения и ненависти, что мне не забыть их до смерти. Он плюнул в комнату и исчез. Голос издалека позвал: “Сюда, Амарго!”» С тех пор Амарго жил и рос в моем воображении, и я даже, кажется, понял, почему он, ангел отчаянья и смерти, поставленный у врат Андалузии, так 275 www.russianeurope.ru смотрел на меня. Как наваждение, он вошел в мои стихи. И сейчас я уже не знаю, видел ли я его или он привиделся мне, выдумал я его или он и вправду чуть было не задушил меня». Федерико, мальчику из хорошей семьи, любившему чтение, рисование, музыку и, соответственно, одиночество, явился цыганский мальчик, бродягаоборванец по имени Амарго. “Amargo” по-испански значит «горький». Амарго стал для Федерико олицетворением горечи жизни — жизни, сквозь которую просвечивает лунный свет смерти. Опорные образы поэзии Лорки связаны с Амарго-горечью: — луна (лицо Смерти, рок); — горькие, терпкие, ядовитые или жалящие растения или плоды: кислый лимон (к тому же желтый или желто-зеленый, как луна) и ядовитый олеандр (оба — символы несчастливой любви, в противоположность апельсину и розе — символам разделенного чувства), маслина (оливка) (связанная с луной и традиционной рифмой: luna — aceituna), крапива и цикута; — нож или ножи (а также кинжалы, шпаги, стрелы, змеи); — наконец, вся цыганская тема (с поимкой и убиением цыгана). В знаменитом стихотворении «Гитара» из цикла «Поэма канте хондо125» (переведенном Мариной Цветаевой) мы видим типичную развязку (закалывание жертвы): Начинается Плач гитары. Разбивается Чаша утра. Начинается Плач гитары. О, не жди от нее Канте хондо — «глубинное пение», песня-импровизация (на традиционной основе) андалузских цыган, исполняемая (то вместе, то раздельно) певцом и гитаристом. 276 www.russianeurope.ru 125 Молчанья, Не проси у нее Молчанья! Неустанно Гитара плачет, Как вода по каналам — плачет, Как ветра над снегами — плачет, Не моли ее О молчанье! Так плачет закат о рассвете, Так плачет стрела без цели, Так песок раскаленный плачет О прохладной красе камелий, Так прощается с жизнью птица Под угрозой змеиного жала. О гитара, Бедная жертва Пяти проворных кинжалов! Цыгана убивают пятью кинжалами (в подлиннике — шпагами), то есть мы видим не один жертвенный нож, а множественность жертвенных ножей. Здесь их пять — по числу ран Христа. Но их может быть и гораздо больше. «Поэма канте хондо» заканчивается «Сценой с Амарго» (представляющей собой лиро-драматическую миниатюру). 277 www.russianeurope.ru Рисунок Федерико Гарсиа Лорки Амарго, будучи двойником-антиподом Федерико, встречается на ночной дороге со следующим — теперь уже своим собственным — двойникомантиподом — с всадником, который предлагает его подвезти. Этот всадник (олицетворение смерти) торгует ножами, которые производят три его брата — обычное олицетворение судьбы в виде трех человек (три парки, три волхва и тому подобное). Собственно, и появление Амарго на дороге предваряется «тремя юношами в широкополых шляпах» (подчеркнутость головного убора — также нередкое свойство представителей судьбы). Амарго принимает от всадника в подарок нож и садится к нему на коня. «Сцена с Амарго» заканчивается «Песней матери Амарго», из которой мы узнаем, что Амарго — на луне. Привожу «Сцену с Амарго» полностью (в 278 www.russianeurope.ru переводе А. Гелескула), в ней хорошо виден и ощущаем черный и желтозеленый, горький и режущий мир Федерико Гарсиа Лорки (а потом еще немного поговорим): СЦЕНА С АМАРГО Пустошь. Голос. Амарго. Вербная горечь марта. Сердце — миндалинкой горькой. Амарго. Входят трое юношей в широкополых шляпах. Первый юноша. Запоздали. Второй. Ночь настигает. Первый. А где этот? Второй. Отстал. Первый (громко). Амарго! Амарго (издалека). Иду! Второй (кричит). Амарго! Амарго (тихо). Иду. Первый юноша. Как хороши оливы! Второй. Да. Долгое молчание. Первый. Не люблю идти ночью. Второй. Я тоже. Первый. Ночь для того, чтобы спать. Второй. Верно. Лягушки и цикады засевают пустырь андалузского лета. Амарго — руки на поясе — бредет по дороге. Амарго. 279 www.russianeurope.ru А-а-а-ай... Я спрашивал мою смерть... А-а-а-ай... Горловой крик его песни сжимает обручем сердца тех, кто слышит. Первый юноша (уже издалека). Амарго! Второй (еле слышно). Амарго-о-о! Молчание. Амарго один посреди дороги. Прикрыв большие зеленые глаза, он стягивает вокруг пояса вельветовую куртку. Его обступают высокие горы. Слышно, как с каждым шагом глухо звенят в кармане серебряные часы. Во весь опор его нагоняет всадник. Всадник (останавливая коня). Доброй вам ночи! Амарго. С Богом. Всадник. В Гранаду идете? Амарго. В Гранаду. Всадник. Значит, нам по дороге. Амарго. Возможно. Всадник. Почему бы вам не подняться на круп? Амарго. У меня не болят ноги. Всадник. Я еду из Малаги. Амарго. В добрый час. Всадник. В Малаге у меня братья. Амарго (угрюмо). Сколько? Всадник. Трое. У них выгодное дело. Торгуют ножами. Амарго. На здоровье. Всадник. Золотыми и серебряными. Амарго. Достаточно, чтобы нож был ножом. Всадник. Вы ничего не смыслите. Амарго. Спасибо. 280 www.russianeurope.ru Всадник. Ножи из золота сами входят в сердце. А серебряные рассекают горло, как соломинку. Амарго. Значит, ими не хлеб режут? Всадник. Мужчины ломают хлеб руками. Амарго. Это так. Конь начинает горячиться. Всадник. Стой! Амарго. Ночь... Горбатая дорога тянет волоком лошадиную тень. Всадник. Хочешь нож? Амарго. Нет. Всадник. Я ведь дарю. Амарго. Да, но я не беру. Всадник. Смотри, другого случая не будет. Амарго. Как знать. Всадник. Другие ножи не годятся. Другие ножи — неженки и пугаются крови. Наши — как лед. Понял? Входя, они отыскивают самое жаркое место и там остаются. Амарго смолкает. Его правая рука леденеет, словно стиснула слиток золота. Всадник. Красавец нож! Амарго. И дорого стоит? Всадник. Или этот хочешь? (Вытаскивает золотой нож, острие загорается, как пламя свечи.) Амарго. Я же сказал, нет. Всадник. Парень, садись на круп! Амарго. Я не устал. Конь опять испуганно шарахается. Всадник. Да что это за конь! Амарго. Темень... 281 www.russianeurope.ru Пауза. Всадник. Как я уж говорил тебе, в Малаге у меня три брата. Вот как надо торговать! Один только собор закупил две тысячи ножей, чтобы украсить все алтари и увенчать колокольню. А на клинках написали имена кораблей. Рыбаки, что победнее, ночью ловят при свете, который отбрасывают эти лезвия. Амарго. Красиво. Всадник. Кто спорит! Ночь густеет, как столетнее вино. Тяжелая змея южного неба открывает глаза на восходе, и спящих заполняет неодолимое желание броситься с балкона в гибельную магию запахов и далей. Амарго. Кажется, мы сбились с дороги. Всадник (придерживая коня). Да? Амарго. За разговором. Всадник. Это не огни Гранады? Амарго. Не знаю. Всадник. Мир велик. Амарго. Точно вымер. Всадник. Твои слова. Амарго. Такая вдруг тоска смертная! Всадник. Это потому, что идешь. Что у тебя за дело? Амарго. Дело? Всадник. И если ты на своем месте, зачем остался на нем? Амарго. Зачем? Всадник. Я вот еду на коне и продаю ножи, а не делай я этого — что изменится? Амарго. Что изменится? Пауза. Всадник. Добрались до Гранады. Амарго. Разве? 282 www.russianeurope.ru Всадник. Смотри, как горят окна! Амарго. Да, действительно... Всадник. Уж теперь-то ты не откажешься подняться на круп. Амарго. Погодите немного... Всадник. Да поднимайся же! Поднимайся скорей! Надо поспеть прежде, чем рассветет... И бери этот нож. Дарю! Амарго. Аааай! Двое на одной лошади спускаются в Гранаду. Горы в глубине порастают цикутой и крапивой. Песня матери Амарго Руки мои в жасмины запеленали сына. Лезвие золотое. Август. Двадцать шестое. Крест. И ступайте с миром. Смуглым он был и сирым. Душно, соседки, жарко — где поминальная чарка? Крест. И не смейте плакать. Он на луне, мой Амарго. Надо заметить, что в подлиннике не жасмины, а олеандры (las adelfas), что не «смуглым он был и сирым», а «был смуглым и горьким» (era moreno y amargo), что мать просит у соседок латунный кувшин с лимонадом и что 283 www.russianeurope.ru «лезвие золотое» в подлиннике было просто «золотым ножиком» (un cuchillito de oro). В «Сцене» примечательны такие два сопровождающие двойника-антипода явления, как соблазн падения с высоты («неодолимое желание броситься с балкона») и сжатие («Горловой крик его песни сжимает обручем сердца тех, кто слышит»). «Огни Гранады», после вопроса о которых Амарго охватывает «тоска смертная», суть царство смерти. (В поэтическом мире Лорки горняя Гранада — город страдания и умирания — обычно противопоставлен приморской Севилье — городу жизни. Важно и то, что Амарго в своем пути все время поднимается — сначала к Гранаде, а затем к Луне.) «Зеленые глаза» Амарго говорят о горечи, о том, что он — лимон или оливка. Его глаза выдают его родство с богиней смерти — с цыганкой-русалкой из «Сомнамбулического романса» («Цыганское романсеро», перевод А. Гелескула): С зеленого дна бассейна, качаясь, она глядела — серебряный иней взгляда и зелень волос и тела. Баюкала зыбь цыганку, и льдинка луны блестела. Эта цыганка-русалка на самом деле и есть отражение луны в воде. Появлением луны-Смерти (уводящей с собой цыганского ребенка), собственно, начинается «Цыганское романсеро» («Романс о луне, луне»): Луна в жасминовой шали явилась в кузню к цыганам. И смотрит, смотрит ребенок, 284 www.russianeurope.ru и смутен взгляд мальчугана. Луна закинула руки и дразнит ветер полночный своей оловянной грудью, бесстыдной и непорочной. <…> Где-то сова зарыдала — Так безутешно и тонко! За ручку в темное небо луна уводит ребенка. Интересны часы Амарго («Слышно, как с каждым шагом глухо звенят в кармане серебряные часы»). Часы в поэтическом мире Лорки агрессивны: “Los instantes heridos / por el reloj…” («Мгновения, раненные часами…»). Кроме того, часы связаны с луной-Смертью: “Cuando sale la luna / de cien rostros iguales, / la moneda de plata / solloza en el bolsillo” («Когда выходит луна со ста одинаковыми лицами, серебряные монеты плачут навзрыд в кармане»). Скажем так: множественной луне в небе отвечает россыпь серебряных мгновений в кармане человека. А до строк о столицей луне в стихотворении “La luna asoma” («Появляется луна») говорилось: “Nadie come naranjas / bajo la luna llena. / Es preciso comer / fruta verde y helada” («Никто не ест апельсины под полной луной. Нужно есть зеленые и студеные плоды»). Подразумеваются лимоны. Итак, нож — не для того, чтобы резать хлеб («мужчины ломают хлеб руками»). Нож — для того, чтобы перерезать им горло или вонзить его в сердце. И он должен быть золотым или серебряным, то есть цвета луныСмерти. (Богиня смерти, кстати сказать, металлическая — с «оловянной грудью», с «серебряным инеем взгляда». Из нее — монеты, из нее — ножи.) Такие ножи покупают, «чтобы украсить все алтари и увенчать колокольню». И «рыбаки, что победнее, ночью ловят при свете, который отбрасывают эти 285 www.russianeurope.ru лезвия». Так, конечно, не бывает на самом деле. Что же означает этот безумный поэтический образ? Я думаю, что множественность светящихся ножей у Лорки означает по сути то же, что множественность смотрящих на человека глаз в стихотворении Рильке «Архаический торс Аполлона» («…ведь здесь нет ни единого места, которое бы тебя не видело. Ты должен изменить свою жизнь»). Мир Лорки — это устремленные на него ножи, мир смотрит на него ножами. Здесь нет ни единого места, которое бы тебя не резало. Вот, к примеру, стихотворение «Перекресток» (в переводе В. Парнаха) из «Поэмы канте хондо»: Восточный ветер. Фонарь и дождь. И прямо в сердце нож. Улица — дрожь натянутого провода, дрожь огромного овода. Со всех сторон, куда ни пойдешь, прямо в сердце — нож126. А пьесе Лорки «Кровавая свадьба» мы и в самом деле встречаем зрячий нож. В определенный момент (в момент подчеркнутого присутствия или даже вмешательства судьбы) выходят сначала три дровосека, а затем, когда они 126 В подлиннике — кинжал. 286 www.russianeurope.ru уходят, «появляется Луна в виде молодого дровосека с бледным лицом», который говорит: Луна забросила свой нож, и он повис во мгле туманной. Он соглядатай верный мой, он хочет скорбью стать кровавой127. В подлиннике: “La luna deja un cuchillo / abandonado en el aire, / que siendo acecho de plomo / quiere ser dolor de sangre”. — «Луна оставляет нож покинутым в воздухе, который, будучи свинцовым дозором, хочет быть кровавой болью». О ноже (и ножах) мы слышим и в самом начале пьесы: Мать. Сынок, завтрак. Жених. Нет. Поем винограду. Дай мне нож. Мать. Зачем? Жених (смеясь). Срезать гроздья. Мать (сквозь зубы, ища нож). Нож, нож... Будь они прокляты, все ножи и тот бездельник, что их выдумал... Жених. Поговорим о другом. Ладушки, ладушки..., или Каменный глаз (Ритуальный жест и его последствия в романе Сартра «Тошнота») Не знаю, подчинялись ли мне в те минуты руки; мне казалось, если бы я предоставил рукам делать, что они захотят, они стали бы благодаря неведомой побудительной причине действовать сами собой и так, что я 127 Перевод Ф. Кельина. 287 www.russianeurope.ru уже не смог бы вмешаться в их движения. Если бы я не следил все время за своим телом, невольно не подкарауливал бы его, оно могло натворить такое, чего я и сам не ожидал. Эти чувства появились во мне давно, когда я только начал разлагаться заживо. Садек Хедаят «Слепая сова» 1 В начале романа «Тошнота» (1938) Сартр дает ключ к своему произведению. Герой романа, Антуан Рокантен, берет в руку плоский камушек (чтобы запустить его по воде рикошетом). Снизу этот камушек оказывается влажным и грязным. Брезгиво подержав камушек некоторое время, Антуан роняет его и уходит. Всякому, кто запускал так камушки, знакома эта беда — нет-нет да и попадется камень, грязный снизу. А ты уже взял его в руку. Неприятно, однако жизнь после этого, как говорится, продолжается. А вот у Антуана Рокантена она на этом останавливается — его накрывает Тошнота. Эта перемена в герое и является содержанием романа: «Пожалуй, лучше всего делать записи изо дня в день. Вести дневник, чтобы докопаться до сути. Не упускать оттенков, мелких фактов, даже если кажется, что они несущественны, и, главное, привести их в систему. Описывать, как я вижу этот стол, улицу, людей, мой кисет, потому что это-то и изменилось. Надо точно определить масштаб и характер этой перемены. <...> В субботу мальчишки бросали в море гальку — «пекли блины», — мне захотелось тоже по их примеру бросить гальку в море. И вдруг я замер, выронил камень и ушел. Вид у меня, наверно, был странный, потому что мальчишки смеялись мне вслед. Такова сторона внешняя. То, что произошло во мне самом, четких следов не оставило. Я увидел нечто, от чего мне стало противно, но теперь я уже не знаю, смотрел ли я на море или на камень. Камень был гладкий, с одной 288 www.russianeurope.ru стороны сухой, с другой — влажный и грязный. Я держал его за края, растопырив пальцы, чтобы не испачкаться». Потом Антуан не раз еще вспомнит эту гальку: «Предметы не должны нас беспокоить: ведь они не живые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны — вот и все. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступать с ними в контакт, как если бы они были живыми существами! Теперь я понял — теперь мне точнее помнится то, что я почувствовал однажды на берегу моря, когда держал в руках гальку. Это было какое-то сладковатое омерзение. До чего же это было гнусно! И исходило это ощущение от камня, я уверен, это передавалось от камня моим рукам. Вот именно, совершенно точно: руки словно бы тошнило». «А пошло это с того злополучного дня, когда я хотел бросить в воду гальку. Я уже собрался швырнуть камень, поглядел на него, и тут-то все и началось: я почувствовал, что он существует128. После этого Тошнота повторилась еще несколько раз: время от времени предметы начинают существовать в твоей руке». Можно просто прикоснуться к камню (например, с какой-либо бытовой целью), а можно прикоснуться к камню, совершая ритуальный жест. И такое ритуальное прикосновение чревато переменой. Если бы Антуан был не жалким французом между двумя мировыми войнами, но благополучным первобытным человеком, то его ритуальный жест прикасания к камню выглядел бы примерно следующим образом. Антуан входит в пещеру. У стены пещеры — погребения предков. (Все они тоже Антуаны.) Антуан приближается к стене и кладет на нее ладонь. Может быть, гладит стену ладонью. Каменная толщь стены как бы истончается, стена становится тончайшей — чуть ли не прозрачной — перегородкой. С другой стороны стены становится видна (или только ощущается) другая ладонь, ладоньдвойник. Ладонь Антуана встречается с ладонью его умершего предка (пра128 existe. 289 www.russianeurope.ru Антуана). Каково при этом чувство Антуана? Видимо, оно похоже на чувство, которое испытывает человек, приходящий к могиле родителя, ухаживающий за ней, сидящий возле нее и в глубине души беседующий с умершим. Первобытный Антуан и печалится, и черпает силы от этой встречи («печаль моя светла»). «Пещера рук» в Патагонии, 9-ое тысячелетие до н. э. Запечатлены в основном левые руки, причем руки мальчиков-подростков. Это позволяет предположить, что нанесение изображения своей руки входило в обряд инициации. Что же касается Антуана двадцатого века, Антуана из романа Сартра, то он, притрагиваясь к камню, встречается с чудовищем. Камушек Антуана — это, так сказать, мини-стена. «Камень был гладкий, с одной стороны сухой, с 290 www.russianeurope.ru другой — влажный и грязный. Я держал его за края, растопырив пальцы, чтобы не испачкаться». «...я почувствовал, что он существует». Иными словами, прикасаешься к стене — и чувствуешь вдруг: за ней кто-то есть. Кто-то живой («влажный») и страшный («грязный»). Наш Антуан, в отличие от первобытного Антуана, не будучи должным образом подготовленным к подобной встрече, испытывает отнюдь не светлую печаль, но «тошноту». 2 Чтобы понять Сартра (и экзистенциализм вообще) удобно зайти со стороны мифа. Для такого захода познакомимся со статьей Софьи Залмановны Агранович «Печаль моя светла»129 — о ритуальном жесте прикосновения к стене пещеры, перенесенном затем на ритуальный жест прикосновения к печи. Вот выдержки из нее, важные именно для нашей темы: «Гипотетическая логика первобытного сознания представляется нам следующим образом. Стена мыслилась, вероятно, как внутренняя сторона пещеры — обиталища первобытных людей. Через эту стену осуществляется магический контакт потомков с предками посредством соприкосновения ладоней». «В известной игре в салочки игрок, не желающий быть пойманным (стать жертвой), «застукивается» ударом (касанием) ладони о стену, живое дерево (мыслящееся как мировое) или столб (воспринимаемый, вероятно, так же). Характерно, что по условиям игры «застукиваться» о дверь (даже плотно закрытую) нельзя, ибо игра, вероятно, «помнит» дверь лишь как сквозной проем. Излишне, наверное, напоминать, что удар ладони о В книге: С.З. Агранович, Е.Е. Стефанский «Миф в слове: продолжение жизни. Очерки по мифолингвистике». 129 291 www.russianeurope.ru плоскость, выполняющую функцию границы миров (или мирового дерева), сопровождается прямым обращением к предку: «Чур, меня! Чур, не я!» В другой игре — «в ладушки» (в ладошки) — играющие касаются ладонями друг друга, вероятно имитируя встречу, соединение живых и мертвых, предков и потомков. Показательно, что сейчас эта игра практикуется между ребенком, сознание которого только пробуждается, и взрослым. Фольклор сохранил и донес до нас далеко не такую невинную и детскую, как теперь кажется, песенку: Ладушки, ладушки, Где были? — У бабушки. Чего ели? — Кашку. Чего пили? — Бражку. Кашка сладенька, Бражка хмеленька. Сохранившийся в этой песенке ритуальный диалог вводит нас в обстановку тризны и ритуального общения с предками при помощи касания ладонями». «Печь может быть понята прежде всего как модель обитаемой людьми пещеры с горящим в центре огнем... <...> Одновременно печь осмысливается как человеческое тело. Характерно в связи с этим, что для названия ее частей употребляются слова, обозначающие части человеческого тела (см. чело, устье, щеки, ноги, плечи, хайло). В этом отношении характерна приводимая В. И. Далем пословица В печи тесно, а в брюхе просторно (о жадных хозяевах). Любопытно, что в русских народных сказках встречается печь-волшебная помощница, стоящая вне дома, на открытом пространстве, но растопленная и полная ритуальной пищи (пироги). Она выполняет активную функцию в испытании, которое проходит главная героиня сказки, ведет с ней диалог. Устье печки уподоблялось и женскому лону. Недаром героиня сказки «Гуси-лебеди», прячась от преследователей, «села в устьецо». 292 www.russianeurope.ru Представление об устье как женском лоне отразилось и в загадке про печь: Стоит баба на юру, кто ни идет, всяк — в дыру, кто ни вскочит, всяк захохочет. <...> Такое же восприятие печи отразилось и в свадебном обряде. <...> Одновременно устье печи осмысливалось и как рот. Это отразилось, в частности, в поверьях о том, что если печь не закрывать заслонкой, то после смерти у покойника «рот буде роззявлен». <...> Одновременно печь, в которой выпекается хлеб и варится пища, не может не мыслиться как алтарь, место жертвоприношений, место первобытной евхаристии. Сакральность печи зафиксирована в поговороках, запрещающих срамные речи, потому что печь в хате. <...> Вертикальная топография печи уподобляет ее (так же, как и печной столб) мировому дереву. Топография эта трехчастная. Сначала дымовой волок и дым, а затем труба и дым — это верхний, небесный мир. Основное «тело» печи — мир земной, человеческий, упорядоченный космос. <...> Подпечье, голбец130, погреб, который располагался непосредственно под печью, связаны с миром мертвых, миром предков, хтоническим хаосом. С семиотикой печной вертикали связаны многие обряды и обычаи. <...> В мифологии восточных славян печная труба связывала жилище с иным миром, «тем светом», Вереем (Иреем), куда души мертвых улетали, подобно птицам (навьям). <...> Снизу печь была связана с хтоническим пространством. Как за печью, так и под печью живет домовой, соединяющий в себе признаки архаического тотема и антропоморфного предка. По древнему ритуалу, под полом и особенно в той части дома, где стояла печь, буквально располагался мир мертвых. В глубокой древности похороны под печью, в подполе, под голбцом были не исключением, а правилом. <...> Любопытно, что в повести Н. В. Гоголя «Вий» казаки, выносящие гроб панночки из дома в церковь, производят определенный обряд: «Пришедши в 130 Пристройка у печи с входом в подполье, а также само подполье или погреб. 293 www.russianeurope.ru кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевши мертвеца». Гоголь фиксирует известное не только на Украине ритуальное действие, связанное с печью. Этнографы отмечают независимость этого действия от погоды, времени года и т. д. Поведение казаков понятно: причина смерти панночки неизвестна (она вернулась ночью избитая и умерла), и потому панночка является так называемым «заложным» покойником. Естественно, она должна вызывать страх. Кроме того, ходило множество слухов о ее прижизненной ритуальной нечистоте — причастности к иному, чуждому миру, что на фоне христианской культуры воспринималось как знак продажи души дьяволу. Герои «Вия», люди приблизительно чередины XVII века, прикасаясь к печи, исполняют уже малопонятный им ритуал, смысл которого, вероятно, заключается в следующем. Видя опасность в чужом, враждебном, ритуально нечистом покойнике, они обращаются за помощью, поддержкой и защитой к умершим предкам и их магической мощи131. <...> Как мы видим, прикосновение раскрытых ладоней к печи имело особое значение. Независимо от погоды и времени года к печи прикасалась ладонями сваха, которую по этому жесту и узнавали. <...> Сваха должна была увести невесту в другой мир, и первое, что она делала, входя с этой целью в дом, было ее обращение к умершим предкам невесты. <...> Прикосновение к печи, как мы видим, свойственно для всех переломных моментов в жизни человека: рождение, брак, смерть. Так, во время родильного обряда после омовения младенца баба-повитуха дотрагивалась ножками новорожденного до печки и обходила с ним вокруг очага». «Показательно, что именно с печью связан так называемый «иронический удачник», сказочный герой (обычно младший из братьев или сестер: Ивандурак, Емеля, Золушка), который пересыпает золу, сидит и даже ездит на печи. Генетически этот образ (как и образ просидевшего на печи тридцать 131 Сущностная форма: Человек ↔ Печь ↔ Дух предка. 294 www.russianeurope.ru лет и три года Ильи Муромца) восходит к представлению об умирающем и возрождающемся предке, начинающем новый круг жизни, или о герое, проходящем инициацию. Любопытно, что главный герой саги о Гамлете из третьей книги Саксона Грамматика «Деяния датчан», образ которого построен по модели «иронического удачника», притворяясь дураком, часто сидел у очага и «сгребал руками тлеющую золу»». Заметим также удобное различение, которое Агранович вводит для чувств по отношению к умершему предку. Если герой соприкасается с предком ладонью (через стену пещеры или стенку печи), то он испытывает печаль132 («светлую печаль»). Если герой не контактирует с предком, то он испытывает скуку (и при этом съеживается). Это, между прочим, как раз случай Антуана Рокантена: «Только не шевелиться, главное — не шевелиться… ох! Мне не удалось удержаться, и я повел плечами. Я потревожил вещь, которая ждала, она обрушилась на меня, она течет во мне, я полон ею. Ничего особенного: Вещь — это я сам. Существование133, освобожденное, вырвавшееся на волю, нахлынуло на меня. Я существую. Существую. Это что-то мягкое, очень мягкое, очень медленное». «Мир ждал, съежившись, затаив дыхание, — ждал своего кризиса, своей Тошноты...» (Тут надо заметить, что контакт с предком у Антуана все же намечается, однако он не понимает, что же там за чудовище за стеной. Готовое, кажется, вырваться наружу и поглотить героя. Скука Антуана перетекает в страх. Видимо, его «тошнота» и есть смесь скуки и страха.) 132 133 Автор показывает в этой статье, что слово «печаль» от «печи» и произошло. l’existence. 295 www.russianeurope.ru Сальвадор Дали. Одиночество, 1931 год. 296 www.russianeurope.ru Если же, наоборот, самому умершему предку не удается выйти на связь, то этот предок испытывает тоску! Иными словами, тоска — это чувство, которое испытывает мертвый по отношению к живым. (Например, тоску испытывают Снегурочка или Русалочка.) Нам-то что до этого? Но дело в том, что мы сами не всегда вполне живы, — и тогда нас, словно мертвецов, тянет к живым... 3 Герой Сартра чувствует, что его прикосновение к камню вдруг оказалось ритуальным. Чувствует, что даром ему это прикосновение не пройдет. Но он уже не может остановится — и на протяжении романа неоднократно повторяет ритуальный жест (прикасается к разным вещам134). И каждый раз ему от этого не по себе. Еще бы, ведь с другой стороны стены — чудовище. Ладонь Антуана нащупывает мертвеца, который оживает, при этом продолжая разлагаться. И каждая его часть, отделившаяся в результате разложения, также оживает. Все эти части становятся щупальцами, которые тянутся к нашему герою. Чудовище существует — и от его вида тошнит. Вот, например, Антуан садится в трамвай и прикасается ладонью к трамвайной скамейке, обтянутой красным плюшем: «Я опираюсь рукой на сиденье, но тут же отдергиваю руку — эта штуковина существует. Вещь, на которой я сижу, на которую я оперся рукой, называется сиденье. Они нарочно всё сделали так, чтобы можно было сидеть: взяли кожу, пружины, ткань и принялись за работу, желая смастерить сиденье, а когда закончили, получилось вот это. Они принесли это сюда, вот в этот ящик, и теперь ящик катится, качается, и стекла в нем дрожат, и в своей утробе он несет эту красную штуку. Да это же Например: «Моя рука сжимает ручку десертного ножа. Я чувствую черную деревянную ручку. Ее держит моя рука. Моя рука. Лично я предпочел бы не трогать ножа: чего ради вечно к чему-нибудь прикасаться? Вещи созданы не для того, чтобы их трогали. Надо стараться проскальзывать между ними, по возможности их не задевая. Иногда возьмешь какую-нибудь из них в руки — и как можно скорее спешишь от нее отделаться. Нож падает на тарелку». 297 www.russianeurope.ru 134 скамейка, скамейка, шепчу я, словно заклинание. Но слово остается у меня на губах, оно не хочет приклеиться к вещи. А вещь остается тем, что она есть со своим красным плюшем, который топорщит тысячу мельчайших красных лапок, стоящих торчком мертвых лапок. Громадное повернутое кверху брюхо, окровавленное, вздутое, ощерившееся всеми своими мертвыми лапками, брюхо, плывущее в этом ящике, в этом сером небе, — это вовсе не сиденье. С таким же успехом это мог бы быть, к примеру, издохший осел, который, раздувшись от воды, плывет по большой, серой, широко разлившейся реке, а я сижу на брюхе осла, спустив ноги в светлую воду. Вещи освободились от своих названий. Вот они, причудливые, упрямые, огромные, и глупо называть их сиденьями и вообще говорить о них чтонибудь. Я среди Вещей, среди не поддающихся именованию вещей. Они окружили меня, одинокого, бессловесного, беззащитного, они надо мной, они подо мной». Можно заниматься философией (но это не мое — я просто чувствую жанровый запрет), а можно рассматривать картинки. И смотреть, что на что похоже. Сиденье трамвая, которое трогает Антуан, не просто похоже на «Падаль» Бодлера, а именно оттуда и принесено. В этом стихотворении поэт приглашает свою Прекрасную Даму к созерцанию мертвого большого животного (скорее всего, лошади), при этом разлагающееся животное кажется живущим множеством своих частей — оно «воплощает» в себе весь мир и в особенности саму Прекрасную Даму, что автор и спешит ей сообщить. В общем, перед нами некая териоморфная богиня — дарительница жизни и смерти. Привожу целиком, в оригинале и дословном переводе: Une charogne (Падаль) Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme (вспомните предмет, который мы видели, моя душа), 298 www.russianeurope.ru Ce beau matin d’été si doux (этим прекрасным, столь сладостным летним утром): Au détour d’un sentier une charogne infâme (на повороте тропинки отвратительную падаль) Sur un lit semé de cailloux (на ложе, усеянном камнями), Les jambes en l’air (/подняв/ ноги в воздух), comme une femme lubrique (словно похотливая женщина), Brûlante et suant les poisons (разгоряченная и источая яды), Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique (открывала равнодушным и циничным образом) Son ventre plein d’exhalaisons (свой живот, полный выделений/испарений). Le soleil rayonnait sur cette pourriture (солнце бросало лучи/светило на это гниение), Comme afin de la cuire à point (словно чтобы ее поджарить), Et de rendre au centuple à la grande Nature (и вернуть в стократном размере великой Природе) Tout ce qu’ensemble elle avait joint (всё, что она сложила воедино); Et le ciel regardait la carcasse superbe (и небо смотрело, как великолепный остов) Comme une fleur s’épanouir (словно цветок, распускается). La puanteur était si forte, que sur l’herbe (вонь была столь сильной, что на траве) Vous crûtes vous évanouir (вы чуть не лишились чувств: «вам показалось, что вы лишаетесь чувств»). Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride (мухи гудели на этом гнилом животе), 299 www.russianeurope.ru D’où sortaient de noirs bataillons (откуда выходили черные батальоны) De larves, qui coulaient comme un épais liquide (личинок, которые текли, словно густая жидкость) Le long de ces vivants haillons (вдоль этих живых лохмотий). Tout cela descendait, montait comme une vague (все это опускалось, поднималось, словно волна), Ou s’élançait en pétillant (или быстро вздымалось, искрясь); On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague (ты сказал бы, что тело, раздутое неясным дыханием), Vivait en se multipliant (живет, множась/размножаясь). Et ce monde rendait une étrange musique (и этот мир издавал странную музыку), Comme l’eau courante et le vent (словно текущая вода и ветер), Ou le grain qu’un vanneur d’un mouvement rhythmique (или зерно, которое веяльщик ритмичным движением) Agite et tourne dans son van (встряхивает и переворачивает в своем решете). Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve (формы стирались/исчезали и были не более чем сновидением), Une ébauche lente à venir (запаздывающим наброском = долго не могущим превратиться в картину: «медленным = медлящим приходить»), Sur la toile oubliée (на забытом полотне), et que l’artiste achève (и который художник заканчивает) Seulement par le souvenir (только по памяти). Derrière les rochers une chienne inquiète (за скалами беспокойная сука) 300 www.russianeurope.ru Nous regardait d’un œil fâché (смотрела на нас сердитым взглядом: «глазом»), Épiant le moment de reprendre au squelette (поджидая мгновение, чтобы снова взять/схватить у скелета) Le morceau qu’elle avait lâché (кусок, который она отпустила = чтобы снова приняться за кусок…). — Et pourtant vous serez semblable à cette ordure (и все же вы будете подобны этой грязи/мерзости), À cette horrible infection (этой ужасной зловонной гадости), Étoile de mes yeux, soleil de ma nature (звезда моих глаз, солнце моей природы = моего естества), Vous, mon ange et ma passion (вы, мой ангел и моя страсть)! Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces (да! таковой вы будете, о королева прелестей/граций), Après les derniers sacrements (после соборования: «после последних таинств/причастий»), Quand vous irez (когда вы отправитесь: «пойдете»), sous l’herbe et les floraisons grasses (под траву и тучные цветения), Moisir parmi les ossements (гнить среди костей/останков). Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine (тогда, о моя красота = красавица, скажите червям) Qui vous mangera de baisers (которые будут пожирать вас поцелуями), Que j’ai gardé la forme et l’essence divine (что я сохранил божественную форму и сущность) De mes amours décomposés (моей разложившейся любви: «моих разложившихся любовей»)! 301 www.russianeurope.ru Итак, камушек с одной стороны сухой, с другой — влажный и грязный. Это поверхность, таящая за собой оживающего мертвеца. Влажность означает то, что мертвец жив, а грязь — что он не перестал быть мертвецом. В камушке Антуана заключено то, что я называю сущностной формой (и ему становится не по себе, когда она оказывается у него в руке): Антуан ↔ Камушек (каменная стена) ↔ Живой мертвец (чудовище) 4 Когда я читал «Тошноту», меня мучило: на что же это так страшно похоже? И в какой-то момент я вдруг вспомнил: «Русалочка» Андерсена! А именно жуткий подводный мир, каким он предстает во время визита русалочки к морской ведьме: «И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Еще ни разу не доводилось ей проплывать этой дорогой; тут не росли ни цветы, ни даже трава — кругом был только голый серый песок; вода за ним бурлила и шумела, как под мельничным колесом, и увлекала за собой в пучину все, что только встречала на своем пути. Как раз между такими бурлящими водоворотами и пришлось плыть русалочке, чтобы попасть в тот край, где владычила ведьма. Дальше путь лежал через горячий пузырящийся ил, это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом: вместо деревьев и кустов в нем росли полипы — полуживотные-полурастения, похожие на стоглавых змей, выраставших прямо из песка; ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелиться от корня до самой верхушки и хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уж больше не выпускали. Русалочка в испуге остановилась, сердечко ее забилось от страха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце и собралась с духом: крепко обвязала вокруг головы 302 www.russianeurope.ru свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы, скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянулись к ней своими извивающимися руками. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удалось им схватить: белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего! Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противное желтоватое брюхо, большие, жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей; тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка, груди. — Знаю, знаю, зачем ты пришла! — сказала русалочке морская ведьма. — Глупости ты затеваешь, ну да я все-таки помогу тебе — на твою же беду, моя красавица! Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить, как люди. Хочешь, чтобы юный принц полюбил тебя. И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба и ужи попадали с нее и шлепнулись на песок». В общем, Сартр отдыхает. Впрочем, пусть поработает (а мы сравним): «Меня охватила самая настоящая паника. Я уже не соображал, куда я иду. Я помчался вдоль доков. Свернул в пустынные улицы квартала Бовуази — дома уставились на мою бегущую фигуру своими угрюмыми глазами. "Куда идти? Куда?" — тоскливо повторял я. Случиться может все. Время от времени я с бьющимся сердцем резко оборачивался назад. Что происходит за моей спиной? Может, это начнется позади меня, и, когда я внезапно обернусь, будет уже поздно? Пока я в состоянии держать предметы в поле моего зрения, ничего не случится, вот я и пожирал глазами мостовую, дома, 303 www.russianeurope.ru газовые рожки; взгляд мой перескакивал с одного предмета на другой, чтобы захватить их врасплох, остановить в разгар их превращения. Вид у них был какой-то неестественный, но я настойчиво убеждал себя: "Это газовый рожок, это водоразборная колонка" и пытался властью своего взгляда вернуть им их повседневный вид. Часто на моем пути попадались бары: "Бретонское кафе", "Морской бар". Я останавливался, в нерешительности медлил перед их розовыми тюлевыми занавесками: может, эти плотно занавешенные пивнушки метаморфоза обошла стороной, может, в них еще осталась частица вчерашнего мира, огражденная и забытая. Но чтобы убедиться в этом, надо открыть дверь, войти. Я не решался; я продолжал свой путь. В особенности меня пугали двери домов. Я боялся, что они откроются сами собой. В конце концов я зашагал посреди улицы. Внезапно я оказался на набережной Северных Доков. Рыбачьи лодки, маленькие яхты. Я поставил ногу на бухту веревок в каменном гнезде. Здесь, вдали от домов, вдали от дверей, я воспользуюсь минутной передышкой. На спокойной, испещренной черными горошинами воде плавала пробка. "А под водой? Ты подумал о том, что может находиться под водой?" Скажем, какое-то животное. Огромный панцирь, наполовину увязший в грязи. Двенадцать пар ног медленно копошатся в тине. Время от времени животное слегка приподнимается. В водной глубине. Я подошел, высматривая признаки ряби, слабого волнения. Но пробка неподвижно застыла среди черных горошин». Итак, герой бежит, подобно русалочке, а вокруг вещи, готовые к метаморфозе (к превращению во что-то вроде полипов). В конце же пути вот что: Антуан ↔ Поверхность воды (вместо камня, но и камень здесь есть — он прикинулся пробкой135) ↔ Какое-то (мифическое) животное, обильное лапками. Поверхность воды, кажется, отождествлялась с поверхностью камня и в сцене с галькой: «Я увидел нечто, от чего мне стало противно, но теперь я уже не знаю, смотрел ли я на море или на камень». 135 304 www.russianeurope.ru 5 Превращение, метаморфоза происходит со всеми вещами. И происходит согласно «сущностной форме»: человек ↔ стена ↔ зверь (или червь, или краб, или какое-либо насекомое, желательно с многочисленными лапками). Во-первых, с предметами (скамейка в трамвае и многие другие вещи в романе). Во-вторых, с другими людьми: «... что-то новое появилось в моих руках — в том, как я, скажем, беру трубку или держу вилку. А может, кто его знает, сама вилка теперь как-то иначе дается в руки. Вот недавно я собирался войти в свой номер и вдруг замер — я почувствовал в руке холодный предмет, он приковал мое внимание какой-то своей необычностью, что ли. Я разжал руку, посмотрел — я держал всего-навсего дверную ручку. Или утром в библиотеке, ко мне подошел поздороваться Самоучка, а я не сразу его узнал. Передо мной было незнакомое лицо и даже не в полном смысле слова лицо. И потом, кисть его руки, словно белый червяк в моей ладони. Я тотчас разжал пальцы, и его рука вяло повисла вдоль тела. То же самое на улицах — там множество непрестанных подозрительных звуков. Стало быть, за последние недели произошла перемена. Но в чем?» В-третьих, с частями тела самого Антуана: «Я вижу кисть своей руки. Она разлеглась на столе. Она живет — это я. Она раскрылась, пальцы разогнулись и торчат. Рука лежит на спине. Она демонстрирует мне свое жирное брюхо. Она похожа на опрокинувшегося на спину зверька. Пальцы — это лапы. Забавы ради я быстро перебираю ими – это лапки опрокинувшегося на спину краба. Вот краб сдох, лапки скрючились, сошлись на брюхе моей кисти. Я вижу ногти — единственную частицу меня самого, которая не живет. А впрочем. Моя кисть перевернулась, улеглась ничком, теперь она показывает мне свою спину. 305 www.russianeurope.ru Серебристую, слегка поблескивающую спину — точь-в-точь рыба, если бы не рыжие волоски у основания фаланг. Я ощущаю свою кисть. Два зверька, шевелящиеся на концах моих рук, — это я. Моя рука почесывает одну из лапок ногтем другой. Я чувствую ее тяжесть на столе, который не я. Это ощущение тяжести все длится и длится, оно никак не проходит. Да и с чего бы ему пройти. В конце концов это невыносимо… Я убираю руку, сую ее в карман. Но тут же сквозь ткань начинаю чувствовать тепло моего бедра. Я тотчас выбрасываю руку из кармана, вешаю ее на спинку стула. Теперь я чувствую ее тяжесть в запястье. Она слегка тянет, чуть-чуть, мягко, дрябло, она существует. Я сдаюсь — куда бы я ее ни положил, она будет продолжать существовать, а я буду продолжать чувствовать, что она существует; я не могу от нее избавиться, как не могу избавиться от остального моего тела, от влажного жара, который грязнит мою рубаху, от теплого сала, которое лениво переливается, словно его помешивают ложкой, от всех ощущений, которые гуляют внутри, приходят, уходят, поднимаются от боков к подмышке или тихонько прозябают с утра до вечера в своих привычных уголках». 306 www.russianeurope.ru Сальвадор Дали. Рука, 1930 год. Отдельно существующая кисть руки есть и в фильме Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали «Андалузский пес» (1929), причем дважды: во-первых, просунутая в дверь и покрытая муравьями, вовторых, отрезанная и лежащая на тротуаре (и как бы живая — поскольку ее шевелят палкой). Обратим попутно внимание на то, что «существование» есть некая переливающаяся, густая жидкость (одновременно и живая, и мертвая — вялая), которая внутри всего и в которую при этом все погружено. Это «тина» (Сартр), «торфяное болото» (Андерсен). Это «какое-то животное» (Сартр). Вот метаморфоза лица Антуана. Лицо превращается в аморфную массу — неживую, но при этом как-то жутко (на каком-то низшем уровне, на уровне мелких своих частей) оживающую: «На стене зияет белая дыра – зеркало. Это ловушка. И я знаю, что попадусь в нее. Так и есть. В зеркале появилось нечто серое. Подхожу, гляжу и отойти уже не могу. Это отражение моего лица. В такие гиблые дни я часто его рассматриваю. Ничего я не понимаю в этом лице. Лица других людей наделены смыслом. Мое — нет. Я даже не знаю, красивое оно или уродливое. Думаю, что уродливое — поскольку мне это говорили. Но меня это не волнует. По сути, меня возмущает, что лицу вообще можно приписывать такого рода свойства — это все равно что назвать красавцем или уродом горсть земли или кусок скалы. Впрочем, есть одна вещь, которая радует глаз: повыше вялого пространства щек, повыше лба мой череп золотит прекрасное рыжее пламя — мои волосы. Вот на них смотреть приятно. По крайней мере, это совершенно определенный цвет, и я доволен, что я рыжий. В зеркале это особенно бросается в глаза — волосы лучатся. Все-таки мне повезло: если 307 www.russianeurope.ru бы мой лоб украшала тусклая шевелюра, из тех, что никак не могут решиться, пристать им к блондинам или к шатенам, лицо мое расплылось бы мутным пятном, и меня воротило бы от него. Мой взгляд медленно и неохотно скользит вниз — на лоб, на щеки: ничего устойчивого, все зыбко. Само собой, нос, глаза и рот на месте, но все это лишено смысла, лишено даже человеческого выражения. Однако Анни и Велин находили, что у меня живая физиономия, — может, я к ней просто слишком привык. В детстве моя тетка Бижуа говорила мне: «Будешь слишком долго глядеться в зеркало, увидишь в нем обезьяну». Но должно быть, я гляделся еще дольше — то, что я вижу в зеркале, куда ниже обезьяны, это нечто на грани растительного мира, на уровне полипов. Я не отрицаю, это нечто живое, но не об этой жизни говорила Анни; я вижу какие-то легкие подергивания, вижу, как трепещет обильная, блеклая плоть. С такого близкого расстояния в особенности отвратительны глаза. Нечто стеклянистое, податливое, слепое, обведенное красным — ну в точности рыбья чешуя. Всей тяжестью навалившись на фаянсовую раму, я приближаю свое лицо к стеклу, пока оно не упирается в него вплотную. Глаза, нос, рот исчезают — не остается ничего человеческого. Коричневатые морщины по обе стороны горячечно вспухших губ, трещины, бугорки. Широкие покатости щек покрыты светлым шелковистым пушком, из ноздрей торчат два волоска: ну прямо рельефная карта горных пород. И несмотря ни на что, этот призрачный мир мне знаком. Я не то чтобы узнаю его подробности. Но все вместе вызывает у меня ощущение «уже виденного136», от этого я тупею и меня потихоньку клонит в сон. Мне хочется встряхнуться — живое, резкое ощущение помогло бы мне. Я прижимаю левую ладонь к щеке и оттягиваю кожу — в зеркале гримаса. Половина моего лица съехала в сторону, левая часть рта скривилась, вздулась, обнажив зуб: в расселине показалась белая выпуклость и розовая 136 déjà-vu. 308 www.russianeurope.ru кровоточащая плоть. Не к этому я стремился – опять ничего нового, ничего твердого, все мягкое, податливое, уже виденное! Засыпаю с открытыми глазами, и вот уже мое лицо в зеркале растет, растет, это огромный бледный, плавающий в солнечном свете ореол…» Роль камня (или поверхности воды) здесь играет зеркало. А к рыжим волосам героя мы еще вернемся. В-четвертых, метаморфоза происходит с самим героем в целом (и тут, конечно, привет Кафке): «Не знаю, куда пойти. Я застыл рядом с поваром из картона. Мне нет нужды оборачиваться, чтобы увериться в том, что они смотрят на меня сквозь стекло — смотрят на мою спину с удивлением и отвращением; онито думали, что я такой, как они, что я человек, а я их обманул. Я вдруг потерял свой человеческий облик, и они увидели краба, который, пятясь, удирал из этого слишком человечьего зала. Теперь разоблаченный самозванец спасся бегством – представление продолжается. Я чувствую спиной мельтешенье испуганных взглядов и мыслей, и меня это раздражает». Опять краб (как и с рукой)! Почему, собственно, краб? Потому что краб — это и есть ожившая галька. Думал — камушек, перевернул — а там какая-то грязная жизнь, шевелятся лапки137. Сравните с самым началом повести Кафки «Превращение»: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирнотвердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами». «Скажем, какое-то животное. Огромный панцирь, наполовину увязший в грязи. Двенадцать пар ног медленно копошатся в тине». 137 309 www.russianeurope.ru Панцирь насекомого у Кафки соответствует камню, сухой стороне гальки у Сартра, а коричневый живот и копошашиеся ножки — влажной и грязной стороне камушка. 6 В-пятых (или во-вторых?), метаморфоза происходит со временем. Пока речь шла о вещах, то есть о пространстве (будь то предметы или люди, включая самого рассуждающего). Во что же превращается время? Антуан смотрит на качающиеся на ветру ветки дерева. И вот время (в его проявлениях: в движении, в череде событий) на глазах у Антуана превращается пространство. Время, подобно пространству, становится вещью-крабом, многоголовым драконом, живым мертвецом, глядящим на героя множеством неподвижных глаз: «А потом внезапно перед глазами у меня вдруг что-то стало шевелиться и замелькали легкие, неопределенные движения — это ветер потряс верхушку дерева. Я, пожалуй, даже обрадовался, когда что-то зашевелилось у меня перед глазами, можно было отдохнуть от множества неподвижных существований, которые уставились на меня застывшим взглядом. Наблюдая, как покачиваются ветки, я говорил себе: движение всегда существует не вполне, оно — переходная ступень, посредник между двумя существованиями, разреженное время. Я приготовился увидеть, как движение возникает из небытия, как мало-помалу зреет и расцветает — наконец-то мне удастся подсмотреть, как существование рождается на свет. Но не понадобилось и трех секунд, чтобы все мои надежды рухнули. На колеблющихся ветках, слепо шаривших вокруг, я не мог уловить «переход» к существованию. <...> Все эти крошечные подрагивания были отделены друг от друга, выступали сами по себе. Они со всех сторон кишели на ветках и 310 www.russianeurope.ru сучьях. Они вихрились вокруг этих высохших рук, обволакивая их крохотными ураганами. Само собой, движение было чем-то иным, нежели дерево. И все равно это был абсолют. Вещь. Все, на что натыкался мой взгляд, было заполнено». Любопытно, что такое ощущение превращение времени в пространство вообще остро ощущалось писателями двадцатых и тридцатых годов XX века — например, Платоновым или Музилем138. А из художников в этой связи можно вспомнить Сальвадора Дали. Сальвадор Дали. Постоянство памяти, 1931 год. Движения нет, время остановилось. Нет движения веток, есть лишь набор разных их положений. Или вот идет старуха — и в ее передвижении нет 138 Я показываю это в работах «Весь горизонт в огне» и «Горячие и холодные эпохи русской поэзии». 311 www.russianeurope.ru движения времени, а есть лишь набор различных ее мест в пространстве (интересен и сам образ старухи как ведьмы, завладевшей временем): «Кое-что прибавилось. В ловушку зеркала я уже попадался. Зеркала я избегаю, но зато я попал в другую ловушку — ловушку окна. Праздный, вяло уронив руки, подхожу к нему. Стройплощадка, Забор, Старый вокзал — Старый вокзал. Забор, Стройплощадка139. Зеваю так широко, что на глазах выступают слезы. В правой руке у меня трубка, в левой — кисет. Надо набить трубку. Но сил у меня нет. Руки висят как плети, прижимаюсь лбом к оконному стеклу. Меня раздражает эта старуха. Взгляд растерянный, но упорно семенит вперед. Иногда пугливо останавливается, словно почуяв невидимую опасность. Вот она уже под моим окном, ветер облепил ей колени юбкой. Остановилась, поправляет платок. Руки у нее дрожат. Двинулась дальше — теперь я вижу ее со спины. Старая перечница! Наверно, сейчас свернет направо на бульвар Нуара. Ей осталось пройти метров сто — с ее скоростью это займет еще минут десять. Целых десять минут мне придется глядеть на нее, прижавшись лбом к стеклу. И еще раз двадцать она остановится, засеменит дальше, остановится снова… Я вижу будущее. Оно здесь, на этой улице, разве чуть более блеклое, чем настоящее. Какой ему прок воплощаться в жизнь? Что это ему даст? Старуха, ковыляя, уходит дальше, останавливается, заправляет седую прядь, выбившуюся из-под косынки. Она идет, она была там, теперь она здесь… Не пойму, что со мной — вижу я ее жесты или предвижу? Я уже не отличаю настоящего от будущего, и, однако, что-то длится, что-то постепенно воплощается, старуха плетется по пустынной улице, переставляя грубые мужские ботинки. Вот оно время в его наготе, оно осуществляется медленно, его приходится ждать, а когда оно наступает, становится тошно, потому что замечаешь, что оно давно уже здесь. Старуха дошла до угла, теперь она превратилась в узелок черного тряпья. Что ж, пожалуй, это что-то новое, только что она была не такой, когда 139 «Ночь, улица, фонарь, аптека...» 312 www.russianeurope.ru находилась в той стороне. Но новизна эта тусклая, заезженная, не способная удивить. Сейчас старуха свернет за угол, старуха сворачивает — проходит вечность. Я отрываюсь от окна, бреду, шатаясь, по комнате; влипаю в зеркало, смотрю на себя с омерзением — еще одна вечность. Наконец, избавился от своего изображения, валюсь на постель. Гляжу в потолок — хорошо бы заснуть». Не случайны здесь «забор» (вариант «стены») и «Старый вокзал» («вокзал» — движение, время, «старый» — остановившееся время, застывшее движение). 313 www.russianeurope.ru Сальвадор Дали. Преждевременное окостенение станции, 1931 год. 314 www.russianeurope.ru 7 Хорошо суммирует различные виды превращений восприятие Антуаном города Бувиля (в котором он живет во время написания своих записок). Камнем здесь работают каменные дома города, а «каким-то животным» — «Растительность»: «Что я выиграю от этой перемены? Не один город, так другой: один рассечен надвое рекой, другой окружен морем — если этого не считать, они похожи. Люди выбирают невозделанную, бесплодную землю и громоздят на нее громадные полые камни. В этих камнях заключены запахи, они тяжелее воздуха. Иногда их выбрасывают через окно на улицы, и они остаются там, пока их не разметает ветер. В ясную погоду в город с одной стороны вливаются шумы и, пройдя сквозь все стены, выходят с другой; бывает, они кружат среди камней, которые раскаляются на солнце, а на морозе покрываются трещинами. Я боюсь городов. Но уезжать из них нельзя. Если ты рискнешь оторваться от них слишком далеко, тебя возьмет в свое кольцо Растительность. Растительность, протянувшаяся на километры и километры, ползет к городам. Она ждет. Когда город умрет. Растительность вторгнется в него, вскарабкается вверх по камням, оплетет их, проберется внутрь и разорвет своими длинными, черными щупальцами; она лишит отверстия света и повсюду развесит свои зеленые лапы. Пока города живы, надо оставаться в них, нельзя одному проникать под густые космы у городских ворот — пусть себе колышутся и лопаются без свидетелей. В городах, если повести себя умело и выбрать часы, когда животные переваривают пищу или спят в своих убежищах за грудами продуктов распада органического мира, можно встретить только минералы — наименее страшное из всего, что существует». 315 www.russianeurope.ru Как видите, это все тот же камушек, та же галька. Тот же краб. «Минералы» же — это сухой камушек, без его влажной и грязной стороны. То есть непроницаемая стена. Стена, за которой нет чудовища. Потом вообще идет «картинка маслом», сплошной хлебников с достоевским — а именно недоверие к «стене» (то есть к «законам природы», к «дважды два четыре» — «Записки из подполья») и «бунт вещей» (краб зашевелил лапками140): «Я гляжу вниз на серое посверкивание Бувиля. Можно подумать, что это искрятся на солнце чешуйки раковин, обломки костей, гравий. Затерянные среди этих осколков крошечные кусочки стекла или слюды мерцают вдруг короткими вспышками. Желобки, рвы и узкие бороздки, бегущие между раковинами, через час превратятся в улицы, и я пойду по этим улицам вдоль стен домов. И сам стану одной из тех крошечных черных фигурок, которые я могу разглядеть на улице Булибе. Каким далеким от них я чувствую себя с вершины этого холма. Словно я принадлежу к другой породе. После рабочего дня они выходят из своих контор, самодовольно оглядывают дома и скверы, и думают: «Это наш город, красивый буржуазный город». Им не страшно, они у себя. Воду они видят только прирученную, текущую из крана, свет — только тот, который излучают лампочки, когда повернешь выключатель, деревья только гибридных, одомашненных видов, которые опираются на подпорки. Сто раз на дню они лицезрят доказательство того, что все работает как отлаженный механизм, все подчиняется незыблемым и непреложным законам. Тела, брошенные в пустоту, падают с одинаковой скоростью, городской парк каждый день закрывается зимой в шестнадцать часов, летом в восемнадцать; свинец плавится при температуре 335 градусов; последний трамвай отходит от Ратуши в двадцать три часа пять Поразительно, как образ стены тащит за собой образ насекомого. Так Грегор Замза ползает по стенам, так и герой «Записок из подполья», рассуждающий о стене, заявляет: «Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым». И разные виды насекомых появляются и в «Записках», и в других произведениях Достоевского, нередко играя в них ту же роль модели, что галька в «Тошноте» Сартра. 316 www.russianeurope.ru 140 минут141. Они уравновешенны, мрачноваты, они думают о Завтрашнем дне, то есть, попросту говоря, — об очередном сегодня: у городов бывает одинединственный день — каждое утро он возвращается точно таким, каким был накануне. Разве что по воскресеньям его стараются слегка прифрантить. Болваны! Мне противно думать, что я снова увижу их тупые, самодовольные лица. Они составляют законы, сочиняют популистские романы, женятся, доходят в своей глупости до того, что плодят детей. А между тем великая, блуждающая природа прокралась в их город, проникла повсюду — в их дома, в их конторы, в них самих. Она не шевелится, она затаилась, они полны ею, они вдыхают ее, но не замечают, им кажется, что она где-то вовне, за двадцать лье от города. А я, я вижу ее, эту природу, вижу… Я знаю, что ее покорность — не покорность, а лень, знаю, что законы для нее не писаны: то, что они принимают за ее постоянство… Это всего лишь привычки, и завтра она может их переменить. Ну, а если что-то случится? Если вдруг она встрепенется142? Тогда они заметят, что она тут, рядом, и сердце у них захолонет. Что проку им будет тогда от их плотин, насыпей, электростанций, от их домен и копров? Случиться это может когда угодно, хоть сию минуту — предзнаменований много. И тогда, например, отец семейства на прогулке увидит вдруг, как навстречу ему по дороге, словно подгоняемая ветром, несется красная тряпка. И когда тряпка окажется с ним рядом, он увидит, что это кусок запыленного гнилого мяса, которое тащится то ползком, то вприпрыжку, кусок истерзанной плоти в ручейках крови, которую она выбрасывает толчками. Или какая-нибудь мать взглянет на щеку своего ребенка и спросит: «Что это у тебя? Прыщик?» — и увидит, как щека вдруг припухла, треснула, приоткрылась и из трещины выглядывает третий Это, конечно, и есть «стена» из повести Достоевского «Записки из подполья». Практически цитата. «Встрепенуться» природа может и в самом человеке, как понимает герой «Записок»: «...а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!» Так Достоевский предвосхищает, в частности, русский футуризм (не говоря уж о революции в целом). 317 www.russianeurope.ru 141 142 глаз, смеющийся глаз. Или они почувствуют, как что-то мягко трется обо все их тело — так камыши в реке ласково льнут к пловцам. И они узнают, что их одежда ожила. А один из них почувствует, как что-то скребется у него во рту. Он подойдет к зеркалу, откроет рот — а это его язык стал огромной сороконожкой и сучит лапками, царапая ему небо. Он захочет ее выплюнуть, но это часть его самого, придется вырвать язык руками. И появится множество вещей, которым придется дать новые имена: каменный глаз, громадная трехрогая рука, ступня-костыль, челюсть-паук. И тот, кто заснул в своей мягкой постели, в своей теплой, уютной комнате, проснется голым на синеватой земле в шумящих зарослях детородных членов — красные и белые, они будут устремлены в небо, словно трубы Жукстебувиля, и огромные их мошонки вылезут из земли на поверхность, мохнатые, похожие на луковицы. А над фаллосами будут кружиться птицы и клевать их своими клювами, и из них будет сочиться кровь. И еще из ран потечет сперма, медленно, вяло потечет смешанная с кровью сперма, студенистая, теплая, в мелких пузырьках. Или ничего этого не случится, никаких явных изменений не произойдет, но люди проснутся однажды утром и, открыв ставни, удивятся какому-то жуткому смыслу, который внедрился в вещи и чего-то ждет. Только и всего, но стоит этому хоть немного продлиться, и люди сотнями начнут кончать с собой. Ну что ж, и пусть! Пусть хоть что-то изменится, лучшего мне не надо, поглядим, что тогда будет. Многие погрязнут вдруг в одиночестве. Одинокие, совершенно одинокие, зловещие уроды побегут тогда по улицам, валом повалят мимо меня, глядя в одну точку, спасаясь от своих бед и унося их с собой, открыв рот и высунув язык-насекомое, хлопающее крыльями. И тогда я расхохочусь, даже если мое собственное тело покроет подозрительная грязная короста, которая расцветет цветами плоти, лютиками и фиалками. Я привалюсь к стене и крикну бегущим мимо: «Чего вы добились вашей наукой? Чего вы добились вашим гуманизмом? Где твое достоинство, мыслящий тростник?» Мне не будет страшно — во всяком случае, не страшнее, чем 318 www.russianeurope.ru сейчас. Разве это не то же самое существование, вариации на тему существования? Третий глаз, который постепенно распространится по всему лицу, конечно, лишний, но не более чем два первых. Существование — вот чего я боюсь. Стемнело, город зажигает первые огни. Господи! Как он захлестнут природой, несмотря на все его геометрические линии, как давит на него вечер. Отсюда это так… так бросается в глаза. Неужели же один я это вижу? Неужели нет нигде другой Кассандры, которая вот так же стоит на холме и видит у своих ног город, поглощенный утробой природы. А впрочем, какая мне разница? Что я могу ей сказать?» Некоторые пояснения. По поводу вяло текущей студенистой спермы. «Существование» — этот «живой мертвец» (сперма — живая или нет?), это всепоглощающее, всепроникающее чудовище — принимает у Сартра вид различных тягучих, переливающихся жидкостей. Например: «Неужели мне привиделась эта чудовищная явь? Она была здесь в парке, она растеклась по нему, оседала на деревьях, вязкая, липкая, густая, как варенье. Неужели же я вместе со всем парком тоже был внутри нее? Я испугался, но в особенности обозлился, это было так глупо, так нелепо, я ненавидел этот гнусный мармелад. Но он был, он был! Он поднимался до самого неба, он распространялся вширь, он заполнял все своей студенистой расслабленностью...» Похожий «гнусный мармелад» вылезает из раздавленной Антуаном мухи: «На бумажной скатерти солнечный круг. По кругу ползет вялая муха, она греется, потирает одну о другую передние лапки. Окажу ей услугу и раздавлю ее. Она не видит, что над ней занесен указательный палец-гигант, поблескивающий на солнце золотистыми волосками. — Не убивайте ее, мсье, — кричит Самоучка. Раздавлена — из ее брюха вылезают маленькие белые потроха; я избавил ее от существования. 319 www.russianeurope.ru — Я оказал ей услугу, — сухо говорю я Самоучке». Тот же «гнусный мармелад», тот же «туман»143, кстати сказать, мы видим в повестях Кафки и Достоевского. У Кафки это «пасмурная погода», которая огорчает Грегора Замзу одновременно с осознанием его превращения в насекомое: «Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода — слышно было, как по жести подоконника стучат капли дождя — привела его и вовсе в грустное настроение. <...> В такие мгновения он как можно пристальнее глядел в окно, но к сожалению, в зрелище утреннего тумана, скрывшего даже противоположную сторону узкой улицы, нельзя было почерпнуть бодрости и уверенности. "Уже семь часов, — сказал он себе, когда снова послышался бой будильника, — уже семь часов, а все еще такой туман"». У Достоевского это «мокрый снег»: «Hынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега». Или вот, герой повести расписывает Лизе ее будущее: «Помрешь, — соберут наскоро, чужой рукой, с ворчаньем, с нетерпением, — никто-то не благословит тебя, никто-то не вздохнет по тебе, только бы поскорей тебя с плеч долой. Купят колоду, вынесут, как сегодня ту, бедную, выносили, в кабак поминать пойдут. В могиле слякоть, мразь, снег мокрый, — не для тебя же церемониться? «Спущай-ка ее, Ванюха; ишь ведь „учась“ и тут верх ногами пошла, таковская. Укороти веревки-то, пострел». — «Ладно и так». — «Чего ладно? Ишь на боку лежит. Человек тоже был али нет? Hу да ладно, засыпай». И ругаться-то из-за тебя долго не захотят. Туман пронизывает и роман Сартра. Например: «Из щели под дверью просачивался туман, мало-помалу он поднимется кверху и затопит все». 320 www.russianeurope.ru 143 Засыплют поскорей мокрой синей глиной и уйдут в кабак... Тут и конец твоей памяти на земле...» Заметьте, что «мокрый снег» — это то же самое, что камушек Антуана, «влажный и грязный» снизу: «В могиле слякоть, мразь, снег мокрый...» По поводу третьего глаза, выглядывающего из трещины. Он принесен сюда прямо из знаменитого стихотворения Жерара де Нерваля «Золотые стихи», которое оканчивается так: Crains (бойся), dans le mur aveugle (в слепой стене), un regard qui t'épie (взгляда, который тебя высматривает/за тобой подсматривает): À la matière même (к самой материи = даже к веществу) un verbe est attaché (привязан глагол = слово) ... Ne la fais pas servir à quelque usage impie (не заставляй его служить какому-нибудь нечестивому использованию)! Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché (зачастую в неприметном: «темном» существе живет сокрытый Бог); Et, comme un œil naissant (и, подобно нарождающемуся глазу) couvert par ses paupières (покрытому/скрытому своими веками), Un pur esprit (чистый дух/ум) s'accroît (растет) sous l'écorce des pierres (под оболочкой камней/под каменной коркой)! Разница в том, что Нерваль через «слепую стену» встречает взгляд Бога, а Сартр видит жуткий третий глаз, который ничем не лучше, чем два других, уже наличных (все они одинаково лишние, все они — части общей аморфной, однородной массы «существования»). Иными словами, Сартр видит глаз мертвеца, Кащея. Нужно соответствовать взгляду Кащея, нужно стать таким же. Вот Антуан и записывает в дневнике: 321 www.russianeurope.ru «...я буду жить как живой мертвец. Есть, спать. Спать, есть. Существовать вяло, покорно, как деревья, как лужа, как красное сиденье трамвая». По поводу вялости. И по поводу ее символа — бедных, страдающих фаллосов, которым так достается в фантазии Антуана. Краб шевелит лапками не потому, что он живой. Он мертвый. Он галька. Но он влажный и грязный (с другой стороны, снизу), он распадается. Он шевелится в результате распада, как «Падаль» Бодлера: Tout cela descendait, montait comme une vague (все это опускалось, поднималось, словно волна), Ou s’élançait en pétillant (или быстро вздымалось, искрясь); On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague (ты сказал бы, что тело, раздутое неясным дыханием), Vivait en se multipliant (живет, множась/размножаясь). Заряд кончился, движение возможно лишь как распад. У Эроса нет больше сил. Так и в другом месте: «Нет, я не могу смотреть на вещи такими глазами. Дряблость, слабость — да. Деревья зыбились. И это значило, что они рвутся к небу? Скорее уж они никли; с минуты на минуту я ждал, что стволы их сморщатся, как усталый фаллос, что они съежатся и мягкой, черной, складчатой грудой рухнут на землю. Они не хотели существовать, но не могли не существовать — вот в чем загвоздка». 8 В романе «Тошнота» есть Тошнота — и есть преодоление Тошноты. Роман Сартра до примитивности полярен: в нем бывает только абсолютный минус или абсолютный плюс. 322 www.russianeurope.ru Как преодолевается Тошнота? Чтобы это посмотреть, возьмем сначала небольшую пробу абсолютного минуса и затем кое-что с ней проделаем: «На сей раз я ступил в сточную канаву обеими ногами. Перехожу дорогу — на другой стороне улицы одинокий газовый фонарь, словно маяк на краю света, освещает щербатый, искалеченный забор. На досках еще держатся обрывки афиш. Красивое лицо на фоне звездообразно изорванного зеленого клочка искажено гримасой ненависти, под носом кто-то пририсовал закрученные кверху усы. На другом обрывке можно разобрать намалеванное белыми буквами слово «чистюля», из которого сочатся красные капли — может быть, кровь. Не исключено, что это лицо и это слово составляли части одной афиши. Теперь афиша изодрана в клочья, простые соединявшие их по изначальному замыслу связи распались, но между искривленным ртом, каплями крови, белыми буквами, окончанием «юля» само собой возникло новое единство; словно какая-то неутомимая, преступная страсть пытается выразить себя с помощью этих таинственных знаков. В просветах между досками поблескивают огоньки железной дороги. Рядом с забором тянется длинная стена». Забор и стена — это понятно, это стена пещеры. На стене пещеры был рисунок, нанесенный человеческой рукой. В данном случае — накленная афиша. Афиша оказалась изодранной — все задуманные человеком связи распались, но распавшиеся элементы вновь соединились: «...само собой возникло новое единство; словно какая-то неутомимая, преступная страсть пытается выразить себя с помощью этих таинственных знаков». Иными словами, испорченная афиша превратилась не в бессмысленный мусор, а (неожиданно и совершенно независимо от какого бы то ни было человеческого замысла) в картину (например, экспрессионистскую), в художественное произведение. Кто-то (видимо, с другой стороны стены) «пытается выразить себя с помощью этих таинственных знаков». Именно так и возникает художественное произведение. Сначала художник (совершенно неожиданно) видит мир отчужденно (чуть ли не сходя при этом 323 www.russianeurope.ru с ума): все привычные связи между вещами распадаются, каждая вещь от этого становится неузнаваема и агрессивна. Затем (столь же неожиданно) все вещи соединяются — но совершенно по-другому. И совершенно независимо от воли художника. Их так соединил некто, стоящий за вещами, по другую сторону стены. Художник воплощает это новое вúдение в художественном произведении (причем новые связи проявляются лишь в процессе его работы, давая художнику на каждом повороте пути, при каждом новом открытии то, что можно назвать счастьем). Вот один пример возникновения новых связей между старыми вещами в искусстве — из книги Рильке «Огюст Роден»: «Роден же <...> знает, что все тело состоит из сцен, на которых разыгрывается жизнь, жизнь, способная в каждом месте проявиться индивидуально и величественно. В его власти придать любому участку этой обширной колеблющейся плоскости самостоятельность и полноту целого. Как, с одной стороны, человеческое тело для Родена только тогда представляет целое, когда все его члены и силы служат общему (внутреннему или внешнему) действию, так, с другой стороны, и части разных тел, причастные друг к другу по внутренней необходимости, складываются для него в единый организм. <...> Имеется только единственная, тысячекратно движущаяся и меняющаяся поверхность». Именно такие «части разных тел, причастные друг к другу по внутренней необходимости» видит Антуан в нерукотворном произведении, возникшем из порванной афиши. Такое видение доступно не только художнику в буквальном смысле слова, но и любому человеку, который, так сказать, «художник в душе». И художественно может восприниматься не только то, что возникает перед глазами, но и то, что с человеком происходит, — так сказать, сюжет фильма его жизни. 324 www.russianeurope.ru Тут надо сказать о другом крайне полярном произведении, в котором, как и у Сартра, именно сама полярность и есть главная тема, отразившаяся в самом его названии. Я имею в виду роман Толстого «Война и мир». «Война» — это распадение связей между вещами, «мир» же — не состояние вещей до распада связей между ними, а состояние вещей после того, как «само собой возникло новое единство». Я уже не раз приводил примеры «войны» и «мира» из «Войны и мира» в других работах, приведу их еще раз (поскольку в новом контексте устанавливаются новые связи — и примеры играют новыми красками). Вот распад связей между вещами (предметами и явлениями): «Так это должно быть! — думал князь Андрей, выезжая из аллеи лысогорского дома. — Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию, зачем? — сам не знаю, и желаю встретить того человека, которого презираю, для того чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной!» И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собой, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею». «И с высоты этого представления все, что прежде мучило и занимало его, вдруг осветилось холодным белым светом, без теней, без перспективы, без различий очертаний144. Вся жизнь представилась ему волшебным фонарем, в который он долго смотрел сквозь стекло и при искусственном освещении. Теперь он увидал вдруг, без стекла, при ярком дневном свете, эти дурно намалеванные картины. «Да, да, вот они те волновавшие и восхищавшие и мучившие меня ложные образы,— говорил он себе, перебирая в своем Тот же отчуждающий свет — в «Тошноте»: «Перехожу дорогу — на другой стороне улицы одинокий газовый фонарь, словно маяк на краю света, освещает щербатый, искалеченный забор». 144 325 www.russianeurope.ru воображении главные картины своего волшебного фонаря жизни, глядя теперь на них при этом холодном белом свете дня145 — ясной мысли о смерти. — Вот они, эти грубо намалеванные фигуры, которые представлялись чем-то прекрасным и таинственным. Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество — как велики казались мне эти картины, какого глубокого смысла казались они исполненными! И все это так просто, бледно и грубо при холодном белом свете того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня». Или: «С той минуты, как Пьер увидал это страшное убийство, совершенное людьми, не хотевшими этого делать, в душе его как будто вдруг выдернута была та пружина146, на которой все держалось и представлялось живым, и все завалилось в кучу бессмысленного сора». А вот уже не просто указание на распад, но его конкретное изображение — описание оперы (которую Толстой не любил как жанр, — она как раз и была для него примером ненастоящего, бессмысленного действия): «На сцене были ровные доски посередине, с боков стояли крашеные картоны, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо, на низкой скамеечке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели чтото. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке «Тошнота»: «Холодное солнце выбелило пыль на оконных стеклах. Бледное, белесоватое небо. Утром подморозило ручейки. Я сижу у калорифера, вяло переваривая пищу. Я знаю заранее — сегодняшний день потерян. Ничего путного мне не сделать, разве когда стемнеет. И все из-за солнца: оно подернуло позолотой грязную белую мглу, висящую над стройкой, оно струится в мою комнату, желтоватое, бледное, ложась на мой стол четырьмя тусклыми, обманчивыми бликами. На моей трубке мазок золотистого лака, вначале он привлекает взор своей иллюзорной праздничностью, но вот ты глядишь на трубку, и лак плавится, и не остается ничего, кроме куска дерева, и на нем большое блеклое пятно. И так со всем, решительно со всем, даже с моими руками. Когда бывает такое солнце, лучше всего лечь спать. <...> Отличный день, чтобы критически оценить самого себя: холодные лучи, которые солнце бросает на все живое, словно подвергая его беспощадному суду, в меня проникают через глаза: мое нутро освещено обесценивающим светом». Струящееся бледное солнце Сартра — это еще один вид «гнусного мармелада». 146 «Тошнота»: «Во мне лопнула какая-то пружина — я могу двигать глазами, но не головой. Голова размякла, стала какой-то резиновой, она словно бы еле-еле удерживается на моей шее — если я ее поверну, она свалится». 326 www.russianeurope.ru 145 суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером и кинжалом и стал петь и разводить руками. Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолкли, заиграла музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять текста, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, и все в театре стали хлопать и кричать, а мужчина и женщина на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться». Представление идет, все старые связи в нем вроде бы сохранены. Но для героя Толстого, смотрящего это представление, они уже распались. Афиша разорвалась. А вот и сама жизнь, подобная дурно поставленной и фальшиво исполняемой опере: «Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине; послышался крик, тяжелые ступни княжны Марьи и звуки поцелуев. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видавшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. M-lle Bourienne стояла около них, прижав руку к сердцу и набожно улыбаясь, очевидно, столько же готовая заплакать, сколько и засмеяться. Князь Андрей пожал плечами и поморщился, как морщатся любители музыки, услышав фальшивую ноту. Обе женщины отпустили друг друга; потом опять, как будто боясь опоздать, схватили друг друга за руки, стали целовать и отрывать руки и потом опять стали целовать друг друга в лицо, и совершенно неожиданно для князя Андрея обе заплакали и опять стали целоваться. <...> Княгиня говорила без умолку. Короткая верхняя губка с усиками то и дело на мгновение слетала вниз, притрагивалась, где нужно было, к румяной нижней губке, и вновь открывалась блестевшая зубами и глазами улыбка». В этом движении губки с усиками уже чувствуется насекомое Кафки или Сартра. 327 www.russianeurope.ru Вот, кстати, подобный пример отчуждения из «Тошноты» (настолько подобный, что, видимо, просто представляет собой след чтения Сартром «Войны и мира»): «Господин, идущий по противоположному тротуару под руку с женой, чтото шепнул ей на ухо и заулыбался. Она тут же согнала со своего желеобразного лица всякое выражение и делает несколько шагов вслепую. Признак безошибочный — сейчас будут с кем-то раскланиваться. И точно, через несколько мгновений господин выбрасывает руку вверх. Оказавшись на уровне шляпы, его пальцы, секунду помедлив, осторожно берутся за краешек полей. Пока он бережно приподнимает шляпу, чуть наклонив голову, чтобы помочь ей отделиться от головного убора, жена его слегка подпрыгивает, изображая на своем лице юную улыбку. Чья-то тень, поклонившись, проходит мимо них, но улыбки-близнецы в силу некоего остаточного магнетизма еще секунду-другую держатся на губах у обоих. Когда господин и дама встречаются со мной, выражение их лиц вновь стало бесстрастным, хотя вокруг рта еще порхает радостное оживление». Все частые картинки отчуждения (или, если использовать эстетическое понятие, «остранения») у Сартра (в том числе и социально-критические) — толстовские. В. Б. Шкловский, приведя толстовское описание оперы, назвал такой прием «остранением», имея в виду «не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого восприятия предмета, создание „вúдения“ его, а не „узнавания“». При остранении вещь утрачивает свою привычную функциональность, описывается как в первый раз виденная, кажется необычной, странной. Остранение — корень искусства. Остранение может быть со знаком «минус» и со знаком «плюс». Причем «плюс» возможен только после «минуса». Надо, чтобы афиша была разорвана, тогда на ее месте может возникнуть (а может и не возникнуть — тут риск) экспрессионистская картина. Сначала «война» — 328 www.russianeurope.ru и только потом «мир» (ведь и роман Толстого называется не «Мир и война», а «Война и мир»). Вот пример «остранения» со знаком «плюс», пример «мира» у Толстого (и такие моменты «измененного сознания» у героев разных произведений Толстого — не редкость): «Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была все та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами. "Захар кричит, чтобы я взял налево; а зачем налево? — думал Николай. — Разве мы к Мелюковым едем, разве это Мелюковка? Мы Бог знает где едем, и Бог знает что с нами делается — и очень странно и хорошо то, что с нами делается". — Он оглянулся в сани. — Посмотри, у него и усы и ресницы — все белое, — сказал один из сидевших странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями. "Этот, кажется, была Наташа, — подумал Николай, — а эта m-mе Schoss; а может быть, и нет, а этот черкес с усами — не знаю кто, но я люблю ее". — Не холодно ли вам? — спросил он. Они не отвечали и засмеялись. Диммлер из задних саней что-то кричал, вероятно, смешное, но нельзя было расслышать, что он кричал. — Да, да, — смеясь, отвечали голоса. Однако вот какой-то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов и с какой-то анфиладой мраморных ступеней, и какието серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких-то зверей. "А ежели и в самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали Бог знает где и приехали в Мелюковку", — думал Николай». 329 www.russianeurope.ru Поездка Ростовых на святках к Мелюковым. Акварель Н. Н. Каразина (1842—1908). «А ежели и в самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали Бог знает где и приехали в Мелюковку». А ежели и в самом деле это я и стою здесь, то еще страннее то, что я побывал там, за стеной, и умер, и говорил с предком, и не только говорил с ним, но и совпал с ним, и был им, а вот теперь я стою здесь — и это я. 9 Выйдя из трамвая (в котором его чуть не съела обтянутая красным плюшем скамейка), Антуан входит в городской парк. Он видит каштан (дерево) и его 330 www.russianeurope.ru корень. И тут происходит сильнейшее отчуждение, «остранение». Антуан вдруг видит, что связи между вещами — надуманные, на самом же деле каждая вещь — сама по себе (а не определяется принадлежностью к какомулибо разряду вещей или каким-либо отношением к другим вещам). Она — абсурдная. Она — лишняя. Вот не было бы ее — и что бы вы делали со всеми вашими связями? Все начинается с того, что она есть. Вещь просто есть. В ней — существование. Она, кажется, живая. Во всяком случае, внушает опасение. Кажется, она хочет вторгнуться в человека. Ножки краба у Сартра или насекомого у Кафки (некоординированно двигающиеся) как раз и выражают несвязность, случайность вещей, «лишнесть» каждой из них. Их много — и все они лишние. «Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами». Столь же лишним и абсурдным, как любая вещь, является и сам Антуан. Он понял это в городском парке, глядя на каштан: «— Подождите остановки. Но я отталкиваю его и на ходу соскакиваю с трамвая. Больше я вынести не мог. Не мог вынести навязчивую близость вещей. Я толкаю калитку, вхожу, пушинки существования вспархивают ввысь и усаживаются на ветках. Теперь я знаю, где я — я в городском парке. Падаю на скамью между громадными черными стволами, между черными узловатыми руками, которые тянутся к небу. Дерево скребет землю под моими ногами черным когтем. Мне бы так хотелось расслабиться, забыться, заснуть. Но я не могу: я задыхаюсь, существование проникает в меня через все поры, через рот, через нос, через уши… И вдруг, разом, пелена прорывается, я понял, я увидел. Не могу сказать, чтобы мне отлегло, что я доволен, — наоборот, меня это придавило. Но зато я достиг цели, я знаю то, что хотел узнать, я понял все, что со мной происходит, начиная с января. Тошнота не прошла и вряд ли 331 www.russianeurope.ru скоро пройдет, но я уже не страдаю ею — это не болезнь, не мимолетный приступ, это я сам. Итак, только что я был в парке. Под скамьей, как раз там, где я сидел, в землю уходил корень каштана. Но я уже не помнил, что это корень. Слова исчезли, а с ними смысл вещей, их назначение, бледные метки, нанесенные людьми на их поверхность. Я сидел ссутулившись, опустив голову, наедине с этой темной узловатой массой в ее первозданном виде, которая пугала меня. И вдруг меня осенило. У меня перехватило дух. Никогда до этих последних дней я не понимал, что значит «существовать». Я был как все остальные люди, как те, что прогуливаются по берегу моря в своих весенних одеждах. Я, как они, говорил: «Море — зеленое, а белая точка вверху — это чайка», но я не чувствовал, что все это существует, что чайка — это «существующая чайка». Как правило, существование прячется от глаз. Оно тут, оно вокруг нас, в нас, оно мы сами, нельзя произнести двух слов, не говоря о нем, но прикоснуться к нему нельзя. Когда я считал, что думаю о нем, пожалуй, я не думал ни о чем, голова моя была пуста, а может, в ней было всего одно слово — «существовать». Или я мыслил… как бы это выразиться? Я мыслил категорией принадлежности. Я говорил себе: «Море принадлежит к группе предметов зеленого цвета, или зеленый цвет — одна из характеристик моря». Даже когда я смотрел на вещи, я был далек от мысли, что они существуют, — они представали передо мной как некая декорация. Я брал их в руки, пользовался ими, предвидел, какое сопротивление они могут оказать. Но все это происходило на поверхности. Если бы меня спросили, что такое существование, я по чистой совести ответил бы: ничего, пустая форма, привносимая извне, ничего не меняющая в сути вещей. И вдруг на тебе — вот оно, все стало ясно как день; существование вдруг сбросило с себя свои покровы. Оно утратило безобидность абстрактной категории: это была сама плоть вещей, корень состоял из существования. Или, вернее, корень, решетка парка, скамейка, жиденький газон лужайки — все исчезло; 332 www.russianeurope.ru разнообразие вещей, пестрота индивидуальности были всего лишь видимостью, лакировкой. Лак облез, остались чудовищные, вязкие и беспорядочные массы — голые бесстыдной и жуткой наготой. Я боялся пошевельнуться, но, и не двигаясь, я видел позади деревьев синие колонны, и люстру музыкального павильона, и среди зарослей лавра — Велледу. Все эти предметы… как бы это сказать? Они мне мешали. Я хотел бы, чтобы они существовали не так назойливо, более скупо, более абстрактно, более сдержанно. Каштан мозолил мне глаза. Зеленая ржавчина покрывала его до середины ствола; черная вздувшаяся кора напоминала обваренную кожу. Негромкое журчанье воды в фонтане Маскере вливалось мне в уши и, угнездившись в них, заполняло их вздохами; ноздри забивал гнилостный зеленый запах. Все тихо уступало, поддавалось существованию — так усталые женщины отдаются смеху, размягченным голосом приговаривая: «Хорошо посмеяться». <...> Мы являли собой уйму существований, которые сами себе мешали, сами себя стесняли; как у одних, так и у других не было никаких оснований находиться здесь, каждый существующий, смущаясь, с безотчетным беспокойством ощущал себя лишним по отношению к другим. Лишний — вот единственная связь, какую я мог установить между этими деревьями, решеткой, камнями. Тщетно пытался я сосчитать каштаны, соотнести их в пространстве с Велледой, сравнить их высоту с высотой платанов — каждый из них уклонялся от связей, какие я пытался им навязать, отъединялся и выплескивался из собственных границ. Я чувствовал всю условность связей (размеры, количества, направления), которые я упорно пытался сохранить, чтобы отсрочить крушение человеческого мира, — они теперь отторгались вещами. Каштан впереди меня, чуть левее, — лишний. Велледа — лишняя… 333 www.russianeurope.ru И я сам — вялый, расслабленный, непристойный, переваривающий съеденный обед и прокручивающий мрачные мысли, — я тоже был лишним147. <...> Сейчас под моим пером рождается слово Абсурдность. Совсем недавно в парке я его не нашел, но я его и не искал, оно мне было ни к чему: я думал без слов о вещах, вместе с вещами. Абсурдность — это была не мысль, родившаяся в моей голове, не звук голоса, а вот эта длинная мертвая змея у моих ног, деревянная змея. Змея или звериный коготь, корень или коготь грифа — не все ли равно. И, не пытаясь ничего отчетливо сформулировать, я понял тогда, что нашел ключ к Существованию, ключ к моей Тошноте, к моей собственной жизни. В самом деле, все, что я смог уяснить потом, сводится к этой основополагающей абсурдности. Абсурдность — еще одно слово, а со словами я борюсь: там же я прикоснулся к самой вещи. Но теперь я хочу запечатлеть абсолютный характер этой абсурдности. В маленьком раскрашенном мирке людей жест или какое-нибудь событие могут быть абсурдными только относительно — по отношению к обрамляющим их обстоятельствам. Например, речи безумца абсурдны по отношению к обстановке, в какой он находится, но не по отношению к его бреду. Но я только что познал на опыте абсолютное — абсолютное, или абсурд. Вот хотя бы этот корень — в мире нет ничего, по отношению к чему он не был бы абсурден. О, как мне выразить это в словах? Абсурден по отношению к камням, к пучкам желтой травы, к высохшей грязи, к дереву, к небу, к зеленым скамейкам. Неумолимо абсурден; даже глубокий, тайный бред природы не был в состоянии его объяснить. Само собой, я знал не все — я не видел, как прорастало семя, как зрело дерево. Но перед этой громадной Дмитрий Оленин (из повести Льва Толстого «Казаки»), будучи в лесу облеплен комарами, понял (столь же неожиданно для себя) то же самое, что и Антуан (правда, сразу со знаком «плюс»): «...около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары; один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть», — жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него». 334 www.russianeurope.ru 147 бугристой лапой неведение, как и знание, было равно бессмысленно: мир объяснений и разумных доводов и мир существования — два разных мира. Круг не абсурден, его легко можно объяснить, вращая отрезок прямой вокруг одного из его концов. Но круг ведь и не существует. А этот корень, наоборот, существовал именно постольку, поскольку я не мог его объяснить. Узловатый, неподвижный, безымянный, он зачаровывал меня, лез мне в глаза, непрестанно навязывал мне свое существование. Тщетно я повторял: «Это корень» — слова больше не действовали. Я понимал, что от функции корня — вдыхающего насоса — невозможно перебросить мостик к этому, к этой жесткой и плотной тюленьей коже, к ее маслянистому, мозолистому, упрямому облику. Функция ничего не объясняла — она позволяла понять в общих чертах, что такое корень, но не данный корень. <...> Удивительная минута. Неподвижный, застывший, я погрузился в зловещий экстаз. Но в самый разгар экстаза возникло нечто новое: я понял Тошноту, овладел ею. По правде сказать, я не пытался сформулировать свое открытие. Но думаю, что отныне мне будет нетрудно облечь его в слова. Суть его — случайность. Я хочу сказать, что — по определению — существование не является необходимостью. Существовать — это значит быть здесь, только и всего; существования вдруг оказываются перед тобой, на них можно наткнуться, но в них нет закономерности. <...> Беспричинно все — этот парк, этот город и я сам. Когда это до тебя доходит, тебя начинает мутить и все плывет, как было в тот вечер в «Приюте путейцев», — вот что такое Тошнота, вот что Подонки с Зеленого Холма и им подобные пытаются скрыть с помощью своей идеи права. Жалкая ложь — ни у кого никакого права нет; существование этих людей так же беспричинно, как и существование всех остальных, им не удается перестать чувствовать себя лишними. В глубине души, втайне, они лишние, то есть бесформенные, расплывчатые, унылые. Как долго длилось это наваждение? Я был корнем каштана. Или, вернее, я весь целиком был сознанием его существования. Пока еще отдельным от 335 www.russianeurope.ru него — поскольку я это сознавал — и, однако, опрокинутым в него, был им, и только им. Зыбкое сознание, которое, однако, всей своей ненадежной тяжестью налегало на этот кусок инертного дерева. Время остановилось маленькой черной лужицей у моих ног148, после этого мгновения ничто уже не могло случиться. Я хотел избавиться от этой жестокой услады, но даже представить себе не мог, что это возможно; я был внутри: черный комель не проходил, он оставался где был, он застрял в моих глазах, как поперек горла застревает слишком большой кусок. <...> Я встал, я пошел к выходу. Дойдя до калитки, я бросил взгляд назад. И тут парк улыбнулся мне. Опершись на решетку ограды, я долго смотрел на него. Улыбка деревьев, зарослей лавра должна же была что-то означать; так вот она, истинная тайна существования. Я вспомнил, как однажды в воскресенье, недели три тому назад, я уже подметил, что вещи выглядят словно бы сообщники. Чьи сообщники — мои? Я с тоской чувствовал, что мне не по силам это понять. Не по силам. И все же это было тут, это ждало, это напоминало взгляд. Оно было там, на стволе этого каштана… это был сам каштан». Перед тем как направиться к выходу, Антуан еще наблюдает покачивающиеся ветки — и видит, что на самом деле движения «на колеблющихся ветках, слепо шаривших вокруг» — нет, а значит, нет и времени («время остановилось маленькой черной лужицей у моих ног»), есть лишь разные состояния пространства, каждое из которых — лишняя вещь: «Все эти крошечные подрагивания были отделены друг от друга, выступали сами по себе149. Они со всех сторон кишели на ветках и сучьях. <...> Само собой, движение было чем-то иным, нежели дерево. И все равно это был абсолют. Вещь. Все, на что натыкался мой взгляд, было заполнено». Подытожим трактат Антуана о каштане: «поверхность», «декорация» — панцирь насекомого (стена). Но вещи не нарисованы на панцире, они — Достойно кисти Сальвадора Дали. «Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами». 336 www.russianeurope.ru 148 149 шевелящиеся под панцирем ножки («влажное и грязное» чудовище за стеной). И ты сам — это чудовище, одна из бесчисленных, лишних ножек его. Ты прикоснулся к стене — а она поддалась, провалилась. Ты прошел, ты упал сквозь нее, встретился с мертво-живым монстром и стал им. И от этого тебя тошнит. 10 В состоянии «остранения» (со знаком «минус») слова перестают соответствовать вещам, как бы отлипают от них, сползают с них: «Под скамьей, как раз там, где я сидел, в землю уходил корень каштана. Но я уже не помнил, что это корень. Слова исчезли, а с ними смысл вещей, их назначение, бледные метки, нанесенные людьми на их поверхность. Я сидел ссутулившись, опустив голову, наедине с этой темной узловатой массой в ее первозданном виде, которая пугала меня». Или (Антуан глядит на скамейку в трамвае): «Вещи освободились от своих названий. Вот они, причудливые, упрямые, огромные, и глупо называть их сиденьями и вообще говорить о них чтонибудь. Я среди Вещей, среди не поддающихся именованию вещей». Многие люди, наверное, знают такое ощущение: начинаешь повторять какоето слово — пусть это будут, например, «корень» или «скамейка» — и в какой-то момент происходит странная штука: перестаешь их узнавать. Словно слово — лишь пустая, бессмысленная оболочка, ненужная кожура. Словно можно было условиться, чтобы корень назывался «скамейкой», а скамейка — «корнем». В «Войне и мире» в уме тоскующей, не находящей себе место в отсутствие князя Андрея Наташи всплывает ничего для нее в данный момент не 337 www.russianeurope.ru значащее, «самовитое» слово «Мадагаскар». И это слово выражает бессмыслицу и тоску всего, что ее окружает и что вокруг нее происходит150: «Боже мой, Боже мой, все одно и то же! Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать?» И она быстро, застучав ногами, побежала по лестнице к Иогелю, который с женой жил в верхнем этаже. У Иогеля сидели две гувернантки, на столе стояли тарелки с изюмом, грецкими и миндальными орехами. Гувернантки разговаривали о том, где дешевле жить, в Москве или в Одессе. Наташа присела, послушала их разговор с серьезным, задумчивым лицом и встала. — Остров Мадагаскар, — проговорила она. — Ма-да-гас-кар, — повторила она отчетливо каждый слог и, не отвечая на вопросы m-me Schoss о том, что она говорит, вышла из комнаты. Петя, брат ее, был тоже наверху: он с своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью. — Петя! Петька! — закричала она ему. — Вези меня вниз. — Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, обхватив его шею руками, и он, подпрыгивая, побежал с ней. — Нет, не надо… остров Мадагаскар, — проговорила она и, соскочив с него, пошла вниз». Слово должно пройти через «остранение», через «войну», чтобы иметь возможность оказаться в «мире»151. Чтобы быть не только условным обозначением, но и портретом вещи, чтобы прикоснуться к самой вещи («...со словами я борюсь: там же я прикоснулся к самой вещи»). Чтобы стать ладонью, положенной на стену, за которой — другая ладонь. Я нуждаюсь в этой гипотезе152. Примечательно, что сразу после появления этого отчужденного слова Наташа испытывает состояние «уже виденного» (déjà-vu). Есть вообще предположение, что состояние déjà-vu — это микроэпилептический припадок. Так или иначе, «остранение» может вызывать déjà-vu, это близкие вещи, если вообще не одно и то же. Я пытался разобраться в этом в книге «Портрет слова» (применительно к литературе, на литературных примерах). 151 Об «остранении» слова со знаком «плюс», о слове как художественном произведении я говорю в книге «Портрет слова», а также в работе «Слово-лес» (кратком варианте той книги). 152 Диалог Лапласа с Наполеоном: — Вы написали такую огромную книгу о системе мира и ни разу не упомянули о его Творце! — Сир, я не нуждался в этой гипотезе. 338 www.russianeurope.ru 150 11 В «Парцифале» Вольфрама фон Эшенбаха (рыцарский стихотворный роман начала XIII века) есть герой, совершающий подвиги как бы параллельно Парцифалю, — Гаван. Парцифаль покоряет (скажем так) замок Грааля, а Гаван — Чудесный Замок (Schastel marveile). При этом Гаван попадает на Чудесную кровать (Lît marveile). По сути это то же самое, что скамейка Сартра, только гораздо круче. Как только Гаван удается запрыгнуть на убегающую от него на колесиках кровать, она начинает носиться по помещению и биться о стены, стараясь сбросить непрошенного пользователя. То есть ведет себя как явно враждебное, живое существо. Когда кровать наконец останавливается, в Гавана сначала мечут камни пятьсот пращей, а затем выстреливают пятьсот арбалетов (никаких людей при этом не наблюдается). Герой едва успевает закрыться большим плотным щитом153, но все равно получает раны. Затем следует поединок с неотесанным великаном, облаченным в рыбью чешую, затем поединок со львом. Еле живой, герой выходит победителем. Вещь в мифе не нейтральна. Перед героем либо Грааль (дружественная вещь), либо Чудесная кровать (враждебная вещь). Но все же: с кем сражался герой? С кроватью? Или со злым волшебником Клингсором (в романе: Клиншором)? У Гавана, средневекового рыцаря, в голове правильная троичная форма: Гаван ↔ Чудесная кровать ↔ Клингсор. А вот Антуан Рокантен никак не может увидеть своего Клингсора, хотя и ощущает жуть его присутствия. 12 Получается почти Кафка: панцирь, в который отец Грегора Замзы кидает яблоки. Но и так можно увидеть: щит — панцирь, стрелы — ножки (стена — и угрожающие щупальцы за ней). 153 339 www.russianeurope.ru Сидя в кафе, Антуан слушает песню — и по мере ее звучания все случайные, лишние, абсурдные вещи, окружающие его в данный момент, становятся как бы частью единого художественного произведения, единого фильма. Становясь частью художественного произведения, вещи остаются абсурдными, поскольку они остаются свободными от принадлежности к разрядам и от причинно-следственных связей между собой. В механизме вещи несвободны (и неабсурдны), вещи же в художественном произведении свободны — и именно произведение выпускает каждую из них на свободу. Например, именно в стихотворении начинает полноценно звучать каждое отдельное слово, становясь верным портретом вещи (предмета, явления, чувства и т. п.). В «Войне и мире» Петя Ростов (ночью, в военном лагере) слушает причудившийся ему «стройный хор музыки, игравшей какой-то неизвестный, торжественно сладкий гимн». При этом разнообразные и не связанные между собой явления и звуки лагерной жизни сливаются воедино, становятся частью Петиной фуги: «...и капли капали, и вжиг, жиг, жиг... свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него». Более того, Петя управляет этой фугой — то есть правит миром: ««Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу», — сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов». Так что тут из-за спины Сартра вновь выглядывает Толстой. Прочтем отрывок об Антуане, слушающем музыку в «Приюте путейцев» (с некоторым комментарием — порезвлюсь в сносках): «Дело плохо! дело просто дрянь: гадина. Тошнота, все-таки настигла меня. На этот раз нечто новое — это случилось в кафе. До сих пор бувильские кафе были моим единственным прибежищем — там всегда людно и много света; теперь не осталось и их; а если меня прихватит в моем номере, я и вовсе не буду знать, куда скрыться. Я пришел, чтобы переспать с хозяйкой, но не успел открыть дверь, как Мадлена, официантка, крикнула: 340 www.russianeurope.ru — А хозяйки нет, она в город ушла, за покупками154. Я ощутил резкое, неприятное чувство внизу живота — долгий зуд разочарования. И в то же время почувствовал, как рубашка трется о мои соски, и меня вдруг взяла в кольцо, подхватила медленная разноцветная карусель; закружила мгла, закружили огни в табачном дыму и в зеркале, а с ними поблескивающие в глубине зала сиденья, и я не мог понять, откуда все это и почему155. Я застыл на пороге, потом что-то сместилось, по потолку скользнула тень, меня подтолкнуло вперед. Все плыло, я был оглушен этой сверкающей мглой, которая вливалась в меня сразу со всех сторон. Подплыла Мадлена, чтобы помочь мне снять пальто; она зачесала волосы назад и надела серьги — я ее не узнавал. Я уставился на ее громадные щеки, которым не было конца и которые убегали к ушам156. На щеках, во впадине под выступом скул особняком розовели два пятна, и, казалось, они изнывают от скуки на этой убогой плоти. А щеки все убегали и убегали к ушам, а Мадлена улыбалась. — Что будете пить, мсье Антуан? И вот тут меня охватила Тошнота, я рухнул на стул, я даже не понимал, где я; вокруг меня медленно кружили все цвета радуги, к горлу подступила рвота157. С тех пор Тошнота меня не отпускает, я в ее власти. Я расплатился, Мадлена унесла блюдечко. Моя кружка плющит на мраморной столешнице лужицу желтого пива, на которой вздулся пузырь158. Сиденье подо мной продавлено: чтобы с него не свалиться, я плотно прижимаю к полу подошвы; холодно. Справа от меня на столике, покрытом «Прекрасная Дама» оказалась отсутствующей. Хорошего не жди. Герой попал в мир лишних, абсурдных, свободных вещей. Это враждебный хаос. Правда, хаос уже кружится, предвещая тем самым вращение пластинки с песней. Вращающийся круг пластинки (современный вариант шаманского бубна) — это магический круг, отделяющий космос от хаоса. 156 Какая-то ведьма-великанша. Вот возьмет и проглотит героя. 157 Кружение (и следующее за ним падение) — обычные явления при встрече как с ведьмой, так и с чудовищем. 158 Открывается видение абсурдности вещи. Кружка, лужица пива, пузырь видятся Антуаном также, как потом он увидит корень каштана. В другом месте: «А теперь меня повсюду окружают вещи — к примеру, вот эта пивная кружка на столе. Когда я ее вижу, мне хочется крикнуть: «Чур, не играю». Мне совершенно ясно, что я зашел слишком далеко». 341 www.russianeurope.ru 154 155 суконной салфеткой, идет карточная игра159. Войдя, я не разглядел игроков, я только почувствовал, что частью на стульях, частью на столике в глубине шевелится какая-то теплая масса, мельтешат несколько пар рук160. Потом Мадлена принесла им карты, сукно и в деревянной плошке жетоны. Игроков не то трое, не то пятеро, не знаю, у меня не хватает мужества на них посмотреть. Во мне лопнула какая-то пружина — я могу двигать глазами, но не головой. Голова размякла, стала какой-то резиновой, она словно бы еле-еле удерживается на моей шее — если я ее поверну, она свалится161. И все же я слышу одышливое дыхание и время от времени краем глаза вижу багрово-красный в белых волосках промельк. Это рука162. Когда хозяйка ходит за покупками, за стойкой ее заменяет кузен. Зовут его Адольф. Я начал его рассматривать, еще усаживаясь на стул, и теперь продолжаю рассматривать, потому что не могу повернуть головы. Он без пиджака, в рубашке и фиолетовых подтяжках. Рукава Адольф засучил выше локтей. Подтяжки почти не видны на голубой рубахе, они затерты голубым, утонули в нем — но это ложное самоуничижение, они не дают забыть о себе, они раздражают меня своим ослиным упрямством, кажется, будто они, вознамерившись стать фиолетовыми, застряли на полпути, но от планов своих не отказались. Так и хочется им сказать: «Ну, решайтесь же, станьте, наконец, фиолетовыми, и покончим с этим163». Так нет же, они — ни туда, ни сюда, они запнулись в своем незавершенном усилии. Карточная игра — обычное явление при контакте с чудовищем. Карточная (или шахматная, или в кости) игра есть гадание о судьбе. То есть предполагает, что вещи, хотя и абсурдны, все же неслучайны (в том смысле, что образуют некий художественный сюжет). 160 «"А под водой? Ты подумал о том, что может находиться под водой?" Скажем, какое-то животное. Огромный панцирь, наполовину увязший в грязи. Двенадцать пар ног медленно копошатся в тине». 161 И самого человека размывает «гнусный мармелад». Его все-таки едят в этом кафе. И он превращается в своего собственного безголового двойника-антипода. Сравните, в повести «Слепая сова» Хедаята: «Стены их сияли нездоровой белизной, и, что самое удивительное, я не мог в это поверить и потому останавливался перед каждой стеной: лунный свет отбрасывал мою густую тень на стены, но тень была без головы, у моей тени не было головы...» 162 Антуан воспринимает себя, свое тело отчужденно. С «остранением». Рука — какое-то животное или насекомое. Довольно противное. 163 Подтяжки не дотягивают до того, чтобы стать свободной вещью. То есть такой вещью, какой она является в произведении искусства. Художник, дорисуй! Ведь у тебя пока как-то бледно, неубедительно выходит! 342 www.russianeurope.ru 159 Иногда голубизна наплывает на них и полностью их накрывает164 — несколько мгновений я их не вижу. Но это лишь набежавшая волна, вскоре голубизна местами вянет и появляются робкие островки фиолетового цвета, они ширятся, сливаются и вновь образуют подтяжки. Глаз у кузена Адольфа нет, под набухшими приподнятыми веками едва виднеются белки. Адольф сонно улыбается; время от времени он фыркает, повизгивает и вяло отмахивается, как пес, которому что-то снится. Его голубая ситцевая рубаха радостным пятном выделяется на фоне шоколадной стены165. Но от этого тоже тошнит. Или, вернее, это и есть тошнота. Тошнота не во мне: я чувствую ее там, на этой стене, на этих подтяжках, повсюду вокруг меня. Она составляет одно целое с этим кафе, а я внутри166. Справа теплая масса зашумела, руки мельтешат сильнее. «Вот тебе козырь». — «Какой еще козырь?» Длинный черный хребет склонился над картами167: «Ха-ха-ха!» — «В чем дело? Это козырь, он с него пошел». — «Не знаю, не видел…» — «Как это не видел, я пошел с козыря». — «Ладно, стало быть, козыри черви». Напевает: «Козыри черви, козыри червичервяки168». Говорит: «Это что еще за штуки, мсье? Это что еще за штуки? Беру!» И снова молчание — в глотке привкус сладковатого воздуха. Запахи. Подтяжки. Кузен встает, сделал несколько шагов, заложил руки за спину, улыбается, поднял голову, откинулся назад, опираясь на пятки. И в этой позе заснул. Вот он стоит, покачивается. С лица не сходит улыбка, щеки трясутся169. Сейчас он упадет. Он отклоняется назад, все круче, круче, лицо его задрано к потолку, но в ту минуту, когда он уже готов упасть, он ловко хватается Голубизна рубашки есть «гнусный мармелад», есть всепоглощающее чудовище. А вот и стена — как же без нее. 166 Ну точно, героя съели, он в чреве чудовища. 167 Похоже на какое-нибудь стихотворение Блока. В общем, в карты играет черт. Примечательна при этом поза наклона, склоненности, сгорбленности — один из признаков двойника-антипода (или героя, готового к встрече с двойником). Сравните с позой Антуана: «Я сидел ссутулившись, опустив голову, наедине с этой темной узловатой массой в ее первозданном виде, которая пугала меня». 168 Бодлер «Падаль». 169 Живой мертвец. 343 www.russianeurope.ru 164 165 за край стойки, восстанавливая равновесие. И все начинается снова. С меня хватит, я подзываю официантку. — Мадлена, будьте добры, поставьте пластинку. Ту, которую я люблю, вы знаете: «Some of these days»170. — Сейчас, только, может, эти господа будут против. Когда они играют, музыка им мешает. А впрочем, ладно, я их спрошу171. Сделав над собой чудовищное усилие, поворачиваю голову. Их четверо172. Мадлена наклоняется к багровому старику, у которого на кончике носа пенсне с черным ободком. Прижимая карты к груди, старик смотрит на меня из-под стекол173. — Пожалуйста, мсье. Улыбки. Зубы у него гнилые174. Красная рука принадлежит не ему, а его соседу, молодчику с черными усами175. У этого усача громадные ноздри, таких хватило бы накачать воздуха для целой семьи, они занимают поллица, а дышит он ртом, при этом слегка отдуваясь. Еще с ними сидит молодой парень с песьей головой. Четвертого игрока я разглядеть не могу176. Карты падают на сукно по кругу. Руки с кольцами на пальцах подбирают их, царапая коврик ногтями177. Руки ложатся на сукно белыми пятнами, на вид они одутловатые и пыльные. На столик падают все новые карты, руки снуют взад и вперед. Странное занятие — оно не похоже ни на игру, ни на ритуал178, ни на нервный тик. Наверно, они это делают, просто чтобы заполнить время. Но время слишком емкое, его не заполнишь. Что в него ни опустишь, все размягчается и растягивается179. Взять хотя бы движение «Придет день» (англ.). Попросить хаос, чтобы он разрешил космос. 172 И это не случайно. Но толковать можно по-разному. 173 Очки — частая принадлежность двойника-антипода. Который предстает здесь в облике старика с картами, дающего разрешение на сотворение космоса. 174 Гнилые зубы — потому что он «оживший мертвец», посланник смерти, посол хаоса. 175 Помните, у Рильке о Родене: «...части разных тел, причастные друг к другу по внутренней необходимости, складываются для него в единый организм». Эти четверо — единое чудовище. 176 Один другого краше. Мифические персонажи, включая последнего (невидимку). 177 Руки живут своей жизнью. 178 Sic! 179 Время есть пространство. Время — тоже «гнусный мармелад». 170 171 344 www.russianeurope.ru этой красной руки, которая, спотыкаясь, подбирает карты: оно какое-то дряблое. Его бы вспороть и укрепить изнутри180. Мадлена крутит ручку патефона. Только бы она не ошиблась и не поставила, как случилось однажды, арию из «Cavalleria Rusticana»181. Нет, все правильно182, я узнаю мотив первых тактов. Это старый рэгтайм, с припевом для голоса. В 1917 году на улицах Ла-Рошели я слышал, как его насвистывали американские солдаты. Мелодия, должно быть, еще довоенная. Но запись сделана позже. И все же это самая старая пластинка в здешней коллекции — пластинка фирмы Пате для сапфировой иглы183. Сейчас зазвучит припев — он-то и нравится мне больше всего, нравится, как он круто выдается вперед, точно скала в море184. Пока что играет джаз; мелодии нет, просто ноты, мириады крохотных толчков185. Они не знают отдыха, неумолимая закономерность вызывает их к жизни и истребляет, не давая им времени оглянуться, пожить для себя. Они бегут, толкутся, мимоходом наносят мне короткий удар и гибнут. Мне хотелось бы их удержать, но я знаю: если мне удастся остановить одну из этих нот, у меня в руках окажется всего лишь вульгарный, немощный звук. Я должен примириться с их смертью — более того, я должен ее желать: я почти не знаю других таких пронзительных и сильных ощущений. Я начинаю согреваться, мне становится хорошо. Тут ничего особенного еще нет, просто крохотное счастье в мире Тошноты: оно угнездилось внутри вязкой лужи, внутри нашего времени — времени сиреневых подтяжек и продавленных сидений, его составляют широкие, мягкие мгновения, которые В общем, нужно, чтобы явился «шестикрылый серафим» и произвел операцию по превращению руки в произведение искусства. 181 «Сельская честь» (итал.). 182 Еще бы, ведь опера — это как раз фальшь, «декорация» (тут опять Толстой). 183 Пластинка и игла — символы твердости и четкости, противоположность «гнусному мармеладу». Пластинка — космос, возникший из хаоса благодаря кружению. Я бы даже так сказал: пластинка — это стена пещеры, к которой прикасается человек, утративший свою мармеладную мягкость и превратившийся в иглу. Во всяком случае, Антуан (в другом месте) скажет: «...самому очиститься, отвердеть, чтобы издать наконец четкий и точный звук ноты саксофона...» 184 Скала — стена пещеры (крепкая). Море (и морское животное в нем) — за ней. 185 Сравните: «Я толкаю калитку, вхожу, пушинки существования вспархивают ввысь и усаживаются на ветках». Но здесь мириады существований входят в музыкальное произведение, они не враждебны герою. 345 www.russianeurope.ru 180 расползаются наподобие масляного пятна. Не успев родиться, оно уже постарело, и мне кажется, я знаю его уже двадцать лет186. Есть другое счастье — где-то вовне есть эта стальная лента, узкое пространство музыки, оно пересекает наше время из конца в конец, отвергая его, прорывая его своими мелкими сухими стежками; есть другое время187. — Мсье Рандю играет червями, ходи тузом. Голос скользнул и сник. Стальную ленту не берет ничто — ни открывшаяся дверь, ни струя холодного воздуха, обдавшего мои колени, ни приход ветеринара с маленькой дочкой: музыка, насквозь пронзив эти расплывчатые формы, струится дальше. Девочка только успела сесть, и ее сразу захватила музыка: она выпрямилась, широко открыла глаза и слушает, елозя по столу кулаком188. Еще несколько секунд — и запоет Негритянка189. Это кажется неотвратимым — настолько предопределена эта музыка: ничто не может ее прервать, ничто, явившееся из времени, в которое рухнул мир; она прекратится сама, подчиняясь закономерности. За это-то я больше всего и люблю этот прекрасный голос; не за его полнозвучие, не за его печаль, а за то, что его появление так долго подготавливали многие-многие ноты, которые умерли во имя того, чтобы он родился. И все же я неспокоен: так мало нужно, чтобы пластинка остановилась, — вдруг сломается пружина, закапризничает кузен Адольф190. Как странно, как трогательно, что эта твердыня так хрупка. Ничто не властно ее прервать, и все может ее разрушить. Очень выразительно о старении, увязании счастья в неподвижном времени (то есть во времени, превратившемся в пространство). Так ощущалось не только Сартром (и его героем). Сравните с мыслями Цинцинната в романе Набокова «Приглашение на казнь» (1936): «Да, вещество постарело, устало...» Или со строками стихотворения Даниила Хармса «Постоянство веселья и грязи» (1933): «Движенье сделалось тягучим, / и время стало, как песок». 187 Это даже банально: бывают «вечные мгновенья», бывает, когда «время останавливается». В общем, Гёте, Достоевский, Флоренский. 188 Психея. Ветеринара оставляю вам. 189 Этель Уотерс (Ethel Waters). И вместе с тем «великая богиня-мать», рождающая космос из хаоса. Рождающая — поэтому женщина, из хаоса — поэтому Негритянка. 190 Воплощение случайности, необязательности — каприза. Как и его подтяжки. Люцифер, одним словом. Квинтэссенция пошлости. 346 www.russianeurope.ru 186 Вот сгинул последний аккорд. В наступившей короткой тишине я всем своим существом чувствую: что-то произошло — что-то случилось191. Тишина. Some of these days, You'll miss me honey!192 А случилось то, что Тошнота исчезла. Когда в тишине зазвучал голос, тело мое отвердело и Тошнота прошла. В одно мгновенье; это было почти мучительно — сделаться вдруг таким твердым, таким сверкающим193. А течение музыки ширилось, нарастало, как смерч. Она заполняла зал своей металлической прозрачностью, расплющивая о стены наше жалкое время. Я внутри музыки194. В зеркалах перекатываются огненные шары, их обвивают кольца дыма, которые кружат, то затуманивая, то обнажая жесткую улыбку огней. Моя кружка пива вся подобралась, она утвердилась на столе: она приобрела плотность, стала необходимой195. Мне хочется взять ее, ощутить ее вес, я протягиваю руку… Боже мой! Вот в чем главная перемена — в моих движениях. Взмах моей руки развернулся величавой темой, заструился сопровождением голоса Негритянки; мне показалось, что я танцую196. Лицо Адольфа все там же, оно кажется совсем близким на шоколадной стене. В ту минуту, когда рука моя сомкнулась вокруг кружки, я увидел голову Адольфа — в ней была очевидность, неизбежность финала197. Я стискиваю стеклянную кружку, я смотрю на Адольфа — я счастлив198. Над «гнусным мармеладом» вздымается событие. Была скука — а тут приключение. Кино. Придет день, и ты затоскуешь обо мне, милый (англ.). 193 Героя съели, после чего он ожил и вышел из мифического зверя наружу. 194 Как Петя Ростов. Антуан не просто воспринимает художественное произведение, он становится частью художественного произведения. Мальчик шагнул в книжку и стал ее персонажем. 195 И вещи, окружающие Антуана, стали частью художественного произведения. И тем самым каждая из них стала собой, стала свободной. 196 Движения Антуана также становятся художественными. 197 И другой человек становится частью единого кино. 198 Что такое счастье? Счастье есть ощущение себя персонажем художественного произведения. То есть самим собой, совершенно свободным человеком. Персонаж (во всяком случае, «главный герой») — он ведь 347 www.russianeurope.ru 191 192 — А я пойду так! Чей-то голос выделился на фоне общего гула. Это голос моего соседа, разваренного старика. Щеки его фиолетовым пятном выступают на коричневой коже стула. Он шлепает по столу картой. Бубновый туз. Но парень с песьей головой улыбается. Краснорожий игрок, склонившись над столом, следит за ним снизу, готовый к прыжку. — А я — вот так! Рука парня выступает из темноты, белая, неторопливая, она мгновение парит в воздухе и вдруг коршуном устремляется вниз, прижимая карту к сукну. Краснорожий толстяк подпрыгивает: — Черт побери! Бьет! В скрюченных пальцах мелькает силуэт червонного короля, потом короля перевертывают лицом вниз, игра продолжается. Красавец король явился издалека, его приход подготовлен множеством комбинаций, множеством исчезнувших жестов. Но вот и он в свою очередь исчезает, чтобы дать жизнь новым комбинациям, новым жестам, ходам и ответам на них, поворотам судьбы, крохотным приключениям без счета199. Я взволнован, мое тело словно механизм высокой точности на отдыхе. Ведь я-то пережил настоящие приключения. Подробностей я уже не помню, но я прослеживаю неукоснительную связь событий. Я переплывал моря, я оставил позади множество городов, поднимался по течению рек и углублялся в лесные чащи и при этом все время стремился к другим городам. У меня были женщины, я дрался с мужчинами, но я никогда не мог возвратиться вспять, как не может крутиться в обратную сторону пластинка. И куда все это меня вело? Вот к этой минуте, к этому стулу, в этот гудящий музыкой пузырь света. вместе с тем и автор. Он внутри музыки — и вместе с тем ей управляет: «Ах, да, ведь это я во сне, — качнувшись вперед, сказал себе Петя. — Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй, моя музыка! Ну!..» 199 Каждый элемент внешности четырех игроков, каждое их движение, каждый карточный ход продиктован судьбой — и это видно Антуану. Все происходящее сюжетно, художественно. 348 www.russianeurope.ru And when you leave me200. Я, который в Риме так любил посидеть на берегу Тибра, в Барселоне вечером сотни раз пройтись взад и вперед по бульвару Рамблас, я, который возле Ангкора в Бассейне Священного Меча видел баньян, обвивший своими корнями храм Священных Змей201, я сижу здесь, я существую в том же мгновении, что и игроки в манилью, я слушаю, как поет Негритянка, а за окном бродит хилая темнота. Пластинка остановилась202. И темнота вошла — слащавая, нерешительная. Ее не видно, но она здесь, она отуманила лампы; в воздухе что-то сгустилось — это она203. Холодно. Один из игроков пододвинул другому рассыпанные карты, тот их собирает. Одна карта осталась валяться на столе. Не видят они ее, что ли? Девятка червей204. Наконец кто-то ее подобрал, протянул парню с песьей головой. — А! Девятка червей! Ну что ж, мне пора. Лиловый старик, мусоля кончик карандаша, склонился над листком бумаги205. Мадлена смотрит на него ясным, пустым взглядом. Парень вертит в своих руках червонную девятку. Боже мой!… Я с трудом встаю; в зеркале над черепом ветеринара передо мной проплывает нечеловечье лицо206. Пойду в кино207. И когда ты покинешь меня (англ.). Это все, кажется, не были настоящие приключения. Настоящее приключение — это когда «остановись, мгновенье!», когда побеждено чудовище за стеной. 202 И остановилось время, превратившись в пространство, в вещь. Была музыка, а теперь — кружок старой пластинки. 203 Возвращение «гнусного мармелада». 204 «Осталась валяться» — случайная, лишняя, абсурдная вещь. Причем, кажется, эта карта («девятка червей») — насекомое с «копошашимися ножками». 205 Опять черт. 206 Над черепом Кащея в зеркале герой видит свое «нечеловеческое лицо». То есть своего двойникаантипода, кажется, териоморфного. 207 Что еще остается делать? Мгновение, когда жизнь была устроена как художественное произведение, закончилось — пойду посмотрю художественное произведение на экране, как зритель. В другом месте романа Антуан думает: «Подумать только, есть глупцы, которые ищут утешения в искусстве. Вроде моей тетки Бижуа: «Прелюдии Шопена так поддержали меня, когда умер твой дядя». И концертные залы ломятся 349 www.russianeurope.ru 200 201 13 Антуан слушает эту пластинку в начале романа и в его конце. В конце романа он понимает, что с ним происходило следующее: сначала он думал, что живет подобно персонажу книги или картины, затем понял, что на самом деле в жизни никакого сюжета нет (и тут-то на него навалилась Тошнота), а затем все же увидел, что есть мгновения, когда «крупица алмазной нежности» побеждает Тошноту, когда мальчик опять может шагнуть в песню, в книгу, в картину. А далее он увидел, что он и вообще живет в песне и книге, только это произведение имеет не тот нехитрый сюжет, который, например, он хочет раскрыть в своем жизнеописании маркиза де Рольбона (именно ради написания этой книги Антуан и приехал в Бувиль для работы в местной библиотеке), а имеет некий особый, хитрый сюжет, который трудно выявить208. И в конце романа Антуан выражает желание написать такую книгу (приравнивая ее при этом к песне Негритянки). Эта книга, собственно говоря, и есть роман Сартра «Тошнота». Антуан в ней — персонаж и автор одновременно: «Четыре ноты саксофона. Они повторяются снова и снова и будто говорят: «Делайте как мы, страдайте соразмерно». Ну да! Само собой, я хотел бы страдать именно так, страдать соразмерно, без снисхождения, без жалости к себе, с такой выжженной чистотой. Но чем я виноват, что пиво на дне моей кружки теплое, что на зеркале коричневые пятна, что я лишний, что даже самое искреннее мое страдание, самое сухое, тяжелеет, и волочится, и плоть у него избыточна, хотя кожа обвисла, как у морского слона, а глаза у него влажные, трогательные, но при этом от униженных и оскорбленных, которые, закрыв глаза, тщатся превратить свои бледные лица в звукоулавливающие антенны. Они воображают, будто пойманные звуки струятся в них, сладкие и питательные, и страдания преобразуются в музыку, вроде страданий молодого Вертера; они думают, что красота им соболезнует. Кретины». 208 «Я хотел, чтобы мгновения моей жизни следовали друг за другом, выстраиваясь по порядку, как мгновения жизни, которую вспоминаешь. А это все равно что пытаться ухватить время за хвост». 350 www.russianeurope.ru отвратительные? Нет, ее никак не назовешь сострадательной, эту крупицу алмазной нежности, которая кружит над пластинкой и слепит меня. Ни даже иронической — она бодро кружит, занятая только собой: как коса, вонзилась она в пошлое панибратство мира и кружит теперь, а всех нас: Мадлену, толстяка, пятнистое зеркало, пивные кружки, всех нас, отдавшихся существованию, — ведь мы же были среди своих, только среди своих, — она застигла во всей нашей будничной, разболтанной неприглядности, и мне стыдно за себя и за все то, что перед ней существует. Она не существует. Даже зло берет: вздумай я сейчас вскочить, сорвать пластинку с патефона, разбить ее, до нее мне не добраться. Она всегда за пределами — за пределами чего-то: голоса ли, скрипичной ли ноты. Сквозь толщи и толщи существования выявляется она, тонкая и твердая, но когда хочешь ее ухватить, наталкиваешься на сплошные существования, спотыкаешься о существования, лишенные смысла. Она где-то по ту сторону. Я даже не слышу ее — я слышу звуки, вибрацию воздуха, которая дает ей выявиться. Она не существует — в ней нет ничего лишнего, лишнее — все остальное по отношению к ней. Она есть. Я тоже хотел быть. Собственно, ничего другого я не хотел — вот она, разгадка моей жизни; в недрах всех моих начинаний, которые кажутся хаотичными, я обнаруживаю одну неизменную цель: изгнать из себя существование, избавить каждую секунду от жировых наслоений, выжать ее, высушить, самому очиститься, отвердеть, чтобы издать наконец четкий и точный звук ноты саксофона. Можно даже облечь это в притчу: жил на свете бедняга, который по ошибке попал не в тот мир, в какой стремился. Он существовал, как другие люди, в мире городских парков, бистро, торговых городов, а себя хотел уверить, будто живет где-то по ту сторону живописных полотен с дожами Тинторетто и с отважными флорентийцами Гоццоли, по ту сторону книжных страниц с Фабрицио дель Донго и Жюльеном Сорелем, по ту сторону патефонных пластинок с 351 www.russianeurope.ru протяжной и сухой жалобой джаза. Долго он жил так, дурак дураком, и вдруг у него открылись глаза, и он увидел, какая вышла ошибка, — и случилось это, когда он как раз сидел в бистро перед кружкой теплого пива. Он поник на своем стуле, он подумал: какой же я дурак. И в этот самый миг по ту сторону существования, в том, другом мире, который видишь издалека, но к которому не дано приблизиться, заплясала, запела короткая мелодия: «Будьте такими, как я, страдайте соразмерно». Some of these days, You'll miss me honey, — поет голос. <...> «Она поет. И вот уже двое спасены — еврей и негритянка. Спасены. Быть может, сами они считали себя безнадежно погибшими, погрязшими в существовании. И однако, никто не способен думать обо мне так, как я думаю о них, — с такой нежностью. <...> Они немного напоминают мне умерших, немного — персонажей романа, они отмыты от греха существования. Не совсем, конечно, но настолько, насколько это дано человеку. Эта мысль вдруг переворачивает меня, ведь я на нее больше уже не надеялся. Я чувствую, как что-то робко касается меня, и боюсь шевельнуться, чтобы это не спугнуть. Что-то, что мне незнакомо уже давно, — что-то похожее на радость. Негритянка поет. Стало быть, можно оправдать свое существование? Оправдать хотя бы чуть-чуть? Я страшно оробел. Не потому, что я так уж сильно надеюсь. Но я похож на человека, который после долгих странствий в снегах превратился в сосульку и вдруг оказался в теплой комнате. Он, наверно, замер бы у двери, все еще окоченевший, и долгие приступы озноба сотрясали бы его тело. 352 www.russianeurope.ru Не могу ли я попробовать?… Само собой, речь не о мелодии… но разве я не могу в другой области?… Это была бы книга — ничего другого я не умею. Но не исторический труд: история трактует о том, что существовало, а ни один существующий никогда не может оправдать существование другого. В том-то и была моя ошибка, что я пытался воскресить маркиза де Рольбона. Нет, книга должна быть в другом роде. В каком, я еще точно не знаю — но надо, чтобы за ее напечатанными словами, за ее страницами угадывалось то, что было бы не подвластно существованию, было бы над ним. Скажем, история, какая не может случиться, например сказка. Она должна быть прекрасной и твердой как сталь, такой, чтобы люди устыдились своего существования. Я ухожу, все во мне зыбко. Я не осмеливаюсь принять решение. Если бы я был уверен в своем таланте… Но я никогда — никогда не писал ничего в таком роде. Статьи на исторические темы, да, а впрочем… Книгу. Роман. И найдутся люди, которые прочтут роман, и скажут: «Его написал Антуан Рокантен, рыжий парень, который слонялся из одного кафе в другое», и будут думать о моей жизни, как я думаю о жизни Негритянки — как о чемто драгоценном, почти легендарном. Книгу». То, что Антуан — рыжий, мы узнали еще тогда, когда он рассматривал свое лицо в зеркало. В лице и в его частях все было случайным и абсурдным, все было разъеденным «гнусным мармеладом». Кроме волос. Рыжие волосы суть золотые волосы, а золотой цвет в сказке (или на иконе) — свет из иного мира. Волосы Антуана — ореол, они — знак того, что он не только персонаж, но и автор, что он художествен: «Впрочем, есть одна вещь, которая радует глаз: повыше вялого пространства щек, повыше лба мой череп золотит прекрасное рыжее пламя — мои волосы. Вот на них смотреть приятно. По крайней мере, это совершенно определенный цвет, и я доволен, что я рыжий. В зеркале это особенно бросается в глаза — волосы лучатся. Все-таки мне повезло: если бы мой лоб украшала тусклая шевелюра, из тех, что никак не могут 353 www.russianeurope.ru решиться, пристать им к блондинам или к шатенам, лицо мое расплылось бы мутным пятном, и меня воротило бы от него». 14 Попробуем — хотя бы краешком глаза — заглянуть в тайну. Что именно составляет настоящий сюжет, что рождает космос из хаоса? Антуан противопоставляет различным — и, казалось бы, вполне сюжетным — историям, которые обычно рассказывают друг другу приятели, историю, казалось бы, несюжетную, казалось бы, вовсе не историю: «Эти парни меня восхищают: прихлебывая свой кофе, они рассказывают друг другу истории, четкие и правдоподобные. Спросите их, что они делали вчера, — они ничуть не смутятся, в двух словах они вам все объяснят. Я бы на их месте начал мямлить. Правда и то, что уже давным-давно ни одна душа не интересуется, как я провожу время. Когда живешь один, вообще забываешь, что значит рассказывать: правдоподобные истории исчезают вместе с друзьями. События тоже текут мимо: откуда ни возьмись появляются люди, что-то говорят, потом уходят, и ты барахтаешься в историях без начала и конца — свидетель из тебя был бы никудышный. Зато все неправдоподобное, все то, во что не поверят ни в одном кафе, — этого хоть пруд пруди. Вот, к примеру, в субботу, часа в четыре пополудни, по краю деревянного настила возле площадки, где строят новый вокзал, бежала, пятясь, маленькая женщина в голубом и смеялась, махая платком. В это же самое время за угол этой улицы, насвистывая, сворачивал негр в плаще кремового цвета и зеленой шляпе. Женщина, все так же пятясь, налетела на него под фонарем, который подвешен к дощатому забору и который зажигают по вечерам. Таким образом здесь оказались сразу: резко пахнущий сырым деревом забор, фонарь, славная белокурая малютка в голубом в объятьях негра под пламенеющим небом. Будь нас четверо или пятеро, мы, наверно, отметили бы это столкновение, эти нежные краски, 354 www.russianeurope.ru красивое голубое пальто, похожее на пуховую перинку, светлый плащ, красные стекла фонаря, мы посмеялись бы над растерянным выражением двух детских лиц. Но одинокого человека редко тянет засмеяться — группа приобрела для меня на миг острый, даже свирепый, хотя и чистый смысл. Потом она распалась, остался только фонарь, забор и небо — это тоже было все еще довольно красиво. Час спустя зажгли фонарь, поднялся ветер, небо почернело — и все исчезло». Перед Антуаном возникает набор вещей, который воспринимается им как художественный: «Таким образом здесь оказались сразу: резко пахнущий сырым деревом забор, фонарь, славная белокурая малютка в голубом в объятьях негра под пламенеющим небом». Что-то есть в этом наборе, какая-то загадка. «Забор» (то бишь стену) и «фонарь» мы уже встречали. Блондинка в объятиях негра, похоже, образуют (вместе с наблюдающим за ними Антуаном) сущностную форму: герой ↔ Прекрасная дама ↔ двойник-антипод (тень). Между прочим, в романе Сартра с Антуаном так и произойдет: его бывшую любовницу Анни увезет некий египтянин. Сама идея вдруг возникающего перед взором героя художественного набора пришла к Сартру из романа Толстого «Анна Каренина» (могла, конечно, возникнуть и независимо, но уж больно похоже). Влюбленный Левин: «Всю эту ночь и утро Левин жил совершенно бессознательно и чувствовал себя совершенно изъятым из условий материальной жизни. Он не ел целый день, не спал две ночи, провел несколько часов раздетый на морозе и чувствовал себя не только свежим и здоровым как никогда, но он чувствовал себя совершенно независимым от тела: он двигался без усилия мышц и чувствовал, что все может сделать. Он был уверен, что полетел бы вверх или сдвинул бы угол дома, если б это понадобилось. Он проходил остальное время по улицам, беспрестанно посматривая на часы и оглядываясь по сторонам. 355 www.russianeurope.ru И что он видел тогда, того после уже он никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина; голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного хлеба и выставились сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости». Для Левина подбегающий к голубю и улыбающийся Левину мальчик, отпархивающий голубь, дрожащие в воздухе пылинки снега, дух печеного хлеба из окошка и выставленные сайки — «все это вместе» на мгновение складывается в нечто неделимое, в картину, словно к рассыпанным по бумаге стружкам снизу поднесли магнит. Словно кто-то играет с Левиным, подает ему знак. Попробую (неуверенно!) прокомментировать: подбегающий мальчик — двойник-антипод (подчеркнуто и тем, что в начале их было два мальчика, просто к Левину подбежал один); голубь — понятно (указывает на то, что мальчик — ангел); дрожащие в воздухе пылинки снега — мириады существований (Сартр: «пушинки существования вспархивают ввысь и усаживаются на ветках»), множественный взгляд вещей, устремленный на героя; печеный хлеб и невидимая рука, выставляющая сайки — это Хозяйка зверей, которая по совместительству работает печкой. Вы ведь помните женщину-печь (или печь-женщину) у Агранович209? Одним словом, cherchez la femme. Поищем ее у Кафки. Вот самое начало превращения: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. «Любопытно, что в русских народных сказках встречается печь-волшебная помощница, стоящая вне дома, на открытом пространстве, но растопленная и полная ритуальной пищи (пироги). Она выполняет активную функцию в испытании, которое проходит главная героиня сказки, ведет с ней диалог». 209 356 www.russianeurope.ru Лежа на панцирнотвердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами. "Что со мной случилось?" — подумал он. Это не было сном. Его комната, настоящая, разве что слишком маленькая, но обычная комната, мирно покоилась в своих четырех хорошо знакомых стенах. Над столом, где были разложены распакованные образцы сукон — Замза был коммивояжером, — висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченую рамку. На портрете была изображена дама в меховой шляпе и боа, она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую меховую муфту, в которой целиком исчезала ее рука. Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода — слышно было, как по жести подоконника стучат капли дождя — привела его и вовсе в грустное настроение. "Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху", — подумал он, но это было совершенно неосуществимо, он привык спать на правом боку, а в теперешнем своем состоянии он никак не мог принять этого положения. С какой бы силой ни поворачивался он на правый бок, он неизменно сваливался опять на спину. Закрыв глаза, чтобы не видеть своих барахтающихся ног, он проделал это добрую сотню раз и отказался от этих попыток только тогда, когда почувствовал какую-то неведомую дотоле, тупую и слабую боль в боку. "Ах ты, господи, — подумал он, — какую я выбрал хлопотную профессию! Изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда больше, чем на месте, в торговом доме, а кроме того, изволь терпеть тяготы дороги, думай о расписании поездов, мирись с плохим, нерегулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы побрал все это!" Он почувствовал вверху живота легкий зуд; медленно подвинулся на спине к прутьям кровати, чтобы удобнее 357 www.russianeurope.ru было поднять голову; нашел зудевшее место, сплошь покрытое, как оказалось, белыми непонятными точечками; хотел было ощупать это место одной из ножек, но сразу отдернул ее, ибо даже простое прикосновение вызвало у него, Грегора, озноб». Иван Николаевич Крамской. Неизвестная, 1883 год. На стене — портрет дамы. А стена здесь, между прочим, не только та действительная, материальная стена, на которой висит портрет. Стена тут еще и достоевская стена (дважды два четыре, законы природы, логарифмы) — а именно сама жизнь коммивояжера («изо дня в день в разъездах»), включая «расписание поездов». Вот и получил в результате такой жизни Грегор Замза панцирь насекомого — свою портативную, так сказать, стену. А хлопоты и «деловые волнения» его превратились в многочисленные, 358 www.russianeurope.ru копошащиеся, барахтающиеся ножки (которые не слушаются, с которыми не справиться). Грегор Замза — двойнические, кстати сказать, как имя, так и фамилия (Гре-гор Зам-за). Превращение в двойника-антипода неизбежно. Когда сестра и мать Замзы приготовились вынести из его комнаты всю мебель и все вещи (чтобы он смог свободно перемещаться по своей «пещере» — в том числе по стенам и потолку), Замза спасает именно портрет дамы: «...увидел особенно заметный на уже пустой стене портрет дамы в мехах, поспешно вскарабкался на него и прижался к стеклу, которое, удерживая его, приятно охлаждало ему живот. По крайней мере этого портрета, целиком закрытого теперь Грегором, у него наверняка не отберет никто». В заключение, вот фрагмент, когда Антуан Рокантен идет к кассирше (с некоторым комментарием в сносках): «Ничто не изменилось, и, однако, все существует в каком-то другом качестве. Не могу это описать: это как Тошнота, только с обратным знаком210, словом, у меня начинается приключение211, и когда я спрашиваю себя, с чего я это взял, я понимаю, в чем дело: я чувствую себя собой и чувствую, что я здесь; это я прорезаю темноту, и я счастлив, точно герой романа. Что-то должно случиться: что-то ждет меня на улице Бас-де-Вьей; вон там, на углу этой тихой улицы, и начнется моя жизнь. И я иду вперед с ощущением неотвратимости212. На углу улицы виднеется что-то похожее на белую тумбу. Издали она казалась черной, а теперь с каждым шагом становится все белее и белее. В этом темном теле, которое мало-помалу освещается, есть что-то необыкновенное, когда оно станет совсем светлым, совсем белым, я остановлюсь с ним рядом, и вот тут-то и начнется приключение. Этот белый, выступающий из темноты маяк, уже «Остранение» со знаком «плюс». Приключение — это сюжетный, художественный отрезок среди или на фоне «гнусного мармелада». Это возрождение времени — из пространства. Станция стряхивает с себя свое окостенение. 212 Ушло ощущение случайности, необязательности (то есть нехудожественности) происходящего. 359 www.russianeurope.ru 210 211 так близко, что мне почти страшно, — я едва не повернул обратно. Но чары разрушать нельзя. Я иду вперед, протягиваю руку, касаюсь тумбы213. Вот она, улица Бас-де-Вьей, и притаившаяся в тени громада Святой Цецилии, окна которой освещены. Громыхает жестяная шляпа. Не знаю, в самом ли деле мир вдруг уплотнился или это я слил звуки и формы в нерасторжимом единстве и даже представить себе не могу, что то, что меня окружает, может быть чем-то еще, а не тем, что оно есть. Я приостанавливаюсь, жду, слышу, как у меня колотится сердце; я обшариваю взглядом безлюдную площадь. Я ничего не вижу. Поднялся довольно сильный ветер. Я ошибся: улица Бас-де-Вьей — просто остановка на моем пути: Это ждет меня в глубине площади Дюкотон. Я не спешу продолжать путь. Мне кажется, я достиг высшей точки счастья. В Марселе, Шанхае, в Мекнесе чего я только не делал, чтобы добиться такой полноты чувства. А сегодня, когда я уже ничего не жду, когда я возвращаюсь домой после бесплодного воскресенья, — оно тут как тут. Иду дальше. Ветер доносит до меня вопль сирены. Я совсем один, но шагаю словно вступающее в город войско214. В эту минуту над морем звучит музыка с плывущих кораблей; во всех городах Европы зажигаются огни; коммунисты и нацисты стреляют на улицах Берлина; безработные слоняются по Нью-Йорку; женщины в жарко натопленных комнатах красят ресницы за своими туалетными столиками. А я — я здесь, на этой безлюдной улице, и каждый выстрел из окна в Нойкельне, каждая кровавая икота уносимых раненых, каждое мелкое и точное движение женщин, накладывающих косметику, отдается в каждом моем шаге, в каждом биении моего сердца. Похоже на печь, до которой надо дотронуться ладонью. Человек-мир — вместо человека-насекомого. Тоже многоножка, но теперь со знаком «плюс». И в продолжении текста мы видим, как весь мир входит в человека. Петя Ростов дирижирует фугой («Валяй, моя музыка! Ну!») 213 214 360 www.russianeurope.ru Дойдя до пассажа Жилле, я не знаю, что делать. Разве меня не ждут в глубине пассажа? Но ведь и на площади Дюкотон в конце улицы Турнебрид есть что-то, что нуждается во мне, чтобы явиться на свет. Я в растерянности — каждое движение обязывает меня. Я не знаю, чего от меня ждут. Однако надо выбирать: я жертвую пассажем Жилле, я так и не узнаю, что он для меня приберег. Площадь Дюкотон пуста. Неужели я ошибся? Мне кажется, я не перенесу такого разочарования. Неужели со мной и в самом деле ничего не случится? Я подхожу к светящейся витрине кафе «Мабли». Я сбит с толку, я не знаю, стоит ли туда входить, я заглядываю внутрь сквозь большие запотевшие стекла. Зал переполнен. Воздух поголубел от дыма сигарет, от испарений влажной одежды. Кассирша сидит за своей стойкой. Я ее знаю, она рыжая, как я215, и в животе у нее гнездится болезнь, женщина медленно гниет под своими юбками с печальной улыбкой, похожей на запах фиалки, который источают иногда разлагающиеся тела216. Меня пробирает озноб: это… это она ждала меня. Она все время сидела здесь, воздвигнув над стойкой свой неподвижный торс, она улыбалась. Из глубины этого кафе что-то возвращается вспять к разрозненным мгновениям нынешнего воскресенья и сливает их воедино, придавая им смысл: я пережил этот день для того, чтобы под конец прийти сюда, прижаться лбом к этому стеклу217 и смотреть на это тонкое лицо, расцветающее на фоне гранатовой портьеры218. Все замерло, моя жизнь замерла: это громадное стекло, тяжелый, синий, как вода, воздух, это Волосы Прекрасной Дамы того же цвета, что и у ее рыцаря, потому что они неразрывно связаны, они даже одно и то же существо. Причем цвет волос указывает на иной мир. 216 Прекрасная Дама — источник жизни и смерти. Вспомните «Падаль» Бодлера: “Et le ciel regardait la carcasse superbe (и небо смотрело, как великолепный остов) / Comme une fleur s’épanouir (словно цветок, распускается)”. 217 Это стекло — одновременно и зеркало (в котором герой видит свою Прекрасную Даму — а значит, и самого себя), и прозрачная стена. 218 Портрет Дамы на стене. 215 361 www.russianeurope.ru жирное, белое растение в водной глубине219 и я сам — мы образуем некое единство, неподвижное и законченное, я счастлив». 15 Приложение — отрывок из повести Садека Хедаята «Слепая сова» (1937 год) Герой повести (художник, разрисовывающий пеналы) смотрит в окошко — и видит воплощенную «сущностную форму», частью которой он сам является (герой ↔ Прекрасная Дама/Источник жизни (ручей) ↔ двойник-антипод). Затем окошко исчезает — и на его месте образуется непроницаемая стена. Двойничество подчеркивается образом дяди героя (который, как и увиденный в окошко старик, является двойником-антиподом рассказчика): «И удивительнее, невероятнее всего то, что я и сам не понимаю, почему содержание всех моих рисунков с самого начала было одним и тем же. Я всегда рисовал кипарис, под которым, поджав ноги, завернувшись в плащ, сидит горбатый старик220, похожий на индийского йога. На его голове тюрбан, указательный палец левой руки он приложил к губам в знак удивления. Какая-то высокая девушка в черном, склонившись, подает ему цветок лотоса. Их разделяет ручей. Видел ли я когда-нибудь прежде эту сцену? Посетило ли это видение меня во сне? Не знаю! Знаю лишь, что, сколько бы я ни рисовал, это всегда была та же сцена, тот же сюжет. Рука сама, непроизвольно рисовала эту картину. И как ни странно, находились покупатели, а с помощью своего дяди с материнской стороны я отправлял эти пеналы даже в Индию, он продавал их и высылал мне деньги. Эта сцена кажется мне и близкой, и далекой. Я смутно припоминаю... Теперь я хорошо вспомнил этот случай. Я решил: нужно написать свои Прекрасная Дама как морская ведьма (вспомните Андерсена). Это Изида (или Афродита), готовая при случае выйти из моря. 220 Сартр: «Длинный черный хребет склонился над картами». 219 362 www.russianeurope.ru воспоминания. Но это произошло много позже и не имеет связи с моей темой. Из-за случившегося я совершенно забросил живопись. Минули два месяца, нет, точнее — два месяца и четыре дня. Был тринадцатый день после ноуруза221. Все люди бросились за город. Я закрыл окно своей комнаты, чтобы спокойно заняться рисованием. Перед заходом солнца, когда я увлекся рисунком, неожиданно открылась дверь и появился мой дядя. Раньше я его никогда не видел: с самой ранней юности он уехал путешествовать в дальние края; как будто он был капитаном корабля. Я подумал, что у него ко мне какие-то торговые дела, так как слышал, что он занимается и торговлей. Во всяком случае, мой дядя оказался сгорбленным стариком с индийским тюрбаном на голове. На плечах его был рыжий рваный халат, голова и лицо замотаны шарфом, ворот рубашки расстегнут, и из него виднелась волосатая грудь. Его редкую бороденку, которая торчала из шарфа, нетрудно было пересчитать по волоску. У него были гноящиеся веки и заячья губа. Дядя как-то отдаленно и смешно походил на меня, словно это была моя фотография, отраженная в кривом зеркале. Я всегда представлял себе отца именно таким... Дядя вошел и уселся в сторонке, поджав ноги. Я подумал, что его нужно чем-нибудь угостить. Я зажег лампу и вошел в находившуюся рядом с комнатой темную кладовку. Я обшарил все углы, надеясь найти что-нибудь пригодное для угощения, хотя хорошо знал, что в доме — шаром покати — не оставалось ни вина, ни опиума. Неожиданно мой взгляд упал на полку. Меня словно осенило. Я увидел бутыль старого вина, доставшуюся мне в наследство. Кажется, это вино было налито по случаю моего рождения. Я никогда его не пробовал и совершенно забыл, что у меня в доме есть такая вещь. Чтобы достать бутыль, я подставил табурет, который был в кладовой. Неожиданно я взглянул через оконце наружу. Я увидел Тринадцатый день после ноуруза — последний день иранского праздника нового года — ноуруза, начинающегося в весеннее равноденствие 21 марта; в этот день (2 апреля по европейскому календарю) горожане семьями выезжают на лоно природы, где устраиваются народные гулянья, чаепитие, игры. 221 363 www.russianeurope.ru сгорбленного старика, сидящего под кипарисом222, перед ним стояла молодая девушка, нет — небесный ангел — и, склонившись, протягивала ему правой рукой голубой цветок лотоса. Старик грыз ноготь указательного пальца левой руки223. Девушка стояла прямо против меня. Казалось, она не обращает никакого внимания на окружающее. Она смотрела, ничего не видя. На ее губах застыла непроизвольная, растерянная улыбка, словно она думала о ком-то отсутствующем. Я увидел эти колдовские, страшные глаза, глаза, смотрящие на человека с горьким упреком, глаза, встревоженные чем-то, удивленные, угрожающие и обещающие, — и лучи моей жизни смешались с этими сверкающими алмазами, полными смысла, и подчинились им. Этот манящий взор настолько приковал к себе все мое существо, насколько это может представить человеческое воображение. Эти туркменские раскосые глаза, обладавшие каким-то сверхъестественным и опьяняющим блеском! Они пугали и манили, словно видели что-то страшное и чудесное, что не дано было видеть каждому. У нее были выступающие скулы224, высокий лоб, тонкие сросшиеся брови, полные полуоткрытые губы, которые, казалось, только что оторвались от долгого, страстного, но не насытившего их поцелуя. Спутанные черные волосы обрамляли ее прелестное лицо, несколько локонов прикрывали виски. Нежность ее тела, небрежность и легкость Позже: «Я подошел к зеркалу, но, только взглянув, в страхе закрыл лицо руками, я увидел, что я стал похож, нет, я превратился в того самого оборванного старика». 223 Позже точно так же будет грызть палец одно из воплощений увиденной здесь Прекрасной Дамы (перед любовным актом с героем и своим последующим превращением в «мертвую царевну»): «На лице ее появилось отрешенное выражение, оно как будто еще больше похудело, осунулось. Она вытянулась и зубами прикусила указательный палец левой руки. Лицо ее приобрело лунный оттенок». 224 Сравните с киргизскими глазами и широкими скулами Клавдии и Пшибыслава (Прекрасной Дамы Ганса Касторпа — и его двойника) в романе Томаса Манна «Волшебная гора» (1924): «Ганс Касторп мельком заметил, что скулы у нее широкие, а глаза узкие...» «И если давно забытый Пшибыслав снова встретил его здесь наверху в образе Клавдии Шоша и посмотрел на него теми же киргизскими глазами...» Герой «Слепой совы» позже также встречает своего «Пшибыслава»: «Не знаю, что привело меня к дому тестя... Его младший сын, брат моей жены, сидел на скамье. Он похож на свою сестру, как две половинки разрезанного яблока: раскосые туркменские глаза, выдающиеся скулы, чувственный нос, худое лицо. Он сидел и сосал указательный палец левой руки». «Указательный палец левой руки» — это, видимо, вместо карандаша в «Волшебной горе», который Гансу Касторпу одалживает как Пшибыслав, так и Клавдия: «Она дала ему огрызок красного карандаша в серебряном футляре, приятным, слегка хриплым голосом попросив его через час непременно вернуть карандаш». 364 www.russianeurope.ru 222 движений свидетельствовали о ее эфемерности. Лишь у индийской танцовщицы из языческого храма могли быть такие плавные ритмичные движения. Печальный вид, удивительное соединение радости и грусти отличали ее от обычных людей. Красота ее не была привычной, и вся она представлялась мне волшебным видением, возникшим в воображении человека, одурманенного опиумом... Она возбуждала во мне такую же любовную страсть, какую рождает вид мандрагоры. В ее стройной, тонкой фигуре, удивительно гармоничной, линия плеч, рук и груди плавно продолжалась вниз, к ногам. Казалось, что только сейчас она выскользнула из чьих-то объятий, напоминая женский корень мандрагоры, отделившийся от своей пары. На девушке было черное мятое платье, плотно охватывавшее ее хрупкую фигуру. Когда я на нее взглянул, она пыталась перепрыгнуть через ручей, который отделял ее от старика, но не смогла. В этот момент старик засмеялся. Это был сухой, резкий смех, от него пробегали мурашки по телу. Он смеялся громко, саркастически, не меняя выражения лица, словно это был не смех, а его отражение. Держа в руках бутыль с вином, в волнении я спрыгнул с табуретки на пол. Меня охватила непонятная дрожь. Это была дрожь страха, смешанного с наслаждением, словно я пробудился от приятного и страшного сна. Я поставил бутыль на пол и сжал голову руками. Сколько прошло минут, часов? Не знаю. Очнувшись, я поднял бутыль с вином и вошел в комнату. Дяди уже не было, и дверь осталась открытой, как рот мертвеца... Однако звук сухого смеха старика до сих пор стоит у меня в ушах. Темнело, лампа коптила, я все еще ощущал приятную и жуткую дрожь. С этого момента жизнь моя изменилась. Одного взгляда было достаточно для того, чтобы этот небесный ангел, это эфирное создание произвело на меня такое невообразимо сильное впечатление. Я был ошеломлен. Казалось, я раньше знал ее имя. Все было мне знакомо: блеск ее глаз, весь облик, запах, движения. Словно когда-то прежде, в воображаемом мире, я двигался рядом 365 www.russianeurope.ru с ней, и мы были одного корня, созданы из одного куска и должны были соединиться. В этом мире я должен был находиться близ нее, но не хотел ее касаться: достаточно было и тех невидимых лучей, которые исходили от нас. Разве то странное, что случилось со мной, разве то, что с первого же взгляда она показалась мне знакомой, не происходит постоянно между влюбленными, которым кажется, что они прежде встречались, что между ними существует какая-то таинственная связь? В этом мерзком мире я жаждал либо ее любви, либо ничьей. Неужели кто-то другой мог произвести на меня такое же впечатление? Но этот сухой и резкий смех старика... Этот зловещий смех разорвал между нами связь. Всю ночь я думал об этом. Сколько раз я хотел взглянуть в оконце, но боялся услышать смех старика. Это желание не покидало меня и на следующий день. Да и мог ли я отказаться от того, чтобы ее увидеть? Наконец, на следующий день я, дрожа от страха, решился водворить бутыль с вином на прежнее место, но, когда я отбросил занавеску в кладовой, я увидел стену, черную стену, такую, как моя жизнь. Нигде не было видно ни щелки, ни малейшего отверстия. Четырехугольное оконце отсутствовало, оно слилось со стеной, и казалось, никогда никакого отверстия здесь не было. Я взобрался на табурет, но, сколько я ни бил, как безумный, кулаками по стене, сколько ни прислушивался, ни изучал ее при свете лампы, я не обнаружил никакого отверстия, мои удары не оказывали и малейшего воздействия на толстую, тяжелую стену. Она была как свинцовая». Горизонт в огне и усталое вещество 1 Весь горизонт в огне 366 www.russianeurope.ru Люди XIX века, причем с самого начала — с романтиков, воспринимали свою эпоху как вечернюю, сумеречную, а ближе к концу века — как ночную. Люди начала и первой четверти XX века воспринимали свою эпоху как, соответственно, утреннюю и дневную. Свидетельств этому много. Послушаем одно из них — слова Андрея Белого в речи о Блоке (на заседании Вольной философской ассоциации 28 августа 1921): «Что же это было за время? Если мы попробуем пережить девяносто седьмой, девяносто восьмой и девятый годы, тот период, который отобразился у Блока в цикле «Ante lucem» (‘Перед светом = До рассвета’. — И.Ф.), то мы заметим одно общее явление, обнаруживающееся в этом периоде: разные художники, разные мыслители, разные устремления, при всех их индивидуальных различиях, сходились на одном: они были выражением известного пессимизма, стремления к небытию. Философия Шопенгауэра была разлита в воздухе, и воздухом этой философии были пропитаны и пессимистические песни Чехова, одинаково, как и пессимистические песни Бальмонта, — «В безбрежности» и «Тишина», — где открывалось сознанию, — что «времени нет», что «недвижны узоры планет, что бессмертие к смерти ведет, что за смертью бессмертие ждет». В разных формах этот колорит сине-серого, сказал бы я, цвета, отпечатлевался. Если бы вы пошли в то время на картинные выставки, то вы увидели бы там угасание гражданских и бытовых тем, вы увидели бы пейзажи, — обыкновенно зимние пейзажи на фоне синих зимних сумерек; вы увидели бы этот колорит зимнего фона <…>. Это были девяностые годы. Теперь, в девятисотый, девятьсот первый год — все меняется: пробуждается известного рода активность, в русском обществе распространяется Ницше; звучит: — времена сократического человека прошли, Дионис шествует из Индии, окруженный тиграми и пантерами, начинается какое-то новое динамическое время. Это отразилось и в другом: 367 www.russianeurope.ru религия буддизма сменилась религиозно-философским исканием, христианским устремлением, линия безвременности перекрестилась с линией какого-то большого будущего, во времени получился крест... <…> Мы видим в этом периоде, как cине-серый цвет эпохи девяносто седьмого — девяносто девятого годов сменяется красным, цветом зари. У Гёте есть отрывок о чувственно-моральном восприятии красок, и кто хоть немного знаком с его теорией цветов, тот знает, что без этого отрывка о чувственно-моральном восприятии красок мы ничего не поймем у Гёте в его теоретическом мировоззрении. Всякий помнит эту красочную палитру; краска здесь делается символом какого-то умственного и психического восприятия. Поэтому очень характерно, когда мы с эстетической точки зрения берем эту гамму сине-серого фона зимних пейзажей жизни девяностых годов. А когда мы берем пейзажи девятьсот второго года, то мы видим всюду — яркие закаты, яркие закаты, яркие закаты. Мы знаем, что во время как раз этого перелома «Тишина» Бальмонта сменилась его «Горящими зданиями»: Бальмонт начинает поджигать здания! — и мы чувствуем, что у Бальмонта этот пожар начинает вкладываться в сознание. Эту зарю, этот пожар, совершенно иначе осознанный, философски осознанный, воспринимает Александр Александрович (Блок. — И.Ф.). Он говорит в девяносто девятом году, что «земля мертва, земля уныла», но — вдали рассвет. <…> Одновременно с этим, вспоминается мне, тонкий и чуткий музыкальный критик Вольфинг, написавший «Музыку и модернизм» (книгу замечательную по тонкости подхода к музыке), анализируя эпохальность музыкальных композиций Метнера, пытается вскрыть одну тему с-мольной сонаты Метнера и утверждает, что в этой сонате Метнер пытался в музыке взять звук зорь, вынуть его из воздуха. Если бы он воплотил в слово эту музыкальную тему, то получилось бы стихотворение, подобное стихотворению Александра Александровича — «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо. Все в образе одном — предчувствую Тебя. Весь горизонт в огне — и ярок нестерпимо»…» 368 www.russianeurope.ru Клод Моне. Впечатление. Восход солнца. 1872 год. Вот он, «вдали рассвет». Василий Кандинский в книге «О духовном в искусстве» пишет, что синий цвет — холодный, темный, круглый, для него характерно центростремительное, втягивающее движение, он удаляется от зрителя. «Чем глубже становится синее, тем больше зовет оно человека к бесконечному, будит в нем голод к чистоте и, наконец, к сверхчувственному. Это — краска и цвет неба, как мы себе его представляем при звучании слова небо». Желтый же цвет — теплый, светлый, острый, движение здесь уже центробежное, лучеиспускающее, он приближается к зрителю, действует навязчиво на душу. Красный цвет — это движение в себе, кипение и пылание, «жизненная, живая, беспокойная краска». 369 www.russianeurope.ru Анри Матисс. Радость жизни. 1906 год. Вот это-то изменение (от синего — к желтому и красному) в цветовой гамме эпохи и ощущали люди (а особенно, конечно, художники) рубежа XIX и XX веков. Цветовая гамма разворачивается во времени. Если вы посмотрите, например, сначала на картину Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872), а затем на картину Анри Матисса «Радость жизни» (1906) — то увидите, как красный цвет окреп и передвинулся с заднего плана на передний. «Центростремительное, втягивающее движение» сменяется «центробежным, лучеиспускающим». Наступает «динамическое время». 2 Который час? 370 www.russianeurope.ru Перелом, который произошел на рубеже XIX и XX веков, можно рассматривать во множестве аспектов. Между тем суть его удивительно проста и лучше всего, пожалуй, выражается следующим сравнением: представьте себе, что вы нырнули и плывете какое-то время под водой на достаточной глубине. Перед глазами все смутно, все колеблется и переливается, предметы словно переходят, превращаются одни в другие. Затем вода выталкивает вас на поверхность, вы выныриваете — и видите солнце, блестки на волнах, скалы, деревья, цветы, песок, птиц, крабов на берегу… Эпохальный перелом удивителен, но вместе с тем очевиден и прост. Он образован единым жестом, подобным движению выныривающего тела. Сопоставим два стихотворения: Тень несозданных созданий Колыхается во сне, Словно лопасти латаний225 На эмалевой стене. Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски, В звонко-звучной тишине, Вырастают, словно блестки При лазоревой луне. 225 Латания — декоративное растение рода пальм с широкими веерообразными листьями. 371 www.russianeurope.ru Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне... Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий С лаской ластятся ко мне, И трепещет тень латаний На эмалевой стене. Это стихотворение символиста Валерия Брюсова «Творчество». А вот постсимволизм, стихотворение Анны Ахматовой (написанное тем же размером): Жарко веет ветер душный, Солнце руки обожгло, Надо мною свод воздушный, Словно синее стекло; Сухо пахнут иммортели В разметавшейся косе. На стволе корявой ели Муравьиное шоссе. Пруд лениво серебрится, Жизнь по-новому легка... Кто сегодня мне приснится В пестрой сетке гамака? 372 www.russianeurope.ru Для символизма характерна «символическая слиянность всех слов и вещей» (Гумилев), формулой образа для символизма является А = Б (Мандельштам: «Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой»). Или, как в стихотворении Брюсова, звонкая звучность кивает на тишину, а тишина — на звонкую звучность. И именно благодаря соединению подобных противоположностей «несозданные создания» в перспективе могут стать «созданными». «Несозданные создания» — А = Б. А устремляется к Б. А какова формула для «созданных созданий»? Видимо, А = А. И стихотворение Брюсова как раз на этом кончается — на «созданных созданиях». А что дальше? А дальше стихотворение Брюсова переходит в стихотворение Ахматовой. Слияние произошло — и за ним следует новое разделение, дифференциация образов (Гумилев: «стихия света, разделяющая предметы, четко вырисовывающая линию...»). Из хаоса рождается новый космос. Михаил Кузмин в статье «О прекрасной ясности» пишет: «Когда твердые элементы соединились в сушу, а влага опоясала землю морями, растеклась по ней реками и озерами, тогда мир впервые вышел из состояния хаоса, над которым веял разделяющий Дух Божий. И дальше — посредством разграничивания, ясных борозд — получился тот сложный и прекрасный мир, который, принимая или не принимая, стремятся узнать, по-своему увидеть и запечатлеть художники. В жизни каждого человека наступают минуты, когда, будучи ребенком, он вдруг скажет: «я — и стул», «я — и кошка», «я — и мяч», потом, будучи взрослым: «я — и мир». Независимо от будущих отношений его к миру этот разделительный момент — всегда глубокий поворотный пункт. Похожие отчасти этапы проходит искусство, периодически — то размеряются, распределяются и формируются дальше его клады, то ломаются доведенные до совершенства формы новым началом хаотических сил…» 373 www.russianeurope.ru Формулой связи образов в новом космосе вроде бы становится А = А. Мандельштам в статье «Утро акмеизма» пишет: «А = А: какая прекрасная поэтическая тема. Символизм томился, скучал законом тождества, акмеизм делает его своим лозунгом и предлагает его вместо сомнительного а realibus ad realiora». («От действительных вещей — к действительнейшим». — И.Ф.) Пример «сомнительного а realibus ad realiora»: «лопасти латаний» (действительная вещь) — это «тень несозданных созданий» (действительнейшая вещь). Однако «правильный» символизм был бы, если бы в стихотворении поэт сначала увидел «лопасти латаний», а потом, глядя на них, сказал бы себе: “Ух ты, это же «тень несозданных созданий»”! А у Брюсова здесь особенно интересно то, что все происходит наоборот: сначала — «тень несозданных созданий», а потом — «лопасти латаний». В начале стихотворения они появляются как сравнение, а в конце стихотворения они уже реальные растения, в свою очередь отбрасывающие тень. И мы видим (и об этом, собственно, стихотворение «Творчество»), как из грезы, из колыхания теней рождаются, выходят на свет вещи, как из тишины рождается звук. Так уже у Брюсова намечен переход от слиянности к раздельности, предвосхищено выныривание из подводного хаоса в сухой и солнечный космос. Уже Брюсов доводит слияние образов до абсурда, до предельной тавтологичности («звонко-звучной», «с лаской ластится»). Это же А = А! Тавтологичность проявляется и в повторе строк. Все лишь «колыхается во сне». Стихотворение качается, кружится на одном месте. Следующий шаг — разветвление образов по принципу «домашнего корнесловья» (по словам Мандельштама): «веет ветер», «в разметавшейся косе», «приснится… в пестрой сетке». От слиянности осталась созвучность, как бы общий корень, общее, объединяющее море, но смысл ветвится, все шире охватывая мир явлений. 374 www.russianeurope.ru В словах «в разметавшейся косе» мы любуемся вещью. Как прекрасна эта коса! Смотри и радуйся, и больше ничего не надо! А = А! Но любование требует выхода, вызывает на развертывание описания, отчего и рождается словосочетание «в разметавшейся косе» — звучное и динамичное. Такое разворачивающееся любование и является новой, постсимволистской установкой. Интересно вот что: если у Брюсова, как мы видели, намечался переход «от действительнейших вещей к действительным» (от «теней несозданных созданий» — к латаниям, к конкретным растениям), то что у Ахматовой? Вроде бы должно быть наоборот, то есть «от действительных вещей к действительнейшим». Так оно и есть. На А = А долго не удержишься, это лишь момент поворота. Это, пожалуй, всего лишь тонкая пленка водной поверхности: ныряющий же может находится либо под ней, либо над ней. На самом деле и у символистов А = Б, и у постсимволистов А = Б, разница же в том, что у символистов А и Б стремятся к соединению (центростремительное движение), а у постсимволистов — к расхождению (центробежное движение). А→←Б и А←→Б. Стихотворение Брюсова кончается вещно («И трепещет тень латаний / На эмалевой стене»), а стихотворение Ахматовой — сновидчески («Кто сегодня мне приснится / В пестрой сетке гамака?») Это и есть «от действительных вещей к действительнейшим». От вкусно описанных вещей — к грядущему сновидению. Эти два стихотворения соединяются друг с другом, как элементы пазла — или как трамвай, составленный из двух вагонов. У Брюсова этот трамвай стоял на конечной остановке (или делал на ней круг), у Ахматовой же он сдвинулся с места, пошел. Круг сменился вектором. Все слова как бы слились в одно слово (с помощью тавтологичности, повтора), чтобы затем вновь раздвинуться, распределиться, размножиться. Вдох сменился выдохом. Импрессионизм — экспрессионизмом. 375 www.russianeurope.ru Образы нуждаются в символических соответствиях, теснятся друг к другу, как пчелы в улье, когда снаружи темно и холодно, а когда всходит солнце, когда светло и жарко — разбегаются, обретают самостоятельность — как пчелы весной или утром. Формула символизма А = Б показывает, как из разделения возникает сопряжение, а формула акмеизма А = А показывает, как из сопряжения возникает новое разделение, где А удваивается, делится, как живая клетка. В древнекитайской «Книге Перемен» говорится о Пути (Дао), состоящем из чередующихся начал Инь (темное, женское начало, хаос, вода) и Ян (светлое, мужское начало, космос, огонь). Путь предстает как чередование сжатий (Инь) и расширений (Ян) — подобием ползущей гусеницы. «Гусеница стягивается, чтобы вновь растянуться». Чередуются затишье и импульс. Образно говоря: чередуются Вода и Огонь, Женщина и Мужчина, Ночь и День, Зима и Лето. А если это так, если мы нашли хоть один момент в истории, где Инь сменяется Ян, это значит, что мы нашли общий закон, это значит, что история и состоит из именно таких смен. И что мироощущение человека определяется тем, в какую эпоху, в каком ритмическом моменте он находится. Например, что сейчас: день, ночь, утро, вечер? Который сейчас час? Вот как о новом искусстве (то есть об эпохальном переломе рубежа XIX и XX веков) пишет Хосе Ортега-и-Гассет в книге «Дегуманизация искусства» (1925): «Для современного художника, напротив, нечто собственно художественное начинается тогда, когда он замечает, что в воздухе больше не пахнет серьезностью и что вещи, утратив всякую степенность, легкомысленно пускаются в пляс. Этот всеобщий пируэт — для него подлинный признак существования муз. Если и можно сказать, что искусство спасает человека, то только в том смысле, что оно спасает его от серьезной жизни и пробуждает в нем мальчишество. Символом 376 www.russianeurope.ru искусства вновь становится волшебная флейта Пана, которая заставляет козлят плясать на опушке леса. Все новое искусство будет понятным и приобретет определенную значительность, если его истолковать как опыт пробуждения мальчишеского духа в одряхлевшем мире. Другие стили претендовали на связь с бурными социальными и политическими движениями или же с глубокими философскими и религиозными течениями. Новый стиль, напротив, рассчитывает на то, чтобы его сближали с праздничностью спортивных игр и развлечений. Это родственные явления, близкие по существу. За короткое время мы увидели, насколько поднялась на страницах газет волна спортивных игрищ, потопив почти все корабли серьезности. Передовицы вот-вот утонут в глубокомыслии заголовков, а на поверхности победоносно скользят яхты регаты. Культ тела — это всегда признак юности, потому что тело прекрасно и гибко лишь в молодости, тогда как культ духа свидетельствует о воле к старению, ибо дух достигает вершины своего развития лишь тогда, когда тело вступает в период упадка. Торжество спорта означает победу юношеских ценностей над ценностями старости. Нечто похожее происходит в кинематографе, в этом телесном искусстве par exellence (по преимуществу. — И.Ф.). В мое время солидные манеры пожилых еще обладали большим престижем. Юноша жаждал как можно скорее перестать быть юношей и стремился подражать усталой походке дряхлого старца. Сегодня мальчики и девочки стараются продлить детство, а юноши — удержать и подчеркнуть свою юность. Несомненно одно: Европа вступает в эпоху ребячества. Подобный процесс не должен удивлять. История движется в согласии с великими жизненными ритмами. Наиболее крупные перемены в ней не могут происходить по каким-то второстепенным и частным причинам, но — под влиянием стихийных факторов, изначальных сил космического порядка. Мало того, основные и как бы полярные различия, присущие живому 377 www.russianeurope.ru существу, — пол и возраст — оказывают в свою очередь властное влияние на профиль времен. В самом деле, легко заметить, что история, подобно маятнику, ритмично раскачивается от одного полюса к другому, в одни периоды допуская преобладание мужских свойств, в другие — женских, по временам возбуждая юношеский дух, а по временам — дух зрелости и старости. Характер, который во всех сферах приняло европейское бытие, предвещает эпоху торжества мужского начала и юности. Женщина и старец на время должны уступить авансцену юноше, и не удивительно, что мир с течением времени как бы теряет свою степенность». Хосе Ортега-и-Гассет (1883 — 1955) был молод в самом начале века. Молодость Владимира Набокова (1899 — 1977) падает на конец первой четверти века. Прошло каких-нибудь два-три десятилетия — и маятник, о котором говорит Ортега-и-Гассет, уже двинулся в обратную сторону. Молодость молодостью, но «вещество устало» (Набоков). В начале века скакало, а к середине — устало, стало уставать. Есть у Набокова текст, который образует с вышеприведенным текстом испанского философа как бы два элемента пазла. В романе «Приглашение на казнь» (1936) Набоков описывает, как его главный герой (Цинциннат) ощущает качественную перемену времени: «Он обошел террасу кругом. На севере разлеглась равнина, по ней бежали тени облаков; луга сменялись нивами; за изгибом Стропи виднелись наполовину заросшие очертания аэродрома и строение, где содержался почтенный, дряхлый, с рыжими, в пестрых заплатах, крыльями, самолет, который еще иногда пускался по праздникам, — главным образом для развлечения калек. Вещество устало. Сладко дремало время. Был один человек в городе, аптекарь, чей прадед, говорят, оставил запись о том, как купцы летали в Китай. <…> Тоска, тоска, Цинциннат. Опять шагай, Цинциннат, задевая халатом то стены, то стул. Тоска! На столе наваленные книги прочитаны все. И хотя 378 www.russianeurope.ru он знал, что прочитаны все, Цинциннат поискал, пошарил, заглянул в толстый том... перебрал, не садясь, уже виденные страницы. Это был том журнала, выходившего некогда, — в едва вообразимом веке. Тюремная библиотека, считавшаяся по количеству и редкости книг второй в городе, содержала несколько таких диковин. То был далекий мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым окружался труд, шедший на их выделку. То были годы всеобщей плавности; маслом смазанный металл занимался бесшумной акробатикой; ладные линии пиджачных одежд диктовались неслыханной гибкостью мускулистых тел; текучее стекло огромных окон округло загибалось на углах домов; ласточкой вольно летела дева в трико — так высоко над блестящим бассейном, что он казался не больше блюдца; в прыжке без шеста атлет навзничь лежал в воздухе, достигнув уже такой крайности напряжения, что если бы не флажные складки на трусах с лампасами, оно походило бы на ленивый покой; и без конца лилась, скользила вода; грация спадающей воды, ослепительные подробности ванных комнат, атласистая зыбь океана с двукрылой тенью на ней. Все было глянцевито, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству, которое определялось одним отсутствием трения. Упиваясь всеми соблазнами круга, жизнь довертелась до такого головокружения, что земля ушла из-под ног, и, поскользнувшись, упав, ослабев от тошноты и томности... сказать ли?.. очутившись как бы в другом измерении — . Да, вещество постарело, устало, мало что уцелело от легендарных времен — две-три машины, два-три фонтана, — и никому не было жаль прошлого, да и самое понятие "прошлого" сделалось другим». В романе Роберта Музиля (1880 — 1942) «Человек без свойств» (1930) главный герой романа Ульрих (герой вполне автобиографический), чья молодость совпала с самым началом двадцатого века, также приметил импульс начала века и его дальнейшее угасание. Импульс (глава «Душевный переворот»): 379 www.russianeurope.ru «Из масляно-гладкого духа двух последних десятилетий девятнадцатого века во всей Европе вспыхнула вдруг какая-то окрыляющая лихорадка. Никто не знал толком, что заваривалось; никто не мог сказать, будет ли это новое искусство, новый человек, новая мораль или, может быть, новая перегруппировка общества. Поэтому каждый говорил то, что его устраивало. Но везде вставали люди, чтобы бороться со старым. Подходящий человек оказывался налицо повсюду; и что так важно, люди практически предприимчивые соединялись с людьми предприимчивости духовной. Развивались таланты, которые прежде подавлялись или вовсе не участвовали в общественной жизни. Они были предельно различны, и противоположности их целей были беспримерны. Любили сверхчеловека и любили недочеловека; преклонялись перед здоровьем и солнцем и преклонялись перед хрупкостью чахоточных девушек; воодушевленно исповедовали веру в героев и веру в рядового человека; были доверчивы и скептичны, естественны и напыщенны, крепки и хилы; мечтали о старых аллеях замков, осенних садах, стеклянных прудах, драгоценных камнях, гашише, болезни, демонизме, но и о прериях, широких горизонтах, кузницах и прокатных станах, голых борцах, восстаниях трудящихся рабов, первобытной половой любви и разрушении общества. Это были, конечно, противоречия и весьма разные боевые кличи, но у них было общее дыхание; если бы кто-нибудь разложил то время на части, получилась бы бессмыслица вроде угловатого круга, который хочет состоять из деревянного железа, но в действительности все сплавилось в мерцающий смысл. Эта иллюзия, нашедшая свое воплощение в магической дате смены столетий, была так сильна, что одни рьяно бросались на новый, еще не бывший в употреблении век, а другие напоследок давали себе волю в старом, как в доме, из которого все равно выезжать, причем обе эти манеры поведения не замечали такого уж большого несходства между собой. <…> 380 www.russianeurope.ru Сквозь неразбериху верований что-то тогда пронеслось, как если бы множество деревьев согнулось под одним ветром, какой-то сектантский и реформаторский дух, блаженное сознание начала и перемены, маленькое возрождение и реформация, знакомые лишь лучшим эпохам, и тот, кто вступал тогда в мир, чувствовал уже на первом углу, как овевает этот дух щеки». Угасание (глава «Таинственная болезнь времени»): «Ульриху казалось, что с началом зрелого возраста он попал в какой-то всеобщий спад, который, несмотря на случайные короткие всплески, разливался все более вялыми толчками. Трудно было сказать, в чем состояла эта перемена. <…> Что же утрачено? Что-то невесомое. Какая-то примета. Какая-то иллюзия. Как если бы магнит отпустил железные опилки и они снова перемешались. Как если бы размотался клубок ниток. Как если бы колонна пошла не в ногу. Как если бы оркестр начал фальшивить. Нельзя было назвать решительно ни одной частности, которая не была бы возможна и прежде, но все пропорции немного сместились. <…> Нет недостатка ни в таланте, ни в доброй воле, ни в характерах. Недостаток ощущается во всем, и в то же время как ни в чем конкретно; ощущение такое, словно изменилась кровь или изменился воздух, таинственная болезнь пожрала небольшие задатки гениальности, имевшиеся у прежней эпохи, но все сверкает новизной, и в конце концов не знаешь уже, действительно ли мир стал хуже или просто ты сам стал старше. <…> Вот как изменилось время, — как день, поначалу сияющий голубизной и потихоньку заволакивающийся, — и оно не было настолько любезно, чтобы подождать Ульриха». 381 www.russianeurope.ru Эту перемену (затухание солнечной энергии в истории, погружение в воду) почувствовал и Андрей Платонов (1899 — 1951), родившийся, кстати, с Набоковым в один и тот же год. В романе «Чевенгур» (1928) об этом написано прямо: «Революция прошла как день; в степях, в уездах, во всей русской глуши надолго стихла стрельба и постепенно заросли дороги армий, коней и всего русского большевистского пешеходства. Пространство равнин и страны лежало в пустоте, в тишине, испустившее дух, как скошенная нива, — и позднее солнце одиноко томилось в дремлющей вышине над Чевенгуром. Никто уже не показывался в степи на боевом коне: иной был убит и труп его не был найден, а имя забыто, иной смирил коня и вел вперед бедноту в родной деревне, но уже не в степь, а в лучшее будущее. А если кто и показывался в степи, то к нему не приглядывались — это был какой-нибудь безопасный и покойный человек, ехавший мимо по делам своих забот. Дойдя с Гопнером до Чевенгура, Дванов увидел, что в природе не было прежней тревоги, а в подорожных деревнях — опасности и бедствия: революция миновала эти места, освободила поля под мирную тоску, а сама ушла неизвестно куда, словно скрылась во внутренней темноте человека, утомившись на своих пройденных путях. В мире было как вечером, и Дванов почувствовал, что и в нем наступает вечер, время зрелости, время счастья или сожаления. В такой же, свой вечер жизни отец Дванова навсегда скрылся в глубине озера Мутево, желая раньше времени увидеть будущее утро. Теперь начинался иной вечер — быть может, уже был прожит тот день, утро которого хотел видеть рыбак Дванов, и сын его снова переживал вечер. <…> "Кончается моя молодость, — думал Дванов, — во мне тихо, и во всей истории проходит вечер". В той России, где жил и ходил Дванов, было пусто и утомленно: революция прошла, урожай ее собран, теперь люди молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной плотью тела. 382 www.russianeurope.ru — История грустна, потому что она время и знает, что ее забудут, — сказал Дванов Чепурному. — Это верно, — удивился Чепурный. — Как я сам не заметил! Поэтому вечером и птицы не поют — одни сверчки: какая ж у них песня! Вот у нас тоже — постоянно сверчки поют, а птиц мало, — это у нас история кончилась! Скажи пожалуйста — мы примет не знали!» Так что не только отдельный человек проходит обряд посвящения, погружаясь в чрево мифического зверя, скрываясь в «глубине озера», входя в темноту, умирая и растворяясь-раздробляясь, чтобы затем родиться и выйти на солнечный свет, но и человечество в целом. Встречается с двойникомантиподом (А→←Б) и расходится с ним (А←→Б). «Гусеница стягивается, чтобы вновь растянуться». Горячие и холодные эпохи русской поэзии226 Доклад сумасшедшего, прочитанный нигде и никогда перед благодарной публикой Еще до Первой мировой войны Борис Пастернак написал стихотворение, которое начинается такой строфой: Как бронзовой золой жаровень, Жуками сыплет сонный сад. Со мной, с моей свечою вровень Миры расцветшие висят. 226 Впервые — в журнале «Литература» (№ 1 за 2015 г.) 383 www.russianeurope.ru Вы, может быть, не знаете, но всякое стихотворение имеет лицевую сторону и изнанку. Если вывернуть его наизнанку, то оно начнет рассказывать о самом себе, о собственном устройстве. Если брать с лицевой стороны, то здесь (в первых двух строках) рассказ о ночном саде и о жуках в нем. Если же взять с изнанки, то здесь рассказ о том, как стихотворение устроено, как оно работает. Спрашиваем: «Как ты работаешь, как ты устроено, стихотворение?» И слышим в ответ: «Как бронзовой золой жаровень, / Жуками сыплет сонный сад». Понимай это так: у меня, стихотворения, есть основа, есть некая однородная стихия. Детали в ней неразличимы, слиты. Их как бы нет, они присутствуют во мне потенциально, словно еще не рожденные души. Я (продолжает говорить стихотворение) называю здесь эту стихию «ночным садом». Однако затем эту стихию подогревают, в результате чего она начинает расширяться и излучать частицы. Из нее рождаются детали, которые энергично разлетаются в стороны. Я называю их «жуками». Я прямо говорю о подогреве, приравняв ночной сад к жаровне, а жуков — к разлетающейся от жара бронзовой золе. Такова моя поэтическая установка (продолжает совсем разболтавшееся стихотворение, обрадовавшись, что его о чем-то спрашивают, как человека), более того, такова установка Бориса Пастернака в целом! И даже более того, такова установка эпохи вообще! А вы как думали, отчего произошла, например, Первая мировая война? И отчего произошла революция? Эпоху подогрели — и все ухнуло, взорвалось, разлетелось на мелкие части. Ветер дунул — поднял лежавший спокойно снег и погнал пургу. И вот уж «на ногах не стоит человек»». — Что ты-то гонишь пургу, стихотворение! — говорим ему мы. — Ты вот какое маленькое, как ты могло сделать революцию? И что ты тут такое шьешь Борису Пастернаку? — Почему только Пастернаку? — возражает оно. — А вот это, по-вашему, не то же самое разве: 384 www.russianeurope.ru Багровый и белый отброшен и скомкан, в зеленый бросали горстями дукаты, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. Это строфа из стихотворения Маяковского «Ночь». Есть темная основа — и вдруг летят горсти дукатов, окнам раздаются «горящие желтые карты». Ночь и здесь подогрета! Или вот здесь, у Велимира Хлебникова в поэме «Журавль», посмотрите, что творится: На площади в влагу входящего угла, Где златом сияющая игла Покрыла кладбище царей, Там мальчик в ужасе шептал: «Ей-ей! Смотри, закачались в хмеле трубы — те!» Бледнели в ужасе заики губы, И взор прикован к высоте. Что? Мальчик бредит наяву? Я мальчика зову. Но он молчит и вдруг бежит: какие страшные скачки! Я медленно достаю очки. И точно: трубы подымали свои шеи, Как на стене тень пальцев ворожеи. <…> Железные и хитроумные чертоги В каком-то яростном пожаре, Как пламень, возникающий из жара, На место становясь, давали чуду ноги. Трубы, стоявшие века, 385 www.russianeurope.ru Летят, Движениям подражая червяка, Игривей в шалости котят. <…> Злей не был и Кощей, Чем будет, может быть, восстание вещей. Разве вы не видите «восстание вещей», происходящее в результате «яростного пожара», которым разгорается старый, привычный мир? Это все та же поэтика, о которой я сказало: «Жуками сыплет сонный сад»! А еще эту поэтику можно назвать «горящим публичным домом», как называют ее (тоже рассказывая о себе) эти вот строки Маяковского: Каждое слово, даже шутка, которые изрыгает обгорающим ртом он, выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома. 386 www.russianeurope.ru Георг Гросс. Взрыв. 1917 год И каждая деталь «восстает», вылетая, «выбрасываясь» из основы, и каждое слово становится самим по себе, наливается кровью, оживает. Становится, как Хлебников говорил, «самовитым». И потому оно так резко, грубо, сочно звучит у наших поэтов. Прислушайтесь: «Жуками сыплет сонный сад». Как вкусно сказано! Это новые, обновленные, протертые, обмытые слова. И даже не только каждое слово становится самовитым, но и каждый звук! Послушайте, как смакует буквы Маяковский: Громоздите за звуком звук вы и вперед, поя и свища. Есть еще хорошие буквы: Эр, 387 www.russianeurope.ru Ша, Ща. Это теория, а вот практика, вслушайтесь в строки Пастернака: Когда до тончайшей мелочи Весь день пред тобой на весу, Лишь знойное щелканье белочье Не молкнет в смолистом лесу. И млея, и силы накапливая, Спит строй сосновых высот. И лес шелушится и каплями Роняет струящийся пот. «Лес шелушится» — вот вам еще одна формула того же явления. Основа излучает детали. Почему так получается? Такова эпоха. Мой друг, ты спросишь, кто велит, Чтоб жглась юродивого речь? В природе лип, в природе плит, В природе лета было жечь. Это центробежный мир, он распадается на куски, разлетается, шелушится. Это мир твердый и рассыпчатый — даже там, где речь идет, например, о море или небе. Это мир жаркий — даже там, где речь идет обо льде. Это мир красный и летний, даже когда речь идет, например, о синем и о ночи (красный цвет — теплый и центробежный, синий — холодный и центростремительный). Например, поэт поднимает голову и смотрит на небо 388 www.russianeurope.ru — но не видит его как голубой купол, как океан с плавающими облаками, а видит вот что (стихотворение «Воробьевы горы»): Расколышь же душу! Всю сегодня выпей. Это полдень мира. Где глаза твои? Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень Дятлов, туч и шишек, жара и хвои. Или он видит синеву рассвета — и тут же овеществляет ее, лишает глубины, превращает в перья. И рассвет теперь можно погладить рукой (стихотворение «На пароходе»): Был утренник. Сводило челюсти, И шелест листьев был как бред. Синее оперенья селезня Сверкал за Камою рассвет. Или он описывает февральскую, предвесеннюю слякоть — а она у него грохочет и загорается: Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале навзрыд, Пока грохочущая слякоть Весною черною горит. И дождь в этом мире не освежает (стихотворение «Гроза моментальная навек»): И, как уголь по рисунку, Грянул ливень всем плетнем… 389 www.russianeurope.ru Или поэт входит в лес — и его не обнимает таинственная, шелестящая прохлада, столь сродная водной стихии, а перед ним вот что (стихотворение «В лесу»): Текли лучи. Текли жуки с отливом. Стекло стрекоз сновало по щекам. Был полон лес мерцаньем кропотливым, Как под щипцами у часовщика. Это мир жаркий (мир лета), активный (мир жеста) и вещественно-подробный (мир детали). В стихотворении «Про эти стихи» Пастернак дает свой рецепт: На тротуарах истолку С стеклом и солнцем пополам… Это мир теплового взрыва. Вот несколько концовок стихотворений Пастернака: Кустарника сгусток не выжат. По клетке и влюбчивый клест Зерном так задорно не брызжет, Как жимолость — россыпью звезд. * Вот луч, покатясь с паутины, залег В крапиве, но, кажется, это ненадолго, И миг недалек, как его уголек В кустах разожжется и выдует радугу. * Мигая, моргая, но спят где-то сладко, 390 www.russianeurope.ru И фата-морганой любимая спит Тем часом, как сердце, плеща по площадкам, Вагонными дверцами сыплет в степи. * И сады, и пруды, и ограды, И кипящее белыми воплями Мирозданье — лишь страсти разряды, Человеческим сердцем накопленной. * И всем, чем дышалось оврагам века, Всей тьмой ботанической ризницы Пахнет по тифозной тоске тюфяка И хаосом зарослей брызнется. (На этом мы отпускаем болтливое стихотворение восвояси и продолжаем болтать сами.) Ну хорошо, а что мы увидим, если отступим на шаг (или даже на полшага) назад во времени? Вот Иннокентий Анненский, стихотворение «Черный силуэт»: Пока в тоске растущего испуга Томиться нам, живя, еще дано, Но уж сердцам обманывать друг друга И лгать себе, хладея, суждено; Пока прильнув сквозь мерзлое окно, Нас сторожит ночами тень недуга, И лишь концы мучительного круга Не сведены в последнее звено, — 391 www.russianeurope.ru Хочу ль понять, тоскою пожираем, Тот мир, тот миг с его миражным раем... Уж мига нет — лишь мертвый брезжит свет... А сад заглох... и дверь туда забита... И снег идет... и черный силуэт Захолодел на зеркале гранита. Холодно здесь! Жизнь вроде еще теплится, но она мучительна и недужна. Свет есть, но какой: «лишь мертвый брезжит свет»! Здесь не «жаровень», а «зеркало гранита», не тепловой взрыв, а ледяная замкнутость — «мучительный круг»! «Снег идет», но при этом он неподвижен, никуда не уходит из холодной, темной основы. Примечательно, что в темной основе живет образ света, «миражный» образ рая — то ли как воспоминание о какой-то прошлой солнечной эпохе, то ли как предчувствие грядущего солнца — будущего теплового взрыва. Человек превращен в собственную тень, от него остался лишь «черный силуэт». И так во всех стихотворениях Анненского (если их расспросить о самих себе, вывернуть наизнанку). Вот, например, «Электрический свет в аллее»: О, не зови меня, не мучь! Скользя бесцельно, утомленно, Зачем у ночи вырвал луч, Засыпав блеском, ветку клена? Ее пьянит зеленый чад, И дум ей жаль разоблаченных, И слезы осени дрожат В ее листах раззолоченных, — 392 www.russianeurope.ru А свод так сладостно дремуч, Так миротворно слиты звенья... И сна, и мрака, и забвенья... О, не зови меня, не мучь! Не хочется на свет, хочется остаться там, где «свод так сладостно дремуч», где «так миротворно слиты звенья». Деталь («ветка клена») не хочет выделяться из основы. «Ночной сад» еще не сыплет жуками, «публичный дом» еще не подожгли, «горящие желтые карты» еще не раздали «черным ладоням сбежавшихся окон». Но время сделает полшага — и все случится. Новые поэты выразят это изменение по-разному, каждый по-своему. Маяковский — «весомо, грубо, зримо», Мандельштам — нежно, как в первом стихотворении первой книги «Камень»: Звук осторожный и глухой Плода, сорвавшегося с древа, Среди немолчного напева Глубокой тишины лесной... Здесь уже модель новой эпохи: основа, в которой все слито (немолчный напев глубокой лесной тишины), — и нарушающий ее звук-жест, рождение молодой детали. Мандельштам вообще лучше своих современников чувствует связь с предыдущей основой и все время на нее оборачивается. Звук-жест у него не нахальный. Ему не надо орать про «Эр, Ша, Ща». Но модель у него та же: темная основа + преодолевающий ее звук-жест: Из омута злого и вязкого Я вырос, тростинкой шурша, — 393 www.russianeurope.ru И страстно, и томно, и ласково Запретною жизнью дыша. Подведем, как говорится на важных совещаниях, итоги. То, чем мы сейчас занимались, можно назвать натурфилософией стихотворения. Фалес говорил, что мир произошел из воды. Гераклит говорил, что мир произошел из огня. А китайские мудрецы говорили, что все это чередуется. В древнекитайской «Книге Перемен» говорится о Пути (Дао), состоящем из чередующихся начал Инь (темное, женское начало, хаос, вода) и Ян (светлое, мужское начало, космос, огонь). Путь предстает как чередование сжатий (Инь) и расширений (Ян), то есть чем-то вроде ползущей гусеницы: «Гусеница стягивается, чтобы вновь растянуться». Чередуются затишье и импульс. Китайцы рисовали переплетающийся символ мужского и женского начал, всем вам известный. Причем, чтобы подчеркнуть невозможность существования одного без другого, внутри светлого Ян поставили темную точку — как лазутчика Инь или как его авангард, а внутри темного Инь — светлую точку. История представляет собой чередование эпох Ян и эпох Инь — горячих и холодных эпох (или утренних и вечерних, или дневных и ночных, или белых и черных, или красных и синих…). При этом в каждом Ян уже есть свой Инь, а в каждом Инь — свой Ян. Однако они присутствуют лишь как точки: то ли как отголосок прошлого, то ли как авангард будущего. Когда сменяется эпоха, эти точки проявляются, выходят наружу, начинают доминировать. 394 www.russianeurope.ru Винсент ван Гог. Звездная ночь над Роной. 1888 год Мы сделали от эпохи Первой мировой войны полшага назад. Сделаем теперь шаг вперед: интересно все же. Что там происходит с основой и с деталями — со стихией и вещами? Вот стихотворение «Титания» Арсения Тарковского: Прямых стволов благословение И млечный пар над головой, И я ложусь в листву осеннюю, Дышу подспудицей грибной. Мне грешная моя, невинная Земля моя передает Свое терпенье муравьиное И душу крепкую, как йод. 395 www.russianeurope.ru Кончаются мои скитания. Я в лабиринт корней войду И твой престол найду, Титания, В твоей державе пропаду. Что мне в моем погибшем имени? Твой ржавый лист — моя броня, Кляни меня, но не гони меня, Убей, но не гони меня. Здесь очевидно всё стремится к возвращению обратно в основу. Это вечер. Вам никогда не хотелось прилечь — где-нибудь прямо на дороге? Еще полшага дальше во времени — еще больше темнеет, предметы сливаются, «черный силуэт» опять «захолодел на зеркале гранита». При этом детали становятся резче — такова игра убывающего освещения. И резче становится звучание. Вот Иосиф Бродский — последнее стихотворение цикла «Колыбельная Трескового мыса»: Дверь скрипит. На пороге стоит треска. Просит пить, естественно, ради Бога. Не отпустишь прохожего без куска. И дорогу покажешь ему. Дорога извивается. Рыба уходит прочь. Но другая, точь-в-точь как ушедшая, пробует дверь носком. (Меж собой две рыбы, что два стакана). И всю ночь идут они косяком. Но живущий около океана знает, как спать, приглушив в ушах 396 www.russianeurope.ru мерный тресковый шаг. Спи. Земля не кругла. Она просто длинна: бугорки, лощины. А длинней земли — океан: волна набегает порой, как на лоб морщины, на песок. А земли и волны длинней лишь вереница дней. И ночей. А дальше — туман густой: рай, где есть ангелы, ад, где черти. Но длинней стократ вереницы той мысли о жизни и мысль о смерти. Этой последней длинней в сто раз мысль о Ничто; но глаз вряд ли проникнет туда, и сам закрывается, чтобы увидеть вещи. Только так — во сне — и дано глазам к вещи привыкнуть. И сны те вещи или зловещи — смотря кто спит. И дверью треска скрипит. Комментарии, как говорится, излишни. Как сказал Анаксимандр, «а из каких начал вещам рожденье, в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение неправды в назначенный срок времени». Или вот еще пример из Бродского, «Гуернавака»: В саду, где М., французский протеже, 397 www.russianeurope.ru имел красавицу густой индейской крови, сидит певец, прибывший издаля. Сад густ, как тесно набранное "Ж". Летает дрозд, как сросшиеся брови. Вечерний воздух звонче хрусталя. Хрусталь, заметим походя, разбит. М. был здесь императором три года. Он ввел хрусталь, шампанское, балы. Такие вещи скрашивают быт. Затем республиканская пехота М. расстреляла. Грустное курлы доносится из плотной синевы. Селяне околачивают груши. Три белых утки плавают в пруду. Слух различает в ропоте листвы жаргон, которым пользуются души, общаясь в переполненном Аду. <…> Конец июля прячется в дожди, как собеседник в собственные мысли. Что, впрочем, вас не трогает в стране, где меньше впереди, чем позади. Бренчит гитара. Улицы раскисли. Прохожий тонет в желтой пелене. Включая пруд, все сильно заросло. 398 www.russianeurope.ru Кишат ужи и ящерицы. В кронах клубятся птицы с яйцами и без. Что губит все династии — число наследников при недостатке в тронах. И наступают выборы и лес. М. не узнал бы местности. Из ниш исчезли бюсты, портики пожухли, стена осела деснами в овраг. Насытишь взгляд, но мысль не удлинишь. Сады и парки переходят в джунгли. И с губ срывается невольно: рак. Это стихотворение интересно сопоставить с «Жуками сыплет сонный сад». Тут и сад, и даже «самовитая» буква «Ж»: Сад густ, как тесно набранное "Ж". Здесь, как и у Пастернака, воздух опредмечен, веществен: Вечерний воздух звонче хрусталя. Однако за стихотворением Бродского стоит не просто другая модель по отношению к модели Пастернака, а именно прямо противоположная модель. Центростремительная. Не разгорающаяся, а затухающая (и это не оценочное суждение). Водная (мир по Фалесу). Вещи-слова не выстреливаются основой, а опадают обратно, в основу, сливаются: Конец июля прячется в дожди, как собеседник в собственные мысли. 399 www.russianeurope.ru * Бренчит гитара. Улицы раскисли. Прохожий тонет в желтой пелене. * И наступают выборы и лес. М. не узнал бы местности. Из ниш исчезли бюсты, портики пожухли, стена осела деснами в овраг. Насытишь взгляд, но мысль не удлинишь. Сады и парки переходят в джунгли. И с губ срывается невольно: рак. Взгляд в этом стихотворении цепляется за отдельные, случайные, бессмысленные (и потому обреченные на смерть и возвращение обратно в основу) предметы и действия: Селяне околачивают груши. Три белых утки плавают в пруду. * Кишат ужи и ящерицы. В кронах клубятся птицы с яйцами и без. И посмотрите, какая концовка: резкое слово-жест: «И с губ срывается невольно: рак». Но это еще не «самовитое» слово: его роль состоит лишь в том, чтобы крикнуть: «Я — не слово! Вещи — нет! Есть только лес и дождь!» Это холодное отражение и грустная насмешка. Слово, «по роковой задолженности», пятится назад, в неразличимую основу речи, в «злой и вязкий омут». 400 www.russianeurope.ru Но взрыв неизбежен. И когда он произойдет, как раз и пригодится уже намечающаяся резкость тематической и звуковой детали. Бескровное слово нальется кровью. И жалкое «рак» превратится в мощное «каррр!». Всё, извините, за мной пришли санитары — прибежали, гады, на крик. Слово-лес Розалинда. …Что он делал, когда ты его увидела? Что он сказал? Как он выглядел? Куда он ушел? Зачем он тут? Спрашивал ли тебя обо мне? Где он живет? Как он с тобой простился? Когда ты его опять увидишь? Отвечай мне одним словом. Селия. Тогда одолжи мне рот Гаргантюа: это слово в наши времена будет слишком велико для любого рта… Уильям Шекспир «Как вам это понравится» 1 Представьте себе, что вы — турок Представьте себе, что вы — турок и что вам надо запомнить, скажем, следующие русские слова: «обаятельный», «счастье», «невозможно». Это непросто. Вы будете их «зубрить», «зазубрите» их звуковую оболочку, но когда встретитесь в следующий раз с одним из этих слов, обнаружите, что смысл из этой оболочки взял и ускользнул. «Да я же знаю это слово, я его учил! Оно мне прямо как родное! Но что же оно значит?» Поэтому слова гораздо лучше запоминать в контексте, в их осмысленной связи с другими словами. Например, три вышеназванных слова можно довольно легко запомнить, включив их в следующие три фразы: 401 www.russianeurope.ru «Он, конечно, негодяй, но до чего обаятельный мужчина!» «Какое счастье, что учитель болен!» «Это совершенно невозможно, господин сержант!» Но есть один необычный вспомогательный прием запоминания слов, о котором я и хочу здесь рассказать. Он творческий и веселый. Это минимедитация над новым для вас словом. Прием сей весьма тонкий, подойдет ли он вам? Вы на краткий миг всматриваетесь в слово — и воспринимаете его как маленькое стихотворение, в котором звучание и смысл соединяются. То есть поступаете так, как поступает художник слова. Вот, например, как воспринимает слово «обаятельно» Цинциннат — герой романа Владимира Набокова «Приглашение на казнь»: «— Как это все обаятельно, — обратился Цинциннат к садам, к холмам (и было почему-то особенно приятно повторять это "обаятельно" на ветру, вроде того, как дети зажимают и вновь обнажают уши, забавляясь обновлением слышимого мира). — Обаятельно! Я никогда не видал именно такими этих холмов, такими таинственными». Это и есть мини-медитация над словом. А вот Набоков медитирует над словом «счастье» в рассказе «Музыка»: «Как это было давно. Он влюбился в нее без памяти в душный обморочный вечер на веранде теннисного клуба, — а через месяц, в ночь после свадьбы, шел сильный дождь, заглушавший шум моря. Как мы счастливы. Шелестящее, влажное слово "счастье", плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет, — и утром листья в саду блистали, и моря почти не было слышно,— томного, серебристо-молочного моря». А вот слово «невозможно» — которое разлагается и вновь складывается под взглядом Иннокентия Анненского: Есть слова. Их дыханье — что цвет: Так же нежно и бело-тревожно; 402 www.russianeurope.ru Но меж них ни печальнее нет, Ни нежнее тебя, невозможно. Не познав, я в тебе уж любил Эти в бархат ушедшие звуки: Мне являлись мерцанья могил И сквозь сумрак белевшие руки. Но лишь в белом венце кризантэм, Перед первой угрозой забвенья, Этих вэ, этих зэ, этих эм Различить я сумел дуновенья. И, запомнив, невестой в саду, Как в апреле, тебя разубрали, — У забитой калитки я жду, Позвонить к сторожам не пора ли. Если слово за словом, что цвет, Упадает, белея тревожно, Не печальных меж павшими нет, Но люблю я одно — невозможно. «Ну и задача!» — скажете вы. — «Мы же не анненские и не набоковы!» Откуда вы знаете, кто вы? Мысль о собственной неодаренности — ложная и трусливая мысль. Попробуйте ощутить рисунок смысла в словах: «обаятельно», «счастье», «невозможно»… «мотылек», «пушистый», «камень», «тяжелый», «легко»… 403 www.russianeurope.ru 2 Гашиш принимать мы не будем, но… Павел Флоренский в работе «Магичность слова» замечает, что слова кажутся нам миниатюрными лишь по своей кратковременности, но при растяжении времени, например приемом гашиша, превращаются в сложные музыкальные произведения, в сложное целое. Принимать гашиш мы не будем (мало ли еще какие чудеса привидятся), а послушаем то, что могут рассказать дети, вслушиваясь в какое-либо слово. Я проводил такие эксперименты, вот, например, рассказ ребенка о том, как он воспринимает слово «метро»: М — замедляя движение, подходит поезд; Е — потоки воздуха, рассекаемые поездом, обтекающие его; ТР — торможение и последующий разгон, рев удаляющегося поезда; О — поезд уходит в туннель, остается поток воздуха и эхо. Откуда берутся эти сопоставления? Почему М здесь воспринимается ребенком как выражение замедляющегося движения? Может быть, источник такого восприятия — наше тело. Когда мы произносим «м», мы мычим, перегораживая путь воздуху. Это и дает возможность соотнести данный звук с замедлением движения в слове «метро». Кроме того, мы видим здесь соотношение с другими словами языка, например «медленно», «замедлять». Этот корень присутствует в описании ребенком слова «метро». Ребенок словно выстраивает аллитерацию, будто включает слово «метро» в какое-то более развернутое художественное произведение, в некое стихотворение (которого мы не знаем). Но главное — внутренняя логика рисунка, потому что звуки «м», «е», «т», «р», «о» могут означать в разных словах разные вещи и только в слове «метро» имеют то значение, которое увидел в них ребенок. Они значат то, 404 www.russianeurope.ru что описано выше, именно в соотношении друг с другом и строго в этом порядке. Это краски, которыми написана картинка. Слово «метро» — это картинка (но не фотография!), художественное произведение, маленькое стихотворение. А вот как так получилось — загадка. 3 Вышел утром из пещеры… Представим себе следующую картину: первобытный человек вышел утром из пещеры подышать свежим воздухом (или еще для чего-нибудь) и, вернувшись, рассказывает соплеменникам о погоде. Слова «холод», допустим, еще нет, оно не существует в своей нынешней краткой форме, еще не сложилось, не застыло. И вот он начинает дуть (изображая ветер): хооо… хоо…, потирать заледеневшее тело: ллл…, дрожать, показывая, как он одеревенел, задубел, стучать зубами: ддд… Могли бы быть, конечно, при этом и другие звуки и жесты. На произнесение такого слова могло бы уходить несколько минут. Это могло бы быть целой музыкальной картиной. Это могло бы быть процессом творчества, созданием слова-рисунка, словастихотворения, единственного в своем роде, не предназначенного для повторных употреблений, передающего только вот этот холод вот в этой ситуации общения, — то есть созданием имени собственного. И только потом, видимо, такие большие и оригинальные первобытные слова сжались и застыли в маленькие наши слова, стали разменной монетой, именами нарицательными. А скорее всего и не было никакой ситуации общения — было прямое выражение чувств человека перед лицом явления. Когда же восторг прошел, стали думать, что с этим делать, как это применить. Иначе говоря, язык ведь 405 www.russianeurope.ru не есть сам по себе средство общения — как, например, огонь не есть всего лишь средство для изготовления шашлыка. Язык просто используется как средство общения. Я, например, всегда чувствовал: что-то не так в избитой фразе «Язык есть средство общения». Такая прекрасная вещь, как язык, — и всего лишь средство какого-то сомнительного общения. Неприятно, как в детстве, когда приятель подсовывает тебе конфету, а внутри — свернутая бумажка. Даже стол, говорят, не сразу стал работать простой подставкой для выпивки и закуски — первоначально он был жертвенником и своей формой символизировал небо. В этом смысле интересно прочесть статью В. В. Бибихина «Детский лепет» — о том, что сначала у ребенка пробуждается способность к «лепетной речи», которая «отражает переживания такой нюансированности, какая успешно выдерживает сравнение с нервнопсихической жизнью взрослого». Детский лепет не делится на отдельные слова — переход к отдельным словам, подсказанным взрослыми, осуществляется позже. Интересно также наблюдение, к кому именно первоначально обращен язык ребенка (и даже уже не только лепет). Бибихин пишет: «Уроненный из коляски в возрасте год и два месяца и больно ушибшись, ребенок неистово плачет две-три минуты, потом спокойно и чисто произносит бах и тут же перестает плакать. Адресат подобных высказываний не столько взрослый собеседник, сколько некая сущность, которую можно было бы условно назвать держателем языка или авторитетом языка. <…> В какой-то мере любая речь ребенка — да по сути и взрослого, только гораздо менее явно, — выходит из круга всех зримо присутствующих адресатов. Речь ребенка невозможно понять, если не рассматривать всякое вообще его высказывание как обращенное сначала к невидимому субъекту, держателю языка, и лишь через него — к реальному адресату в той мере, в какой этот последний постепенно кристаллизуется. Ребенок свидетельствует перед авторитетом, к которому прежде всего обращена его речь, о том что происходит в мире». 406 www.russianeurope.ru Это описание направленности детского лепета напоминает и такое вполне взрослое явление, как тост на пиршестве, общение между людьми в котором вторично, поскольку происходит через пожелание, то есть через обращение «сначала к невидимому субъекту», который может это пожелание осуществить, если захочет. Мое слово-рисунок, разумеется, представляет собой всего лишь макет: не было в доисторической древности слова «холод», даже отдельными звуками языка, входящими в это слово, человек овладевал тысячелетиями. В основе макета — восприятие современного ребенка, который всматривается в современное слово. Именно такое, детское, открытое восприятие готового слова помогает понять, как могло быть создано слово впервые. Люсьен Леви-Брюль в книге «Первобытное мышление» пишет о том, что для первобытного человека каждое слово звучит особенно, в зависимости от момента отношения, от ситуации, что порождает и обилие собственных имен для называния различных предметов: «Так, в Лаонго каждый пользуется речью на свой лад, вернее, из уст каждого речь выходит по-разному, смотря по обстоятельствам и по расположению говорящего. Это пользование речью столь же свободно и естественно, как (я не знаю лучшего сравнения) звуки, издаваемые птицами. Иначе говоря, слова не являются здесь чем-то застывшим и установленным раз и навсегда, напротив, голосовой жест описывает, рисует, графически выражает, также как и жест рук, действие или объект, о котором идет речь». «Этой же тенденцией объясняется такое поразительное обилие собственных имен, даваемых отдельным предметам, в особенности всем мельчайшим подробностям поверхности земли. В Новой Зеландии у маори каждая вещь имеет свое имя (собственное). Их жилища, их челноки, их оружие, даже их одежда — все это получает особые имена...». Видимо, в начале было не слово, а что-то вроде стихотворения, которое потом, сгустившись, превратилось в привычное нам маленькое, прочное 407 www.russianeurope.ru слово (или, распавшись, превратилось в маленькие, прочные слова). Но и в малом слове, прислушавшись, можно распознать стихотворение. 4 Шуми, шуми, зеленый лес! Сейчас для меня лес — просто слово, слово из словаря. Вы сказали: «лес», а я не знаю, где этот лес и какой он. Мало ли я повидал за свою жизнь разных лесов! Мне уже больше пятидесяти. Но когда родители мне, пятилетнему, говорили: «Завтра мы пойдем в лес», этот лес был не просто словом, обозначающим ряд сходных вещей, это было названием единственного и неповторимого клязьминского леса, к которому нужно было сначала идти по поселку (и по совершенно определенным улицам, у каждой из которых было свое лицо), затем через жаркое поле с кузнечиками и бабочками, затем по опушке, затем по лесной дороге, чтобы в конце концов выйти к узкой, мелкой и холодной лесной речке. И весь этот путь входил тогда для меня в слово «лес». И, уверяю вас, я видел весь этот путь в самом звучании слова. И другие слова звучали для меня в детстве столь же волшебно. 408 www.russianeurope.ru И. И. Шишкин (1832—1898). Лес Слово «лес» — слышен в самом слове лес или не слышен, нарисован или не нарисован? Если в это слово вслушиваться, всматриваться, то можно услышать и увидеть лес. Скажем, так: Л — мы входим в лес, ощущая вдруг его тень, его прохладу, Е — мы слышим, как сквозь ветви струится воздух, как он огибает деревья и широко расходится между ними, С — мы слышим шелест, мы осязаем хвою. Да, это всего лишь своего рода медитация, то есть нечто возможное, но не вызывающее доверия. 409 www.russianeurope.ru Однако слово «лес» можно дорисовать, присоединив к нему другие слова, например «лес шелестел» или «зеленый лес», — и тогда это слово действительно становится музыкальной картинкой, звуковым рисунком. (Мы делаем тем самым слово художественным произведением — или пробуждаем дремлющую в нем художественность.) Особенно это очевидно, конечно, в поэзии. Вот стихотворение Ивана Никитина «Лес»: Шуми, шуми, зеленый лес! Знаком мне шум твой величавый, И твой покой, и блеск небес Над головой твоей кудрявой. Я с детства понимать привык Твое молчание немое И твой таинственный язык Как что-то близкое, родное. Как я любил, когда порой, Краса угрюмая природы, Ты спорил с сильною грозой В минуты страшной непогоды, Когда больших твоих дубов Вершины темные качались И сотни разных голосов В твоей глуши перекликались... Или когда светило дня На дальнем западе сияло И ярким пурпуром огня Твою одежду освещало. Меж тем в глуши твоих дерев Была уж ночь, а над тобою 410 www.russianeurope.ru Цепь разноцветных облаков Тянулась пестрою грядою. И вот я снова прихожу К тебе с тоской моей бесплодной, Опять на сумрак твой гляжу И голос слушаю свободный. И может быть, в твоей глуши, Как узник, волей оживленный, Забуду скорбь моей души И горечь жизни обыдéнной. В этом стихотворении о лесе слово «лес» обрастает другими словами и отражается в них. Например, его звучание подчеркивается, расширяется словом «зеленый». Стоит сказать «зеленый лес» — и возникает новое единство, новое имя. А от слова «зеленый» можно перекинуть мостик к слову «знакóм», а от слова «лес» — к слову «блеск». Имя разрастается дальше. От слова «блеск» — к слову «близкое», от слова «знаком» — к слову «покой» — и так далее, можно двигаться внутри стихотворения по многим расходящимся тропинкам, соединяющим слова. В стихотворении каждое слово бесспорно является звуковым рисунком. Происходит это оттого, что слова поддерживают друг друга, «братаются», и тогда, например, звук «ш», сам по себе мало что значащий, становится символичен: «шумит», «страшной», «больших», вершины», «в глуши». Или: слова «лес», «шум», сами по себе не соединенные в звуковом отношении, соединяются при помощи слов «голос», «глушь»: лес — голос — глушь — шум. Стихотворение похоже на ожерелье ведического бога Индры, о котором в «Аватамсака-сутре» говорится: «В небесах Индры есть, говорят, нить жемчуга, подобранная так, что если глянешь на одну жемчужину, то увидишь все остальные отраженными в 411 www.russianeurope.ru ней. И точно так же каждая вещь в мире не есть просто она сама, а заключает в себе все другие вещи и на самом деле есть все остальное». Текст стихотворения «Лес» построен так, что представляет собой разворачивающееся, разрастающееся слово «лес». «Лес» — главное слово в этом тексте, слово-матка, а все остальные слова им порождаются и его обслуживают. Все слова текста так или иначе отражаются в слове «лес». Одни из них непосредственно созвучны этому главному слову, прилепились к самому магниту, другие лепятся уже на эти намагниченные слова. «Лес» здесь — не только название стихотворения, но и действительное имя текста. Стихотворение помогает нам постичь, каким могло быть слово первобытного человека, которым он передавал свое (конкретное: «здесь и сейчас», связанное с именно его жизнью) ощущение леса. Это, видимо, было большое слово. Правда, без деления на малые, уже окончательно «устаканившиеся» слова. Что-то вроде туманности, из которой еще не образовались звезды и планеты (надеюсь на снисходительность астрономов, а лингвистов о ней не прошу, так как понимаю, что прощения мне нет). Но, может быть, мы сами вполне первобытны? Может быть, художественность — основной закон языка? Может быть, слово не только когда-то «сгустилось» из большого и туманного, первобытного словастихотворения, но и продолжает жить и «обкатываться» то в одной художественной «туманности», то в другой? И речь тут даже не о стихах. Прислушайтесь, например, как говорит Платон Каратаев в романе Льва Толстого «Война и мир» — тот самый Платон Каратаев, из которого «слова и действия выливались... так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка». Утешая Пьера, говорит: «Не тужи, дружок»; или тут же, лаская собаку: «Ишь, шельма, пришла!» Или вот, Роман Якобсон в статье «Новейшая русская поэзия (подступы к Хлебникову)» приводит такой случай: 412 www.russianeurope.ru «В Верейском уезде старик сказочник рассказывал мне о том, как мужик из мести, заманив барина хитростью в баню, там его до полусмерти исколотил, отбарабанил. «Барина да в бане да отбарабанил! Ловко!» — подхватил с восторгом один из парней-слушателей». Каждое наше высказывание, каким бы обыденным оно ни было, стремится стать художественной «туманностью», старается превратиться в единое, большое слово. Новалис в повести «Ученики в Саисе» говорит о «священном языке»: «Преимущественно же влек их к себе тот священный язык, который сияющим мостом соединял тех царственных людей с неземными краями и их жителями и кое-какими словами которого, согласно самым разным преданиям, владели еще некоторые счастливые мудрецы из наших предков. Его звучание было чудесным пением, неотразимые тона глубоко проникали внутрь каждой природы и расчленяли ее. Каждое из его имен было как бы словом-разгадкой для души каждого природного тела. Творческой властью этих ритмических колебаний пробуждались все образы мировых явлений, и о них можно было по праву утверждать, что жизнь вселенной — это вечный тысячеголосый разговор, так как в их речи все силы, все виды деятельности казались непостижимым образом соединенными». Этим «священным языком», в котором каждое слово есть «слово-разгадка», мы и пользуемся — как ни в чем не бывало. 5 Запоздалый лист Когда мы прочитываем стихотворение, то, помимо всего прочего, у нас возникает особое ощущение его завершенности, как бы «закругленности» — и в то же время ощущение того, что движение в нем странным образом 413 www.russianeurope.ru продолжается. Но что представляет собой завершенность стихотворения? Вообще говоря, это вопрос того же размера, что и вопрос о смысле жизни. Ответить на него невозможно, но можно показать модель. Возьмем одно из стихотворений Пушкина: Я пережил свои желанья, Я разлюбил свои мечты; Остались мне одни страданья, Плоды сердечной пустоты. Под бурями судьбы жестокой Увял цветущий мой венец — Живу печальный, одинокой, И жду: придет ли мой конец? Так, поздним хладом пораженный, Как бури слышен зимний свист, Один — на ветке обнаженной Трепещет запоздалый лист!.. Закройте ладонью последнюю строфу — и вы почувствуете незавершенность. Вы бы ее смогли почувствовать, даже если бы не знали о существовании третьей строфы. Между тем в первых двух строфах высказана вполне законченная мысль. Третья строфа дает лишь сравнение. Однако мы чувствуем, что она — главная, что без нее стихотворения нет. Не на одну изъятую треть нет, а вообще нет. Чтобы понять, в чем заключается завершенность стихотворения, нам нужна еще одна модель. Например, трехступенчатая завершенность жизни: рождение, протекание жизни, смерть. Стихотворение — это маленькая жизнь. Конец стихотворения — смерть. Начало стихотворения — рождение. 414 www.russianeurope.ru Но все же почему нельзя остановить данное стихотворение на второй строфе, на слове «конец»? Есть такая разновидность обряда посвящения у некоторых живущих в первобытном состоянии народов: проходящий обряд посвящения человек бросается с дерева вниз головой, но не разбивается, так как его удерживает привязанная к ноге лиана. Обряд посвящения как раз и строится по вышеуказанной трехчастной модели, только фокус в том, что рождение стоит последним пунктом: первое — протекание жизни (падение, умирание), второе — смерть (распад, расчленение), третье — рождение, точнее возрождение (собирание воедино, восстановление). Смысл обряда посвящения, как известно, в том, что человек должен получить опыт смерти, чтобы возродиться к жизни, то есть родиться во второй раз. Схема эта универсальна: можно говорить, например, как в китайской традиции, о погружении Ян (светлого, мужского, твердого начала) в Инь (темное, женское, жидкое начало), об их борьбе и постепенном соединении в этой борьбе, ведущем к возрождению, восстановлению начала Ян. Стихотворение и являет собой такой обряд посвящения, такую универсальную схему: оно падает, как самолет в штопоре, но в тот самый момент, когда гибель (остановка) неизбежна, включается пропеллер — «трепещущий запоздалый лист». Он суммирует все предыдущие жалобы в едином образе, превращает их в картинку — и тем самым сбрасывает их. Он отражает в себе, как в зеркале, все звучание стихотворения, все стихотворение как бы является развернутым рисунком «трепещущего запоздалого листа». Это имя текста, его ангел-хранитель. Прислушайтесь к первым двум строфам — и вы услышите этот трепещущий лист. В последней строфе хорошо видно, как он аккумулирует в себе весь ритм, примиряя противоположности, Инь и Ян: А. //_/___/_ Так, поздним хладом пораженный, Б. _/_/_/_/ Как бури слышен зимний свист, 415 www.russianeurope.ru А. _/_/___/_ Один — на ветке обнаженной А+Б. _/___/_/ Трепещет запоздалый лист!.. Б звучит неотвратимо четко, по-мужски (что подчеркнуто и мужской рифмой), А откликается тревожными водоворотами, замираниями души над пропастью: «пораженный», «обнаженный». В последней строке, которая по схеме должна была бы быть убийственно четкой, вдруг возникает водоворот, смещенный к центру, все уравновешивающий. Он цепляется за подставленный в первом А этой строфы выступ на первом ударении («Так...»), как за гвоздик. Кроме того, «так» отражается в предпоследней строке — точно над воронкой, над словом «запоздалый» — в слове «ветке». Так концовка вбирает в себя все стихотворение и отражает его, пуская возвратную волну. Получается что-то вроде вечного двигателя. В стихотворении на последней строке происходит взрыв — но это внутренний взрыв, энергия не улетучивается, а питает, живит все стихотворение. Вообще говоря, не может быть настоящего стихотворения без внутреннего взрыва в нем. По сути, умирание и возрождение в стихотворении происходит в том смысле, что оно, постепенно, по мере своего звучания, превращаясь в единое слово, дробит, умерщвляет все отдельные слова в себе. Оно разрезает слова на элементы, на отдельные звуки, соединяя их по-иному, по-своему. Но в результате такого расчленения каждое отдельное слово вдруг возрождается, начинает звучать осмысленно. И это становится очевидно тогда, когда стихотворение заканчивается, концовка стихотворения это выявляет. Фокусник, распиливший девушку, предъявляет ее по окончании фокуса целой и невредимой. Или: герой сказки разрезается, умерщвляется, спрыскивается сначала мертвой, а затем живой водой — и оживает, становясь при этом лучше, чем прежде. А теперь поговорим о смысле жизни. Вернее, о признаке правильной жизни (жизни, имеющей смысл) — об ощущении счастья. Счастье — это когда 416 www.russianeurope.ru время как бы останавливается, перестает быть неотвратимым (гётевское «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»), начинает течь в обратную сторону (как утверждает Павел Флоренский о протекании времени в сновидении — что спорно собственно для сновидения, но бесспорно для искусства). Стихотворение подобно алхимическому изображению мифического змея Уробóроса (по-гречески: «кусающий свой хвост»), означающему циклическую природу жизни, соединение времени и вечности: Вот и Ван Гог как-то записал: «Жизнь, вероятно, кругла». Ритм стихотворения — это его время, что дает нам возможность проникнуть в тайну прекрасного мгновения, понять «технологию» счастья. Флоренский в лекциях о пространственности и времени в искусстве пишет: «Когда это единство в сознании, так или иначе, установилось, музыка перестает быть только во времени, но и подымается над временем. <...> Активностью внимания время музыкального произведения преодолевается, потому что оно преодолено уже в самом творчестве, и произведение стоит в нашей душе как нечто единое, мгновенное и вместе вечное, как вечное мгновение, хотя организованное, и даже именно потому, что организованное». Интересно, можно ли увидеть такое «вечное мгновение» в отдельном слове? 6 Всегда находиться в дороге 417 www.russianeurope.ru Можно ли увидеть в отдельном слове ритм, аналогичный ритму стихотворения? Интересным макетом для показа ритма слова может послужить индуистское священное слово «аум», которое произносится перед всякой молитвой и всяким гимном и (правильно произнесенное) наделяет произносящего силой. Ритм этого слова: первый звук А (уже немного огубленный) образуется в задней части рта, последний звук М издается с помощью губ, У является плавным переходом между ними. Таким образом, это слово распределено по всему рту, является ритмически завершенным целым. В традиции индуизма воспринимаемая Вселенная произошла от вибрации, вызванной этим словом, это было первое проявление не явленного еще Брахмана (Бога-Абсолюта). Слово «аум» есть и символ божественной троицы: Брахмы (бога-творца), Вишну (верховного бога, бога-поддержателя) и Шивы (бога-разрушителя, разрушающего с благой целью создания пространства для нового творения). Считается также, что три звука символизируют три уровня существования — рай (сварга), землю (мартья) и подземное царство (патала). То есть это слово, по существу, является осью мира (лат. axis mundi) — мировым древом, соединяющим три мира. Хотя сами звуки слова «аум» распределены во рту от горла к губам, то есть по направлению наружу, они рисуют движение внутрь, погружение человека в глубину собственного тела. Или так: движение наружу и движение внутрь совпадают. Принято также истолкование этого слова как четверицы — это три звука плюс беззвучие, символизирующие переход от Я через не-Я к божественной сущности: я, эго (А) → недвойственность (У) → слияние (М) → тишина (…). Это слово являет собой обряд посвящения: уход из первоначального состояния — переход (туннель) — смерть — возрождение. В слове «аум» заключены и три времени суток: утро, день, ночь. Надо же, какое слово! 418 www.russianeurope.ru Но слова «холод», «лес», «солнце» (и все остальные слова языка, скажу я вместе с Ноздревым) ничем не хуже, если внимательно прислушаться. От каждого из них остается ощущение завершенности (и при этом завершенности подвижной, живой), ощущение некоего волшебного круга, проделываемого путешествия и возвращения из него. Каждое слово языка, если присмотреться к нему поближе, оказывается «царственным словом» (по выражению Осипа Мандельштама). Всмотримся, например, в слово «солнце». (Тут начинается, конечно, моя безответственная фантазия.) Чтобы передать ощущение открытого пространства, а также чтобы беспрепятственно воспарить взором к синему небу, мне нужно С. Чтобы явить провал моего ока в небесный колодец, мне нужно О. Провалившись, я встречаю светлый, гудящий диск — Н. И хотя Л в этом слове не произносится, оно мне тоже нужно. Оно невидимо присутствует в светящемся диске, застланное светом, но иногда все же проявляющееся, видимое. Посмотрите на солнце — и вы заметите, как проступает, переливается в нем это холодное, голубое Л. Это Л открыто звучит, например, в слове «солнечный» — и потому оно (пусть незримо) присутствует в слове «солнце». Наконец, ЦЕ — это выброс, это лучи. И одновременно — быстрое очерчивание — целого — солнечного круга. Роман Ивана Тургенева «Рудин» начинается словами: «Было тихое летнее утро. Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе…» Вы замечаете, что в предложении о солнце не только передается информация о погоде, но и происходит медитация над самим словом «солнце»? «СОлнце» — «выСОкО». Вот и оправдался провал в высокое небо, который был заложен в СО. А тут еще и «довОЛЬНо»! ЛЬ выводит наружу Л исходного слова, О подтвержает и углубяет провал в высоту, а, кроме того, смотрите, как переливается: сО(Л)Нце — довОЛЬНо! И другие слова предложения также раскрывают «основное», «первоначальное» слово «солнце»: «стояло» 419 www.russianeurope.ru (ЛО — отражение первоначального ОЛ), чистом (подхват первоначального С — придание ему смыслового оттенка чистоты), «небе» (Н). Осип Мандельштам в «Разговоре о Данте» говорит: «Всякий период стихотворной речи — будь то строчка, строфа или цельная композиция лирическая — необходимо рассматривать как единое слово. Когда мы произносим, например, «солнце», мы не выбрасываем из себя готового смысла, — это был бы семантический выкидыш, — но переживаем своеобразный цикл. Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося «солнце», мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что гoворить — значит всегда находиться в дороге». 7 Кипящее сердце Вот слово «ветер», вот слово «бабочка». Мы чувствуем, что люди не могли условиться так, чтобы бабочка обозначалась словом «ветер», а ветер — словом «бабочка». Мы чувствуем, что в слове «ветер» дует ветер, а в слове «бабочка» порхает бабочка. (Причем слово «бабочка» — это не фотография бабочки, это стихотворение о бабочке. Иначе оно звучало бы одинаково на всех языках. На самом же деле каждый народ создает свое стихотворение о бабочке: «фарфáлья» (итальянский), «папийóн» (французский), «шмéтерлинг» (немецкий)... В каждом языке бабочка порхает по-своему.) 420 www.russianeurope.ru Связь между звучанием слова и его значением ощущается и во многих других словах. Могут ли обменяться значениями слова «холод» и «жар», «тихий» и «громкий», «легкий» и «тяжелый», «мягкий» и «твердый», «узкий» и «широкий», «медленный» и «быстрый», «пушинка» и «камень», «взлететь» и «упасть», «пощечина» и «поцелуй»…? Интересно, что в этих и подобных случаях иноязычный участник эксперимента часто угадывает правильно значение, при этом набор предлагаемых для угадывания слов может быть и больше двух. И наоборот, русскоязычный обычно угадывает, например, в паре немецких слов “eng” (эньг) и “breit” (брайт), какое из них означает «широкий», а какое — «узкий». Или в паре английских слов “quick” (квик) и “slow” (слоу), какое из них означает «быстрый», а какое — «медленный». Рассказывают, что немецкий философ-мистик XVII века Якоб Бёме, не знавший древнееврейского языка, угадывал значения еврейских слов, которые ему называли. Такая вот легенда, небылица. Однако, может быть, речь шла лишь о небольшом наборе слов, который надо было сопоставить с соответствующим набором немецких слов. Тогда подобное угадывание вполне возможно. При этом, конечно, нужно обладать развитым чувством звукового рисунка слова. У Якоба Бёме оно было. Например, о слове «сердце» (Herz — хэрц) он пишет: «…слог Herz выталкивают из глубины тела, из сердца: ибо слово Herz произносит истинный дух, поднимающийся (рождающийся) из зноя сердца, в котором восходит и кипит свет». А вы слышите, как слово Herz поднимается из сердца и кипит? Почему возникает такое ощущение? Считается, например, что на ступне человека имеется как бы микросхема всего его организма (кажется, благодаря каким-то нервным окончаниям, туда выходящим). Поэтому существует даже такая терапия, которая воздействует на разные органы тела путем нажатия на различные точки стопы. Нет ли подобной связи между органами речи и остальным телом? 421 www.russianeurope.ru При произнесении слова Herz: H — звук поднимается из горла — которое соответствует глубине тела, животу, E — звук движется широко, но не совершенно прямо и свободно (как A или O), а по бокам, так как язык никуда не убирается, не прижимается, — и потому передается ощущение движения вдоль ребер, охватывающего всю грудную клетку, R — звук сжимается (сужается) и дрожит — либо у заднего нёба (так называемое немецкое вокальное R), либо под нижними зубами (альвеолярное R) — что передает биение сердца внутри грудной клетки. Z — звук цокает о верхние зубы, что-то поднялось из сердца и ищет проявления-выхода, «кипит». Поглядим теперь на слово «бабочка». Как оно порхает? Порхание, взмахи крылышек передаются, конечно, при помощи двух губных, смычных, звонких звуков Б, а также при помощи гласных А-О-А. Срединное О произносится как ослабленное А, но человек подспудно знает, что там О, поскольку в языке много слов на «-очка», где это О — ударное. Однако мне особенно нравится, что слово «бабочка» словно проникает в тело говорящего (или слышащего) это слово — и облетает его. Получается же так благодаря тому, что порхание снаружи (на губах — БАБ) вдруг сменяется провалом внутрь, к нёбу и в горло (на ОЧК), а затем слово опять выныривает на последнем А. Важно и то, что срединное О, не забывая о своей сущности, звучит здесь как ослабленное А — иначе было бы нарушено порхание. А так слово и порхает, и, в то же время, ему удается резко сместиться в пространстве, метнуться (как это делают бабочки). Важно и ударение на первом слоге, приподнимающее два последующие, дающее им возможность взлететь и полетать. Представьте себе, какой иначе был бы ужас: «бабóчка»! Не является ли слово как бы особым, удивительным способом медитации, соединяющим предмет или явление с нашим телом? 422 www.russianeurope.ru 8 Кузнечик дорогой Первое удачное русское лирическое стихотворение было написано летом 1761 года Ломоносовым. Ученый, обремененный не только наукой, но и общественными делами, позавидовал кузнечику: Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! Препровождаешь жизнь меж мягкою травою И наслаждаешься медвяною росою. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, Но в самой истине ты перед нами царь; Ты ангел во плоти иль, лучше, ты бесплотен, Ты скачешь и поёшь, свободен, беззаботен; Что видишь, все твоё; везде в своём дому, Не просишь ни о чём, не должен никому. Стихотворение имеет следующий заголовок: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для академии, быв много раз прежде за тем же». Это переложение с древнегреческого, однако здесь нечто большее, чем просто удачный перевод. То, что было анакреонтическим стихотворением «К цикаде», становится самостоятельным русским стихотворением. Так началась русская лирика — с образа кузнечика: с мечты человека о свободе при полном сознании собственной хрупкости. 423 www.russianeurope.ru Стихотворение написано шестистопным ямбом. То есть, если его скандировать, ударение падает на каждый второй слог, всего шесть ударений227: Кузнечик дорогой, коль много ты блажен… Таков метр стихотворения, реально же здесь, конечно, лишь четыре ударения: Кузнечик дорогой, коль много ты блажен… По смыслу произносимого ударение на слове «дорогой» получается довольно слабым, сильнее всего ударение на словах «кузнечик» и «много», средней силы ударение — на слове «блажен». Первое ударение (на «кузнéчик») кажется самым сильным, поскольку это практически единственное ударение в первом полустишии (в то время как во втором полустишии и слов больше, и ударений — разной силы). А также потому, что «кузнечик» — первое слово предложения. И еще потому, что оно задает тему, называет главного героя стихотворения. Поэтому мы чувствуем, как сильно ударяется и даже растягивается слог «не». Этот слог в слове «кузнечик» и так был как бы главным, поскольку на него падало ударение. Но теперь, из-за влияния стиха, он становится еще главнее. Из простого слога он становится центральным звуком, фоном всего стиха. Посмотрим на слоги, выделенные четырьмя ударениями: не го но ен «КузНЕчик» отражается в «блажЕН»: НЕ — ЕН. Начинается (средствами поэзии) волшебное превращение насекомого в некое ангельское существо. При этом происходит как бы взбегание по воздушным ступенькам, обозначенным звуком О: ГО — НО — . Этим ударным О помогают и безударные О стиха: Кузнечик дОрОгОй, кОль мнОгО ты блажен… Иными словами, здесь шесть стоп. Каждая ямбическая стопа — это сочетание безударного и ударного слогов. Стих (то есть строка) шестистопного ямба, кроме того, обязательно распадается на две половинки, между которыми слышна пауза — цезура. Такой эффект достигается тем, что третья стопа совпадает с концом слова. 424 www.russianeurope.ru 227 Безударные О перемежают ударные, создавая ощущение прыжка-полета, состоящего из двух фаз: нижней и верхней. На ГО и НО кузнечик находится в верхней точке, на остальных слогах с О — либо на взлете, либо спускаясь. Интересны здесь сочетания ОгО и ОгО, также подчеркивающие прыжки. Однако вернемся к НЕ и посмотрим, что оно делает дальше — теперь уже на протяжении всего стихотворения. Во втором стихе «блажЕН» подхватывается словами «счастьЕМ одарЕН». В третьем стихе слово «куЗНЕчик» отражается в слове «жИЗНь». В слове «Жизнь» откликается еще и слово «блаЖен», которое «кузнечик» уже вобрал в себя ранее. То есть слово «кузнечик» отражается в слове «жизнь» и звуком Ж, которого у него самого нет. Слово «кузнечик» как бы нарастает по ходу стихотворения — подобно снежному кому. В четвертом стихе мы слышим вариацию отражения НЕ — ЕН, которое было в первом стихе. И НАслаждаешься медвЯНою росою. Здесь НА — АН. В пятом стихе «кузНЕчик» падает, он вдруг — «презрЕННа тварь»: Хотя у многих ты в глазах презренна тварь… Зато в шестом стихе «кузнечик» взлетает: Но в самой истине ты перед нами царь. Слово «НО» подхватывает здесь слово «мНОгих» из предыдущего стиха, подчеркивая оппозицию, как бы возражая ему. «КузНЕчик» же подхватывается словом «истиНЕ», и подхватывается очень интересно. На ударное НЕ отвечает безударное НЕ, причем здесь мы имеем пропущенное метрическое ударение. (Если стих скандировать, то ударение третьей стопы как раз падает на НЕ: «úстинé».) Скажем красиво: ударение есть, но оно бесплотное. Кроме того, на слове «истине» кончается третья стопа, то есть полустишие. Из-за пропущенного метрического ударения и из-за положения перед цезурой это слово как бы длится, становится на дыбы, нависает над пустотой. Сравним это со взлетевшими вперед качелями, достигшими 425 www.russianeurope.ru высшей точки. (Прыгать в такой момент с качелей, причем с закрытыми глазами, было одним из удивительных ощущений моего детства.) Вокруг этого невесомого НЕ стоят подчеркивающие его два ударные АМ: Но в сАМой истиНЕ ты перед нАМи царь. Эти АМ имеют опору в словах из предыдущих стихов: в слове «медвЯНою», а также (через М) в словах «МЕж МЯгкою травою». Их ударное А мощно перекликается с последним словом стиха: «цАрь». Так «кузнечик» отражается в «царь», хотя в этих двух словах нет ни одного совпадающего звука. А в седьмом стихе кузнечик назван ангелом: Ты ангел во плоти иль, лучше, ты бесплотен… Но именно не просто назван, а действительно становится ангелом — благодаря поэтическому волшебству. Его НЕ отражается в АН, слово «кузнечик» отражается в слове «ангел», и отражение это было исподволь подготовлено. (Сначала было НЕ — ЕН, потом НА — АН. И вот — АНгел.) Это, пожалуй, не было бы столь очевидно (и было бы даже просто надуманно), если данные два слова не стояли бы в стихе в одинаковой позиции, а именно в первой стопе, при том, что последний слог — безударный, относящийся к уже следующей стопе: «кузнéчик» — «ты áнгел». Я думаю, что эти два ключевых слова стоят на отражающих друг друга местах и в стихотворении. Хотя стихотворение представляет собой пять двустиший, по смыслу и по звучанию оно все же распадается на начальное четверостишие, серединное двустишие и заключительное четверостишие (и к этому мы еще вернемся). «Кузнечик» открывает начальное четверостишие, а «ты ангел» — заключительное четверостишие: Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, Коль больше пред людьми ты счастьем одарен! Препровождаешь жизнь меж мягкою травою И наслаждаешься медвяною росою. 426 www.russianeurope.ru Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, Но в самой истине ты перед нами царь; Ты ангел во плоти иль, лучше, ты бесплотен, Ты скачешь и поёшь, свободен, беззаботен; Что видишь, все твоё; везде в своём дому, Не просишь ни о чём, не должен никому. Итак, мы остановились на: Ты ангел во плоти иль, лучше, ты бесплотен… В следующем стихе будет рифма «беззаботен». В первом и втором стихе начального четверостишия мы слышали в конце стиха ударные ЕН: «блажен», «одарен». А вот в первом и втором стихе заключительного четверостишия мы слышим безударные ЕН. Почему такое эхо? Видимо, потому что кузнечик теперь ангел, который бесплотен. Послушаем последний стих: Не просишь ни о чём, не должен никому. Вот он, «кузНЕчик» — во всю свою кузнецкую: НЕ просишь НИ о чём, НЕ должЕН НИкому. И каждое «не» (или «ни») отрицания — это прыжок. Всего четыре прыжка. Интересно, что не просто отрицается внешняя зависимость, а каждое отрицание несвободы есть одновременно прыжок-полет, то есть реализация внутренней свободы. Реализация того «прыжкового» НЕ, которое включено в первое слово стихотворения: «кузНЕчик». И это не досужее рассуждение, но действительно слышно в стихотворении. В заключительном четверостишии стихи имеют по четыре ударения (за исключением предпоследнего стиха, о чем речь впереди), и каждое — прыжок: 427 www.russianeurope.ru Ты Ангел во плотИ иль, лУчше, ты бесплОтен, Ты скАчешь и поЁшь, свобОден, беззабОтен; Что вИдишь, всЁ твоЁ; вездЕ в своЁм домУ, Не прОсишь ни о чЁм, не дОлжен никомУ. Кузнечик прыгает в последнем четверостишии, в первом же четверостишии он еще, так сказать, спокойно нежится в траве: Препровождаешь жизнь меж мягкою травою И наслаждаешься медвяною росою. Хотя в первых двух стихах уже заключена возможность прыжков (но, поскольку здесь лишь высказывается некая мысль и нет самого слова «скачешь», это еще не видно читателю или слушателю): КузнЕчик дорогОй, коль мнОго ты блажЕн, Коль бОльше пред людьмИ ты счАстьем одарЕн! В срединном же двустишии не происходит ничего: Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, Но в самой истине ты перед нами царь. Здесь только высказывание мысль — причем в двух резко противопоставленных изречениях: глазам многих противопоставляется истина, презренной твари — царь. Так два эти стиха образуют внутреннюю границу стихотворения. Это как бы вставленное в стихотворение зеркало. В Дозеркалье кузнечик — тварь, в Зазеркалье — царь. И мы видим трех кузнечиков. Первый кузнечик — сидящий в траве, не прыгающий кузнечик. Второй — кузнечик в момент трансформации, в 428 www.russianeurope.ru момент превращения в ангела, в царя в истине. Третий — прыгающий кузнечик. Или так скажем: кузнечик до трансформации — кузнечик в момент трансформации — кузнечик после трансформации. Предпоследний стих говорит о полном единстве кузнечика с миром, это «tat tvam asi». В нем, кажется, четко звучат все шесть ударений — по три на каждое полустишие: Что вИдишь, всЁ твоЁ; вездЕ в своЁм домУ… Здесь можно услышать и прыжки, и, наоборот, покой — отражение, например, стиха с тремя ударениями: «И наслаждАешься медвЯною росОю». И не только из-за аналогичного смысла. Ведь предпоследний стих можно прочесть и с тремя ударениями: Что вИдишь, всё твоЁ; везде в своём домУ… Предпоследний стих как бы вбирает в себя обоих кузнечиков — покоящегося и прыгающего. И затем уж идут прыжки вовсю — в последнем стихе. Такие вот дела в стихотворении, оглянемся же теперь на слово: КУЗ-НЕЧИК. КУЗ — хрупкое и готовое задрожать-запеть тельце кузнечика. Звук К (с которого не только начинается, но и которым оканчивается слово «КузнечиК») передает хрупкость и повторяется в начальном четверостишии в словах «коль», «коль» (этот повтор выражает также возможность прыжков). Мы как бы притрагиваемся к тельцу кузнечика, ощупываем его. Звук З отражается в начальном четверостишии в звуках З и Ж: «блажен», «жизнь», «меж», «наслаждаешься». А вот слог ЧИК отражается в слове «сКаЧешь» заключительного четверостишия. Я хочу сказать, что слово «кузнечик» устроено так же, как и стихотворение о кузнечике. Именно стихотворение дает нам увидеть, что такое на самом деле слово — «в самой истине». 2014 — 2016 годы, Москва, Большие Дубравы, Хайфа 429 www.russianeurope.ru