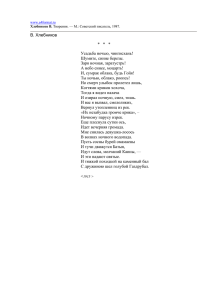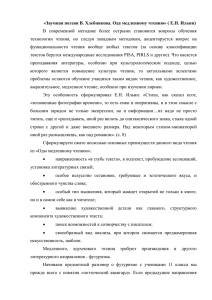«Персидский ковер имен, государств да сменится лучом
advertisement
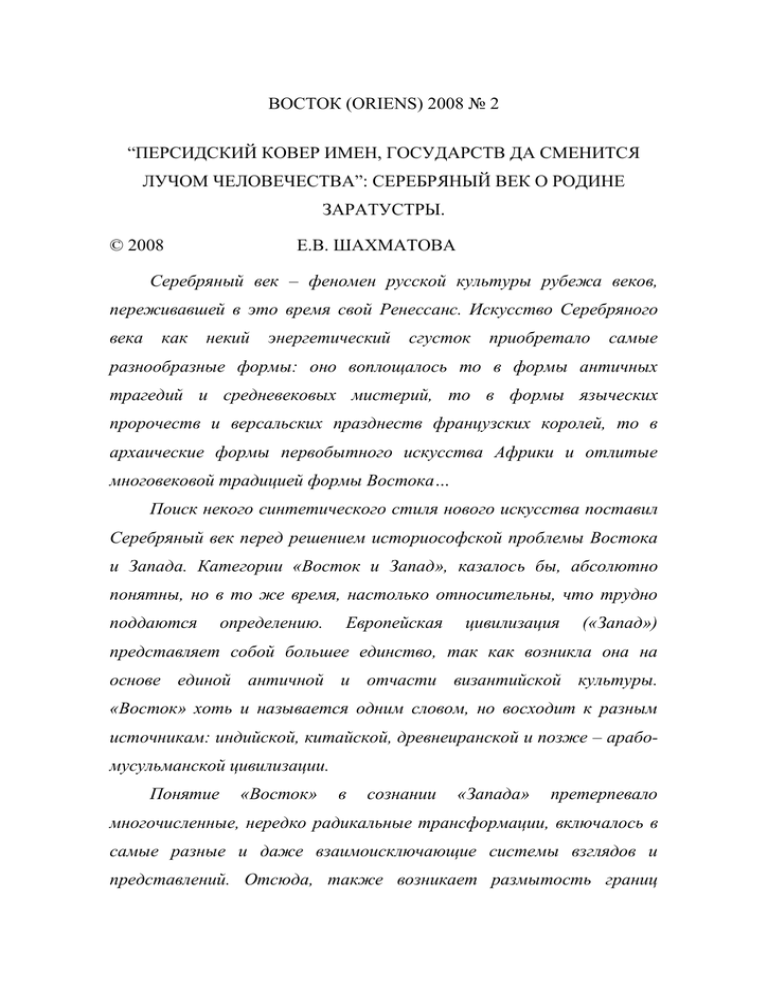
ВОСТОК (ORIENS) 2008 № 2 “ПЕРСИДСКИЙ КОВЕР ИМЕН, ГОСУДАРСТВ ДА СМЕНИТСЯ ЛУЧОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА”: СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК О РОДИНЕ ЗАРАТУСТРЫ. Е.В. ШАХМАТОВА © 2008 Серебряный век – феномен русской культуры рубежа веков, переживавшей в это время свой Ренессанс. Искусство Серебряного века как некий энергетический сгусток приобретало самые разнообразные формы: оно воплощалось то в формы античных трагедий и средневековых мистерий, то в формы языческих пророчеств и версальских празднеств французских королей, то в архаические формы первобытного искусства Африки и отлитые многовековой традицией формы Востока… Поиск некого синтетического стиля нового искусства поставил Серебряный век перед решением историософской проблемы Востока и Запада. Категории «Восток и Запад», казалось бы, абсолютно понятны, но в то же время, настолько относительны, что трудно поддаются определению. Европейская цивилизация («Запад») представляет собой большее единство, так как возникла она на основе единой античной и отчасти византийской культуры. «Восток» хоть и называется одним словом, но восходит к разным источникам: индийской, китайской, древнеиранской и позже – арабомусульманской цивилизации. Понятие «Восток» в сознании «Запада» претерпевало многочисленные, нередко радикальные трансформации, включалось в самые разные и даже взаимоисключающие системы взглядов и представлений. Отсюда, также возникает размытость границ самого определения «Восток», ставшего одним из архетипов западного сознания. Как отмечает П.Гуревич, «…образ понятие «Востока» олицетворяет для европейца иной тип жизнеустройства, чем тот, к которому принадлежит он сам. В этом качестве понятие «Восток» и послужило такой универсальной схемой, которая сохраняясь, могла вместе с тем в разное время и в разных обществах наполняться совершенно различным содержанием. И поэтому притяжение к Востоку, равно и отталкивание от него, зачастую оказывалось в контексте тех или иных идеологических движений европейской истории «перевёрнутой» формулой постижения и оценки своей собственной, «Западной» действительности» [Гуревич, 1984, с.37]. Серебряный век обратился к Востоку под большим влиянием моды на ориентализм в европейском модерне, но на русской почве устремлённость к Востоку стала не просто экзотически пикантной приправой, стилем, тонкой фантазией искусства. Особенности русской души, «чуткой к мистическим веяниям» (Бердяев), привели к тому, что культура Серебряного века от стилистически формальных приёмов, изысков и соответствий обратилась к таким глубинам духа, что её эксперименты в области эстетического подхода к действительности, вскоре переросли в поиски некого единого религиозно-мистического мировоззрения. Поворот к Востоку означал отказ от европоцентризма, коренное изменение возрожденческой парадигмы в культуре и осознание Россией своей цивилизационной миссии. Обращение к древнеиранской традиции после Ницше стало признаком хорошего тона. Афоризмы из его самой популярной книги «Так говорил Заратустра» были слышны в каждом литературном 2 салоне и даже увековечены в камне. «Когда выстроишь себе дом, то понимаешь, что научился кое-чему» - такая цитата из «Заратустры» появилась на фронтоне гостиницы «Метрополь», архитектурного памятника московского модерна. Серебряный век устремляется к первоначалу, к древности, вспоминая об индо- иранских корнях русской культуры. Показателен в связи с этим пример Н.Рериха, прошедшего путь от славянской архаики до Индии. Персия, прародина ариев, становится одним из полюсов притяжения в этот период. Основные философские проблемы: вопросы жизни и смерти, возникновение бытия из небытия – Серебряный век сопоставлял с традициями древних и выявлял в них те черты, которые вдруг, спустя тысячелетия, вновь оказались востребованными. Зороастризм воспринимал пространство и время как бесконечность, разделяя все пространство на две области – область бесконечного света, Добра и Ахура-Мазды и область бесконечной тьмы, Зла, которой управляет Ахриман. Существование двух противоположных начал и составляет содержание существования мира. На пересечении Добра и Зла, Света и Тьмы находится область жизни. Серебряный век, ощущая глобальные перемены, осознавал себя в качестве “осевого времени”. Европейская цивилизация, зайдя в тупик индивидуализма, силой доказывающего свои полномочия, на рубеже ХIХ–ХХ вв. стремительно приближалась к мировому кровопролитию. В эту эпоху формируется новое понимание мира и человека в нем, создается новая мифология. Новое мировоззрение в попытке определить, когда была совершена ошибка, возвращается к истокам и, снимая с себя цивилизационный слой, обнаруживает индоевропейские корни. 3 Так, Бальмонт в стихотворении “Огонь” (1904?) признавался: Огнепоклонником я прежде был когда-то, Огнепоклонником останусь я всегда. Мое индийское мышление богато Разнообразием рассвета и заката, Я между смертными – падучая звезда. [Бальмонт, 1983, с. 215] Еще на заре ХIХ в. великий Гёте, основываясь на немецком переводе “Дивана” Хафиза, издал поэтический цикл “ЗападноВосточный диван”. Он отметил, что персы за пять столетий признали только семерых поэтов настоящими классиками и назвал имена Фирдоуси, Низами, Энвери, Руми, Саади, Хафиза и Джами. Оценка Гёте подогрела интерес европейцев к персидской поэзии и Востоку, а каждый поэт, претендующий на память потомков, считал своим долгом вступить в поэтическое состязание с бессмертными. Так А.С. Пушкин написал цикл “Подражание Корану” из девяти произведений, Гафиза и Саади ему были “знакомы имена”. К восточной теме обращался и М.Ю. Лермонтов, написав стихотворение “Три пальмы. Восточное сказание”, по размеру и строфике близкое к девятому стихотворению пушкинского цикла. Персидская поэзия дала образцы не только новых форм, но и принципов иного понимания творчества: если западное рационалистическое сознание строго следовало логической связи внутренних звеньев стихотворения, то эстетический опыт художников Востока основывался на калейдоскопичности ассоциативных образов, монтаже мыслей и эмоций, обращенных не столько к сознанию, сколько к подсознанию. Поиски единого синтетического стиля искусства были в то же время и попыткой обрести новое сознание. 4 Персия сделалась Меккой классической лирики для поэтов Серебряного века, ощутивших в душе, что по уровню поэтического мастерства, они уже готовы состязаться с бессмертными образцами. КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ. ПЕВЕЦ ОГНЯ И СОЛНЦА К. Бальмонт в поэтическом сборнике “Зовы древности” (1909) обращается к древнеиранской священной книге “Авеста”. Полного перевода Авесты на русский язык не существует до сих пор, есть лишь отдельные фрагменты. Тем ценнее представляется труд К. Бальмонта, блестящего знатока многих языков, давшего в начале ХХ в. возможность русской публике познакомиться с поэтическими переводами этого древнего памятника. В цикле, посвященном Ирану, “Зенд-Авеста” обозначена девятью произведениями (“Агурамазда”; “Утренняя молитва”; “Вечерняя молитва”; “Почитание”; “Зерно”; “Собака”; “Гимн к Вайю”; “Гимн к Веретрагне”; “После смерти”). Во вступительном слове к своим переводам из “Зенд-Авесты”, Бальмонт говорит (конечно, в поэтическом ключе) об общих чертах и различиях индийской и иранской культур, имеющих единое прошлое: “Два братские народа, развив до полноты каждый, единственный и неповторимый лик свой, оба коснулись грани, полюса. Индия, будучи живой, постигла то, что связано с Полюсом Смерти. Иран, более преданный земному, воплотил в своем религиозно-поэтическом творчестве очарование Жизни. Но как Индия, так и Иран, молятся Огню и Солнцу, мысли Парсов и мысли Индусов исполнены сияний, пряного запаха цветов и свежего запаха полевых злаков. Только в утонченном поэтическом и философском восприятии Индусов более ощущается пьяный запах цветов, или боль сердца, в котором опьянение кончилось, а в полном мужественности жизнестроительстве Парсов, влюбленников Земли, чувствуется вся 5 красота возделанного поля, поэзия тяжелого снопа. Но как у Индусов есть сома, так у парсов есть гаома, духовный цвет – и тех и других – ведет к светлым экстатическим состояниям и вводит их в стройное Миропознания” философии [Бальмонт, “Авесты” 1909, посвящено с. 206.]. Жизнеутверждающей стихотворение Бальмонта “Воскресенье”, где на вопрос Заратустры о возможности победить смерть, Агурамазда отвечает: В настоящем и в прошедшем Есть грядущее всегда. Не из прошлого ковал я Настоящее мгновений, Не из бывшего я вынул Синь эмали верховой, Изумруды всех былинок И рубины всех расцветов Из небывшего исторг я Волей творческой мечты. …………………………….. Пламя любит быть веселым, Жизнь живет, и смерти нет. [Бальмонт, 1983, с. 393] “СНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА В. Брюсов был склонен, вслед за К. Бальмонтом, искать первоначало всего сущего на Востоке, а точнее – в Иране. В стихотворении “В Баку” (1916) он восклицает: Привет тебе, дальний и дивный Иран, Ты, праотец мира… и в другом месте: Там розы Шираза, там сад Шах-наме, Газели Гафиза… И грезы о прошлом блистают в уме, Как пестрая риза [Брюсов, т. 2, 1973, с. 243] В своем проекте, первоначально названном им “Зеркало теней” (1909), а позднее получившем наименование “Сны человечества” Выделено мною. – Е.Ш. 6 В. Брюсов решает продемонстрировать “все формы, какие прошла лирика у всех народов во все времена”, и даже попытаться “перенять самую манеру поэтов”. Он ставит перед собой задачу – “перевоплощаться” в творцов прошлого и отмечает, что для осуществления этого замысла требуются большие знания, которыми он, впрочем, располагал. Помимо знания множества европейских языков, Брюсов, по его собственным словам, “имел понятие” о санскрите (который изучал в университете), польском, чешском, болгарском, сербском; “заглядывал в грамматики языков: древнееврейского, древнеегипетского, древнеарабского, персидского, японского, и хотя не имел досуга изучить их, все же мог составить себе некоторое о них понятие” [Брюсов 1973, с. 460–461]. Лингвистическая эрудиция была характерной чертой культуры представителей Серебряного века, но даже на этом фоне познания Брюсова выглядят весьма впечатляющими. Необходимо отметить, что среди лингвистических интересов эпохи все большее значение приобретают восточные языки. К. Бальмонт, владевший множеством1 языков и начавший свою литературную деятельность как переводчик, в одном из писем признавался: “…Мне бы очень хотелось изучить арабский и египетский по-настоящему. Также китайский и японский. Верно это будет в новом воплощении” [цит. по.: Азадовский, Дьяконова, 1991, с. 6]. С.А. Поляков, совладелец Знаменской мануфактуры и меценат, на чьи средства существовало издательство “Скорпион” и журнал “Весы”, владел 15 языками, в том числе “экзотическими”: турецким, персидским, санскритом, арабским, древнееврейским, японским. По свидетельству его жены Екатерины Андреевой-Бальмонт, он «всю жизнь изучал какойнибудь новый язык. Хорошо он знал французский, немецкий, греческий, латинский, итальянский, испанский, польский, литовский, чешский, норвежский, датский, шведский. Похуже грузинский, немного японский, санскрит» [Андреева-Бальмонт Е.А., 1996, с.348]. 1 7 Брюсов отзывался о нем как о прекрасном лингвисте, “который дал мне драгоценные сведения о стихосложении персидском и японском”, он утверждал: “Несколько персидских газелл, прочитанных и переведенных мне С.А. Поляковым, дали мне безмерно больше представлений о персидской поэзии, нежели целые томы исследований о персидской литературe” [Брюсов, т. 2, 1973, с. 461]. В подробном плане к “Снам человечества” в разделе “Средневековье” Брюсов записывает: “Страна роз. Персия. – И далее намечает для себя по пунктам вехи поэтических перевоплощений. – 1. Сказание о Агурамазде и Ангроманью (Ормузд и Ариман). 2. Речь Заратуштры. 3, 4. В духе Фирдоуси. 5. В духе Низами. 6, 7, 8. В духе Гафиза. 9, 10. В духе Омара Хайама. 11, 12, 13. Из персидской антологии. 14. В манере Джами” [Брюсов, т. 2, 1973, с. 464]. Он успел осуществить немногое, но “в духе Омара Хайама” и “в духе Гафиза” лиру свою настроил в первую очередь. Жизнелюбивая философия Омара Хайяма узнается в “Персидских четверостишиях” Брюсова (1911), а эксперимент с одним из видов характерного для Востока лирического стихотворения газели (1913) – явная дань памяти Гафизу. Брюсов отмечает, что сущность “газеллы (правильнее – газели) – в повторении заключительных слов первого стиха в конце второго стиха и в конце каждого двустишия; все остальное – украшения, которые для данной формы не обязательны” [Брюсов, 1918, с. 194]. НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ. УВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСИЕЙ Древнеперсидская культура как неизведанная тайна, привлекает в начале XX в. внимание не только поэтов, но и художников. Увлечения искусством Востока, в частности Персии не избежали 8 Н. Гончарова, М. Ларионов.2 Персидские ковры, книжные миниатюры, предметы прикладного искусства Востока – становятся излюбленными предметами коллекционирования. В частности поэт Н. Гумилев, глава “Цеха поэтов” и основатель акмеизма, мечтал отправиться на персидский фронт для пополнения коллекции персидских миниатюр. В персидских, милых миньятюрах Величье жизни настоящей. писал поэт в стихотворении “Пантум” (1917). Восхищение персидской миниатюрой открывает перед Гумилевым мир Гафиза. В 1916 г. он для театра марионеток П.П. Сазонова и Ю.Л. Слонимской пишет арабскую сказку в 3х картинах “Дитя Аллаха”. Вот вкратце ее сюжет: Гафиз становится избранником Пери, а остальные персонажи – красавец, бедуин и калиф – оказываются его недостойными соперниками. Драматическая сказка полна цитат из персидской лирики, а кульминационный момент венчается обменом газелями между Гафизом и Пери. Основная тема сказки – преклонение перед великим поэтом, который выдерживает соперничество с юным красавцем, отчаянным храбрецом и могущественным калифом. Поэтический дар божественен – таков безапелляционный вердикт Гумилева. Критик А. Левинсон, один из самых внимательных ценителей Гумилева, отметил: «Арабская сказка “Дитя Аллаха” возвеличивает в форме драматизированной притчи призвание поэта. Здесь образ Гафиза окружен целым сонмом воспоминаний: фигурами “1001 ночи”, уже преломленными через философские сказки Вольтера, веяниями западного ветра, как он воспет в “Диване” Гёте, арабесками и эмалевой расцветкой Одним из меценатов созданной М. Ларионовым творческой группы “Ослиный хвост” был персидский принц Medicien Saltane [Mary Chamot, p. 48]. 2 9 персидских миниатюр. На всех этих пахучих травах настоялся ароматный фиал сказки Гумилева» [Современные записки, 1922, № 9, с. 313]. Лариса Рейснер в письмах к Гумилеву (1916) величала его “великим Гафизом”, что, безусловно, льстило самолюбию поэта. Другой пример для подражания Гумилев находил для себя в Имруулькайсе, арабском поэте VI в. [Тименчик, 1987, с. 128–129]. В 1917 г. в Париже в трагедии из византийской жизни “Отравленная туника”, написанной им для Дягилевских сезонов, Гумилев вложил в уста героя (снова – поэта) образы знаменитой касыды Имруулькайса [там же]. МЕЧТЫ О ШИРАЗЕ. СЕРГЕЙ ЕСЕНИН Персия, как магнит, влекла к себе Сергея Есенина. Несмотря на неоднократные попытки, ему так и не удалось увидеть реальные пейзажи заветного края. Он нуждался в творческом импульсе: “Поймите и Вы, – убеждал он Г. Бениславскую, отговаривавшую его от путешествия в Персию, – поймите и Вы, что я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики.3 И недаром мусульмане говорят: если он не поет, значит он не из Шушу, если он не пишет, значит он не из Шираза” [Есенин, 1970, с. 291]. Есенин прочитал все, что было ему доступно в тот момент, и, отдавшись вдохновению, перенесся в воображаемую Персию Духа (по аналогии с гумилевской Индией Духа). Три поэта – Хайям, Саади и Фирдоуси формируют реальную составляющую есенинского Духа Персии, он постоянно ведет с ними 3 Нелишне будет напомнить, что Заратустра также родился в Ширазе (Е.Ш.). 10 внутренний диалог, так что создается впечатление, будто они не являются его далекими предшественниками, а непосредственно присутствуют здесь и сейчас. Поэт ревнует свою возлюбленную не к кому-нибудь, а к Саади (“Ты сказала, что Саади целовал лишь только в грудь…”), вступает в поэтическую полемику с Хайямом и на прощанье, бросая взгляд на пейзажи Персии, пытается сохранить в памяти главную черту: “Голубая родина Фирдуси”. Тоска по несбывшейся мечте, готовность пойти на большие жертвы (“честь моя за песню продана”, да что там честь, “пусть вся жизнь моя за песню продана”), “увидать далекий синий край”, где “розы, как светильники горят”, ощутить запахи “олеандра и левкоя”, спрятаться под каштаном от жары, напиться в чайхане красного чаю, поговорить с менялой на базаре, сорвать чадру с любимой и раствориться в ее глазах без остатка – вся эта энергия нереализованного желания воплотилась в “Персидских мотивах” (1925): “Никогда я не был на Босфоре…”, “не ходил в Багдад я с караваном, не возил я шелк туда и хну…” – этот повторяющийся рефрен отрицания завораживает и гипнотизирует, вводит в состояние экстаза (“И тебя блаженством ошафранит”). Персия Духа – заветная, несбывшаяся мечта поэта, оставшаяся для него навсегда недостижимым идеалом: Хороша ты, Персия, я знаю. ……………………………. И в моей скитальческой судьбе Близкому и дальнему мне люду Буду говорить я о тебе – И тебя навеки не забуду. [Есенин, 1970, т. 1, с. 233]. Ориентальный фон “Персидских мотивов” способствует раскрытию главных идей цикла – утверждению любви, красоты и гармонии. Истоки размышлений о вечных истинах дают возможность постичь те незримые связующие нити, возникающие между душой 11 средневекового перса, рязанского поэта и читателя, ощутить единство мира, прошлого и настоящего, Востока и Запада… Есенинский цикл возник в эстетической атмосфере культуры Серебряного века, для которой Восток стал образцом для подражания. Не обошлось в “Персидских мотивах” и без аллюзий из “Тысячи и одной ночи” – упоминаний о “задумчивой пери” из Хороссана, флейте Гассана и главной героине арабских сказок: “Далеко-далече там Багдад, / Где жила и пела Шахразада”. “ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ” CЕРЕБРЯНОГО ВЕКА Не один Сергей Есенин был пленен образом чудесной сказительницы. Сюжеты и образы знаменитого цикла арабских сказок были восприняты представителями Серебряного века с невероятным энтузиазмом. Н. Гумилев увлеченно писал сценарий “Гарун альРашид” (фильм по нему так и не был снят), даже консультируясь для этого с крупнейшим востоковедом И.Ю. Крачковским. Сказкам “Тысячи и одной ночи” посвящено его стихотворение “Ослепительное” (1912): Ты уводила моряков В пещеры джиннов и волков, Хранящих древнюю обиду, И на висячие мосты Сквозь темно-красные кусты На пир к Гаруну альРашиду. [Николай Гумилёв.Чужое небо, 1912] Во время русских сезонов Дягилева во Франции оглушительный успех 12 снискал в 1910 г. балет “Шехерезада”. Парижская публика стекалась в Grand Opera, чтобы насладиться удивительным зрелищем, созданным коллективом блестящих М. Фокина, среди мастеров исполнителей своего – дела: хореография В. Нижинский (негр), И. Рубинштейн (Зобеида), М. Булгаков (шах), С. Григорьев (евнух). Парижская критика признала “Шехерезаду” шедевром и лучшей вещью, которую до сих пор удалось поставить Дягилеву [Аполлон, 1910, № 9, с. 26]. Львиная доля успеха досталась Л. Баксту, художнику и автору либретто. «Передайте Баксту, - просил в письме Марсель Пруст, - что я испытываю волшебное удивление, не зная ничего более прекрасного, чем «Шехерезада» [цит. по: Сергей Дягилев и русское искусство, 1982, с.189]. Идея постановки балета родилась у Бакста не без влияния суфийских4 пиров на башне у Вяч. Иванова. Поэт Михаил Кузмин регулярно упоминал в своем дневнике за 1907 г. чтение арабских сказок5, и три газеллы из его книги “Осенние озера” представляют собой свободное переложение стихов из этих сказок. Эскизы Л. Бакста тотчас были приобретены парижским музеем декоративных искусств. Спектакль порождал ассоциации с ожившими картинами в золотой раме, декорации сравнивали с огромным персидским ковром6. В антракте французские художники устремлялись за кулисы, чтобы вблизи увидеть декорации и костюмы. Ярко-зеленый занавес см.гл. «Петербургские гафизиты» в кн.Богомолов, 1995, с.67-98. «Читали 2 сказки из “1001 ночи”, досидели до света» – запись из дневника М. Кузмина от 15 мая [цит по кн.: Богомолов, 1995, с. 227]. 6 На древних персидских коврах фон называется zeman, что означает пространство, а вся система наложенного на него узора – zemin, т.е. время. Таким образом, орнамент представляет собой не формальное переплетение линий и узоров по прихоти художника, а является материализованной формулой физической картины мира. В этом синкретизме древнего искусства открывается истинный смысл искусства, отражающего лик бытия: “Наш мир – поток метафор и символов узор”, – писал великий Омар Хайям. 4 5 13 ниспадал сверху мягкими складками на оранжево-красную плоскость пола, устланного ковром. Этот ковер, нежно-красного цвета, чтобы усилить тяжелую роскошь гарема, Бакст расписал собственноручно. Зелень драпировки сверкала золотом и чернью персидского орнамента, глубина сцены утопала в синем сумраке, все контуры растворялись, мерцая гармоничными яркими и переливаясь. аккордами Костюмы дополняли исполнителей основные цвета декорации. Пламенел желто-красный костюм главного евнуха и, как искорки, сверкали оранжевые шаровары танцующих перед шахом одалисок. В сцене оргии розовые алмеи в темно-красных и зеленых чадрах, бронзовые индусы и смуглые негры в серебристой парче переливающейся золотом гирляндой сплетенных тел окружали жену шаха Зобеиду и ее любовника-мулата. После триумфа “Шехерезады” в парижских салонах появились низкие диваны со множеством подушек, а светские львицы на приемах облачались в юбки-шаровары и на голову надевали чалму. Так русская “Шехерезада” Бакста диктовала моду французам. “Я УВИДЕЛ ГОЛУБЫЕ ПРИЗРАКИ ГОР ПЕРСИИ”. ХЛЕБНИКОВ В ИРАНЕ Воображаемое путешествие на Восток в случае с Есениным не единичное событие в истории Серебряного века. В этом ряду и “путешествие в Китай” в пьяной компании с метром Рабле того же Гумилева (“Только в Китае мы якорь бросим, / Хоть на пути и встретим смерть!”), и желание Кузмина “посмотреть бы на китайскую зарю”, и цикл полотен М. Ларионова из неосуществленной поездки в Турцию. Если не припасть губами к роднику чистейшей духовности Востока, то хотя бы в воображении унестись в заповедный край (композитор Скрябин, например, начал экспериментировать с йоговскими психотехниками бестелесного путешествия) [см.: Bowers 14 Faubion, 1969, vol. 2]. Максимилиан Волошин, бредивший Востоком, записал в своем дневнике за 1908 г., как ему некий доктор арабских наук на основе кабалистики предсказал поездку в Персию [Волошин, 1991, с. 301], к сожалению, так и не сбывшуюся. Реализовать же идею паломничества на родину Заратустры и величайших поэтов удалось Велимиру Хлебникову. В 1921 г. он отбывает вместе с частями Красной армии, направленными на помощь иранским революционерам, поднявшим восстание в Гиляне. “Я сотрудник русского еженедельника на пустынном берегу Персии, – пишет он родным из Шахсевара. – Живется здесь очень скучно, дела никакого, общество – искатели приключений, авантюристы шаек Америго Веспучи и Фердинанда Кортеца” [Хлебников, 1933, т. 5, с. 322]. Он числится лектором Совета Пропаганды Персидской Красной армии и совместно с группой революционных войск под предводительством Эхсанулла Хана, главы революционного движения в Гиляне, отправляется в поход на Тегеран через провинцию Мазендеран. «Знамя Председателей Земного Шара всюду следует за мной, развевается сейчас в Персии, – писал он сестре. – 13/IV я получил право выезда, 14/IV на “Курске” (транспортное судно, на котором плыл Хлебников. – Е.Ш.) при тихой погоде, похожей на улыбку неба, обращенную ко всему человечеству, плыл на юг к синим берегам Персии. Покрытые снежным серебром вершин горы походили на глаза пророка, спрятанные в бровях облаков. Снежные узоры вершин походили на работу строгой мысли в глубине божьих глаз, на строгие глаза величавой думы. Синее чудо Персии стояло над морем, висело над бесконечным шелком красно-желтых волн, напоминая об очах судьбы другого мира. Струящийся золотой юг как лучшие шелка, 15 раскинутые перед ногами Магомета севера, на севере за кормой “Курска” переходили в сумрачное тускло-синее серебро, где крутилось зеленея прозрачное стекло волн ярче травы; и сами себя кусали и извивались в судорогах казненных снежные змеи пены … Меня выкупали в горячей морской воде, одели в белье и кормили, и ласково величали “братишкой”. Я, старый охотник за предвидением будущего, с гордостью принимаю это звание “братишки” военного судна “Курска” как свое морское крещение. После походившей на Нерчинские рудники зимы в Баку, когда я все-таки добился своего: нашел великий закон времени, под которым подписываюсь всем своим прошлым и будущим, а для этого я перечислил все войны земного шара, в который я верю и заставлю поверить других. (…) Уезжая из Баку, я занялся изучением Мирза-Баба7, персидского пророка, и о нем буду читать здесь для персов и русских: “Мирза Баб и Иисус”. Энзели встретило меня чудным полднем Италии. Серебряные видения гор голубым призраком стояли выше облаков, вознося свои снежные венцы … мы бросились осматривать узкие японские улицы Энзели, бани в зеленых изразцах, мечети, круглые башни прежних столетий в зеленом мху и золотые сморщенные яблоки в голубой листве. Осень золотыми каплями выступила на коже этих золотых солнышек Персии, для которых зеленое дерево служит небом. Это многоокое золотыми солнцами небо садов подымается над 7 Персидский проповедник и философ. “Баб родился 5 октября 1819 г. в Ширазе. Свою проповедь он начал при Махмед-шахе” (из заметок Хлебникова). Приводятся различные даты жизни Сейида Али-Мохаммеда (1814–1844) или (1820–1850). Подобные разночтения объясняются тем, что режим шаха всячески боролся с распространением его учения и все документы уничтожались. Сейид Али-Мохаммад в г. Кербела (Ирак) стал учеником Сейида Казема Рашти, возглавлявшего религиозную группу Шейхие, а после его смерти сам стал лидером этой группы. В настоящее время он считается основоположником самой поздней из мировых религий – веры бахаи. По словам Арнольда Тойнби, “бахаизм – это независимая религия наравне с Исламом, Христианством и прочими мировыми религиями” [Хэтчер, Мартин, 1995]. 16 каменной стеной каждого сада, а рядом бродят чадры с черными глубокими глазами»8 [Хлебников, 1933, т. 5, с. 319–320]. На древней земле Хлебников ощущает себя “священником цветов”, пророком, которого сбежались встречать предтечи. Он, набросивший уздечку на Змея времен, соотносит себя с “Разиным навыворот”: Он грабил и жег, а я слова божок. Пароход - ветросек Шел через залива рот. Разин деву В воде утопил. Что сделаю я? Наоборот? Спасу! Увидим. Время не любит удил. И до поры не откроет свой рот. [Хлебников,1987,с.350] Возможно, дева, которую собирается спасти герой, это упомянутая в поэме Гурриэт эль-Айн (Горратольэйн)9, получившая прозвище Тахирэ (чистейшая) – поэтесса, ученица Сейида Казем Рашти и сподвижница его преемника, Сейида Али-Мохаммеда, вошедшего в историю под именем Баб. Она была дочерью муллы и получила хорошее образование, в 14-летнем возрасте ее выдали замуж. Ей была уготована типичная жизнь матери семейства, она родила троих детей, двух сыновей и дочь. Но ее увлечение новым религиозным учением привело к разрыву с мужем, разводу и осуждению со стороны ближайших родственников. Бабизм, претендующий на право считаться единственной совершенной В приписке к письму Хлебников добавил: “Персам я сказал, что я русский пророк”. Горратольэйн – это тоже прозвище, означающее “свет очей”, ее реальное имя было Зарринтадж (1807–1847). Сопоставляя даты смерти Тахирэ и Баба, можно прийти к выводу, что Баб был казнен в 1844 г., так как Тахирэ была арестована и казнена за распространение его учения уже после смерти религиозного лидера. Хлебников предлагал установить ей памятник, который, по его теории, должен находиться на другом конце земной оси от места рождения. “В мелком Ламанше может быть воздвигнут морской, выходящий из воды, памятник Гуриэт Эль Айн, сожженной на костре персианки. Пусть чайки садятся на него вблизи парохода, полного англичан” [Хлебников, 1933, т. 5, с. 160]. 8 9 17 религией всеобъемлющей любви, снял запреты, позволявшие считать женщину существом низшего порядка, освободил ее от чадры и позволил ей распространять учение, фактически взяв на себя миссию апостола. Тахирэ была первой женщиной в истории Ирана, сбросившей с себя хиджаб. Сара Бернар, прославленная французская актриса, назвала Тахирэ иранской Жанной д’Арк. Гурриэт эль-Айн, Тахирэ, сама Затянула на себе концы веревок, Спросив палачей, повернув голову: “Больше ничего?” – “Вожжи и олово В грудь жениху!” Это ее мертвое тело: снежные горы. [Хлебников, 1987, с.351] Хлебников проводит параллель между бунтом Стеньки Разина и восстанием под предводительством Сейида Али-Мохаммеда Ширази, принадлежавшего к секте шейхитов, увидевших причину всех бедствий народа в несовершенстве устаревших догм шариата. В 1844 г. Сейид Али-Мохаммед объявил себя Бабом, т.е. вратами, через которые Бог послал человечеству новое вероучение, он заявлял, что главное его предназначение – подготовить пришествие вселенского мессии, спасителя, чья весть будет принесена во все народы. По распоряжению шаха он был расстрелян, а вместе с ним казнена и его соратница. Поиски единого духовного Абсолюта культурой Серебряного века занимали мыслителей самых разных направлений. Хлебников и Лев Толстой в иранском мятежнике-реформаторе ислама ХIХ в. обнаружили стремление к объединению разных культур. Проблема поисков Единства была одной из центральных на рубеже XIX и XX вв. 18 Реальные впечатления и события в поэме Хлебникова предстают перед нами кинематографически ярко и красочно: здесь и экзотические пейзажи Персии – “алые сады”, “белые горы”, “моря синеют без меры”; и этнографические зарисовки восточного базара – “залежи кувшинов голубых”, “зеленые куры, красных яиц скорлупа”, бритоголовые торговцы “в полушариях черных, как черепа”, женщины в черных чадрах, идущие “вином запечатанным с белой головкой над черным стеклом”… И сцена посвящения в Председатели земного шара сотрудника газеты Али, и пиршество “на скатерти берега” уснувшей рыбой, и ночлег на дороге, и задержание дюжиной воинов, и бесплатная переправа на лодке из Энзели в Казьян. Хлебников удивляется благополучному разрешению самых невероятных ситуаций и понимает, что ему помогает его облик пророка: Я счастье даю? Почему так охотно возят меня? Нету почетнее в Персии – Быть Гуль-муллой, Казначеем чернил золотых у весны. [Хлебников, 1987, с.358] “Я в Персии, – пишет он родным. – Я увидел голубые призраки гор Персии, желтое русло Ирана, на берегах которого, точно копья уснувшего войска, качаются метелки осоки. Стрелял из ружья в мечущих икру судаков, пугал по вечерам стаи белых цапель, окончивших своим S (эс) из снега густые беседки затопленных водою деревьев. Берег Ирана устлан тухлыми судаками и сомами. Энзели состоит из множества черепичных домиков, покрытых коврами зеленого моха, милодовидными красными цветочками. Золотые нарынчи и портахалары унизывают ветки деревьев. Дервиши с узловатыми посохами, похожими на клубящихся змей, суровыми лицами пророков – своим пением оглашают улицы. Высохшие как у 19 покойников лица персиянок за черным покрывалом, изнеженные лица торговцев, вся Персия, тяготеющая к Франции: у них две столицы Париж и Тегеран, и очаровательное пение чикалов (шакалов. – Е.Ш.), то плачущих ребенком, то нагло и грубо хохочущих над людьми, – их зовут рыжие, – тысячью голосов, как завязанные в лисьи мешки люди, снимая все изломы человеческого сердца. Фазан взлетающий к небу столбом, блеснув оперением тухлой воды. Вот мои впечатления” [Хлебников, т. 5, 1933, с. 321]. Величественный пейзаж страны, “где все люди Адамы”, вызывает у Хлебникова мысль о том, что “здесь, среди гор, человек сознает, что зазнался”. Он испытывает тяжесть непризнанного гения: Плетусь, ученье мое давит мне плечи, Проповедь немая, нет учеников. [Хлебников, 1987, с.356] В селении Халхал Хлебников разговаривает с собеседником, с трудом говорящим по-русски, но пытающимся обозначить ключевые фигуры двух культур: с одной стороны, он упоминает Толстого, а с другой – произносит имя пророка – Зардешта, основателя религии зороастризма, более известного как Заратустра или Зороастр. В свое время К. Бальмонт в стихотворении “Почитание” перечислил все заслуги Заратустры перед людьми: Мы чтим святую душу Заратустры, Что первый в этом мире мыслил благо, И благо говорил, и благо делал; Он первый Жрец был, первый был Воитель, Первый Пахарь, подниматель глыб; Был первый тот, кто знал, и кто учил; Впервые обладал Быком, и Словом, И Святостью, и подчиненьем Слову, И властью, всеми добрыми вещами, Что в процветании благой основы, Наш создал Мазда; первый взял он в руку Вращенье колеса. Чтим Заратустру мы, он вождь, владыка 20 Вещественной вселенной; человек Первичного закона; самый мудрый Из всех существ, и лучше всех познавший Святое царство самообладанья, Живую силу власти над собой. [Бальмонт,1909, с. 114]. Возможно, Хлебников посетил сохранившийся в окрестностях Баку храм зороастрийцев-огнепоклонников Атешга, чтобы приобщиться к древнеарийским заветам. В Персии он ощущает себя присутствующим в момент сотворения мира, как в “первые дни человечества”: там “в зеленых водах Ирана” “плавают красные до огня золотые рыбы”, там “золотоокие всюду сады”, там “подымает дуб столетние цветы с пещерой для отшельников”, там “в лесах золотых Заратустры”, там “Адам за Адамом проходят толпой”… Несомненно одно: Хлебников соотносит себя и с мятежным Бабом и с Заратустрой. Он – тоже пророк, открывший законы времени. Его сверхповесть “Зангези” является, подобно произведению Ницше “Так говорил Заратустра”, пророческой книгой, где на досках судьбы, как на скрижалях Моисея, записаны заповеди нового учения. Замыслив “Хаммураби Времени” (точнее, “анти-Хаммураби”, как значится в подзаголовке его статьи “Поединок с Хаммураби” [Хлебников, т. 5, с. 460–461]), он думал принести в дар человечеству “Таблицу Судьбы” – новый исторический код, который бы привел в систему сцепление случайностей, именуемое ранее “историей”. После расшифровки тайного кода, считал Хлебников, исчезнет сакрализация войн и государств, и за прозрачной ясностью уравнения Небытие проглянет из Бытия. Впечатления Хлебникова от его пребывания в Иране отразились в поэме “Труба Гуль Муллы” [Хлебников, т. 1, 1928, с. 233–245], которая в более поздней редакции, на основе найденного белового 21 автографа начала, получила другое название – “Тиран без Тэ” [Хлебников, 1987, с. 348–358] и подзаголовок “Встреча”. Тиран – это явная филиппика в адрес палачей Баба и Заратустры, не признавших в своем отечестве пророков, с которыми, тем не менее, поэт встретился, преодолев временной разрыв. Тиран без Тэ – этот ребус означает Иран, а Тэ, согласно звездному языку Хлебникова, в одном варианте соответствовало “остановке движения”, “уничтожению луча жизни” [Хлебников, т.5, 1933, с. 208–209], в другом «“Т” означает направление, где неподвижная точка создала отсутствие движения среди множества движений в том же направлении, отрицательный путь и его направление за неподвижной точкой» [Хлебников, 1987, с. 622]. Оба эти определения выделяют одну типологическую черту – остановку, отсутствие движения и даже – отрицательный путь. Именно этот алгоритм, выделенный Хлебниковым при помощи математических рассуждений, и позволяет Ирану сохранять первозданные черты. На этом перекрестке культур он устанавливает “нулевой меридиан” цивилизационного движения. Так своеобразно и метафорически Хлебников осмысливает географическое положение Ирана, занимающего стратегическую позицию в кросскультурном диалоге между Западом и Востоком, и его вклад в развитие человеческого духа. Персидские впечатления нашли свое отражение в стихах Хлебникова, написанных во время поездки: “Пасха в Энзели”, “Новруз труда”, “Кавэ-кузнец”, “Иранская песня”, “Дуб Персии”. Медная статуэтка верблюда, привезенного из Испагани (Исфахана. – Е.Ш.), наводит Хлебникова на воспоминание о том, что “раньше из Ганга священную воду в шкурах овечьих верблюды носили, чтоб брызнуть по водам свинцовым на Волге, реке дикарей” [Хлебников, 22 т. 3, с. 132]. После поездки в Персию поэт ощутил в себе мощный приток энергии и новых идей. “Теперь я окреп, скоро стану силен, могуч и буду потрясать вселенную, – писал он родным, высказывая намечающиеся планы … Будущим летом я, вероятно опять поеду в Персию…” [Хлебников, т. 5, 1933, с. 323]. В масштабной эпической поэме “Дети Выдры”, утверждающей кардинальную идею Хлебникова – единство Востока и Запада, рассказывая о Волге – “реке индоруссов”, он использовал Персию “как угол русской и македонской прямых” [Хлебников, 1998, с. 5]. В 3-й главе поэмы (у Хлебникова – в “3-м парусе”) он пишет о походах варяжских и славянских дружин, руссов, по Волге на волжских “Булгар, Хозар и страну Бердаи” на Каспийском море. При описании сражения между руссами и войском Бердаи он использовал содержание песни из “Искандер-Намэ” персидского поэта Низами. Н. Степанов отмечал, что Хлебников пользовался книгой В. Григорьева “Россия и Азия” (СПб., 1877), где, в частности, приводится пересказ части поэмы Низами, возможно, заинтересовавший Хлебникова [Степанов, 1930, с. 311]. Песнь эта называется “Описание похода победоносного Александра для освобождения Бердаи и сражения Руссов”. Столкновения славяноваряжского мира с восточным происходило в местах, хранящих память о походах Александра Македонского. Хлебников заимствует у Низами элементы исторической фабулы и грани характеров героев, способствующие утверждению основных проблем его поэмы. Главный герой Сын Выдры, мифическая личность, выступающая в разных ипостасях. Он думает об Индии на Волге и говорит: “Ныне я упираюсь пятками в монгольский мир и рукою осязаю каменные кудри Индии” [Хлебников, 1987, с. 433]. Сын Выдры слетает с 23 облаков, спасая от руссов Нушабэ и ее страну. Хлебников, исследуя законы времени, постоянно проводит аналогии между разными героями. Между Сыном Выдры и Искандером можно поставить знак равенства так же, как и между поэтом-героем поэмы “Тиран без Тэ” и Разиным. У Низами спасение Нушабэ – заслуга Искандера. Александр в “Искандер-намэ” выступает в роли не только освободителя страны Бердая, но и носителя идеи мира между Востоком и Западом. Сын Выдры на протяжении всей поэмы проводит в жизнь те же идеи единения народов, которые движут героями Низами. Не случайно в “3-м парусе” поэмы возникает образ поэта-историка, наблюдающего за битвой – по существу образ самого Низами («“Искандер-намэ” в уме слагая, он пел про руссов золотых»). К творчеству Низами Хлебников обращается и при создании своего эпического повествования “Медлум и Лейли” (1911), несколько изменив имена героев (как известно, поэма Низами называется “Лейли и Меджнун”). Эпопею Низами Хлебников называл “лучшей повестью арамейцев” [Хлебников, 1932, т. 4, с. 58], ее героев он упоминает в повести “Ка” [там же]. В поэме “Медлум и Лейли” поэт переосмысливает историю возлюбленных: у Низами герои превращались в ангелов и вкушали в раю блаженство [Низами, 1968, с. 359], у Хлебникова они молят Бога превратить их в звезды – Лейли становится западной, а Медлум – восточной звездой. Звезды Востока и Запада одинаково светят всем людям. Разделяя возлюбленных, Хлебников думает о единстве всего человечества. Серебряному веку оказалось созвучно чувство всеобщего единства мира, свойственное восточной культуре. Хлебников, рисует фантастическую картину будущего, когда человечество наконец-то осознает свое единство и совершит “постепенную сдачу власти 24 звездному небу”, и “персидский ковер имен, государств да сменится лучом человечества” [Хлебников, т. 5, 1933, с. 161]. Позднее великий русский ученый В.И. Вернадский выпишет целую подборку строк из Омара Хайяма, поясняя то чувство единства всего живого, которым пронизана мистическая поэзия Востока: Этот луч красою нежной Нынче взоры наши манит. Нежной травкой будет прах наш, Чьей она отрадой станет? На лугу зеленый стебель Не топчи небрежно. Знай: из праха щек-тюльпанов Он развился нежно. [Вернадский, 1989, с. 78]. Как священная заповедь звучат слова Вернадского о единстве всех людей как о законе природы. Идея всеединства, столь естественная для восточного сознания, осознается и принимается Серебряным веком, получая свое дальнейшее развитие в учении Вернадского. Хлебников же считал, что время уже начало вести отсчет «“новой Кальпы”10 25 декабря нового стиля 1915 г.» [Хлебников, т. 5, 1933, с. 162]. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: Азадовский К.М., Дьяконова Е.М. Бальмонт и Япония. М.: Наука, 1991. Андреева-Бальмонт Е.А. Воспоминания. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. Аполлон. 1910. № 9. Бальмонт К. Зовы древности. Гимны, песни и замыслы древних. СПб., 1909. Бальмонт К. Избранное. М.: Художественная литература, 1983. 10 Кальпа – временной период, составляющий один день Брамы, или 4 320 000 000 лет. 25 Богомолов Н. Михаил Кузмин. М.: Новое литературное обозрение, 1995. Брюсов В. Опыты. М.: Геликон, 1918. Брюсов В. Собр. соч. в 7-и т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1973. Вернадский В.И. Начало и вечность жизни. М.: Советская. Россия, 1989. Волошин М. Автобиографическая проза. Дневники. М.: Книга, 1991. Гуревич П.С. Возрожден ли мистицизм? М.: изд-во Полит.литры, 1984. Есенин С.А. Собрание сочинений в 3-х т. Т. 3. М.: Изд-во “Правда”, 1970. Низами. Пять поэм. М., 1968. Cергей Дягилев и русское искусство.Статьи, открытые письма, интервью. Переписка. Современники о Дягилеве в 2-х т. Т.2. М: Изобразительное искусство, 1982. Современные записки. Париж, 1922. № 9. Степанов Н. Примечания к поэме В. Хлебникова “Дети Выдры” // Хлебников В. Собр. произведений в 5 т. T. 2. Л., 1933. Тименчик Р. Николай Гумилев и Восток // Памир. 1987. № 4. Хлебников В. Свояси. Избранные сочинения. СПб., 1998. Хлебников В. Собр. произведений в 5 т. Л., 1928–1933. Хлебников В. Творения. М.: Советский писатель, 1987. Хэтчер Уильям С., Мартин Дж.Дуглас. Новая мировая религия. Вера бахаи. СПб.: Духовное Собрание бахаи России, 1995. 26 Bowers Faubion. Scriabin, a biography of the Russian composer 1871–1915. Tokyo and Paleo Alto, Kodansha International Ltd, 1969. Vol. 2. Chamot M. Goncharova. P.: La bibliothèque des arts, 1972. 27