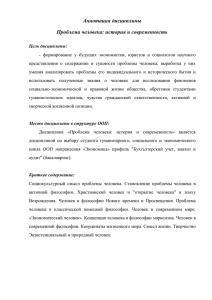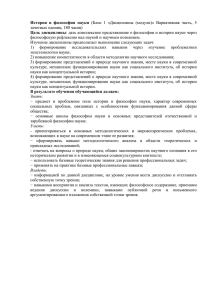Диссертация - Высшая школа экономики
advertisement
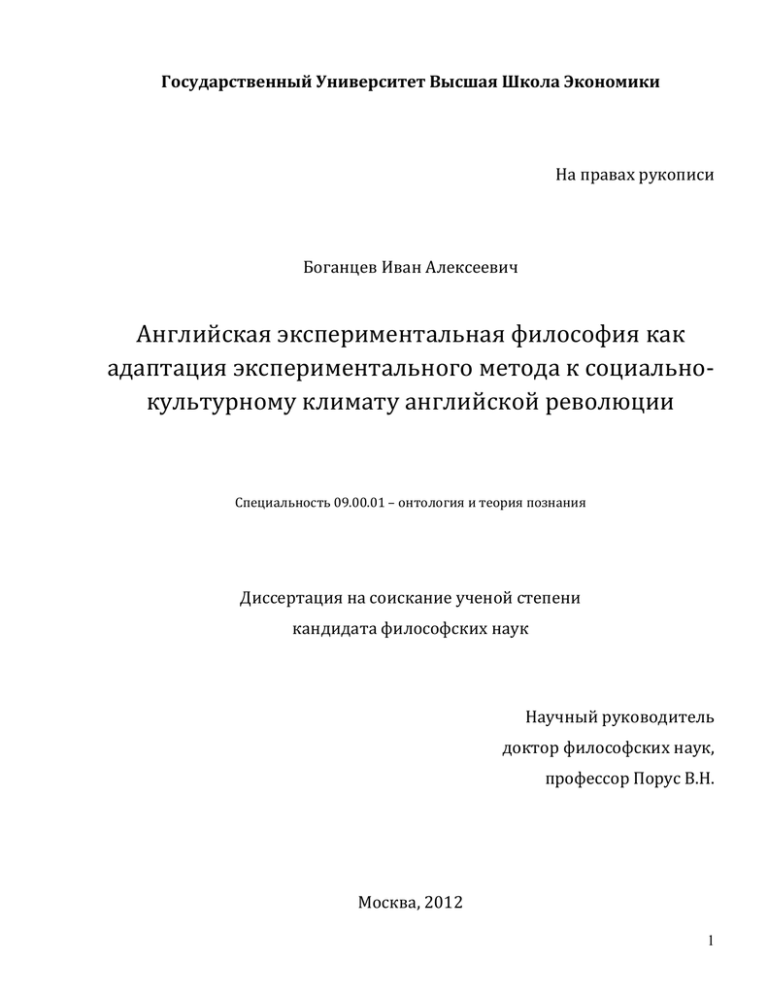
Государственный Университет Высшая Школа Экономики На правах рукописи Боганцев Иван Алексеевич Английская экспериментальная философия как адаптация экспериментального метода к социальнокультурному климату английской революции Специальность 09.00.01 – онтология и теория познания Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук Научный руководитель доктор философских наук, профессор Порус В.Н. Москва, 2012 1 Оглавление Введение Глава 1. Происхождение и структура английской экспериментальной философии 1.1 Происхождение и самобытность экспериментальной философии 1.2 Понятие эксперимента в Англии первой половины XVII века 1.3 Структура экспериментальной философии 1.3.1 Исследовательская свобода 1.3.2 Утилитаризм 1.3.3 Широта интересов 1.3.4 Коллективизм 1.4 Хронологические и социальные границы экспериментальной философии Глава 2. Распространение экспериментального метода в Западной Европе 2.1 Фрагментарность успехов нового знания 2.2 Интеллектуальный климат Западной Европы конца XVI века 2.2.1 Великие географические открытия 2.2.2 Опыт против книги 2.2.3 Натуральная магия 2.3 Распространение экспериментального метода в Англии Глава 3. Три лица английского экспериментального естествознания: Уильям Гильберт, Фрэнсис Бэкон, Уильям Гарвей 3.1 Уильям Гильберт 2 3.2 Фрэнсис Бэкон 3.3 Уильям Гарвей Глава 4. Социально-экономическая история экспериментальной философии 4.1 Гессен, Мертон и зарождение экстерналистской истории науки 4.2 История Англии 1600-1660 4.3 Социально-экономическая привлекательность экспериментальной философии 4.3.1 Практический характер экспериментальной философии 4.3.2 Новизна и свободолюбие 4.3.3 Публичность 4.3.4 Аполитичность 4.3.5 Монистические тенденции экспериментальной философии Глава 5. Пуританство и экспериментальная философия 5.1 Наука и религия 5.2 Наука и протестантство 5.3 Пуританство и английская наука 5.4 Пуританство и экспериментальная философия Заключение Библиография Иллюстрации 3 Введение Актуальность темы исследования Английская экспериментальная философия, речь о которой пойдет в настоящей работе, никогда не становилась предметом отдельного исследования. Несмотря на то, что английская научная литература середины XVII века повсюду превозносит «экспериментальную философию», ее почти никогда не выделяют как отдельное философско-историческое явление, требующее анализа или оценки. Это тем более удивительно, потому как в целом английское естествознание этого периода изучено чрезвычайно хорошо, что объясняется, безусловно, ключевым значением исследований, проведенных в этот период. Такое пренебрежение можно объяснить невнимательностью историков, зачастую считающих, что «экспериментальная философия» соответствует понятию «английская наука середины XVII века», а множество «экспериментальных философов» в каком-то смысле тождественно «английским ученым» этого периода. Отчасти, историков оправдывает то, что интеллектуальные, социальные и хронологические границы экспериментальной философии действительно размыты. Тем не менее, эти границы существуют, и с ними, безусловно, должны были считаться современники. Так, не каждый ученый середины XVII века мог, или даже хотел, считаться экспериментальным философом. Некоторые из самых крупных исследователей этого периода, такие как Уильям Гарвей или Томас Гоббс, либо отказались примыкать к новому интеллектуальному течению, либо были заведомо из него исключены по совокупности научных и социальных факторов. Так или иначе, но экспериментальная философия играла огромную роль в английском обществе в момент зарождения в нем всей современной науки. Именно поэтому, нам кажется, что она заслуживает отдельного исследования, которым и является настоящая работа. Но помимо чисто исторической, в какомто смысле описательной составляющей, нам показалось важным затронуть более общие проблемы, лежащие в плоскости философии, социологии и даже экономики науки и представляющие интерес для современных исследователей этих областей. Среди этих проблем можно назвать развитие европейского 4 экспериментального метода, этапы институализации современного естествознания, адаптация интеллектуального течения к конкретному политическому и религиозному климату, взаимоотношения фундаментальной науки и прикладной. Каждой из этих проблем сегодня уже посвящена не одна монография. Но в приложении к единому предмету, а именно к английской экспериментальной философии, их исследование оказывается более последовательным и цельным. Степень разработанности проблемы Протонаучные исследования XVI века и особенно естествознание XVII века изучены сегодня чрезвычайно хорошо. Если говорить о возрожденческой науке, нельзя не вспомнить многочисленные работы Александра Койре1, прекрасное исследование Рандалла,2 ряд работ современных исследователей во главе с исполнительным директором Института Истории Науки Макса Планка Лорэн Дастон3. Сборник статей Sciences de la Renaissance4 дает прекрасное представление о многогранности науки в эпоху Ренессанса и о сложных взаимоотношениях между зарождающемся естествознанием и вырождающемся гуманизме. Для изучения институциональной истории науки этого периода можно посоветовать сборник Patronage and institutions. Science, Technology, And Medicine at the European court 1500-17505 , а так же работы отдельных исследователей, например Уильяма Имона6. По мере углубления в XVII век количество работ посвященных истории науки неизбежно увеличивается. Здесь мы остановимся лишь на тех, которые касаются английского естествознания. Одним из самых ранних и знаменитых авторов в этой области является, конечно, Ричард Джонс,7 посвятивший свою карьеру становлению английского научного движения. Отдельный интерес 1 Koyré A. L’apport scientifique de la Renaissance in Études d’histoire de la pensée scientifique. Paris, 1966 // Koyré A. A l’Aube de la science classique. Paris: Hermann & Cie, 1939 // Koyré A. Du monde clos à l’univers infini. Paris, 1973 2 Randall J.H. The School of Padua and The Emergence of Modern Science. Padova, 1966 3 Daston L., Park K. Wonders and the order of Nature. New-York, 1998 4 Sciences de la Renaissance. Paris : J.Vrin, 1973 5 Moran B.T. (ed.) Patronage and institutions. Science, Technology, And Medicine at the European court 1500-1750. The Boydell Press, 1991 6 Eamon W. Paheau F. The Accademia Segreta of Girolamo Ruscelli. Isis, Vol. 75, No. 2 (Jun., 1984) 7 Jones, R.F. Ancients and Moderns. A Study of the Rise of the Scientific Movement in Seventeenth-Century England. St. Louis, 1961 5 вызвали у историков науки работы Уильяма Гильберта, Уильяма Гарвея, Фрэнсиса Бэкона8. Роль последнего, в особенности, становилась предметом изучения философов от Вольтера9 до Фейерабенда.10 Так, в XX веке Лордканцлеру были посвящены работы Паоло Росси,11 Фаррингтона12, Джона Лири13 и многих других. Но больше всего внимания (и заслуженно) получило Королевское Общество – его истоки, история его основания и его структура. Этому посвящены работы Майкла Хантера14, Теодора Хоппена15, Дугласа МакКи16, Р. Х. Сифре17и многих других. Исследование английской науки в социально-политическом контексте тоже проводились зарубежными учеными достаточно регулярно. Но для нас особенно важно, что интерес к этой тематике вспыхнул после знаменитого доклада отечественного ученого Бориса Гессена.18 Основным предметом интереса, к счастью, стали не столько провокационные выводы советского физика или его незамысловатая методология, сколько обещание совершенно новой истории науки, озвученное в его докладе, истории, построенной на принципах экстернализма. Здесь отдельного упоминания заслуживают работы 8 Pelseneer J. Gilbert, Bacon, Galilée, Képler, Harvey et Descartes: Leurs relations. Isis, Vol. 17 No.1 (1932) // Duane H. Roller D. Did Bacon Know Gilbert's De Magnete? Isis, Vol. 44, No. 1/2 (Jun., 1953)// Frank R. G. Jr. Harvey and the Oxford Physiologists. Berkeley, 1980 9 Voltaire. Lettres philosophiques in Oeuvres V. 1, P., 1834 10 Feyerabend P.K. Classical Empiricism in Problems of Empiricism, Cambridge, 1981 11 Rossi P. Francis Bacon. From Magic to Science. London, 1968 12 Farrington B. Francis Bacon. Philosopher of Industrial Science. London, 1951 13 Leary J.E. Jr. Francis Bacon and the Politics of Science. Iowa, 1994 14 Hunter M. Science and the Shape of Orthodoxy. Woodbridge, 1995// Hunter M. & Wood P. B. Towards Solomon's House: Rival Strategies for Reforming the Early Royal Society. History of Science, Vol. 24 15 Hoppen K. T. The Nature of the Early Royal Society: Part I. The British Journal for the History of Science, Vol. 9, No. 1 (Mar., 1976), pp. 1-24 16 McKie D. The Origins and Foundation of the Royal Society of London. Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 15 (Jul., 1960) 17 Syfret R.H. The origins of the Royal Society, Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 5, No. 2 (Apr., 1948) 18 Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. Ленинград, 1933 6 Роберта Мертона, Кристофера Хилла19, Стивена Шапена, Саймона Шаффера20 и менее историчное, но не менее занимательное исследование Теренса Кили21. Наконец, если говорить о влияние религиозного климата на зарождение и развитие современного естествознания, то основополагающей здесь стоит считать работу Макса Вебера Протестантская Этика и Дух Капитализма22, чье значение для науки показала докторская диссертация Роберта Мертона Science, Technology and Society in Seventeenth Century England.23Именно благодаря откликам на работу американского социолога, импульс данный науке пуританством, оказался подробно изучен как сторонниками, так и противниками экстерналистского подхода к истории науке. В данном случае мы имеем в виду работы Абрагама, Рабба, Мэйсона, а главное Чарльза Вебстера24. В нашем исследовании мы (за отдельными, но существенными исключениями) в основном пользовались иностранными источниками. Это объясняется, в первую очередь, тематикой нашей работы. С одной стороны, естественно, что большинство исследований английской науки были написаны по-английски. С другой стороны, историко-философский маршрут, пройденной Россией в XX веке, не оставил российским ученым шансов в конкуренции с западными специалистами. Если до 1917 года в России были блестящие (но сегодня, увы, устаревшие) исследователи, такие как Евгений Спекторский, то после революции и особенно начиная с тридцатых годов добросовестные исследования не могли ими проводиться как по причине отсутствия доступа к оригинальным источникам, так и по идеологическим причинам. Социология науки в духе Роберта Мертона (не говоря уже об экономике науки в духе Теренса Кили), безусловно, воспринимались враждебно сложившимся 19 Hill C. William Harvey and the Idea of Monarchy. Past & Present, No. 27 (Apr., 1964)// Hill C. Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford, 1965 20 Shapin S., & Schaffer S. Leviathan and the Air-Pump. Princeton University Press, 1985// Shapin S. The House of Experiment in Seventeenth-Century England. Isis, Vol. 79, (Sep., 1988) 21 Kealey T. The Economic Laws of Scientific Research. London, 1996 22 Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Los Angeles, 2002 23 Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, Osiris, Vol. IV, pt. 2, pp. 360-632. Bruges: St. Catherine Press, 1938 24 Webster C. The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626-1660. Oxford, 2002// Webster C. Richard Towneley, the Towneley Group, and Seventeenth-Century Science. Transactions of the Historic Society of Lancashire and Cheshire, 118 (1966) 7 политическим строем. Но даже после его падения, в 1997 году, Пиама Гайденко не могла не отметить, что: «в нашей стране, где укоренилось чисто просветительское воззрение на науку, согласно которому она с самого своего зарождения выступала как носительница атеистического мировоззрения, такие исследования [связывающие зарождение новоевропейского естествознания и религиозными движениями XVI-XVII века – прим. И.Б.] проводились мало и еще менее поощрялись25» Объект работы Объектом исследования экспериментальная философия. данной работы является английская Предмет работы Предметом исследования данной работы является происхождение и развитие английской экспериментальной философии, а так же ее адаптация к социальному, политическому и религиозному климату английской революции и реставрации. Цель исследования Цель данной работы – исследование английской экспериментальной философии: ее истоков, структуры, и природы ее взаимодействия с социальными, политическими и религиозными институтами революционного и пост-революционного периода. Задачи исследования В процессе диссертационного исследования решались следующие основные задачи: 1. Показать, что экспериментальная философия являлась преемницей общеевропейской тенденции обращения к опыту. 25 Гайденко П.П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания. М. 1997 8 2. Продемонстрировать, что конвенции, окружившие экспериментальный метод (утилитаризм, коллективизм и т.д.), имели для него вспомогательное, даже условное, но исторически необходимое значение. 3. Установить роль отдельных представителей научного сообщества (Гильберта, Бэкона, Гарвея) в становлении английского естествознания и в формировании экспериментальной философии. 4. Исследовать насколько условия английской революции способствовали ассимиляции именно экспериментальной, а не, например, картезианской или «галилеанской» философии; а с другой стороны, насколько сама экспериментальная философия подстраивалась под требования революционного общества. 5. Проанализировать «тезис Мертона», а так же попытаться сделать следующий шаг в социологическом анализе английской науки середины XVII века, т.е. показать, что пуританство оказалось особенно благоприятной средой именно для экспериментальной философии. Методологическая основа исследования Данная диссертационная работа носит междисциплинарный характер. В ней использованы результаты, полученные благодаря исследованиям в области истории, философии, социологии и экономики науки. Таким образом, ее методологическую базу составляют эвристические инструменты самого разного профиля: методы компаративного анализа (в том числе в отношении методологических и философских установок основных представителей английской экспериментальной философии (Бойля, Пауэра, Гука), а также их предшественников, в особенности Фрэнсиса Бэкона.); исторический метод; методы лингвистического и герменевтического анализа, и другие элементы методологии историко-философской науки (дедукция, индукция, аналогия и т.д.). Научная новизна исследования 1. Экспериментальная философия описана как самостоятельное научнофилософское явление, ограниченное социальными, интеллектуальными и хронологическими границами. 9 2. Выявлено, что расцвет экспериментального естествознания в Англии был осуществлен не только за счет относительно благоприятных условий, созданных английской революцией, но и за счет осознанных (и удачных) попыток ученых адаптироваться к социально-политическому контексту. 3. На примере экспериментальной философии, осуществлена попытка показать, что с точки зрения истории и социологии науки можно говорить не только о влиянии религиозной доктрины на науку в целом, но и на формирование ею интеллектуального климата, выгодного для той или иной методологической парадигмы. Основные положения, выносимые на защиту 1. Экспериментальную философию можно представить в виде ядра, состоявшего из экспериментального метода (понимаемого английскими учеными в самом широком, бэконианском смысле) и примыкавших к нему социальных и методологических конвенций, таких как утилитаризм, коллективизм и т.д. 2. Эти конвенции были призваны адаптировать экспериментальный метод к английским условиям и обезопасить его от атак со стороны представителей религиозной и политической власти. 3. Утилитарный характер экспериментальной философии был созвучен нуждам революционного общества, что с одной стороны обеспечивало ей поддержку, а с другой – побуждало ученых преувеличивать степень «полезности» фундаментальной науки. 4. Протестантство и особенно пуританство оказало благоприятное влияние на развитие экспериментальной философии в Европе. Природа этого влияния должна быть в целом признана непредумышленной, что не исключает наличия в отдельных случаях прямой связи. Научно-практическая значимость исследования Исследование экспериментальной философии помогает более полно восстановить историю английского естествознания середины XVII века. При этом нельзя забывать, что именно в этот промежуток (1645-1670) был заложен 10 фундамент, благодаря которому Англия станет в последующем столетии безоговорочном лидером в области европейского естествознания. Более того, если верить Теренсу Кили, именно после Реставрации между властью и учеными (как в Англии, так и во Франции) были оформлены договоренности, которые сыграют ключевую роль в экономической и политической истории этих государств. Если согласиться с тем, что английская аграрная и особенно промышленная революция стала результатом государственной политики laissez-faire, то нетрудно связать решение французских властей в 1666 году прибегнуть к бэконианскому финансированию науки со французской революцией 1791 года. Нельзя не заметить, что проблема государственного финансирования науки как нельзя остро стоит и сегодня в нашей стране. Материал и выводы диссертации могут быть использованы при чтении курсов по истории, философии или социологии науки, а так же по отдельным проблемам теории познания. Апробация результатов работы Положения диссертации обсуждались и излагались автором на научных конференциях и семинарах, в том числе, на конференции «Какая история и философия науки нам нужна?» (Петербург, июнь 2007) и «Рациональные реконструкции истории науки» (Петербург, июнь 2009). Некоторые выводы и положения диссертационного исследования нашли отражение в публикациях, в том числе: 1. Боганцев И.A. Фрэнсис Бэкон как полемическая стратегия [в печати] Боганцев И.A. Институциональное наследие Фрэнсиса Бэкона. Эпистемология & философия науки. 2010, № 3 (XXV) 2. Боганцев И.А. Лорен Дастон: наука в ее «живой» истории. Эпистемология & философия науки. 2009, № 1 (XIX) Структура диссертации Настоящее исследование разделено на пять глав. Первая, вступительная глава, посвящена непосредственно экспериментальной философии – ее интеллектуальному содержанию, ее структуре и ее адептам. Во второй главе 11 речь пойдет о том, как в Европе, на протяжении XVI-XVII веков, классическая исследовательская парадигма постепенно уступала дорогу новой эпистемологии – экспериментальному методу. В Англии ключевую роль в ассимиляции экспериментального метода сыграли публикации Уильяма Гильберта, Фрэнсиса Бэкона и Уильяма Гарвея. Каждый из них в своих работах ознаменовал новый этап в становлении экспериментального естествознания в Англии и определил многие грани зарождавшейся экспериментальной философии. Им и посвящена третья глава. В четвертой главе мы коснемся социально-политического измерения экспериментальной философии. Наконец, в пятой главе мы постараемся показать, что определенную роль в становлении экспериментальной философии сыграл религиозный климат пуританской революции. Примечания Большинство цитат на иностранных языках даются в работе в авторском переводе. Некоторые из наиболее распространенных источников приводятся в профессиональном переводе со ссылкой на переводчика или издание. При цитировании непереведенных источников XVI-XVIII вв., в основном тексте дается оригинал, а перевод приводится в сноске. В отдельных случаях (и всегда в ссылках) дается только оригинал, что, как правило, объясняется необходимостью давать поэтический, литературный или узкопрофессиональный перевод. Заглавия книг, памфлетов и брошюр всегда даются на языке оригинала. При обозначение научных и политических институтов, напротив, используется русский перевод либо транслитерация. Их оригинальное название приводится в скобках при первом упоминании. 12 Глава 1 Происхождение и структура английской экспериментальной философии 1.1 Происхождение и самобытность экспериментальной философии Конец XVI века был отмечен интеллектуальным кризисом, затронувшим почти все области западноевропейской культуры. Устаревшее, средневековое мировоззрение, с его понятными и привлекательными представлениями о месте человека в мире, о его взаимоотношениях с природой и Богом, перестали казаться убедительными значительной части образованной элиты; в то же время новое, современное мировоззрение еще не было сформировано, и не могло дать опору тем, кто пытался самостоятельно разобраться в хаосе окружающего мира. В религии кризис был следствием немецкой реформации. Здесь он выразился наиболее остро, став, к концу XVI века, причиной непрекращающихся религиозных войн, самой разрушительной из которых будет, конечно, Тридцатилетняя Война. В философии кризис получил название «скептический» или «пирронистический», и выразился в потере общепринятого критерия истинности суждения. Самыми яркими философскими событиями этой эпохи стали Essais Монтеня, обозначившие наступление кризиса, и Discours de la Méthode Декарта, попытавшееся его разрешить. В науке, которая была еще тесно связана с философией и, чуть менее тесно, с религией, результатом кризиса стали многочисленные конфликты между охранителями традиционного научного знания – Сорбонной, Ватиканом и т.д. – и энтузиастами-одиночками, считавшими себя, хотя и не всегда оправданно, первооткрывателями новой науки. Говоря о кризисе в философии и науке, нельзя не вспомнить о похожем понятии, выделенном Томасом Куном в его The Structure of Scientific Revolutions. Разумеется, в нашем случае речь идет не о замене одной научно-философской парадигмы на другую, а о более значительном мировоззренческом сдвиге. Поэтому, проводя аналогии и параллели стоит проявить осторожность. Тем не менее, некоторые из них на лицо: античная эпистемологическая парадигма перегружена аномалиями и не способна удовлетворительно объяснять все большее количество явлений; 13 доверие к ней подорвано; но реального конкурента ей пока не существует; неизбежно, за этим следует появление конкурирующих эпистемологических стратегий, которые борются не только и не столько с общим врагом, сколько друг с другом. Именно в этом контексте стоит рассматривать научнофилософский феномен, который можно предварительно обозначить формулой «английская экспериментальная философия». Слово философия употреблялось в XVII веке чрезвычайно широко. А именно, оно могло быть использовано применительно практически к любой умозрительной дисциплине. Так, натуральной философией называлось то, за чем сегодня закреплено звание естественных наук. Слово «экспериментальная» в формуле «английская экспериментальная философия» обозначает лишь методологическую или процессуальную сторону исследования. Оно подчеркивает, что ядром данной философии был экспериментальный метод, т.е. некоторый эпистемологический инструмент, применявшийся в широком спектре познавательных дисциплин, вышедших на первый план в XVI-XVII веках. В частности, им были объединены такие, на первый взгляд, разные формы знания, как врачевательная медицина Парацельса, наблюдательная астрономия Тихо Браге или магнетизм Уильяма Гильберта. У этих дисциплин, в действительности, было мало общего, но каждая из них основывалась не столько на традиции и не столько на силе чистого разума, сколько на данных, полученных непосредственно опытным путем. Более того, каждая стремилась, в той или иной степени, чувственный опыт превзойти, т.е. не только регистрировать явления окружающего мира, но и объяснять их через ненаблюдаемые напрямую причины. Экспериментальная философия, о которой пойдет речь в нашей работе, стала английской преемницей этого общеевропейского увлечения опытом. Поиски истоков английской экспериментальной философии неизбежно приведут нас на континент, но к середине XVII века она приобрела вполне самостоятельную, независимую стать. В первую очередь, она стала «философией», т.е. помимо экспериментального метода стала восприниматься в контексте определенных методологических, социальных и даже нравственных атрибутов. Кроме того, она, в отличие от своих континентальных аналогов, сумела собрать под свои знамена практически все научное сообщество Англии 14 и стала – пусть и на короткое время – методологической парадигмой научного исследования. Самобытность английской экспериментальной философии была связана, в первую очередь, с любопытной особенностью европейского интеллектуального ландшафта: континентальные философские работы, традиционно, были хорошо известны в Англии, тогда как английское наследие, в целом, с трудом перебиралось через Ла-Манш. Так, Галилей был настольной книгой каждого английского философа середины XVII века – либо непосредственно в оригинале, либо в многочисленных переложениях, выполненных, например, отцом Мерсенном. В то же время, даже такая крупная фигура как Бэкон, не говоря уже о Дигби, Геллибранде и др., была довольно плохо известна на родине Галилея26. Сам флорентийский философ никогда не упоминал в своих работах Фрэнсиса Бэкона27, но, если верить Марко Беррета, нетрудно показать, что даже члены Академии дель Чименто (Accademia del Cimento), основанной в 1657 году, зачастую не читали работ Лорд-канцлера28. Можно говорить о том, что, как и в живописи, научные ветра до второй половины XVII века дули на европейском континенте с юга на север. Предпосылки интеллектуальной обособленности британских островов, ставшей залогом своеобразия английской экспериментальной философии, лежат в плоскости политики, культуры и, конечно, географии. Еще в средневековье, когда центральная Италия стала центром интеллектуального и экономического «пробуждения» Европы, Англия была поставлена в положение «отстающей», что и определило весь культурный фон британских островов вплоть до XVII века. Если взять пример образования, то в этом отношении Англия никогда (и вполне заслуженно) не пользовалась популярностью среди европейской интеллектуальной элиты. Наоборот, многие из англичан традиционно стремились получить полноценное образование на континенте. Самым крупным английским ученым, получившим образование за рубежом, был, безусловно, Уильям Гарвей. Проучившись несколько лет в падуанском 26 Единственным исключением можно считать Вильяма Гильберта, магнетические исследования которого были хорошо известны в Европе с момента их публикации в 1600 году. 27 Pelseneer J. Gilbert, Bacon, Galilée, Képler, Harvey et Descartes: Leurs relations, Isis, Vol. 17, No. 1. (1932), pp. 171208 28 Beretta M. At the Source of Western Science: The Organization of Experimentalism at the Accademia del Cimento (1657-1667), Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 54, No. 2 (May, 2000), pp. 131-151 15 университете, он вернулся в Англию в 1602 и впоследствии сделал, возможно, больше других для укоренения экспериментального метода в Англии. Интересно, что, публикуя в 1628 году свою революционную Exercitatio Anatomica de Motu Cordis, Гарвей выбрал в качестве издателя некого Фитцера, чей печатный дом находился во Франкфурте. По всей видимости, выбор Гарвея объяснялся именно тем, что напечатанная в Лондоне книга не получила бы распространения, на которое рассчитывал автор29. Но даже те из англичан, чье формальное образование ограничивалось оксбриджем, имели обычай проходить своеобразную культурную инициацию на континенте. Зачастую она осуществлялась посредством знаменитого Grand Tour – многолетнего путешествия, маршрут которого лежал на территории современной Франции, Швейцарии и, конечно, Италии. Такое путешествие предпринял в 1641-1644 годах молодой Роберт Бойль, успевший, по легенде, познакомиться во Флоренции с самим Галилеем. В конце 1650-х по Европе путешествовал Исаак Барроу и племянник Бойля Ричард Джонс. Последний – в компании будущего пожизненного секретаря Королевского Общества (The Royal Society) Генри Ольденбурга. Многие из англичан предпочитали путешествию проживание в одной из европейских столиц – факт, имевший место в биографии Бэкона, Гоббса, а, возможно, и Гильберта. При этом ни один из крупных европейских ученых до второй половины XVII века никогда не посещал Англию, за (достаточно спорным) исключением Джордано Бруно. Во второй трети XVII века изоляция начала усугубляться, по всей видимости, политическим климатом английской революции. В 1640 году Англия вступила в двадцатилетие, которое вместит в себя многолетнюю гражданскую войну, цареубийство, английскую республику, протекторат Кромвеля и закончится только с Реставрацией монархии в 1660 году. Именно в этот период, отмеченный цензурой и общими проблемами с коммуникацией, особенно международной, зародилась и созрела «экспериментальная философия». Многие из исследований, проводившихся в эти годы английскими натурфилософами, пострадали в результате политических междоусобиц. Некоторые, как, например, работы Уильяма Гарвея, чей лондонский дом был 29 Существует также предположение, что Гарвей выбрал Фитцера потому, что у того печатался его друг Роберт Флад. Но несмотря на то, что точную мотивацию Гарвея установить сложно, не приходится сомневаться, что благодаря франкфуртской ярмарке, книги получали самое широкое распространение. 16 разграблен после того, как он был вынужден покинуть столицу вместе со свитой короля, сегодня навсегда утеряны. Другие – долгое время ходили по рукам, были известны лишь узкому кругу единомышленников и получили широкую огласку лишь после стабилизации политической ситуации в 1660 году. О последнем красноречиво свидетельствуют многие философские работы, опубликованные в первые годы после Реставрации. Их предисловия пестрят жалобами на сложности с публикацией и извинениями за несвежесть материалов. Так, Роберт Бойль, публикуя в 1661 году свои Physiological Essays, признается, что написал многие из них более четырех лет назад, но, обезопасив их во время «недавних смятений», долгое время просто не имел к ним доступа30. Генри Пауэр, в своей Experimental Philosophy,1664, утверждает, что некоторые из опытов были проведены им более десяти лет назад. А первая часть опубликованной в 1663 году Of the Usefulness of Natural Philosophy Бойля пролежала в ящике, если верить автору, более 12 лет! 1.2 Понятие эксперимента в Англии первой половины XVII века Что же стало результатом этой, лишь наполовину добровольной, консервации? Что представляла собой английская экспериментальная философия? К сожалению, современники не только не оставили нам строгого ответа на этот вопрос, но и предостерегли от попыток его поиска. Здесь нельзя не согласиться с Шаффером и Шапеном, считавшими экспериментальную программу чем-то вроде «формы жизни»31. Действительно, когда вопрос ставится ребром, в определениях очевидцев часто слышатся отголоски философии Витгентштейна. Так, первый историк Королевского Общества Томас Спрат, говоря об «искусстве экспериментирования», утверждает, что определить его с точностью так же сложно, как описать понятие «порядочности»: хотя в обоих случаях мы можем справедливо и точно говорить о предмете, тем не менее, невозможно свести их к ограниченному набору неизменных принципов. То есть, об экспериментальной философии уже 30 «But having, during the late confusions, so disposed of his papers to secure them, that he could not himself seasonably recover them <..> he was fain to send the following treatises to the press as they came…» Boyle R. Certain physiological essays and other tracts in The Works of the Honourable Robert Boyle, printed for A. Millar, London, 1744 31 Shapin S. & Schaffer S. Leviathan and the Air-Pump. Princeton University Press, 1985 17 современники часто говорят как о конвенции, протоколе, понятному любому, кто уже в него посвящен. Интересно, что такая позиция контрастирует как с методологическим ригоризмом Бэкона, так и в целом с величавым и строгим духом эпохи. И, тем не менее, она была свойственна не только экспериментальным философам, но и всей новой философии: «Для «новаторов» XVII века методологическая рефлексия не представляла трудной проблемы и даже вообще проблемы. Метода познания шла рядом с самим познанием и осуществлялась не в мечтах философов, а в действительности, en action, как выражался впоследствии О. Конт о всякой здоровой методологии32». Для английских ученых середины XVII века отсутствие формальной методологии, имело, по всей видимости, ключевое значение. Оно подчеркивало разницу между экспериментальной философией и традиционной системой знаний. Первая воспринималась, прежде всего, как операционная единица, то есть как знание, которое получаешь непосредственно в процессе работы, тогда как вторая по праву считалась знанием книжным. Отсутствие закрепленного свода правил становилось залогом возможности свободного исследования, не привязанного к единственному автору, корпусу текстов или традиции. «The one is, not to prescribe to themselves any certain Art of Experimenting, within which to circumscribe their Thoughts; but rather to keep themselves free, and change their Course, according to the different Circumstances that occur to them in their Operations, and the several Alterations of the Bodies on which they work. The true Experimenting has this one thing inseparable from it, never to be a fix’d and settled Art, and never to be limited by constant Rules» 33. 32 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. СПб, 2006 Sprat T. History of the Royal Society of London, For the Improving of Natural Knowledge. London, 1722 // Первое [правило экспериментальных философов] не предписывать себе какого-то искусства экспериментирования и не заключать в его рамки свои мысли; но оставаться свободными и менять их направление, в соответствии с различными обстоятельствами, которые приходят им в голову во время работы, и по мере изменения тел, с которыми они работают. Эта единственная вещь неотделима от истинного экспериментирования, которое никогда не должно стать постоянным и неизменным искусством, ограниченным непреложными правилами». 33 18 Отметим, что некоторая сложность возникает не только при попытке определить понятие ‘экспериментальная философия’, но и при попытке установить узус слова ‘эксперимент’ в языке XVI-XVII веков. В классической латыни experientia означает одновременно некоторое общее знание, полученное в результате непосредственного знакомства с предметом, и конкретную познавательную процедуру. Можно говорить о том, что его использование соответствует использованию слова ‘опыт’ в современном русском языке, тогда как за чужим, но прочно вошедшим словом ‘эксперимент’ закреплено значение исключительно познавательной процедуры. Похожее разделение существует сегодня и в английском языке – слова experience и experiment соответствуют разным понятиям, хотя в XVII веке это разделение не всегда соблюдалось. В формуле «экспериментальная философия» слово ‘экспериментальная’ относится, конечно, скорее, к познавательной процедуре. Но это лишь отчасти облегчает поставленную нами задачу. Хорватский философ науки Мирко Грмек выделял в своих работах двенадцать стадий развития экспериментального метода на примере медицинских наук34. Для нас, в силу хронологических причин, прежде всего, интересны первые восемь: 1. Первой стадией Грмек называет наивную форму метода «проб и ошибок». Исторически, она соответствует моменту основания сельского хозяйства, зарождению кулинарии, терапевтики и т.д. 2. Второй стадией является элементарное качественное экспериментирование, т.е. провоцирование определенного эффекта при создании элементарных искусственных условий. Этот метод использовался досократиками и врачами времен Гиппократа. 3. Третьей стадией является аналоговое экспериментирование, т.е. первые выводы о невидимом, сделанные за счет аналогий с повседневными феноменами. 4. Четвертой стадией Грмек называет критику со стороны рационалистов (Платон, Аристотель) и более отточенную форму метода «проб и ошибок». 34 Grmek M. Le chaudron de Médée. Institut Sunthélabo, 1997 19 5. Далее следует элементарное количественное экспериментирование, ограниченно использовавшееся в Александрии Эразистрата и Герофила. 6. Вершина античного экспериментального метода, согласно Грмеку – качественное, гипотетико-дедуктивное экспериментирование, практиковавшееся Галеном. 7. Следующий этап – пробуждение методологического сознания, продлившееся несколько сот лет и нашедшее свое самое полное выражение в работах Фрэнсиса Бэкона. 8. Наконец восьмой стадией, хронологически соответствующей английской экспериментальной философии, становится количественное, гипотетико-дедуктивное экспериментирование. Оно связано, прежде всего, с такими именами как Галилей, Гарвей, Ньютон, и т.д. Научным экспериментом в полном смысле этого слова Грмек, как и большинство современных философов, называет процедуру познания действительности, проводимую, прежде всего, в контролируемых и управляемых условиях. Более того, эта процедура подразумевает, что исследователь заранее представил себе теоретическую проблему, требующую решения экспериментальным путем. Наконец, важнейшей процессуальной составляющей эксперимента должно являться установление количественных отношений между переменными, другими словами математизация познания. Из анализа Грмека видно, что по-настоящему научным эксперимент становится только в XVII веке, когда он стал осуществляться с соблюдением всех перечисленных условий. Здесь можно поставить следующий вопрос: стоит ли считать, что значение слова ‘экспериментальная’ в формуле ‘английская экспериментальная философия’ соответствует именно восьмой стадии классификации Грмека? Ответом на этот вопрос должно стать категоричное «нет». Резкость, с которой Грмек проводит границы между различными этапами становления экспериментальной эпистемологии, объясняется, конечно, естественным преимуществом историка – возможностью увидеть развитие метода с расстояния в несколько сот лет. Ученые XVII века были лишены этого преимущества, а потому значение слова ‘экспериментальная’ было достаточно 20 размыто. По сути, экспериментальным знанием было любое добываемое опытным путем: оно попросту должно было соответствовать хотя бы одному из первых восьми этапов классификации Грмека. Например, условие ‘контролируемости и управляемости’ было совершенно не обязательным, а потому под экспериментом часто понималось обыкновенное наблюдение. Генри Пауэр разделил свою Experimental Philosophy35 на три секции: микроскопические, ртутные и магнитные эксперименты, где первая была составлена исключительно из самых разнообразных наблюдений (животных, растений, тканей), полученных с помощью микроскопа. Точно также, эксперимент совершенно не обязательно должен был служить для опровержения или корроборации заранее озвученной гипотезы: работа в алхимической лаборатории, где различные вещества смешивались в произвольном, игровом порядке, считалась, безусловно, экспериментальной. А Самуэль Хартлиб в письме Роберту Бойлю использует ‘эксперимент’ как аналогичное слову ‘секрет’, прозрачно отсылающему к алхимической традиции.36 То есть, можно говорить о том, что экспериментом часто называлась любая заранее продуманная процедура, или ее описание, основанная на опыте и приводившая к новому научному факту. Ричард Джонс жалуется, что английский математик Ричард Норвуд, в своей Sea-Mans Practice, Contayning a Fundamentall Probleme in Navigation, experimentally verified…1637 использует слово ‘эксперимент’ даже в тех случаях, когда сегодня мы бы сказали ‘вычисление’37. В этом контексте нельзя не вспомнить блестящую статью Поля Фейерабенда Classical Empiricism.38 Здесь, на примере Фрэнсиса Бэкона, немецкий философ достаточно убедительно показывает, что понятие «опыта», от которого должна была отталкиваться новая эпистемология, было в XVII веке логически бессодержательно. Это обуславливалось, по словам Фейерабенда, тем, что философия Лорд-канцлера по сути не позволяла осуществлять три ключевые эпистемологические процедуры: 35 Power H. Experimental Philosophy. London: T. Roycroft, 1664 Boyle R. Correspondence of Robert Boyle, Pickering & Chatto, London, Vol.1 (Hartlib to Boyle, 28 Feb. 1654,) 37 Jones R.F. Ancients and Moderns. A Study of the Rise of the Scientific Movement in Seventeenth-Century England. St. Louis, 1961 38 Feyerabend P.K. Classical Empiricism in Problems of Empiricism. Cambridge, 1981 36 21 Идентифицировать опыт, то есть определить, что им является, а что нет. Античная парадигма, восходящая к Аристотелю, согласно которой опыт – сумма наблюдаемого при нормальных условиях – уже отброшена, а новая еще не создана Интерпретировать опыт, что подразумевает наличие закрепленного традицией языкового аппарата для построения связи между опытом и языком Создавать более сложные теории, якобы основанные на опыте Но, не имея логического содержания, понятие опыта имело, по Фейерабенду, содержание психологическое, а именно, играло роль научного правила веры, regula fidei. То есть, не способствуя привлечению новых ученых на сторону экспериментальной философии, опыт укреплял уже существующую веру. Разумеется, выводом из этого является еще одно свидетельство в пользу эпистемологического анархизма. И хотя мы далеки от того, чтобы полностью разделять радикальную позицию Фейерабенда, его размышления кажутся нам интересными, особенно в рамках той роли, которую мы приписываем Фрэнсису Бэкону в третьей главе настоящей работы. Добавим, что к концу XVII века стали появляться признаки стабилизации понятия «эксперимента». В частности, в работах Бойля нередко встречается различие между очевидными (obvious) экспериментами, т.е. просто наблюдениями, и неочевидными, продуманными (unobvious, elaborate) экспериментами. Эпистемологический статус первых хотя и не был высок, но сомнению не подвергался, тогда как продуманные эксперименты часто списывались оппонентами Бойля как выдумки, бесплодные с точки зрения эпистемологии. О дальнейшем расхождении этих понятий косвенно свидетельствуют исследования первых десятилетий работы Королевского Общества, выполненные Вудом и Хантером39. Так, авторы показывают, что в 1680 годы в Обществе конкурировали две группы, так называемые «натуралисты» и «экспериментаторы». Предметом спора был выбор стратегии дальнейшего развития английской академии, а именно распределение усилий между тотальным сбором материала и точечным экспериментированием. 39 Hunter M. & Wood P. B. Towards Solomon's House: Rival Strategies for Reforming the Early Royal Society in History of Science, Vol. 24 22 «Экспериментаторы», в числе которых были, например, Гук и Петти, считали, что стоит сделать упор на эксперименты в современном смысле слова, т.е. на проведение опытов, направленных на подтверждение или опровержение конкретных гипотез в рамках четко очерченной научно-исследовательской программы40. «Натуралисты» же, придерживавшиеся более классической, бэконианской эпистемологии, считали, что равное внимание стоит уделить сбору «наблюдений», пусть иногда и бессистемному. Тот факт, что «эксперимент» и «наблюдение» стали ассоциироваться с двумя различными и конфликтующими эпистемологическими стратегиями (которые, как показывает статья, иногда определяли и социальную структуру научного института), безусловно, говорит о появлении элементов языкового аппарата, на отсутствие которого жаловался Фейерабенд. 1.3 Структура экспериментальной философии Итак, очевидно, мы не можем определить четкие границы понятия ‘экспериментальная философия’. Но, разумеется, это не говорит о том, что этих границ вообще не существовало. Спрат не без основания утверждает, что об экспериментальной философии можно говорить ‘справедливо и точно’, и мы последуем его совету. Уже сейчас можно сказать, что термин ‘экспериментальная философия’ парадоксален, что выражается не только в отмеченной нестабильности понятия ‘экспериментальная’, но и собственно в слове ‘философия’. Философии, в значении какой-то более или менее последовательной системы знаний, не существовало, а те, кого с полным правом можно было бы назвать экспериментальными философами, придерживались не только разных, но зачастую и диаметрально противоположных взглядов на конкретные научные проблемы. Скорее, можно говорить о том, что экспериментальная философия состояла из 40 Судя по всему, такая эпистемология сформировалась у Гука уже к 1660-м. В своей Micrographia, 1665, он пишет: “there should be a scrupulous choice, and a strict examination, of the reality, constancy, and certainty of the Particulars that we admit: This is the first rise whereon truth is to begin, and here the most severe, and most impartial diligence, must be imployed; the storing up of all, without any regard to evidence or use, will only tend to darkness and confusion. We must not therefore esteem the riches of our Philosophical treasure by the number only, but chiefly by the weight; the most vulgar Instances are not to be neglected, but above all, the most instructive are to be entertain'd” 23 эпистемологического ядра – экспериментального метода – и окружавших его методологических и социальных конвенций. Нам кажется важным подчеркнуть здесь, что сам экспериментальный метод не был конвенцией, а представлял собой действительно более совершенный эпистемологический инструмент, способ познания окружающего мира, заслуженно занявший место своих малоэффективных предшественников. Окружавшие же его конвенции, в большой степени условные, служили своеобразной инструкцией по его эксплуатации. То есть, хотя они и постулировали как, кем и в каких условиях может быть легитимно использован экспериментальный метод для производства нового научного знания, по сути, их целью была ассимиляция экспериментальной философии в английской интеллектуальной среде. Именно они станут основным предметом этой работы. 1.3.1 Исследовательская свобода Мы уже отметили, что одним из важнейших условий легитимного использования экспериментального метода была свобода. В своих работах ученый мог, и должен был, делать выводы без оглядки на политические, религиозные или даже научные авторитеты. Это был общеевропейский феномен, одинаково ярко проявивший себя везде, где было известно слово эксперимент. В Италии Галилей, начиная с 1610 года, вел борьбу за разграничение богословия и науки, и за свободу ученого делать любые выводы относительно содержания последней. Во Франции Паскаль блестяще указывал отцу Ноэлю на бесплодность апелляций к вышестоящим авторитетам41. В Англии первым крупным ученым, кто высказался за безусловную свободу научного исследования, был Уильям Гильберт, опубликовавший в 1600 году свое знаменитое исследование магнетизма De Magnete. Гильберту бороться за свободу и независимость было проще других – область его интересов была достаточно плохо изучена древними. Кроме того, он пользовался покровительством всесильной Елизаветы. Но это не умаляет значение того вклада, который он сделал в становление английской экспериментальной 41 “…mais sur les sujets de cette matière, nous ne faisons aucun fondement sur les autorités : quand nous citons les auteurs, nous citons leurs démonstrations, et non pas leurs noms... ” Réponse de Blaise Pascal au Très Bon Révérend Père Noël, fait à Paris, 29 Octobre 1647 24 философии, вклада, о котором мы подробно поговорим в третьей главе нашей работы. Единственным существенным ограничением свободы при использовании экспериментальной философии было условие получения в качестве результата научного факта, matter of fact. Выделение этого понятия стало важным этапом развития философии науки и на нем стоит остановиться подробней. Научным фактом (именно так мы будем, учитывая контекст, переводить формулу matter of fact) называлась любая информация, регистрирующая состояние внешнего мира, но не имеющая сама по себе никакой объяснительной силы. Как таковой, научный факт неоспорим, потому что его отрицание приводит к закреплению за ученым статуса закоренелого скептика и к последующему исключению из научного сообщества. Научному факту противопоставлялась гипотеза, призванная его дополнять и объяснять. Гипотеза создает вокруг научного факта своеобразное дискуссионное поле, где каждый вправе придерживаться собственного мнения. Например, задержка ртути в стеклянной трубке на высоте 76 сантиметров является научным фактом. Но атмосферное давление, якобы поддерживающее её на этой высоте – лишь одна из множества гипотез. Разумеется, со временем, некоторые гипотезы по сути переходили в разряд фактов. К концу века это произошло, например, с кровообращением – гипотезой, выдвинутой Уильмом Гарвеем только в 1628 году, но которую коллеги Бойля, и даже его оппоненты, уже не решались оспаривать42. Не возникает сомнения и в том, что некоторые ученые время от времени пытались, пользуясь своим авторитетом, двигать эпистемологическую границу, т.е. переправлять собственные предположения из сферы гипотез в сферу фактов. Шаффер и Шапен считают, что нечто подобное пытался осуществить Бойль с понятием ‘упругости’ воздуха. Разделение «гипотез» и «фактов», стало, возможно, ключевым элементом экспериментальной философии и во многом определило ее лицо. Более того, это была беспрецедентная попытка отделить науку, основанную на фактах, от метафизики, состоящей из гипотез, иногда ничем кроме слов не 42 Стоит сказать, что подобная ситуация наблюдалась исключительно в Англии. Во Франции принятию теории кровообращения препятствовал медицинский факультет Сорбонны, задержавший официальное признание Гарвея вплоть до 1670-х годов. 25 подкрепленных. Именно злоупотребление словами (words) стало расхожим упреком со стороны экспериментальных философов, объектом внимания которых должны были быть исключительно дела (works – буквально, «творения»). Дихотомия слова–дела стала той осью, вокруг которой выстраивалась вся экспериментальная философия. Интересно, что эта ось также восходит к общеевропейской традиции, а непосредственно в Англии – к Гильберту, впервые указавшему на пагубный эффект от увлечения терминами, не имеющими эквивалента в реальном мире. Но уже в эпоху Бэкона напоминание о стерильности и вязкости традиционного языкового аппарата стало общим местом при критике античной парадигмы. Среди прочего, этому способствовали отрывки из Novum Organum, посвященные так называемым идолам площади.43 Здесь Бэкон не только говорит о том, что слова зачастую мешают, а не способствуют пониманию предмета, но и замечает еще одно важное следствие недостаточной точности языка. «Слова», говорит он, «смешивают все и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толкованиям». В четвертой главе мы увидим, что способность спекулятивной философии порождать споры, диспуты, а иногда и конфликты станет важным аргументом в пользу экспериментальной философии в беспокойные годы революции и реставрации. Во второй половине XVII века полемика против философии слов набирает новые обороты. Основанное в 1660 г. Королевское Общество выбирает своим девизом “Nullius in verba”, формулу, взятую из стихотворения Горация, не желавшего, в пику пифагорейцам, клясться именем учителя или господина. Такой выбор не только напоминал об интеллектуальной независимости английской академии, но и подчеркивал, что научное знание опирается не на слова, а на факты. Интересно, что это же противопоставление могло сказаться и на издательской политике английских философов. Издатель Бойля, в предисловии к New Experiments, 1660, говорит о том, что книга написана поанглийски, так как адресована тем, кто, будучи занят делами, возможно, не имеет времени изучать языки44. Если же говорить о философии науки, то сам Бойль, в знаменитом Proemial Essay, 1661, со свойственным ему многословием 43 44 Bacon F. New Organon. Cambridge, 2000, Book I, XLIII Boyle R. New Experiments in The Works of the Honourable Robert Boyle printed for A. Millar, London, 1744 26 выделяет основной эпистемологический недостаток слов (т.е. гипотез) – невозможность с уверенностью определить их истинность: «for indeed when a writer acquaints me only with his own thoughts or conjectures, without inriching his discourses with any real experiment or observation, if he be mistaken in his ratiocination, I am in some danger of erring with him, and at least am like to lose my time, without receiving any valuable compensation for that great loss: but if a writer endeavours, by delivering new and real observations or experiments, to credit his opinions, the case is much otherwise; for let his opinions be never so false, his experiments being true, I am not obliged to believe the former, and am left at liberty to benefit myself by the latter; 45» Осознание недостоверности спекулятивной философии привело, с одной стороны, к тому, что ее стали часто ставить в один ряд с литературой, т.е. считать продуктом фантазии, не имеющим отношения к физической реальности. В этом она противопоставлялась экспериментальной философии, которая, якобы, имела дело непосредственно с объектами реального мира. Генри Пауэр сетует на то, что многие философы тратят время лишь на то, чтобы заполнять библиотеки «философскими романами»46. С другой стороны, разные формы спекулятивной философии все чаще упрекают в неспособности принести реальную пользу. Наоборот, любой новый эксперимент или наблюдение – это квант нового знания, потенциально полезный для человечества. Такая позиция, безусловно, восходит к ренессансному энциклопедизму и к его английскому выражению в проекте ‘естественных историй’ Фрэнсиса Бэкона. Но во время английской революции она получила дополнительную поддержку благодаря пансофическим проектам Амоса Коменского, желавшего, не много не мало, со 45 Boyle R. Proemial Essay in The Works of the Honourable Robert Boyle, printed for A. Millar, London, 1744// «действительно, когда автор знакомит меня со своими мыслями и предположениями, и не обогащает свои рассуждения реальным экспериментом или наблюдением, если он ошибается в своих выводах, я буду либо введен в заблуждение, либо, по меньшей мере, потеряю свое время, не получив ничего ценного взамен такой огромной потери: но если автор старается придать своему мнению вес за счет реальных и новых экспериментов или наблюдений, дело принимает совершенно другой оборот; потому что как бы не были ложны его измышления, если его эксперименты правдивы, я не обязан следовать первым, а из последних всегда могу извлечь пользу». 46 Паскалю, бывшему в молодости самым безупречным французским апологетом экспериментального метода, приписывают следующую формулу: «La philosophie cartésienne est le roman de la nature semblable à peu près à l’histoire de Don Quichot.» 27 временем составить «историю всего»47. В то же время, такие компендиумы не должны были включать в себя всевозможные гипотезы, которые, согласно экспериментальным философам, зачастую представляли собой лишь бесплодные фантазии. Для многих из них, квинтэссенцией словесной, спекулятивной философии была картезианская гипотеза воронок, что, впрочем, не мешало им временами с восторгом цитировать французского философа. 1.3.2 Утилитаризм Это приводит нас еще одной грани английской экспериментальной философии – и в данном случае речь идет именно об английском явлении – ее безусловной утилитарной направленности. В отличие от своих коллег на континенте основной мотивацией английских ученых было облегчение бремени человеческого труда. И хотя такая позиция не исключала того, что Бэкон называл ‘светоносными’ исследованиями, конечным продуктом производственной линии всегда были полезные изобретения. Это видно и в программе Соломонова Дома из New Atlantis, и во многих утопических проектах Самуэля Хартлиба, предложенных во время революции, и в более поздней деятельности некоторых членов Королевского Общества. Именно с этим связаны многочисленные попытки английских ученых привлечь на свою сторону представителей промышленности и торговли, которые, наряду с обществом, и должны были стать окончательными бенефициарами экспериментальной философии. Так, Роберт Гук посвятил часть предисловия к своей революционной Micrographia, 1665, восхвалению «необыкновенной щедрости» сэра Джона Катлера, крупного лондонского негоцианта, оплачивавшего лекции Королевского Общества, направленные на популяризацию «механических искусств». Гук считал доверие такого проницательного бизнесмена хорошим знамением для Королевского Общества, нуждавшегося в постоянном финансировании. В действительности, Катлер оказался одним из самых горячих и последовательных сторонников экспериментальной философии. В 1673 году Королевское Общество получило от него пожертвование в £1000 – гигантскую сумму, учитывая, что годовое 47 Амбициозному проекту Коменского не суждено было сбыться. Почти все его бумаги пропали в 1656 году при пожаре в городе Лешно (Лисса), во время шведско-польской войны. 28 жалованье самого Гука, например, составляло менее £25. Именно связь с такими людьми, как Катлер, и общая прикладная направленность экспериментальной философии позволили таким исследователям, как Борис Гессен, сделать вывод, что английские ученые XVII века лишь выполняли социальный заказ определенного общественного класса48. Однако пример Джона Катлера (наряду с Джоном Лоутером и Томасом Повеем) стоит считать скорее исключением из правил; Майкл Хантер отмечает, что “mercantile community seems to have shown some skepticism about the grandiose claims of scientists at the time”49. Более того, на деле корни утилитарного характера английской науки стоит искать не столько в «развитии торгового капитала, международных морских сношений и тяжелой индустрии», сколько в особенностях пуританской этики, ставшей одним из лейтмотивов английской революции. В дальнейшем, мы более подробно поговорим об этом в нашей работе. 1.3.3 Широта интересов Другой английской особенностью экспериментальной философии стала широта ее интересов. Ядро экспериментальной философии, т.е. собственно экспериментальный метод, идея приложения которого к натуральной философии, как считалось, была заимствована у ремесленников, инженеров, врачей, фактически воспринимался как универсальный эпистемологический инструмент пригодный для применения в любой сфере человеческой деятельности. Нечто подобное можно наблюдать и у Декарта, рассчитывавшего, что принципы его философии со временем распространятся на все научные, включая общественные, дисциплины. Кроме того, пансофические, полиматические тенденции можно наблюдать и у некоторых европейских философов, таких как Пьер Гассенди, с его шеститомной Syntagma Philosophicum, или Амос Коменский. Но если принимать во внимание лишь тех, кто занимался наукой в современном смысле этого слова, то окажется, что исследовательские интересы Бойля, Рена или Гука были гораздо шире, чем Паскаля, Декарта или Галилея. Английские экспериментальные философы 48 49 Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. Л., 1933 Hunter M. Science and the Shape of Orthodoxy. Woodbridge, 1995 29 занимались астрономией, механикой, статикой, динамикой, анатомией, математикой, химией, физиологией, пневматикой, ботаникой, архитектурой и целым рядом дисциплин, таким как алхимия или астрология, которым сегодня нет места в научном дискурсе. Всё вызывало у них неподдельный интерес – от магнитного наклонения до природы тепла в лошадином навозе50. Мы уже говорили, что в Англии подобный размах научного исследования восходит к Бэкону, самоуверенно утверждавшему, что он «have taken all knowledge to be my province»51. Но Бэкон являлся лишь английским ретранслятором ренессансной традиции «натуральной магии», связанной с такими именами, как Джованни Баптиста делла Порта, Джон Ди и Бернардино Телесио, стремившимися познать природу во всех ее проявлениях. Эти философы, среди прочего, занимались коллекционированием редких и диковинных фактов, которые они добывали либо с помощью обширной сети информаторов, либо с помощью примитивного, игрового экспериментирования. Хотя большинство исследований велись в области медицины и фармакологии, никакого тематического ограничения у них не было, а единственным условием становилась способность поражать воображение. В свою очередь результатом этих исследований часто становились компендиумы, так называемые ‘книги секретов’, самой знаменитой из которых была, безусловно, Magiae Naturalis,1558 Джованни делла Порты. Джованни делла Порта был невероятно популярен в Европе начала XVII века и даже входил в Академию деи Линчеи (Accademia dei Lincei), членом которой был Галилей. Тем не менее, можно справедливо говорить о том, что ко второй половине XVII века эклектичный энциклопедизм стал преимущественно английским явлением. Это произошло благодаря тому, что здесь важную роль играла не только экспериментальная традиция, восходящая к Галилею, но и традиция натуральной магии, влияние которой к этому времени были либо подавлено, либо обособлено на континенте. Галилей, Паскаль, Гюйгенс – все эти ученые уже практически не интересовались натуральной магией. Тогда как Бойль и его окружение, хотя и не без оговорок, часто и помногу цитирует Парацельса, Ван Гельмонта и др. Хорошо известно, что даже Королевское Общество было составлено из людей с 50 В одном из своих эссе Бойль прямодушно благодарит Бога за то, что его социальное положение (Бойль был сыном графа коркского) позволяет ему работать с навозом «чужими руками». 51 Bacon F. The Letters and Life of Francis Bacon, Vol. 1, J. Spedding, 1861 (Francis Bacon to Lord Burghley, 1591) 30 антинаучными по сегодняшним меркам убеждениями, и что его музей напоминал скорее петровскую кунсткамеру, чем современный музей науки.52 Во второй главе нашей работы мы подробно остановимся на той роли, которую сыграла магическая традиция в формировании научного эмпиризма. На данном этапе ограничимся следующим вопросом: как с точки зрения современной философии науки стоит оценивать такую потрясающую широту интересов у философов, многие из которых по праву считаются отцамиоснователями науки, плодами которой мы пользуемся до сих пор. Стоит сразу заметить, что современники оценивали безграничные претензии Королевского Общества однозначно – именно эта сторона экспериментальной философии чаще всего становилась предметом язвительных выпадов литераторов, и, безусловно, затруднила ассимиляцию науки среди широких слоев английского общества. Свидетельством в пользу этой гипотезы, например, служит комедия The Virtuoso Томаса Шадвелла, впервые поставленная в 1676 году. Здесь, Николас Гимрак, в котором нетрудно узнать Роберта Бойля, высмеивается за его попытки приручить паука, взвесить воздух, изобрести механический ткацкий станок и читать женевскую библию при свете фосфорицирующего бифштекса53. Непринятие науки обществом, а также насмешливое отношение к ней короля (посетившего, кстати, первый показ The Virtuoso), имели большее значение для науки, чем может показаться на первый взгляд. Именно оно, возможно, стало виной тому, что вплоть до XIX века Королевское Общество существовало за счет членских взносов и частных пожертвований54. Что касается современных оценок, то неразборчивость многих ученых XVII века позволяет судить, прежде всего, о двух вещах. Строгое соответствие сегодняшним представлениям о научном методе не всегда может служить ретроспективным демаркационным критерием для отделения ученых от шарлатанов. В работе с историей науки стоит помнить, что злоупотребление презентизмом почти всегда приводит к существенному искажению 52 Hoppen K.T. The Nature of the Early Royal Society: Part I, The British Journal for the History of Science, Vol. 9, No. 1 (Mar., 1976) 53 Shadwell T. The Virtuoso. Lincoln and London, 1966 54 В этой связи интересно заметить, что во Франции, где Мольер, Буало и Расин высмеивали не новую, а как раз традиционную научную парадигму, Академия Наук с момента ее основания состояла полностью на содержании государства. 31 исторической ткани. Но, в то же время, не стоит пытаться реабилитировать псевдонаучные теории на том основании, что Бойль увлекался алхимией, а у Ньютона были престранные идеи об ангелах. Иными словами, в работе с философией науки не стоит бояться того естественного преимущества, которое мы получаем за счет возможности ретроспективной оценки событий. Подобные несоответствия могут лишь еще раз напоминать нам о том, что даже личности масштаба Ньютона не всегда бывают последовательными в своих убеждениях. 1.3.4 Коллективизм Широкое поле применения предопределило еще одну неизменную черту английской экспериментальной философии. С самого начала, а особенно с середины 1650-х годов, она воспринималась как коллективный, бессрочный проект, который возможно реализовать лишь посредством полноценного научного сотрудничества. Под этим подразумевалось не только обмен информацией между натурфилософами, т.е. теоретиками науки, но и сотрудничество с представителями прикладных дисциплин – инженерами, ремесленниками, торговцами. Разумеется, выгоды от совместной работы к середине XVII века были уже по достоинству оценены по всей Европе. В Риме, Тоскане, Франции и на территории современной Германии уже существовало не один десяток более или менее формальных научных сообществ. Определенную роль в укреплении коллективной идеологемы в Англии сыграл, безусловно, Бэкон. Но корни научного сотрудничества как такового стоит искать в общеевропейской академической традиции, на которую сильное влияние оказали разного рода оккультные течения, но особенно неоплатонизм Марсилио Фичино. Интересно, что Бойль и в этой связи взывает к алхимическому наследию и одобрительно цитирует Василия Валентина, алхимика XV века, утверждавшего, что краткость жизни не позволяет надеяться обработать весь нужный материал в одиночку. Однако, несмотря на общеевропейский характер феномена, нельзя не заметить, что только в Англии мы встречаем успешную реализацию идеи бескорыстного служения делу науки. Здесь отдельный ученый воспринимается не как архитектор, но как каменщик, чей труд в большой степени лишен творческой составляющей, а вклад в окончательный результат всегда незначителен. Похожая философия 32 безличного служения науке, правда, встречалась в среде итальянских экспериментаторов, объединившихся в 1657 году в знаменитую Академию дель Чименто55. Ее реализацией стала единственная совместная публикация академии – I Saggi di naturali esperienze fatte nell’Accademia del Cimento, 1667 – подписанная коллективно. Но именно эта декларированная безличность спровоцировала многочисленные конфликты внутри академии и стала одной из причин ее закрытия в 1667 году.56 В Англии, как и в Италии, полностью избежать конфликтов не удалось. Роберт Гук был крайне чувствителен в вопросах интеллектуальных прав и считал, что многие из его изобретений были присвоены другими. Но существовавшие разногласия не помешали коллективной идеологии, направленной на служение обществу, стать важнейшим цементирующим элементом английского научного сообщества. 1.4 Хронологические и социальные границы экспериментальной философии Подведем предварительные итоги нашего исследования. Итак, английская экспериментальная философия была способом познания окружающего мира, в основе которого всегда лежал чувственный опыт. Эмпиризм стал краеугольным камнем этого течения, что – на методологическом уровне – неминуемо приводило его к конфликту с рационализмом Декарта. Известно, что обращение к чувственному опыту было свойственно многим европейским ученым XVII века. Но только в Англии к этому были добавлены вспомогательные конвенции, самыми заметными из которых стали коллективизм, утилитаризм и свободомыслие. Именно эти конвенции, сформулированные в конкретных социально-политических условиях Английской революции, позволили, на наш взгляд, выжить и расцвести экспериментальному методу в период, когда на континенте, под влиянием картезианства и контрреформации, его значение неминуемо шло на убыль. Для установления исторических границ нашего исследования можно 55 Abetti G. L’Accademia del Cimento in Celebrazione della Accademia del Cimento nel Tricentenario della Fondazione, Domus Galilæana. Pisa, 1958 56 Члены Французской Академии Наук тоже первое время (официально - до 1699 года) печатались коллективно, но ни о каком бескорыстном служении обществу речи здесь идти не может. Академики были государственными служащими и, как таковые, получали жалованье. 33 воспользоваться одной из упомянутых конвенцией, свободомыслием, под которым понимается упразднения всякого догматизма в исследовании. Таким образом, с одной стороны, история экспериментальной философии ограничивается первой половиной 1640-х годов, когда, после десятилетия жесткого интеллектуального и политического контроля, стали пробиваться в печать враждебные античной парадигме идеи Бэкона, Парацельса и Коперника. Именно с 1645 г. отсчитывает свою историю кружок Валлиса, который во многом и определит английский интеллектуальный ландшафт середины XVII века. Пик популярности экспериментальной философии пришелся, конечно, на середину 1660-х, когда о ней говорили по всей Европе. Концом же ее истории можно условно считать 1670-е, когда ее стало постепенно вытеснять более современное рационализированное, гипотетико-дедуктивное естествознание. А после 1687 года, когда Ньютон опубликовал свою Principia Mathematica, нарочитое отсутствие догматизма, характерное для экспериментальной философии, и вовсе перестало считаться интеллектуальной добродетелью. Отныне у науки существовала новая догма. В заключение стоит добавить, что если понятие ‘экспериментальной философии’ не умещается в рамки словарной статьи, то в определении того, кто же является ‘экспериментальными философами’ сложности гораздо меньше. Для этого достаточно использовать не формальный, а социальный критерий. Членство в Королевском Обществе, основанном в 1660 году для развития экспериментальной философии, является, на наш взгляд, наиболее удобным и практически исчерпывающим критерием. Хотя, учитывая открытость этого научного института, далеко не каждый его член мог считаться ‘экспериментальным философом’,57 любой, кто активно занимался наукой и имел отношение к Королевскому Обществу, безусловно, им являлся. Наоборот, из крупных английских натурфилософов середины XVII века только трое не вошли в состав английской академии, а именно Томас Сиденхэм, Ричард Таунли и Томас Гоббс. Но Сиденхэм и Таунли были скорее исключениями из общего 57 Ко времени получения второй королевской грамоты в 1663 году в обществе состояли уже 115 членов, из которых активными были лишь около дюжины. 34 правила58, тогда как Гоббса, враждебно настроенного именно в отношении экспериментальной философии, не принимали в общество умышленно59. 58 Richard Towneley (1629-1707), математик и астроном, работал в тесном сотрудничестве с некоторыми членами Королевского Общества – Пауэром, Фламстедем и др. Но будучи католиком и отчаянным картезианцем, он являлся не самой удобной фигурой для Королевского Общества. См. Webster C. Richard Towneley, the Towneley Group, and Seventeenth-Century Science, Transactions of the Historic Society of Lancashire and Cheshire 118 (1966). Thomas Sydenham (1624-1689), «английский Гиппократ», был в дружеских отношениях с Бойлем и Локком, но в довольно холодных с Генри Ольденбургом. 59 Shapin S., & Schaffer S. Leviathan and the Air-Pump. Princeton University Press, 1985 35 Глава 2 Распространение экспериментального метода в Западной Европе 2.1 Фрагментарность успехов нового знания Говоря о парадигмальных сдвигах в европейской науке, нельзя не отметить, насколько неравномерно, с точки зрения географии и хронологии, протекали в Европе эти процессы. В Италии, к примеру, многие из них уже перешли в необратимую фазу тогда, когда в Англии о них еще никто не слышал. Так, к началу XVII века на территории современной Италии уже были созданы (а часто и упразднены) десятки научных, или протонаучных институтов; в то время как в Англии этого же периода их можно было сосчитать на пальцах одной руки. Это неудивительно, потому как распространение многих инновационных идей, как мы уже говорили, проходило в Европе в основном с юга на север. Но неоднородность интеллектуального поля определяли не только стартовые преимущества, полученные различными странами в новое время. Огромную роль играли социально-политические факторы, в зависимости от обстоятельств, ускорявшие или тормозившие ассимиляцию новых идей. Таким фактором в конце XVI века было наличие сильного, централизованного государства, которое иногда принимало сторону новой науки, как это было в Дании Фредерика II, а иногда намеренно оставалось от нее в стороне, как в Англии Якова I. Другим важнейшим элементом было влияние католической церкви. Оно не было, как иногда принято считать, безусловно-негативным, препятствуя распространению любого нового знания. В конце концов, De Revolutionibus был издан только благодаря давлению друзей Николая Коперника, среди которых были епископ Хелмнский и Кардинал Николай Шёнберг, и с посвящением папе Павлу III, который это посвящение принял. Но итальянское естествознание, расцветшее в XVII веке, в конце концов, погубил именно Ватикан. Наоборот, роль протестантских религиозных течений, вразрез сложившемуся стереотипу, никогда не была однозначно благоприятной для новой науки. Хотя религиозные раскольники были, в общем, близки по духу раскольникам 36 научным, на практике их встречи выливались в достаточно жестокие столкновения. Интересно, что неравномерность, фрагментарность успехов нового знания становится наиболее очевидной не при изучении истории или географии, но при сопоставлении пристрастий различных агентов собственно интеллектуального поля. Наиболее ярко этот контраст проявляется при сравнении академической, университетской среды и внеуниверситетской (придворной, популярной, буржуазной) интеллигенции. Университеты были рачительными монополистами традиционного научного знания; интеллектуальным климатом здесь доминирует Аристотель, в основе эпистемологии которого лежит возможность формальной демонстрации явлений с помощью опоры на ‘первые принципы’. При этом ценность чувственного опыта Аристотель не отрицает, но его значение – маргинализирует: ему отводится роль дополнительного свидетельства в пользу уже заявленной демонстрации. На практике, демонстрация могла быть представлена в форме публичного диспута, проводившегося, разумеется, на латинском языке. Образованным или ученым считался тот, кто буквально умел осуществлять демонстрацию явлений, качество которой, в свою очередь, оценивалось по сугубо формальным критериям. В частности, основным критерием истины являлось отсутствие в ней внутренних противоречий, что фактически сводило работу университетского профессора к оттачиванию более или менее абстрактных понятий для согласования их между собою по правилам формальной логики. Разумеется, строгость, с которой ученые подходили к этому шаблону, колебалась от университета к университету и зависела от общего интеллектуального климата. В Париже XVI века, например, католическое влияние было достаточно велико, а в университете доминировал факультет богословия. Это делало любое отхождение от установленного канона достаточно рискованным, потому что даже научная, методологическая инновация могла быть интерпретирована в богословском ключе, т.е. как ересь. В то же время в Падуе, принадлежавшей Венецианской Республике, доминирующим факультетом был медицинский. Эти два фактора – покровительство враждебно настроенной к Ватикану республики и естественнонаучный уклон – определили прогрессивность университета в целом. Аристотеля здесь интерпретировали настолько вольно, что это 37 позволило некоторым историкам говорить о развитии полноценного научного метода внутри перипатетической матрицы60. Так, Джакобо Дзабарелла (†1589) уже говорит о первых принципах как о гипотезах, т.е. предположениях, основанных на данных чувственного опыта, что во многом предвосхищает идеи Галилея, профессора математики падуанского университета в 1592-1610 годах. Но падуанский прецедент не должен вводить нас в заблуждение. Во-первых, европейское университетское сообщество в целом было гораздо более консервативно, чем некоторые школы на севере Италии. А во-вторых, даже Падуя до конца оставалась полностью преданной Аристотелю, активно препятствуя инфильтрации идей новой науки. Иначе обстоит дело с внеуниверситетской средой, о которой в основном и пойдет речь в нашей работе. Здесь в XV веке тоже доминирует Аристотель, но постепенно, в течение XVI века, его влияние ослабевает и, наконец, к середине XVII века становится незначительным. «С точки зрения науки и философии, главным врагом Ренессанса была парадигма Аристотеля, и можно утверждать, что его главным свершением оказалось разрушение этой парадигмы»61. Это случилось, на наш взгляд, благодаря тому, что непреложность парадигмы Аристотеля заключалась не в убедительности каждого элемента его доктрины – здесь Аристотель был часто неоригинален и не всегда убедителен – но в ее невероятном размахе, последовательности и можно сказать экономичности. Аристотель служил ответом на все вопросы, им пользовались как при демонстрации зоологических, так и богословских истин. Отдельные представители образованной элиты, время от времени, бросали вызов различным элементам доктрины Стагирита; но эти вспышки свободомыслия легко подавлялись его защитниками и, если и оставались в памяти потомков, то лишь как досадное недоразумение. К концу XV века технологический, политический и экономический прогресс привел к тому, что факты, не вписывающиеся в перипатетическую матрицу, стали появляться все чаще и чаще и вскоре буквально наводнили Европу. В основе этого лежало сразу несколько факторов – распространение книгопечатания, реформация, усилия 60 61 Randall J.H. The School of Padua and The Emergence of Modern Science. Padova, 1966 Koyré A. L’apport scientifique de la Renaissance in Études d’histoire de la pensée scientifique. Paris, 1966 38 итальянских гуманистов62. Но если возможно выбрать одну, наиболее важную причину, сделавшую процесс десакрализации античности практически необратимым, то ей должны стать Великие Географические Открытия 14801520. 2.2 Интеллектуальный климат Западной Европы конца XVI века 2.2.1 Великие географические открытия Трансатлантические путешествия португальцев, испанцев и итальянцев в Индию и Америку стали решающим фактором не только в изменении отношения к древним, и в частности к Аристотелю, но и в изменении самосознания европейцев. Во-первых, они показали, что греко-римский мир был чрезвычайно ограничен, и что, в действительности, современный человек во многом превосходит его в знании. Наиболее дальновидные философы делали благодаря этим открытиям амбициозные эпистемологические заключения. Так, 23 марта 1523 года итальянский философ Пьетро Помпонацци комментировал в Болонье вторую книгу Meteore. После дежурного изложения доктрины Аристотеля и приложенных к ней Аверроэсом четырех аподектических причин невозможности существования жизни в южном полушарии Помпонацци неожиданно заявил, что у него есть приятель в Венеции, некий Пигафетта, который путешествовал по южному полушарию и видел там таких же людей, как и европейцы. Поэтому, говорит Помпонацци, выводы Аристотеля ‘sunt fatuitates’ – глупости и пустословие. Откуда выводится более общее правило о том, что стоит предпринимать в случае конфликта 62 Роль гуманистов в подрыве авторитета древних и становлении нового знания неоспорима, но и неоднозначна. Слепое преклонение перед античностью они зачастую подменяли преклонением зрячим, благодаря чему идеалом учености становилось умение читать и толковать древних авторов, а также подражать им в стихах или прозе. См. Buck A. La polémique humaniste contre les sciences, dans Sciences de la Renaissance. Paris, 1973// Buck A. La contribution humaniste à la formation de l’esprit scientifique, dans Sciences de la Renaissance. Paris, 1973 39 между ‘regionamento e l’esperienza sensibile’, а именно – ‘standum est sensui et dimittenda est ratio’63. Другим важным следствием эпохи открытий стало появление на европейском рынке множества артефактов из Индии, Африки и Нового Мира: образцов минералов, диковинных растений, животных и даже болезней. Все это не только вновь заставляло задуматься об авторитете и компетентности древних, но и поставило перед европейцами проблему каталогизирования знания. Здесь можно вспомнить Historiae animalium, 1551-1558 Конрада Гесснера, болонский ботанический сад Улисса Альдрованди (1568), многочисленные кабинеты диковинок, чье появление датируется серединой XVI века. Изучение многих из уникальных артефактов не могло быть основано на ‘универсалиях’ и ‘первых принципах’, но толкало европейских ученых в сторону коллективного эмпиризма и формирования натуральной философии, основанной на понятии научного объекта или факта64. Необходимость упорядочивания знания неизбежно приводит к зарождению наблюдательной, а не спекулятивной науки. Этому, безусловно, способствовала и концептуальная революция, уже произошедшая в живописи, где к XV веку стало высоко цениться умение рисовать с натуры и писать вещи такими, какие они есть, а не такими, как их диктует традиция. Не зря Андреас Везалий, подготавливая иллюстрации своей знаменитой De humani corporis fabrica,1543 нанимал художников из мастерской Тициана. Эрвин Панофски считает, что «подъем естественнонаучных дисциплин, которые можно назвать наблюдательными или дескриптивными – зоологии, палеонтологии, некоторых отделов физики и, самое главное, анатомии – <…> напрямую зависел от подъема в изобразительной технике».65 Постепенно, благодаря тесному контакту между придворной, университетской и наукой религиозных орденов, интеллектуальная жизнь больших городов становится все более интенсивной. Теперь здесь доминирует городская элита, многие представители которой имеют профессиональное образование (врачи, аптекари, юристы), то есть 63 В пересказе этого анекдота я полагаюсь на Nardi B. Significato del motto «Provando e riprovando» in Celebrazione della Accademia del Cimento nel Tricentenario della Fondazione, Domus Galilæana, Pisa, 1958 64 Более подробно об этой трансформации: Daston L., Park K. Wonders and the order of Nature. New York, 1998 65 Panofsky E. Artist, scientist, Genius: Notes on the Renaissance-Dämmerung in The Renaissance: Six Essays by Wallace K. Ferguson and others. New York, 1962 40 люди, в работе которых имеется сильный практический компонент. Именно эта «разночинная» среда, вместе с отдельными представителями аристократии и торговли, и предоставила основных реципиентов нового протонаучного эмпиризма, гораздо менее популярного в среде университетских профессоров. 2.2.2 Опыт против книги Мало-помалу интеллектуальный климат в Европе начинает характеризоваться конфронтацией между классической, книжной формой знания, за которую, выступают университеты и многие из гуманистов; и новыми формами знания, эпистемология которых опирается в той или иной степени на чувственный опыт. Мореплаватели, придворные инженеры и ремесленники, аристократы-натуралисты, алхимики66 – все они, напрямую или косвенно, ведут войну со спекулятивной философией, основанной на мертвых источниках, а не на живом знании. Каждый из них, в своих дневниках или популярных трактатах, написанных, как правило, на родном (т.е. не латинском) языке, занижает значение схоластической философии и восхваляет чувственный опыт. Конечно, на практике, им еще долго не удастся полностью избавиться от классического наследия, но во всем, что касается способа познания мира, т.е. эпистемологии per se, они не принимают книжного знания, а в отдельных случаях позволяют себе отзываться о нем весьма высокомерно: «Хорошо знаю, что некоторым гордецам, потому что я не начитан, покажется, будто они вправе порицать меня, ссылаясь на то, что я человек без книжного образования. <…> Скажут, что, не будучи словесником, я не смогу хорошо сказать то, о чем хочу трактовать. Не знают они, что мои предметы более, чем из чужих слов, почерпнуты из опыта, который был 66 В популярном воображении, видимо, именно алхимики были главными эпистемологическими конкурентами перипатетиков. Себастьян Брант, в своем знаменитом Корабле Дураков (1494), называет алхимию надувательством, имя в виду, что она противоречит не разуму (за права которого он так красноречиво выступает), а именно Аристотелю: “Сказал нам Аристотель вещий: «Неизменяема суть вещи», Алхимик же в ученом бреде Выводит золото из меди” 41 наставником тех, кто хорошо писал; так и я беру его себе в наставники и во всех случаях буду на него ссылаться»67. Дневники Леонардо были опубликованы лишь в XIX веке и потому (в отличие от самого Леонардо) не оказали ровным счетом никакого влияния на современников. Но он был одним из многих, кто в XVI веке предпочитает книгам непосредственный опыт. В похожем ключе, например, говорит французский естествоиспытатель и гончар Бернар Палисси в обращении к читателю своего Discours admirable de la nature des eaux et fontaines tant naturelles qu'artificielles, 1580. Здесь он не только обесценивает классическое образование, но и делает смелые, эпистемологические выводы, похожие, впрочем, на те, что сделал и Леонардо в своих неопубликованных дневниках. Именно опыт и практическая работа, говорит Палисси, должны стать основанием теоретической, книжной науки: «I’ay mis ce propos en auant, pour clorre la bouche à ceux qui disent, comment est il poßible qu’un homme puisse sçavoir quelque chose & parler des effects naturels, sans auoir veu les liures Latins des philosophes? un tel propos peut auoir lieu en mon endroit, puis que par practique ie prouue en plusieurs endroits la theorique de plusieurs philosophes fause, mesmes des plus renommez & plus anciens <...> te pouuant asseurer (lecteur) qu’en bien peu d’heure, voire dens la premiere iournee, tu apprendras plus de philosophie naturelle sur les faits des choses contenues en ce livre, que tu ne sçaurois apprendre en cinquante ans, en lisant les theoriques opinions des philosophes anciens.»68 Еще более определенно высказывается итальянский гуманист Джироламо Русчелли в прологе к своей Secreti nuovi, 1567. Рассказывая о целях одной из первых научных академий, основанной им предположительно в 1541-1542 67 Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Academia, Москва-Ленинград, 1935 Palissy, B. Discours admirable de la nature des eaux et fontaines tant naturelles qu'artificielles. Paris: Martin le Ieune, 1580 // «Я заранее заявил об этом, чтобы закрыть рот тем, кто вопрошает, как это возможно, чтобы человек мог бы знать что-то и говорить о свойствах естества, без знакомства с латинскими книгами философов? Такое положение в моем случае оправдано, потому что я на практике доказываю в нескольких местах, что теории многих философов – даже самых известных и древних – ложны <…> могу заверить тебя [читатель], что в течение немногих часов, в первый же день, ты узнаешь больше натурфилософии из вещественных фактов, содержащихся в данной книге, чем изучая теоретические суждения античных философов на протяжении пятидесяти лет.» 68 42 году, он говорит, что основной задачей было «перепробовать» и «доказать» наибольшее количество рецептов, найденных в старинных рукописях, напечатанных книгах или полученных напрямую через посредников. Иман и Пао не без основания отмечают историческое значение данной эпистемологической стратегмы : «Здесь важно отметить, что Русчелли считал эту процедуру осознанным применением экспериментального метода. Будучи неудовлетворен знанием и методиками, полученными из книг, академия настаивала на том, чтобы каждый рецепт был «доказан» три раза, прежде чем его можно было бы считать заслуживающим доверия. И хотя метод, использовавшийся в данном случае, был, очевидно, достаточно примитивен, его историческое значение довольно велико. Он иллюстрирует этап становление понятия эксперимента, на полпути между средневековым понятием experimenta как обыкновенного опыта и методом Галилея, использовавшего эксперимент для проверки гипотезы».69 2.2.3 Натуральная магия Традиция натуральной магии, к которой без сомнения принадлежал Русчелли, настолько сильно повлияла на распространение влияния экспериментального метода, что ее невозможно не упомянуть в нашей работе. В ее основе лежало стремление отказаться от объяснения природных явлений через апелляцию к «чуду», т.е. феномену, лежащему вне познаваемого поля; вместо этого каждому явлению приписывалось естественное, а значит познаваемое происхождение. Мы уже сказали, что натуральные маги занимались в основном сбором, упорядочиванием и проверкой диковинных фактов (где слова «факт», «секрет», «рецепт» или «эксперимент» употреблялись взаимозаменяемо). Уже это превращало их деятельность в эмпирическое, экспериментально-ориентированное предприятие. Связь натуральной магии с экспериментальной философией и современной наукой можно наглядно показать на примере истории одного из самых влиятельных 69 Eamon W., Paheau F. The Accademia Segreta of Girolamo Ruscelli, Isis, Vol. 75, No. 2 (Jun., 1984) 43 научных институтов XVII века – Академии деи Линчеи. Основанная в 1603 году, в Риме, маркизом Федерико Чези, она изначально имела в своих рядах всего четырех членов (включая самого маркиза), которые поставили своей целью «изучение тайных наук». Следующим членом академии стал Джованни делла Порта, бывший, судя по всему, ее опосредованным вдохновителем. В качестве эмблемы академии была выбрана рысь (lince) – животное, наделенное великолепным зрением, должно было стать символом наблюдательной эпистемологии Чези и его друзей (отсюда девиз академии: “A[u]spicit et inspicit”). Рысь же была символом самого Порты и фигурировала на фронтисписе многочисленных изданий его Magiae Naturalis (илл.1). Для нас интересно, что уже шестым linceo стал в 1611 г. Галилео Галилей, кардинально изменивший идеологию академии. Отказавшись от поиска и проверки «секретов природы», она фактические стала мощнейшим инструментом пропаганды нового, экспериментального эмпиризма70. Возможно, более значительной онтологической составляющей натуральной магии для нас является идея владычества человека над природой. Такие люди, как Джованни делла Порта или Джироламо Кардан стремились не столько раскрыть секреты природы, сколько овладеть ими, т.е. научиться заставлять природу следовать в одном или другом (естественном) направлении. Само слово ‘магия’ отличалось от слова ‘философия’ именно тем, что подразумевало не столько познание, сколько контроль над явлениями мира. Впоследствии, благодаря Фрэнсису Бэкону эта традиция оказалась у истоков английской экспериментальной философии. Паоло Росси, например, считает, что открытость, демократичность и коллективный характер научного проекта Лордканцлера стали непосредственной реакцией на элитизм и индивидуализм, свойственные магической традиции.71 Мы не можем полностью согласиться с выводами Росси, о чем будет сказано более подробно в соответствующем месте. Но, бесспорно, идея контроля над силами природы стала одним из неотъемлемых компонентов экспериментальной философии. Однако, во 70 Академии деи Линчеи и о роли натуральной магии посвящены многочисленные публикации Уильма Имона, например, “Court, Academy, and Printing House: Patronage and Scientific Careers in Late Renaissance Italy” в Moran B.T. (ed.) Patronage and institutions. Science, Technology, And Medicine at the European court 1500-1750. The Boydell Press, 1991 или Eamon W. Science and the Secrets of Nature, Princeton University Press, 1994 71 Rossi P. Francis Bacon. From Magic to Science. London, 1968 44 многом отбросив к середине XVII века пережитки ренессансного оккультизма, она искала возможность осуществления этого контроля за счет точных наук. Не случайно, одна из публикаций Джона Уилкинса – центральной фигуры пуританской, революционной науки – называлась Mathematical Magic, Or The Wonders that May Be Performed by Mechanical Geometry72, 1648 и являлась своеобразным справочником для тех, кто с помощью рукотворных механизмов желает подчинить себе силы природы. В пятой главе мы подробно поговорим о другом важнейшем факторе, подорвавшем авторитет Аристотеля, а в дальнейшем и способствовавшем ассимиляции экспериментальной философии – реформации. Здесь же достаточно напомнить, что против схоластов вообще и Аристотеля лично Лютер выступил уже в самом начале своей карьеры реформатора: за два месяца до публикации 95 тезисов об индульгенциях, он публикует 97 тезисов по случаю диспута против схоластического богословия. Но данное выступление Лютера против Аристотеля касалось в основном богословия и не затрагивало онтологические и эпистемологические проблемы. Первым же научным вызовом всей перипатетической матрице стала работа малоизвестного каноника Фромборкского собора Николая Коперника De revolutionibus orbium coelestium, 1543. Исследование влияния Коперника на современную философию и науку, к сожалению, выходит за рамки настоящей работы. Однако нелишне будет заметить, что Коперник бросил вызов античной астрономии и космологии, а вовсе не классической эпистемологии. За его революционным решением проблемы движения небесных тел стояли эстетические и даже отчасти мистические идеологемы, но никак не более разнообразные или точные наблюдения. Более того, как уже не раз было замечено в исторической литературе, его влияния вплоть до XVII века ограничивалось узкими кругами профессиональных астрономов73. Тем не менее, для нашего исследования важно, что Коперник сформулировал фундаментальную научную проблему, которая подтолкнула множество ученых (например, Тихо Браге, Иоганна Кеплера, и Галилео Галилея) к поиску опытного пути ее разрешения. 2.3 72 73 Wilkins J. Mathematical Magic, Or The Wonders that May Be Performed by Mechanical Geometry. London, 1691 На это указывает, например, Томас Кун, см. Kuhn T. The Copernican Revolution. Cambridge, 2002 45 Распространение экспериментального метода в Англии Без малого сорокапятилетнее правление Елизаветы I, продлившееся с 1558 по 1603 год, уже при ее жизни стали называть золотым веком Англии. Сегодня о нем вспоминают, как о периоде относительного внутреннего спокойствия, отмеченного, прежде всего, становлением Англии как «царицы морей» и невероятным подъемом английской литературы. Науке и философии правление Елизаветы дало только одного исследователя с мировой репутацией – Уильяма Гильберта, но этот факт не должен вводить нас в заблуждение. Кристофер Хилл утверждает, что в отсутствии ярких имен Англия уже в первой четверти XVII века стала первой европейской страной по уровню широкого, популярного понимания науки. Это было связано, по его словам, со сложившейся при Елизавете традиции повышения научной элитой грамотности торговцев, моряков и ремесленников74. Так, хорошо известный математик и оккультист Джон Ди (1527-1608) в предисловии к переводу Евклидовых начал (1570) утверждал, что он сделан для пользы ‘common artificers’, которые посредством ‘their own skill and experience already had, will be able (by these good helps and informations) to find out and devise new works, strange engines and instruments’75. Другим, возможно, наиболее ярким примером просветительской деятельности стоит считать появление в Лондоне в 1598 году Грешем Колледжа (Gresham College), основанного на деньги финансиста и общественного деятеля Томаса Грешема (†1579). Весь научный штат колледжа составляли семь профессоров (богословия, права, медицины, геометрии, астрономии, риторики и музыки), единственной обязанностью которых было чтение еженедельных публичных лекций. Важно отметить, что многие из лекций проводились на английском языке, т.е. имели заведомо просветительскую направленность. В дальнейшем, на протяжении XVII века, влияние колледжа будет постепенно расти, и его профессора сыграют одну из ключевых ролей при основании Королевского Общества в 166076. Конечно, в сравнении с другими странами центральной Европы XVI века Англия остается, с научной точки зрения, отсталой страной. Единственные 74 Hill C. Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford, 1965 Ibid. 76 McKie D. The Origins and Foundation of the Royal Society of London, Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 15 (Jul., 1960), pp. 1-37 75 46 университеты страны, Оксфорд и Кембридж, продолжают быть крайне консервативными учебными заведениями. В то же время основанный в 1518 году Королевский Медицинский Колледж (Royal College of Physicians)77, например, не откликнулся на дидактические инновации и анатомические открытия XVI века (связанные с именами таких исследователей, как Андреас Везалий, Реальдо Коломбо и др.) и продолжал любовно пестовать галеническое наследие. Нам мало известно о медицинской практике Уильяма Гильберта, президента колледжа в 1600-1603, но можно быть уверенным, что он был далеко не так смел во врачевании Елизаветы, как в своих магнетических экспериментах. Тем не менее, постепенно и в Англии начинают пробиваться ростки нового знания. Уже в 1556 г., некто Джон Фиелд публикует альманах, с предисловием Ди, упоминающий гелиоцентрическую теорию Коперника. Тогда же в своем учебнике её упоминает английский математик Роберт Рекорд. Наконец, Томас Диджес станет в 1576 г. первым английским интерпретатором гелиоцентризма. В комментариях к более ранней работе своего отца, Леонарда Диджеса, Томас не только объявит себя сторонником Коперника, но и добавит к теории польского каноника важнейший структурный элемент – бесконечность вселенной78. Мы уже сказали, что споры астрономов, по крайней мере, на этом этапе, напрямую не затрагивали эпистемологические вопросы. Но многие из континентальных веяний открыто толкали исследователей в сторону эмпиризма. Это можно бесспорно утверждать об учении немецкого врача и алхимика Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенхайма, более известного под именем Парацельс. Он был представителем того течения в алхимии, которое занималось в основном не поиском философского камня, но врачевательными, терапевтическими методиками. К концу XVI века он стал известен по всей Европе, и в частности в Англии, именно как соперник Галена, предлагавший широким массам, не имевшим финансовой возможности получить «квалифицированную» медицинскую помощь, простые и доступные 77 В дальнейшем мы будем называть Медицинский Колледж «Королевским», хотя официально он приобрел такой статус лишь в 1674 году. 78 Для подробного разбора вклада Диджеса см. Koyré A. Du monde clos à l’univers infini. Paris, 1973. Отцу Томаса Диджеса, Леонарду, иногда приписывают изобретение телескопа, но свидетельства в пользу этой гипотезы достаточно скудные. 47 рецепты, часто основанные на растительных или минеральных препаратах. О масштабах его влияния красноречиво свидетельствует тот факт, что к концу XVI века он даже вошел в официальный куррикулюм некоторых немецких университетов (Марбург, Йена, Гейдельберг).79 Для нас движение Парацельса интересно не только его оппозицией официальной медицинской доктрине, но и тем, что он неустанно пропагандировал обращение к опытному знанию, противопоставляя его книжному. В трактате De l’Alchimie, датируемом 1530 годом, об этом говорится напрямую: «A quoi pourrait m’être utile le jugement d’un médecin qui cite Sérapion, Mésué, Rhazes, Pline, Dioscuride ou Macer à propos des vertus de la verveine, qui dit qu’elle est bon pour ceci et pour cela, alors qu’il est incapable de vérifier ce qu’il avance ? Qu’en penser ? Je sais bien que si tu es un juge équitable, tu éstimeras que c’est mieux de savoir vérifier ces propriétés par l’expérience.80» Но, наверное, решающую роль в формировании английского эмпиризма сыграли исследования в области мореплавания и магнетизма (и смежных наук, таких, как картография), осуществленные английской научной элитой во второй половине XVI века. Само строение британского архипелага, надежды на участие в колонизаторской гонке (первая, неудачная попытка колонизации Англией северной Америки датируется как раз серединой 1580-х), а также морское соперничество с Испанией за контроль над Атлантическим побережьем Европы – все это привело к тому, что мореплаванию и магнетизму в Англии уделялось повышенное внимание. В то же время, несмотря на то, что компас был известен в Европе еще с двенадцатого века, а трансатлантические путешествия уже перестали быть в диковинку, и та и другая область оставались в XVI веке в большой степени неизученными. Учитывая их огромное прикладное, практическое значение и отсутствие серьезного интереса со стороны древних, 79 Moran B.T. Patronage and Institutions: Courts, Universities, and Academies in Germany; an Overview: 1550-1750 (p.169-183) в Moran B.T. (ed.) Patronage and institutions. Science, Technology, And Medicine at the European court 1500-1750. The Boydell Press, 1991 80 Paracelse. De l’Alchimie. Strasbourg, 2000 // «Чем мне может быть полезно мнение врача, который приводит суждения Серапиона, Масавия, Ар-Рази, Плиния, Диоскорида или Мацера о свойствах вербены, и утверждает, что она полезна в том или ином случае, не умея, в то же время, проверить того, что говорит. Как об этом судить? Знаю, что если ты справедливый судья, ты сочтешь, что лучше уметь подтвердить эти свойства опытом». 48 неудивительно, что их изучение основывалось непосредственно на чувственном опыте. Так, магнитное наклонение (magnetic dip, т.е. угол, образуемый с плоскостью горизонта магнитной стрелкой, вращающейся вокруг горизонтальной оси в плоскости магнитного меридиана), было обнародовано Робертом Норманом в своей Newe Attractive лишь в 1581 году. Норман не был университетским профессором и даже не имел, по всей видимости, классического образования – он был изготовителем компасов и моряком, проведшим в море более пятнадцати лет. В своем небольшом памфлете он уверенно отстаивает права ремесленников на научное исследование в знакомой им области, возможное благодаря тому, что он называет experimented truth. Многие из своих посылок Норман иллюстрирует опытным доказательством, снабженным четкими процессуальными инструкциями. Его эпистемология уже как нельзя прозрачна: «peradventure, you would be doubtful of the Success. Nevertheless, by Experience in all things, wherein consisteth Truth and Reason, of necessity Reason must yield, when Truth is present81». Эпистемологические ориентиры в мореходной науке менялись так быстро, что когда кембриджский математик Эдвард Райт решил опубликовать в 1599 г. свою Certaine Errors in Navigation, ему пришлось оправдываться за небольшой опыт морских путешествий. Райт, действительно, был книжным ученым, лишь однажды (и то по прямому указанию Елизаветы) взошедшим на палубу корабля для участия в рейде на Азорские острова 1589 года. Но, говорит он в предисловии, те, кто считают, что математик не должен вмешиваться в вопросы мореплавания, ставят все с ног на голову. Хорошее теоретическое знание математики, по меньшей мере, равноценно опыту практического мореплавания82. Сама книга была призвана, видимо, сократить дистанцию между теоретиками и практиками картографии и способствовать формированию между ними симбиотических отношений, где моряки занимались бы практическими измерениями и экспериментами, а математики – картографией и составлением таблиц. 81 Norman R. The Newe Attractive. London, 1720// «Возможно, вы и усомнитесь в успехе. Тем не менее, опыт показывает, что во всех вещах, где важен разум и истина, разум вынужден отступить, если истина на лицо.» 82 Ash H.E. Power, Knowledge and Expertise in Elizabethan England. Baltimore, 2004 49 Глава 3 Три лица английского экспериментального естествознания: Уильям Гильберт, Фрэнсис Бэкон, Уильям Гарвей. 3.1 Уильям Гильберт Три человека сделали особенно много для ассимиляции экспериментального естествознания в Англии первой половины XVII века – Уильям Гильберт (†1603), Фрэнсис Бэкон (†1626) и Уильям Гарвей (†1657). Несмотря на то, что их имена, поставленные в этой последовательности, составляют, как будто, хронологический и идейный континуум, роль каждого из них в истории экспериментальной философии была своеобразной. Так, в отличие от Бэкона, Гильберт и Гарвей были, прежде всего, учеными самого большого калибра, т.е. не только популяризировали экспериментальное естествознание, но и развивали его. В то же время Бэкон, и чуть в меньшей степени Гильберт, оказали непосредственное влияние на предмет нашего исследования, английскую экспериментальную философию, тогда как Гарвей во многом остался в стороне от этого явления. Нам известны лишь контуры биографии Уильяма Гильберта, человека, заложившего основы английского и отчасти европейского экспериментального естествознания – почти весь его архив пропал в лондонских пожарах XVII века. Гильберт родился в 1544 году, в Колчестере, а в 1558 (в возрасте 14 лет, что было, в то время, обычным делом) поступил в колледж Святого Джона Кембриджского университета. Здесь он получил степень бакалавра, магистра, а потом и доктора медицины. Почти всю жизнь он проработал в Лондоне лечащим врачом, став в 1573 году членом Королевского Медицинского Колледжа, института, о котором мы подробно расскажем в следующей главе. Четырехлетний промежуток между окончанием кембриджской академической карьеры (1569) и началом лондонской (1573) натолкнул некоторых ранних биографов Гильберта на предположение, что тот провел их на континенте, возможно в Италии. Это позволило бы установить связь между английской и европейской экспериментальной традицией. К сожалению, эту крайне 50 интригующую гипотезу сегодня невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Тем не менее, нельзя согласиться с исследователями, которые, в отсутствии твердых фактов, считают возможным относиться к этой гипотезе как фантазиям биографов. Дело в том, что, как указывает Чарльз Вебстер83, обязательным условием членства в Королевском Медицинском Колледже было наличие диплома английского университета, четырехлетней врачебной практики, а также стажа в европейском университете. Разумеется, одно это лишь косвенно свидетельствует в пользу объявленной гипотезы – в отдельном случае запрет, возможно, удалось обойти. Но, в отсутствии дополнительной информации, этого достаточно, чтобы предположение о континентальных корнях английского экспериментального эмпиризма, по крайней мере, не выглядело неправдоподобным. Так или иначе, начиная с 1573 года, Гильберт постепенно поднимался по карьерной лестнице, наивысшей ступенью которой стало назначение его президентом Королевского Медицинского Колледжа в 1600 г. и личным врачом Елизаветы I в 1601 г. В это же время Гильберт опубликовал свою De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure, 1600, книгу ставшую кульминацией и, возможно, raison d’être всей английской магнетической традиции. Ее появление многим обязано и Роберту Норману, которого высоко ценил Гильберт, и Эдварду Райту, написавшему к ней предисловие, и целой плеяде английских ученых, среди которых автор перечисляет Томаса Хэриота, Роберта Хьюза, Абраама Кендаля, Уильяма Борроуа и Уильяма Барло. В то же время Гильберт пошел гораздо дальше своих предшественников; в действительности, он продвинулся так далеко в изучении магнетизма, что в XVII веке его не превзошел ни один ученый. Среди открытий, за которыми по праву будет навсегда закреплено его имя, стоит разделение магнетического и электрического эффекта (сам термин электричество, electricus, т.е. янтарность или янтароподобие, ввел именно Гильберт), а также предположение, что Земля имеет самостоятельный магнитный потенциал, который и является причиной поворота магнитной стрелки. Для нас больший интерес представляет методологическая, процессуальная сторона исследований Гильберта. Здесь, прежде всего, стоит отметить 83 Webster C. The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626-1660. Oxford, 2002 51 Гильберта, как первого крупного английского ученого на деле отбросившего преклонение перед античностью и «книжными» авторитетами. Мы уже сказали, что довольно обрывочные знания древних о магнетизме несколько упростило эту задачу: быть новатором в этой области было несравненно легче, чем, например, в астрономии. Тем не менее, не стоит преуменьшать значение многочисленных опровержений Аристотеля, Платона, Плиния Старшего, Птолемея, а также многих современных Гильберту авторов, таких как Агрикола, Джованни делла Порта или Кардан. С их помощью Гильберт отвоевывал бесценное право ученого доверять лишь собственному опыту, без оглядки на какие бы то ни было авторитеты. Более того, в ‘хвалебном обращении’, открывавшем De Magnete, Эдвард Райт отдельно обсуждает проблему противоречия научной гипотезы и текста Священного Писания. Обращение замечательно уже тем, что написано за много лет до так называемого первого процесса Галилея и, судя по всему, в момент, когда процесс Джоржано Бруно близился к своему трагическому завершению. Не менее примечателен и его вывод: на примере гипотезы суточного обращения Земли Райт утверждает, что текст Писания не стоит понимать буквально, поскольку в намерения Моисея и других пророков вряд ли входило «to promulgate nice mathematical and philosophical distinctions»84. Таким образом, Райт и Гильберт фактически предлагали то же, что предложит Галилей в письме отцу Кастелли 21 декабря 1613 – интерпретировать спорные пассажи священного писания в свете научного прогресса и освободить ученого от необходимости подгонять результаты своих исследований к богословским. Разумеется, в елизаветинской Англии этот вопрос стоял не так остро, как в католической Италии. Ни инквизиции, ни даже Списка запрещенных книг у Елизаветы не было. Но некоторые из наиболее острых научных публикаций все же подвергались цензуре, и проблема независимости ученого оставалась открытой.85 Эпистемология Уильяма Гильберта почти полностью основывается на чувственном опыте и эксперименте, и он не только не смущается своего новаторства, но и говорит о нем с оттенком гордости и высокомерия: 84 Wright E. Address to William Gilbert in Gilbert W. De magnete. London, 1958 О елизаветинской цензуре упоминает, в частности, Кристофер Хилл. Hill C. Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford, 1965 85 52 «To you alone, true philosophers, ingenuous minds, who not only in books but in things themselves look for knowledge, have I dedicated these foundations of magnetic science – a new style of philosophizing. But if any see fit not to agree with the opinions here expressed and not to accept certain of my paradoxes; still let them note the great multitude of experiments and discoveries – these it is chiefly that cause all philosophy to flourish;86» Существенно, что экспериментальная практика Гильберта уже далеко ушла от хаотичного экспериментирования Ренессанса. Во-первых, он исследует одно, достаточно узкое поле, что было нехарактерно как для адептов натуральной магии, так и для экспериментальных философов середины XVII века. Во-вторых, в его работe почти отсутствуют элементы случайного, игрового экспериментирования: каждый эксперимент призван подтвердить, либо опровергнуть заранее оговоренную гипотезу. Некоторые из этих экспериментов весьма изысканы, например, позаимствованный у Роберта Нормана для демонстрации того, что магнитная сила Земли лишь направляет магнитную стрелку, но не притягивает ее. Обыкновенная пробка протыкается небольшим куском металлической проволоки, который затем фиксируется в ней и маркируется – например, из одного конца проволоки делается стрелка (илл.2). С помощью ножа, массу пробки постепенно уменьшают до величины, при которой пробка и прикрепленная к ней проволока могут находиться в свободном плавании в стакане воды, т.е. не будут ни всплывать на поверхность, ни тонуть. Далее, пробку вынимают из резервуара, а проволоку намагничивают. При повторном размещении в стакане воды, пробка разворачивается в направлении магнитных полюсов Земли, но не тонет, что говорит о том, что Земля не притягивает намагниченную проволоку. Отдельного внимания заслуживают эксперименты с небольшим шарообразным магнитом, “маленькой Землей”, terrella. Гильберт посвятил много лет исследованию того, как ведет себя намагниченная стрелка около экватора терреллы, возле ее полюсов, как сама террелла взаимодействует с окружающей средой и т.д. Магниты издавна делали шарообразными. Но до конца XVI века их форма повторяла небесную сферу, полюса которой, в 86 Gilbert W. De magnete. London, 1958 53 понимании древних, и притягивали к себе концы намагниченной стрелки. «Переименование» магнита может показаться незначительным эпизодом исследований Гильберта. На деле же, небольшое изменение ракурса английским ученым оказалось гигантским концептуальным скачком для науки в целом. Назвав свой магнит терреллой, Гильберт, допускавший суточное вращение Земли, не просто отказался от астрологической идеи небесного вмешательства в земные процессы – он создал действующую, хотя и примитивную, модель земного шара. То есть, он одним из первых стал в лабораторных условиях изучать глобальные научные процессы с помощью научного моделирования. Этим в XVI веке не мог похвастаться ни один ученый. В то же время нельзя не отметить, что некоторые исследователи склонны преувеличивать значение Гильберта для экспериментального естествознания. Так, например, Джон Гриббин, в своей The Fellowship (популярный слог которой отчасти извиняет ее недостатки), утверждает, что даже Галилей «added nothing to the understanding of the scientific method pioneered by Gilbert»87. На наш взгляд, эта позиция довольно уязвима. У Гильберта отсутствует ясное понимание научного метода, характерное для Кеплера или Галилея. Свою вполне индуктивную методологию он уподобляет геометрии; сравнение, которое в XVII веке неминуемо обрекло бы его на враждебность со стороны экспериментальных философов. Более того, его онтология еще во многом анимистична, ей не хватает механо-математического духа, обязательного для современного естествознания. Гильберт не только считает магнит одушевленным, взывая к авторитету древних, но и не смущаясь заявляет, что эта истина доказана экспериментальным путем. Говоря о влиянии Гильберта на экспериментальное естествознание в целом, стоит отметить, что он стал первым (и долгое время единственным) английским ученым, широко известным за пределами Англии88. Его имя было хорошо знакомо и Кеплеру, и Декарту, и Галилею. Последний, в своем Il Dialogo, 1632, отдает дань английскому ученому устами Сальвиати: 87 Gribbin J. The Fellowship. Woodstock & New York, 2007 Интересно, что даже его эпитафия содержала отдельное упоминание того, что , «he composed a book celebrated among foreigners». 88 54 «Я воздаю величайшую хвалу и завидую этому автору, так как ему пришло на ум столь поразительное представление о вещи, бывшей в руках у бесконечного числа других людей возвышенного ума, но никем не подмеченной; он кажется мне достойным величайшей похвалы также и за много сделанных им новых и достоверных наблюдений, к стыду многочисленных лживых и пустых авторов, которые пишут не только о том, что знают, но и обо всем том, что черпают из разговоров глупой черни, не пытаясь удостовериться в справедливости услышанного с помощью опыта, может быть, для того, чтобы не уменьшить числа своих книг.»89 Особенно большое значение Гильберт имел, разумеется, в Англии. Согласно Ричарду Джонсу, вплоть до 1640 года он оставался наиболее влиятельной фигурой в научных кругах, затмевая и Фрэнсиса Бэкона, и Уильяма Гарвея. Исследования магнетизма продолжились в Англии с удвоенной силой, о чем косвенно свидетельствуют материалы, на которые ссылается Пауэр (см. ниже). Кроме того, влияние Гильберта можно проследить в трактате A Short Treatise of Magneticall Bodies and Motions, 1613, некого Марка Ридли, подписавшегося на заглавной странице ‘Dr. in phisicke and Philosophie. Latly Physition to the Emperour of Russia, and one of ye eight principals or Elects of the Colledge of Physitions in London’. Ридли повторяет некоторые эксперименты из De Magnete, в двух случаях пытаясь опровергнуть учителя90. Значение Гильберта для английской экспериментальной философии середины XVII века состояло, на наш взгляд, прежде всего в том, что его работа раскрыла утилитарный потенциал экспериментального естествознания. Стоит сразу сказать, что речь в данном случае не об узком, коммерчески ориентированном потенциале (хотя и о нем, безусловно, не стоит забывать), а о том, что можно было бы окрестить ‘утопическим утилитаризмом’, т.е. стремление принести пользу всем соотечественникам или даже человеческому роду в целом. Проблески этого явления можно заметить уже у более ранних авторов, например, Роберта Нормана, утверждавшего, что конечная цель его 89 Galilei G. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Milano, 2008 // Перевод А.И.Долгова, 1948 Jones, Richard Foster, ‘Ancients and Moderns. A Study of the Rise of the Scientific Movement in SeventeenthCentury England’, Washington University Studies, St. Louis, 1961 90 55 исследований – «the benefitting of my Countrymen, in whom I wish continual increase of knowledge and cunning91». В хвалебном обращении Райт уже гораздо более эксплицитен и амбициозен – «in truth, in my opinion, there is no subjectmatter of higher importance or of greater utility to the human race upon which you could have brought your philosophical talents to bear.» Примечательно, что английская наука, даже еще не став в полном смысле таковой, уже задумалась о возможности практической пользы. Ни французская, ни итальянская, ни североевропейская наука не обнаруживала подобного стремления в XVI веке. Объяснение этого факта «интеллектуальным климатом», на наш взгляд, возможно (Спекторский о Бэконе: «как истый англичанин, и, значит, утилитарист92»), но недостаточно – личности, масштаба Гильберта, формируют интеллектуальный климат в той же степени, что и он их. Но прикладной характер магнитной философии был в дополнение к этому обусловлен особенностями данного научного поля. Во-первых, практическое применение знаний о магнетизме было возможно без всякого дополнительного образования широкими слоями общества; а во-вторых, сравнительно небольшие интеллектуальные вложения обещали принести непропорционально высокую выгоду. Основной проблемой мореплавания XV-XVII веков было определение долготы в открытом море. Тогда как широта довольно легко и точно определялась по Солнцу или звездам, долгота, без знания которой ни одно путешествие не могло считаться безопасным, долго не поддавалась подсчетам мореплавателей. Гильберт и его современники хорошо понимали, что решение этой проблемы имело огромное значение для мореплавания и, при условии решения, дало бы гигантские преимущества первооткрывателю. В конце XVI века появилась надежда, что проблема будет, наконец, решена благодаря магнитному склонению (magnetic declination), т.е. углу между географическим и магнитным меридианами в точке земной поверхности. Так, например, Джованни делла Порта считал, что склонение возрастает (т.е. северный конец магнитной стрелки отклоняется к востоку) по мере движения на восток, и наоборот. Симон Стевин (1548-1620), которого также цитирует Гильберт, 91 Norman R. The Newe Attractive. London, 1720 // «выгода для моих соплеменников, которым я желаю постоянного увеличения знаний и сноровки». 92 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. СПб. 2006 56 полагал, что склонение находится в зависимости, хотя и более сложной, от меридиана. Гильберт понимал, что его предшественники ошибаются, но находятся на верном пути: если предположить, что магнитное склонение постоянно для любой произвольной точки, при условии достаточного количества точечных измерений, можно было бы соединить их изолиниями и получить карту для отслеживания изменения долготы в открытом море. Такой способ, например, предложил в середине XVII века французский иезуит Грандами. Позже, Генри Пауэр посвятил целую секцию своей Experimental Philosophy, 1664 опровержению этого метода; опровержению, ставшего возможным благодаря многолетним наблюдениям-экспериментам англичан (Barrows, 1580; Mr. Gunter, 1622; Gildebrand, 1634), показавшим, что само склонение меняется в каждой точке с течением времени. Экспериментальные философы, близкие к Королевскому Обществу, высоко ценили Гильберта как ученого. Так, в своей инаугурационной лекции на пост профессора Астрономии в Грэшем Колледже, Рен называет его «отцом новой философии».93 Будущего архитектора собора Святого Павла не могли не привлекать тщательность, с которой Гильберт занимался экспериментированием, его гордая независимость и стремление принести пользу человечеству. Тем не менее, важно понимать, что во многих своих проявлениях научная философия Гильберта была не только чужда экспериментальной философии, но и противоречила ей. В первую очередь, это касается элитизма и магического оттенка De Magnete. Гильберт открыто говорит, что пишет для узкого круга лиц, а его эксперименты – это не публично проведенные исследования, закрепленные научным сообществом, а во многом те же «секреты», рецепты, плоды одиночества и бессонницы. В этом он разительно отличается от Бойля и его окружения, не видевшего вреда в свободном распространении информации до тех пор, пока это не нарушает авторских прав. 3.2 Фрэнсис Бэкон 93 Wren S. Parentalia or Memoirs of the family of the Wrens. London, 1750 57 Фрэнсис Бэкон родился в 1561 году, в правление Елизаветы I. Это был третий год ее царствования, но она продолжит управлять страной до 1603 года, когда Бэкону будет уже 42 года. Особенности правления Елизаветы хорошо известны историкам и могут показаться знакомыми даже непосвященному читателю: это был, прежде всего, популярный режим, основанный на контроле короны над парламентом, послушно вотировавшим любые прихоти королевы. Правление же в собственном смысле осуществлялось за счет узкого круга сановников, одним из которых был Николас Бэкон. Его сын, Фрэнсис, должен был сделать головокружительную карьеру, но этому помешали два обстоятельства: ранняя смерть отца (†1579) и настороженность, а может быть и антипатия со стороны Елизаветы. Так или иначе, политическая и философская карьера Бэкона была сделана уже при Якове I, хотя первая крупная публикация, Essays or Counsels, Civil and Moral, пришлась на 1597 г. Сегодня мало кто знает, что именно эта имитация одноименных книг Монтеня стала, в XVII веке, самым читаемым произведением будущего Лорд-канцлера94. В 1604 году выходит первая из крупных околонаучных публикаций Бэкона, Valerius Terminus or The Interpretation of Nature, за ней – еще более популярная The Proficience and Advancement of Learning, 1605. Здесь впервые прозвучат мотивы, которые отныне будут неразрывно связаны с именем Бэкона: критика античных авторов, защита науки от атак с позиций религии, предложения институциональной и языковой реформы, а также подчинение науки нуждам государства и общества. Но opus magnum Фрэнсиса Бэкона это, конечно же, Novum Organum, 1620. Написанный на самой вершине славы, он предполагал ни много ни мало эпистемологическую революцию, возможную, по замыслу автора, благодаря открытому им методу, который иногда несправедливо сводят к простой «индукции». Осуществление этой грандиозной реформы должно было быть поручено, по всей видимости, специальному научному институту, проект которого можно найти в последней, неоконченной работе философа New Atlantis. Но если Бэкон и планировал сам претворять в жизнь свой проект, осуществиться этому было не суждено. В 1621 г. он был снят с должности Лорд94 Полная библиография Бэкона содержится в Gibson R.W. Francis Bacon, A Bibliography of His Works and of Baconiana to the year 1750. Oxford, 1950. Согласно Гибсону, до 1650 года Essays вышли в более, чем сорока изданиях на шести языках. Для сравнения, Novum Organum к этому же времени вышел всего в трех латинских изданиях. 58 канцлера за взяточничество и осужден. Остаток жизни он провел в кругу семьи, не имея возможности влиять на государственные инициативы. В свете такого жизненного поворота, некоторые авторы остроумно сравнивают Бэкона то с Фаустом, то с героиней его любимой басни, Аталантой, проигравшей состязание в беге с Меланионом из-за разбросанных им на дороге золотых яблок. Единственной работой Бэкона по методологии науки оставался Novum Organum. Существенно отметить, что он увидел свет уже после того, как в Европе были опубликованы и получили широкое распространение De Magnete Гильберта, Sidereus Nuncius Галилея, а также все значительные работы Кеплера и Браге. Уильям Гарвей еще не опубликовал свою революционную De motu cordis, но его работа уже стала широко известна по лекциям 1616 года, о которых не мог не слышать Бэкон. Таким образом, на момент публикации Бэконом Novum Organum экспериментальный метод в его многообразном применении был по достоинству оценен не только в Европе, но и в Англии, в ближайшем окружении Лорд-канцлера. Многие из ученых уже пользовались той или иной формой индукции. Как точно замечает Кристофер Хилл: «…когда Бэкон начал писать, интеллектуальная революция уже шла своим чередом. Утилитарная ценность науки, способной облегчить положение человека в обществе, уже превозносилась; некоторые люди признавали идею прогресса посредством науки и сотрудничества между ученым и скромным ремесленником.95» Это существенно, потому что в результате цепочки совпадений, не имевшей прямого отношения к науке, Бэкон впоследствии фактически монополизировал исторические права на всё экспериментальное поле, а «бэконианство» стало произвольно употребляемой исторической формулой. Те, кто, так или иначе, практиковали экспериментальную философию, стали называться бэконианцами, даже если к философии Бэкона они имели весьма опосредованное отношение. Томас Кун, к примеру, называл магнетизм бэконианской наукой, а термометр – бэконианским инструментом.96 Самое поразительное, что подобный критерий историки зачастую применяют 95 Hill C. Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford, 1965 Kuhn T.S. Mathematical vs. Experimental Traditions in the Development of Physical Science. Journal of Interdisciplinary History, Vol. 7, No. 1 (Summer, 1976) 96 59 ретроспективно. Так, доктор Байон считает, что Гарвей, Флад и даже Гильберт (!) не только практиковали то, что проповедовал Бэкон, но и буквально «преуспели в преобразовании слов Бэкона в действия».97 В то же время, если бесстрастно, по-картезиански посмотреть на историю XVII века не возникает сомнений, что натурфилософия Бэкона была малооригинальна, а его методология оказалась как раз наименее востребована научным сообществом в XVII веке. Именно этим, в частности, объясняются резкие ремарки таких ученых, как Юстус Либих или Клод Бернар, а также историков-интерналистов, как Александра Койре, в адрес Фрэнсиса Бэкона98. Но, несмотря на бесплодность бэконианского научного метода, невозможно попросту закрыть глаза на многочисленные восторженные упоминания Бэкона целой плеядой крупнейших ученых второй половины XVII века. Полностью объяснить их историческим недоразумением, связанным с приобретением именем Лорд-канцлера исключительного полемического веса во время революции, тоже не удается99. Вместо этого, следует признать, что Бэкон оказал действительно глубокое влияние на первых членов Королевского Общества, даже если его самым существенным вкладом в работу института стала идея составления бесконечных «естественных историй», а в целом исследования велись в направлениях, указанных Галилеем, Гарвеем, Торричелли и Декартом. Итак, если согласиться с тем, что влияние Бэкона бесспорно, необходимо поставить вопрос о природе этого влияния. Западный человек XXI века принимает роль науки в обществе, как данность. Наука доминирует нашей жизнью, формирует наше мышление – прежде всего за счет того, что мы находимся от нее в прямой и постоянной зависимости. Любое ее достижение, от расшифровки генома до изобретения iPad, 97 «Gilbert, Fludd, and Harvey practiced what Bacon preached and propounded in his many writings, and that therefore they succeeded in converting Bacon's words into deeds.» Bayon H.P. William Gilbert (1544-1603), Robert Fludd (15741637), and William Harvey (1578-1657), as Medical Exponents of Baconian Doctrines. Proceedings of the Royal Society of Medicine Vol. XXXII, 31 98 Koyré A. A l’Aube de la science classique. Hermann & Cie, Paris, 1939, p. 6 // «Bacon initiateur de la science moderne » est une plaisanterie, et fort mauvaise, que répètent encore les manuels. En fait, Bacon n’a jamais rien compris à la science. Il est crédule et totalement dénué d’esprit critique. Sa mentalité est plus proche de l’alchimie, de la magie (il croit aux « sympathies »), bref, de celle d’un primitif ou d’un homme de la Renaissance que celle d’un Galilée, ou même d’un scolastique» 99 Об этом см. Боганцев И. ‘Фрэнсис Бэкон как полемическая стратегия’. Публикация запланирована на 2011 год. 60 непосредственно влияет не только на качество жизни каждого из нас, но иногда и на ее продолжительность. В начале XVII века ситуация была совершенно иной. Наука не считалась культурной ценностью: если при дворе науку могли считать формой развлечения, то с точки зрения общества в целом наука попросту не существовала. Ее социальный вес равнялся нулю. Польза от нее – например, от открытия гелиоцентризма или кровообращения – была совершенно неочевидна даже самим первооткрывателям. Жизнью образованного европейца доминировала религия, война, иногда (особенно в Италии) искусство, но лишь единицы проявляли интерес к науке. Более того, даже самые замечательные среди этих немногих, такие как Галилей или Декарт, занимались созиданием науки, иногда ее популяризацией, но не видели или не придавали значения ее социальному измерению. Именно здесь, по всей видимости, и лежит ответ на поставленный нами вопрос: «не сделав ни одного научного открытия; неспособный оценить важность своих современников – Гильберта, Кеплера, Галилея; наивно веря в возможность научного метода, который ‘уравнивает дарования и мало что оставляет их превосходству’ <…> он был, тем не менее, крайне успешен в роли одного из основных пропагандистов положительной социальной оценки науки…»100 На этом аспекте деятельности Бэкона стоит остановить свое внимание, чтобы по достоинству оценить смелость и дальновидность его амбициозных задумок по построению общества, основанного на научном прогрессе (понятию, сформулированному как раз Бэконом); обществу, где наука будет находиться не на периферии, а в его самом центре, и где, подобно каллиполису Платона, короли станут учеными, а ученые – королями. Если мы не живем в таком обществе сегодня, то мы к нему значительно ближе, чем были современники Бэкона101. Именно поэтому трудно не согласиться с Пиамой Гайденко, заметившей, что хотя по своему содержанию фантазия Бэкона несла отпечаток 100 Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England," Osiris, Vol. IV, pt. 2, pp. 360-632. Bruges: St. Catherine Press, 1938 101 Иллюстрацией этому может служить знаменитое предложение возглавить Израиль, сделанное Эйнштейну в 1952 году. 61 возрождения и тяготела к поразительному направленности она оказалась провидческой102. и чудесному, по своей Если ограничиться рамками экспериментальной философии, то заслуга Бэкона заключалась, на наш взгляд, именно в том, что он связал в единый философский пучок некоторые ключевые идеи, которые, через свое влияние на пуритан, сумели катализировать развитие науки в целом и экспериментальной философии в частности. Именно он артикулировал и стал, возможно, самым красноречивым защитником тех социальных и методологических конвенций, которые проявились в научной среде в XVI веке, а в XVII составили «защитный пояс» английской экспериментальной философии. Таким образом, не оказав влияния на экспериментальный метод как таковой, т.е. на ядро экспериментальной философии, Бэкон, хотя и не вполне осознанно, сделал все, чтобы он был защищен от атак со стороны философии, религии и политической власти. Именно об этом цементирующем, укрепляющем эффекте, говорил, на наш взгляд, Поль Фейерабенд в упомянутой ранее статье Classical Empiricism. В первой главе данной работы мы выделили четыре конвенции, «оберегавшие» экспериментальный метод в Англии: утилитаризм, коллективизм, свободомыслие и, наконец, воистину возрожденческая широта интересов. Бэкон поучаствовал в формировании каждой из них, но его влияние, конечно, распределялось неравномерно. Например, в том, что касается широты интересов, Бэкон был наименее оригинален и полностью зависел от ренессансной магической традиции. Это лучше всего заметно при изучении Sylva Sylvarum, которая ничем не отличается от более ранних магических текстов и состоит из секретов, заимствованных у Порты, Кардано, Аристотеля и др.103 Если говорить о свободомыслии, то и здесь Бэкон был далеко не первым, озвучившим требование независимости от античной традицией. В XVI веке оно выдвигалось часто и настойчиво, а в XVII нашло крайне эффективных пропагандистов, например, Галилея. Более того, по текстам Бэкона хорошо заметно, что он сам не вполне освободился от идолов, от которых предостерегал других. И все же, несмотря на все это, Бэкон, безусловно, стал 102 103 Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М. 2009 Rossi P. Francis Bacon. From Magic to Science. London, 1968 62 главным рупором свободомыслия для английского общества. Отчасти это произошло благодаря его красноречию, отчасти – благодаря высокому социальному статусу. Наконец, его призывы разорвать с многовековой и тлетворной традицией отзывались в сердцах радикально настроенных пуритан, видевших в англиканах пособников католичества. Постулирование коллективной природы научного исследования стало для экспериментального метода еще более важным элементом философии Бэкона. В этом у Бэкона был лишь один предшественник в лице Тихо Браге, причем в Англии доминировала скорее традиция ученых-одиночек. Призывая ученых к сотрудничеству, Бэкон открыто выступал против таких исследователей как Гильберт, работавших, так сказать, с природой tête-à-tête. В свою очередь, методология Novum Organum была задумана таким образом, что претворять ее в жизнь было возможно только усилиями всего научного сообщества. Именно поэтому Бэкона часто связывают с веком научных академий, наступившим в Европе несколько десятилетий спустя. Среди прочего, Лорд-Канцлера называют предтечей и непосредственным вдохновителем Королевского Общества. В действительности, это не вполне справедливо. Во-первых, к моменту публикации New Atlantis в Европе существовали множество научных институтов разного типа. И эта протоакадемическая традиция повлияла на Королевское Общество гораздо сильнее институциональных эскизов Лорд-канцлера.104 Вовторых, метод Бэкона не просто подразумевал коллективную научную деятельность, или намекал на ее преимущества – он, по сути, полностью исключал ее индивидуальную составляющую. Творческий элемент в представлении Бэкона о научном исследовании сводился к нулю. Оно должно было стать упорной, кропотливой, почти механической работой по сбору и переработке научных фактов, т.е. работой, не требующей ни проницательности, ни таланта: «Наш путь открытия знаний почти уравнивает дарования и мало что оставляет их превосходству, ибо он все проводит посредством самых определенных правил и доказательств. Итак, это наше открытие (как мы 104 Боганцев И.В. Институциональное наследие Фрэнсиса Бэкона. Эпистемология & философия науки. 2010, № 3 (XXV) 63 часто говорили), скорее, дело какой-то удачи, чем способности, и, скорее, порождение времени, чем дарования.»105 Идея того, что наиболее эффективная форма научного исследования – коллективная, очевидно, тяготела над первыми членами Королевского Общества. Изначально, они считали, что академия должна существовать именно для коллективного производства научного продукта, для организации и формализации этого производства, причем корпоративные интересы должны были ставиться выше частных. Во многом, такая схема вторила задумкам Фрэнсиса Бэкона. Тем не менее, со временем оказалось, что подобные установки не дают результата, и усилия академии были направлены в другое русло106. На место коллективного производства научного продукта пришла координация индивидуального производства, а также помощь отдельным членам в осуществлении и распространении публикаций. Другими словами, приняв на раннем этапе бэконианские установки, научное сообщество впоследствии от них осознанно отказалось. Наиболее сильно и глубоко влияние Бэкона сказалось на модальности, направленности экспериментального метода. Наука, говорит Бэкон, должна приносить пользу и оценивать ее стоит именно с этих позиций. Крайне важно в этой связи сближение чистой науки и так называемых «механических искусств», осуществленное Бэконом. Это сближение, о котором много говорится и в Advancement of learning и в Novum Organum, выполняло сразу несколько функций. С одной стороны, оно подчеркивало бесплодность чистой науки, которая состоит из рассуждений и домыслов, тогда как продукты механических искусств, такие как компас или печатный пресс, кардинально изменили лицо Европы. С другой стороны, оно демонстрировало преимущество метода. В механических искусствах, говорит Бэкон, наиболее высоко ценится самое последнее, передовое нововведение, тогда как в чистой науке почему-то на пьедестал ставится исходное, наиболее устаревшее мнение, т.е. Аристотель. Очевидный прогресс механики связан с именно экспериментальным методом, как его понимал Бэкон, то есть, по сути, с методом проб и ошибок. Именно к нему должна обратиться чистая наука, что приведет, по замыслу Бэкона, к 105 106 Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1978 Hunter M. Science and the Shape of Orthodoxy. Woodbridge, 1995 64 взаимной выгоде. Ведь хотя на счету у прикладной науки есть три самых значительных открытия – печатный пресс, компас и порох – все они были сделаны случайно, в отсутствии всякого метода. Отсюда – цель всего Novum Organum: представление метода для плодотворного сотрудничества науки и техники. И если сам метод оказался неудачным, то общая посылка – объединение усилий ученых, инженеров и торговцев – была с энтузиазмом воспринята многими слоями английского общества. Но о том, к чему привело это единение и каковы были его реальные плоды, мы поговорим в следующей главе нашей работы. 3.3 Уильям Гарвей Уильям Гарвей родился в 1578 году, в 1588 году поступил в Королевскую школу в Кентербери, а 1593, в возрасте 16 лет, в Гонвилл энд Каюйс Колледж Кэмбриджского университета. Учитывая, что интерес к медицине проснулся у Гарвея рано, выбор колледжа не может считаться случайным. Его основателем был Джон Кай (1510-1573), блестящий врач, учившийся вместе с Везалием в Падуе и знакомый, таким образом, с самой прогрессивной медицинской традицией. В колледже существовала система медицинских стипендий, получателем одной из которых (стипендия Мэтью Паркера) был как раз сам Гарвей. В 1600 г. Гарвей переехал в Падую, ведущую медицинскую школу Европы. Здесь он учился у знаменитого анатома Иеронима (Джироламо) Фабрицио, но в 1602, немедленно после получения степени доктора медицины, вернулся в Англию. Его английская карьера была неразрывно связана с Медицинским Королевским Колледжем, а после его назначения на должность Physician Extraordinary короля – со свитой монарха. Именно статус придворного врача заставил Гарвея покинуть Лондон во время конфликтов между Парламентариями и Роялистами и обосноваться в 1642 году в Оксфорде, где находился временный штаб Карла I. На протяжении нескольких лет Гарвей занимался здесь преподаванием и исследованием, познакомившись со многими из тех, кто будет составлять ядро Королевского Общества. Более чем через 40 лет, Роберт Бойль будет вспоминать о беседах со «знаменитым Гарвеем» в своей A disquisition about the Final Causes of Natural Things. Но тогда, после сдачи Оксфорда в 1646 и последовавшего за ним цареубийства, Гарвей 65 постепенно ушел из общественной жизни и провел последние годы в кругу своей семьи. Он умер в 1657 году, в Лондоне, в доме своего брата. Уже по этой биографической выжимке видно, что для английского естествознания в целом Гарвей был во многом переходной, а значит и ключевой фигурой. Во-первых, это касается хронологии: один из учителей Гарвея, Фабриций, родился в 1537 году, а один из его учеников, Бойль, умер в 1691 году. Между этими двумя датами – сто пятьдесят лет, за которые практически каждая научная дисциплина изменилась до неузнаваемости. Вовторых, это касается географии. С одной стороны, карьера Гарвея иллюстрирует гипотезу о «научных ветрах», сформулированную нами в предисловии; c другой – символизирует смещение центров научного знания из Италии в Англию. Если сам Гарвей напечатал свою De Motu на континенте, чтобы обеспечить ей распространение в научных кругах, то уже начиная с 1660-х европейские ученые стали все чаще посылать свои работы в Лондон, Генри Ольденбургу, для публикации в Philosophical Transactions. Наконец, Уильям Гарвей стал переходной фигурой с эпистемологической точки зрения. Именно он, первым среди английских ученых, осуществил переход от той стадии развития экспериментального метода, которую Грмек называет пробуждением методологического сознания, к принципиально иному этапу – использованию количественного, гипотетико-дедуктивного экспериментирования. Именно эксперименты, связанные с измерением количества крови в организме человека, сделали аргументы Гарвея в De motu такими убедительными. Чтобы доказать, что с точки зрения движения крови человеческое тело является замкнутой, закрытой системой, Уильям Гарвей провел серию измерений того, сколько крови содержит левый желудочек сердца во время диастолы. Он заметил, что даже если представить, что это количество равняется всего полутора унциям (в действительности, оно гораздо больше), и если количество крови, выброшенной во время систолы, равно всего одной восьмой части изначального объема (то есть одной драхме), все равно очевидно, что «more blood is continually transmitted through the heart than either the food which we receive can furnish, or is possible to be contain’d in the veins107». Точнее, в течение 107 Harvey W. The anatomical exercises: De motu cordis and De circulatione sanguinis. New York, 1995 (based on the first English text of 1653)// «больше крови постоянно проходит через сердце, чем может снабдить еда, которую мы потребляем, либо чем могут содержать все вены». 66 получаса через сердце проходит, по меньшей мере, тысяча драхм крови, а это равняется примерно четырем килограммам. Идея кровообращения, таким образом, напрашивается сама собой. Может показаться случайностью, что первыми адептами английского экспериментального метода оказались врачи, Гильберт и Гарвей. Но такой взгляд на вещи можно объяснить только тем, что колоссальная роль медицины в разрушении античной парадигмы и становлении экспериментального метода до сих пор во многом недооценена. Науку XVII века всегда было принято ассоциировать с прорывами в области астрономии, динамики, пневматики и в меньшей степени анатомии и физиологии, но только во второй половине XX века стали появляться исследования, которые, наконец, уделили достойное внимание различным врачевательным дисциплинам, таким как фармакология, терапевтика, хирургия. Равнодушие историков связано, безусловно, с тем, что эффективность медицины XVII века была по-прежнему чрезвычайно низка; тем не менее, именно врачи, а также представители смежных профессий (таких, как аптекари), сыграли решающую роль в смещении акцентов с книжного на опытное, а затем и на экспериментальное знание. Именно они, к примеру, стали первыми агентами протонаучного эмпиризма и фактическими основателями «естественной истории» как современной научной дисциплины – владельцами коллекций, кунсткамер и ботанических садов108. Такие известные натуралисты, как Улисс Альдрованди, Ферранте Императо, Франческо Кальчонари – все так или иначе были связаны с медициной. Кроме того, многие околонаучные течения, такие как алхимия, находившиеся в оппозиции к традиционной парадигме, имели отчетливый медицинский уклон. Так, главную угрозу галенизму в XVII веке представлял не Гарвей, а именно Парацельс: «Объясняя принцип действия лекарств, последователи Парацельса стремились подорвать галенову гуморальную патологию; а на терапевтические методы традиционной галенической медицины они смотрели как на неэффективные, либо откровенно вредоносные. <…> Химические методы не могли быть представлены как дополнение к прочисткам и кровопусканию, но только как замена им. Потому что 108 Daston L., Park K. Wonders and the order of Nature. New York, 1998 67 практическое применение новых методов определялось по совершенно иным критериям109.» Но если в случае с новообразованными дисциплинами обращение к опыту можно в какой-то мере объяснить отсутствием традиции, на которую можно было бы опереться, то как объяснить, что даже академическая физиология была настолько приспособлена к восприятию новой экспериментальной эпистемологии? Разве физиологи не следовали букве античности так же строго как математики, астрономы или естествоиспытатели? Перед тем как ответить на этот вопрос, взглянем на фрагмент фронтисписа первого издания De humani corporis fabrica Везалия, раскрашенный вручную специально для императора Карла V (илл.3). Мы, по всей видимости, находимся в помещении, приспособленном под анатомический театр110. В центре изображения помещено вскрытое женское тело, около которого стоит автор, легко опознаваемый как единственный человек, смотрящий в глаза читателю. Везалий, очевидно, на мгновение оторвался от вскрытия для объяснения той или иной детали многочисленным зрителям. Согласно традициям эпохи Возрождения, за каждым элементом сцены закреплено свое символическое значение, которое легко считывал современный читатель111. И хотя многие из них для нас уже покрыты тайной, эта сцена все еще может послужить прекрасной иллюстрацией ответа на обозначенный нами вопрос. В первую очередь бросается в глаза практический, опытный характер деятельности Везалия. Преподавание физиологии ведется не по книге, а, если возможно так выразиться, вживую. Данная традиция восходит к античности, где экспериментальная физиология получила достаточно широкое распространение112. Более того, если можно говорить о применении античными учеными экспериментального метода, то, очевидно, подавляющее большинство экспериментов приходилось именно на медицинские 109 Webster C. The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626-1660. Oxford, 2002 В XVI веке анатомические театры собирались и разбирались от вскрытия к вскрытию. Первый постоянный анатомический театр открылся в Падуе в 1594 году. 111 Например, поднятый к верху указательный палец левой руки автора означает сакрализацию происходящего, а помещенные на края сцены собака и обезьяна, животные, которых препарировал Гален, намекают на превосходство методологии Везалия по отношению к своему именитому предшественнику. 112 Grmek M. Le chaudron de Médée. Institut Sunthélabo, 1997 110 68 дисциплины. Эразистрат и Герофил в III веке до н.э. широко применяли его не только при работе с животными, но и при вскрытии или даже вивисекции людей. Гален, живший в более гуманную эпоху, отказался от экспериментирования на людях, но проводил многочисленные эксперименты на свиньях и обезьянах. Они включали, например, искусственное поддержание жизни вскрытого животного за счет нагнетания воздуха мехами – эксперимент, который не раз повторял сам Гарвей. Вскрытие людей снова заняло место в медицинской практике лишь в средневековой Европе, но его значение было изменено. Теперь вскрытие служило не эпистемологическим целям, а лишь иллюстрировало правоту античного автора. Сама процедура проходила следующим образом: в присутствии студентов, один человек, т.н. magister, зачитывал классический текст, другой, prosector, проводил вскрытие, третий, ostensor, с помощью указки привлекал внимание зрителей к той или иной детали. Знаменитая иллюстрация этой процедуры содержится в одной из популярных книг по физиологии довезалиевой эпохи – Fasciculus medicinae 1491 (илл. 4) Намек на устарелость этой практики содержит как раз фронтиспис Везалия: один из зрителей сравнивает тело с книгой, а скелет занял место во главе стола, традиционно отводившееся магистру113. Таким образом, именно Везалий, а также последовавшие за ним падуанские анатомы, осуществили на протяжении второй половины XVI века переход от книжной эпистемологии и педагогики к полноценному экспериментированию на животных и людях. Но существенно, что прямое сопоставление факта (реальности) и слова (античности) было традиционной практикой анатомов и до брюссельского виртуоза. Все это приводит нас к другому сближению с экспериментальной философией: из первой иллюстрации хорошо видно, что вскрытия проводились, с одной стороны коллективно, т.е. при помощи и в присутствии нескольких врачей, а с другой стороны – публично, т.е. при большом стечении любопытных, не имевших прямого отношения к медицинской практике (анатомический театр, открытый в Амстердаме в 1691 году, собирал до 500 человек за одно вскрытие). 113 О сравнении двух иллюстраций: Flocon A. Les artistes du XVI siècle et la fabrique du corps humain, dans Sciences de la Renaissance. Paris, 1973 69 Коллективный характер анатомических исследований сформировался, на наш взгляд, благодаря разнице между спросом (со стороны ученых, врачей и художников) на информацию о строении человеческого тела и ее предложением, т.е. доступностью трупов. В крупном европейском городе даже лучший из врачей не мог рассчитывать более чем на 1-2 вскрытия в месяц: как в католических, так и в протестантских странах было тяжело найти семью, готовую отказаться от похорон покойника в пользу вскрытия. Голландский анатом Фредерик Рюйш неоднократно жаловался на то, что «люди не хотят давать разрешение, чтобы тела их умерших друзей вскрывали опытные анатомы и врачи <…>, будто они считают, что они считают, что после смерти тело все еще чувствительно к боли. <…> много людей считают вскрытие мертвого тела святотатством»114. А одним из самых значительных достижений Джона Кая, основателя Кайюс Колледжа, где учился Гарвей, было получение от Елизаветы хартии, обещавшей колледжу тела двух казненных преступников в год.115 Но помимо культурных предпосылок, редкость вскрытий объяснялась и чисто процессуальными: из-за того, что тела быстро разлагались, вскрытия, длившиеся иногда по 3-4 дня, могли проводиться только в холодную погоду (большинство анатомических театров закрывались на лето). С другой стороны, вскрытиям долгое время просто отсутствовала альтернатива, как с исследовательской, так и с дидактической точки зрения. Вплоть до распространения «рюйшева искусства», мягкие ткани человеческого тела практически не поддавались консервации и могли быть продемонстрированы только в недавно раскрытом теле. Все это, наряду с элементарной невозможностью вскрыть человеческое тело в одиночку, превращало анатомические исследования в одну из ранних реализаций коллективного эмпиризма и идеала публичной науки. Если астрономия или математика, за редким исключением, были уделом одиноких исследователей, то изучение физиологии и анатомии проводилось сообща как в средневековье, так и в новое время. 114 115 Койманс Л. Художник Смерти. Анатомические уроки Фредерика Рюйша. Санкт-Петербург, 2008 Gribbin J. The Fellowship. Woodstock & New York, 2007 70 Но главное, что бросается в глаза при изучении «первой научной революции», это то, насколько часто медицинское образование оказывается в curriculum vitae ученых, чье имя не принято ассоциировать с медициной. Не только Уильям Гильберт или Галилео Галилей, но даже Николай Коперник в молодости учились на врача! Примечательна и роль медицины в становлении собственно английской экспериментальной философии. Роберт Грэг Франк в своей Harvey and The Oxford Physiologists116 приводит подробную информацию об ученых, составлявших оксфордское научное сообщество в 1640-1675. Из ста десяти ученых, включенных в таблицу 3, пятьдесят два числятся врачами (physician), не считая двух аптекарей, одного химика и всех тех, кто, как Роберт Бойль, занимался медициной лишь как любитель. Похожую статистику можно привести в отношении раннего Королевского Общества. Из тридцати активных членов Общества в 1660-1663, отмеченных Вебстером, девять получили медицинское образование (Чарльтон, Кларк, Крун, Энт, Годдард, Меррет, Петти, Пауэр, Вистлер) и еще несколько (Бойль, Рен, и др.) занимались медициной непрофессионально. То есть, возможно предположить, что занятия медициной, благодаря ли существенному практическому компоненту работы или по каким-то другим причинам, способствовали формированию, в целом, более независимой и самостоятельной интеллектуальной позиции. Если вернуться к влиянию непосредственно Гарвея на экспериментальную философию, то при его изучении возникает, по крайней мере, один острый вопрос. Без сомнения, Гарвей оказал огромное влияние как на экспериментальный метод, так и на научное сообщество революционной Англии. Это видно уже по тому, сколько из его учеников вошли в состав Королевского Общества. Тем не менее, нельзя не заметить, что Гарвей никогда не стал для экспериментальной философии чем-то большим, чем просто хорошим физиологом. Его упоминание, как правило, сопровождается похвалой; но о нем почти всегда говорят вскользь, ограничивая дискуссию областью физиологии сердца и эмбриологии. Напротив, Бэкон или Галилей упоминаются в самом разном контексте, и за ними на этом этапе закрепляется звание отцовоснователей новой науки. Чем объяснить такое, на первый взгляд, несправедливое отношение к Гарвею со стороны современников? Другими 116 Frank R. G. Jr. Harvey and the Oxford Physiologists. Berkeley, 1980 71 словами, почему на фронтисписе The History of the Royal Society, официального манифеста Королевского Общества, не оказалось Гарвея? Преданный роялист, величайший ученый, он, казалось бы, заслуживал этого гораздо больше, чем любой из тех, кто в итоге его украшал. Одной из причин, на наш взгляд, является именно то, что Гарвей был переходной фигурой для философии науки, то есть был еще тесно связан с ренессансной научной традицией. Так, открытие им кровообращения стало кульминацией падуанской физиологической традиции; оно было бы неосуществимо без опоры на работы и опыт таких исследователей, как Везалий, Фалоппио, Фабриций и особенно Реальдо Колобмо. Уже поэтому Гарвей не мог также яростно открещиваться от предшественников и утверждать, что все его знание получено из опыта, а не из книг. Но главное препятствие заключалось в том, что вызывавшая восхищение прогрессивная методология Гарвея компенсировалась, в глазах его коллег, несовременной и очевидно устаревшей натурфилософией. В анатомическом театре Гарвей был безупречен. В его арсенал входили препарирование, сравнительный анализ, вивисекция, эмбриологические исследования, искусственная вентиляция легких и, конечно, количественное экспериментирование. Но с точки зрения натуральной философии Гарвей был убежденным последователем Аристотеля. Это фактически означало не только непринятие уже сформированных конвенций экспериментальной философии, но и веру в благородную иерархию органов, а также в то, что каждое вещество имеет свое «естественное» место. Кроме того, это неизбежно влекло за собой отрицание механистического подхода к физиологии, а также химической и атомарной гипотезы. Природу конфликта Гарвея с новой философской средой хорошо иллюстрирует его спор с Рене Декартом. Декарт был одним из первых философов, кто отдал дань открытию Гарвея. В пятой части Discours de la Méthode, вышедшей в Лейдене в 1637, он полностью признает заслуги английского ученого в частности в том, что касается права первенства на открытие кровообращения: «Но если спросят, почему венозная кровь, постоянно вливаясь в сердце, не истощается и почему не переполняются кровью артерии, куда направляется вся кровь, проходящая через сердце, могу только повторить 72 ответ, приведенный в сочинении английского врача, которому следует воздать хвалу за то, что он первый пробил лед в этом месте и показал, что в окончаниях артерий находится множество мелких протоков, через которые кровь, получаемая ими из сердца, входит в малые ветви вен, откуда снова направляется к сердцу, так что движение ее есть не что иное, как постоянное кругообращение117.» Тем не менее, как показало исследование Ж. Пелснира118, в целом Декарт был настроен достаточно скептически (если такой термин вообще правомерно к нему применять), и его позиция в отношении Гарвея оставалась до конца жизни неоднозначной. Предмет разногласий лежал в области физиологии сердца и причин тока крови. Декарт разработал свою собственную теорию в неопубликованном при жизни философа Traité de l’homme, который был завершен уже в 1633 году, до того, как ему в руки попалась De Motu Cordis Гарвея. Согласно Декарту, маршрут тока крови следующий: покинув печень, кровь направляется в правую полость сердца, где она нагревается, разжижается и под воздействием тепла от некого «огня без света» испарившись проходит в легкие. Здесь, охладившись, она конденсируется и возвращается в сердце через то, что анатомы называют венозная артерия. Отсюда кровь распределяется по всему телу, где малая ее часть «входит в состав твердых членов», а основная возвращается к сердцу для повторного использования. Очевидно, что Декарт был несравненно менее сведущим анатомом, чем Гарвей. Тем не менее, с точки зрения натурфилософии его система была куда более прогрессивной, потому что являлась абсолютно автономной: кровь направляется теплотой сердца, которая и являлась основной причиной ее тока; в случае же Гарвея циркуляция стимулируется регулярными сокращениями сердца; это более точно с точки зрения физиологии, но для философии оставалось, так сказать, грубым фактом, рудиментом витализма, требующим, согласно Декарту, дополнительного анализа. Это и объясняет двойственные отношения Гарвея с его английскими последователями. Такие ученые как 117 Декарт Р. Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1989 // Отметим, что такая похвала от человека, который за всю жизнь не удостоил цитатой даже самого Галилея, дорого стоит. 118 Pelseneer J. Gilbert, Bacon, Galilée, Képler, Harvey et Descartes: Leurs relations. Isis, Vol. 17 No.1 (1932) 73 Фрэнсис Глиссон, Натанель Хаймор и Ральф Бафарст, создатели новой английской физиологии, занимались, по сути, наложением атомистических и механистических концепций, чуждых Гарвею, на кровообращение и сопряженные с ним проблемы. Именно поэтому они не могли с полным правом говорить о том, что их работа является естественным развитием исследований Гарвея. Экспериментальной философии домыслы Гарвея только мешали: «Некоторые из методов Гарвея были переняты, иногда в измененной форме, его последователями. Работа Гарвея была также освящена натурфилософией, соответствовавшей его личным пристрастиям и образованию. Она-то, в отличие от его подхода и методов, воспринималась многими из его последователей, особенно в 1650-ые, как устаревшая, и как преграда дальнейшему развитию.119» 119 Frank R. G. Jr. Harvey and the Oxford Physiologists. Berkeley, 1980 74 Глава 4 Социально-экономическая история экспериментальной философии 4.1 Гессен, Мертон и зарождение экстерналистской истории науки Темпы и «качество» развития науки в том или ином историческом промежутке зависят от сложной комбинации причин, которые можно разбить на два независимых кластера. В первый попадают причины, продиктованные внутренней логикой развития науки, в первую очередь развитием научных теорий как таковых. Так, мы можем сказать, что многочисленные наблюдения за движением Марса, осуществленные Тихо Браге, были необходимым условием для позднейшего развития эллиптической астрономии Кеплером и его последователями. Т.е. если бы кто-то спросил, почему Коперник или Ретик не изобрел, или хотя бы не наметил основы эллиптической астрономии, ему можно было бы смело ответить, что в отсутствии соответствующих научных условий этого попросту не могло бы быть. Во второй кластер попадают вненаучные причины. связанные, прежде всего, с политическим, экономическим и технологическим этапом развития общества. В том, что роль этой «вненаучной» составляющей для науки крайне велика, сегодня уже не сомневается никто. Но ее значение, а также механизмы, при помощи которых ей удается влиять на магистральную научную мысль, остаются во многом непонятыми, даже несмотря на то, что этому вопросу были посвящены в XX веке сотни научных работ. Одним из мощнейших импульсов для изучения социально-экономических факторов в истории науки стала, конечно, марксистская теория. Уже сам Карл Маркс призывал к «материалистическому пониманию истории» и этот призыв был услышан его сторонниками, сформулировавшими теорию так называемого «диалектического материализма», согласно которой «бытие определяет сознание», а не наоборот. В этой связи неудивительно, что первым и наиболее влиятельным апологетом марксистского понимания истории науки стал 75 советский физик Борис Гессен120. Согласно Гессену, лицо английского естествознания XVII века определили запросы нового поднимающегося класса – буржуазии – поставившей перед наукой три типа задач: развитие транспорта для торговли (улучшение грузоподъемности судна, ориентирование в открытом море, таблицы приливов и отливов, строение каналов), развитие горнодобывающей промышленности (подъем руды из шахт, вентиляция, откачка воды) и развитие военной промышленности (мощность орудия, его легкость и прочность, изучение траектории). Таким образом, главные достижения XVII века в области механики и аэро/гидростатики представлялись Гессеном как элементарное осуществление социального заказа господствующего класса. Гипотеза, озвученная советским физиком на лондонской конференции 1931 года, лишь отчасти отражала убеждения самого Гессена. Это понимали, видимо, уже некоторые из его современников, такие как Жоравски и Уэрски. Сегодня же не вызывает сомнения тот факт, что во многом она был продиктована политическим климатом сталинской России, страхом за собственное благополучие и, таким образом, намеренно соответствовала «линии партии»121 (к сожалению, в данном случае бытие действительно определило сознание). Тем не менее, благодаря емкости и блестящей аргументации работы Гессена, она оказала огромное влияние на развитие истории науки, в том числе за счет большого количества работ, посвященных ее опровержению. Одним из самых знаменитых откликов на доклад Гессена стала большая работа американского социолога Роберта Мертона Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, опубликованная в 1938 году122. Сегодня она известна, прежде всего, за то, что здесь впервые подробно обсуждался вопрос о влиянии пуританизма на английскую науку XVII века. К этой гипотезе мы вернемся в следующей главе. Другая, менее известная часть работы Мертона, развивала основной тезис Гессена. Провокационные и откровенно 120 Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. Л., 1933 Грэхэм Л. Социально-политический контекст доклада Б. М. Гессена о Ньютоне. Вопросы истории естествознания и техники. No 2, 1993. C. 20-31 122 Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, Osiris, Vol. IV, pt. 2, pp. 360-632. Bruges: St. Catherine Press, 1938 121 76 идеологические элементы работы советского физика уступили скрупулезному социологическому анализу американского ученого. Мертон ставит вопрос: какова связь между экономическими потребностями общества, его технологическими возможностями и чистой наукой? Ответом, по всей видимости, должно служить следующее положение. Хотя экономические потребности и технологические возможности не способны сами по себе провоцировать научные исследования в конкретной области – исторически, необходимость и возможность изобретения не обязательно реализовывались в изобретении – они способны направить усилия научного сообщества на решение тех или иных практических задач. Хорошо известно, например, что изучение гидростатики Галилеем и Торричелли было вызвано необходимостью работы с флорентийскими фонтанами Козимо Медичи. А исследование множества проблем в области математики и астрономии в XVII веке было связано с необходимостью нахождения метода измерения долготы в открытом море. Последний случай особенно показателен, так как этой проблемой занималось большинство крупных ученых столетия. В 1714 году английское правительство даже создало Комиссию по Определению Долготы в Море (Board of Longitude), которая обещала огромное вознаграждение тому, кто сможет найти метод определения долготы хотя бы с погрешностью в сто километров. Однако, несмотря на неоспоримость влияния экономических потребностей на научную мысль, Мертон вынужден признать, что оценить степень этого влияния оказывается достаточно трудно. С одной стороны, по его оценкам123, около 40% исследований во второй половине XVII века велись в области чистой науки. Но если к этому прибавить исследования, которые имели лишь косвенное практическое значение – например, изучение атмосферного давления – то эта цифра может возрасти до 70%. В конце концов, необходимо ставить вопрос о наборе критериев, по которым то или иное исследование можно считать прикладным или фундаментальным. Научно-историческая традиция, вышедшая из Гессена и Мертона, сделала упор на влияние социально-экономических факторов на развитие науки в целом. Для нас же интерес представляет другой вопрос: насколько эти факторы 123 Ibid., p. 562-563 77 поспособствовали укреплению отдельного философского течения, экспериментальной философии, и вытеснению ею конкурирующих методологических парадигм, например, картезианства. Для ответа на него нам необходимо вернуться к вопросу структуры английской экспериментальной философии. В ее центре, как мы указали в первой главе, находился экспериментальный метод, окруженный рядом философских и методологических конвенций. Что представляли собой эти конвенции и откуда они появились? Во-первых, стоит указать на их условный характер. С точки зрения внутренней логики науки они не были необходимой составляющей для ее развития. Отсюда нетрудно догадаться и об их происхождении – они были продуктом собственно научного сообщества. На это указывает и тот факт, что в отличие от самого экспериментального метода, известного и востребованного по всей Европе, такие конвенции, как утилитаризм или коллективизм формировались и приживались лишь в отдельных странах и с разной степенью успешности. Это приводит нас к гипотезе, что выделенные нами конвенции представляли собой некую идеологическую надстройку, призванную вписать экспериментальный метод в конкретный социально-политический контекст. Эта гипотеза кажется нам интересной еще и потому, что она обещает ответить на важнейший вопрос: почему, при достаточно свободном обращении и относительно равной доступности научной литературы в Европе, отстававшая в XVI веке Англия, к концу XVII века, неожиданно оказалась лидером в области естествознания? Не потому ли, что английскому научному сообществу удалось сделать то, что не получилось у Галилея – не только обезопасить экспериментальное естествознание от неприязни со стороны различных политических элит, но и уверить их в необходимость поставить его себе на службу? Итак, в конвенциях, упомянутых нами, можно видеть форму адаптации естествознания к интеллектуальному климату середины XVII века. Это, разумеется, не значит, что они были просто формальной реакцией на социально-политический климат. В данном случае речь не идет о ситуации, которая имела место в Советском Союзе, где даже лучшие из ученых были вынуждены приводить в своих работах марксистские источники для демонстрации идеологической ортодоксальности. Конечно, в работах таких 78 ученых, как Бойль или Гук риторический и даже оппортунистический компонент играл немаловажную роль. Но даже в середине XVII века английское философское поле все-таки было гораздо шире советского и оставляло определенный простор для маневра. Идеологическая надстройка в каждом конкретном случае оставалась, до некоторой степени, вопросом свободного выбора и правильной расстановки акцентов. Если взять пример научного свободомыслия, то призывы к нему звучали по всей Европе и оно, кажется, являлась органичным, а может быть и неотъемлемым компонентом экспериментального метода. Но в Англии на него был сделан акцент именно потому, что в политическом климате середины XVII века оно приобрело совершенно особенное значение. 4.2 История Англии 1600-1660 Прежде чем перейти к механизмам адаптации экспериментального метода в Англии, нам необходимо вкратце ознакомиться с ее историей. Английский XVII век начался в 1603 году с воцарения новой королевской династии – Стюартов. Елизавета, правившая до этого 45 лет, не оставила наследника, и престол занял Яков I, сын казненной Марии Стюарт. Смена династии сыграла огромную роль в английской истории. Именно она объясняла особенные надежды, возложенные на Якова I угнетаемыми Елизаветой религиозными меньшинствами – католиками и пуританами. Первые требовали ослабление преследований, вторые – проведение дополнительных религиозных реформ. Новый монарх не оправдал надежд ни тех, ни других, что в одном случае привело к Пороховому заговору (1605), а в другом – к формированию оппозиции, институциональным оплотом которой стала Палата Общин, т.е. нижняя палата Парламента. При Елизавете парламент существовал лишь формально, но теперь он начинает постепенно проявлять независимость. Так, в 1621 году, законодательно собрание впервые более чем за 200 лет воспользовалось правом импичмента и сняло с поста Лорд-канцлера самого Фрэнсиса Бэкона. Постепенно недовольство пуритан растет. Парламент требует все больше независимости, возмущается существованием исключительных судебных 79 инстанций, таких как Суд Верховной Комиссии (Court of High Сommission) или Звездная палата (The Star Сhamber), а позже и правом короля на помещение в тюрьму и обвинение в государственной измене. Но у Якова не оказывается ни силы, ни авторитета для того, чтобы с этим бороться. С одной стороны, парламент собирается и распускается только по воле короля. Но с другой – только парламент может выделить королю средства, например, на ведение войны. При сыне Якова, Карле I, конфликт между парламентом и королем обостряется. Карл I не собирает парламент целых одиннадцать лет – самый длинный промежуток в английской истории. Это приводит к гражданской войне, которая фактически идет между двумя религиозными фракциями – пуританами, поддерживающими парламент и англиканами, стоящими за короля. После поражения и казни Карла I (1649), власть полностью переходит к пуританам, которые, так или иначе, буду править содружеством и протекторатом до смерти Оливера Кромвеля в 1658 году и бескровного восстановления монархии в 1660, когда на престол входит Карл II, сын казненного монарха. После этой даты многие из радикальных пуритан лишаются своих позиций, но в некоторых сферах, например, в науке и образовании, их влияние будет сохраняться еще очень долго. В оценке экономической динамики Английского Королевства в столетие, предшествовавшее Реставрации, мы можем смело воспользоваться исследованиями Мертона. Они показывают, что отдельные области английской промышленности пережили за это время настоящий бум. Так, основные районы горнодобывающей промышленности (Дарем, Уэльс, Мидлендс, Камберлэнд) увеличили добычу в 10-20 раз. Похожую статистику можно привести и в отношении кораблестроения, что отчасти связано как раз с необходимостью транспортировки угля, а отчасти – с военными нуждами. Тот факт, что в XVII веке Англия 55 лет находилась в состоянии войны, сказался не только на кораблестроении, но и послужил причиной многократной экспансии металлургической и военной промышленности. По данным Оппенхайма и Сомбарта, которые приводит Мертон, количество пушек на кораблях английского флота увеличилось с 228 единиц в 1632 году до 8396 единиц в 1683. 80 4.3 Социально-экономическая привлекательность экспериментальной философии 4.3.1 Практический характер экспериментальной философии Каким же образом эта социально-политическая матрица благоприятствовала экспериментальной философии, в ущерб ее эпистемологическим конкурентам? Первое, о чем стоит сказать, это то, что 40-е годы XVII века были охарактеризованы повышенным интересом к дисциплинам, имевшим практический уклон и способным, казалось, дать осязаемый результат в самые короткие сроки. С одной стороны, военные действия дестабилизировали ситуацию во многих отраслях промышленности. Например, объемы добычи горной руды, согласно Мертону, резко упали в начале 1640-х, что в отсутствии импорта привело к падению предложения на рынке руды. С другой стороны, многочисленные военные кампании резко повысили спрос на сырье и технологии, связанные, прежде всего, с экипировкой и материальным обеспечением армии. И то, и другое привело к тому, что необходимость в теоретических дисциплинах, способных производить новые технологии либо повышать эффективность уже существующих, чувствовалась все острее124. Упор, изначально сделанный экспериментальной философией на свою практическую составляющую, оказался крайне важен в условиях гражданской войны и пуританской революции. Именно он, на наш взгляд, позволил ей завоевать лидирующие философские позиции и потеснить непосредственных конкурентов. В этом смысле, показателен параграф из Proemial Essay Бойля, где автор утверждает, что помимо познания природы per se, натуральная философия имеет еще одну важную цель – ‘bring nature to be serviceable to their particular ends, whether of health, or riches, or sensual delight’. И хотя, 124 Интересно, что в будущем, повышенный интерес государства к науке во время военных действий станет тенденцией. Особенно это будет касаться стран, традиционно практикующих laissez-faire в отношении науки, таких как Великобритания и США. Как заметил Теренс Кили гражданская Война (1861-1865) подтолкнула федеральное правительство США на создание Национальной Академии Наук, Первая Мировая – на создание Национального Исследовательского Совета, а Холодная – на создание NASA. См. Kealey T. The Economic Laws of Scientific Research. London, 1996 81 продолжает Бойль, атомарная или картезианская гипотеза могут принести удовлетворение некоторым спекулятивно настроенным умам, однако же, они [эти гипотезы] никогда не приведут к владению природой125. Не менее важным с этой точки зрения оказалось сближение чистой науки с механическими искусствами, сформулированное Бэконом и «подхваченное» экспериментальными философами. Более того, даже сам познавательный процесс был для Бойля во многом укоренен в возможности использовать предмет познания: в том же Proemial Essay он интересно рассуждает о знании, как функциональной категории. Бойль приводит в пример солдата, который знает о порохе больше других просто потому, что умеет им пользоваться. В этом контексте, в частности, воздается должное Парацельсу, умевшему делать «изумительные» лекарства, не будучи в то же время подкованным в теоретической химии. Конечно, Бойль был далек от того, чтобы сформулировать на основе этих размышлений последовательную эпистемологию. Однако это не означает, что в них нельзя увидеть зачатки некоторых современных идей, в частности, «экспериментального реализма», сформулированного Яном Хаккингом и Нэнси Кортрайт126. Здесь интересно заметить, что хотя в целом экспериментальной философии, видимо, больше симпатизировала та часть общества, которая поддержала пуританскую революцию и парламент, обещания практической выгоды привлекали к ней сторонников по обе стороны баррикад. Это объясняется тем, что на протяжении довольно долгого времени враждующие фракции находились в одинаково затрудненном положении. Хорошим примером этого может служить нетривиальная история Томаса Бушелла – инженера, ученого и авантюриста.127 Бушелл, насколько можно судить, никогда не был номинальным адептом экспериментальной философии. Но характер его деятельности и тесное знакомство с ключевыми фигурами этого течения оправдывают его роль в нашем повествовании. Так, в 1609 году, в возрасте 125 Boyle R. The Works of the Honourable Robert Boyle, printed for A. Millar, London, 1744 Cartwright N. How the Laws of Physics Lie. Oxford, 1983; Hacking I. Representing and Intervening. Cambridge, 1983 127 История Бушелла известна не очень широко. Это объясняется, прежде всего, тем, что сегодня сохранилось лишь несколько экземпляров его работ, а также его единственной биографии, Gough J.W. The Superlative Prodigall. Bristol: J.W. Arrowsmith, 1932. Мини-биографии Бушелла содержатся также в следующих, более доступных справочниках: Aubrey J. Brief Lives. Oxford, 1898 // Wood A. Athenæ Oxonienses. London, 1817 126 82 пятнадцати лет, он поступил на службу к Фрэнсису Бэкону, с которым практически не расставался до самой смерти последнего. Впоследствии, он часто и красноречиво (хотя и весьма недобросовестно) цитировал своего бывшего покровителя, приписывая ему идеи, которые тот никогда не формулировал. А будучи знаком с Хартлибом и Бойлем он тем самым стал неразрывно связан с экспериментальной философией. В 1636 году Бушелл решил попробовать себя в горнодобывающей промышленности и купил права на разработку серебряных месторождений в Кередигионе, в самом центре Уэльса. Результат превзошел все ожидания, и уже в 1637 году он получил право чеканить монеты на месте, хотя в тот момент это было возможно лишь в королевском монетном дворе, в Тауэре. Секрет его успеха заключался не только в использовании новейших технологий, разработанных в Германии и известных по таким книгам как de Re Metallica Георга Агриколы – систем галерей и штолен для отвода воды из шахт, а также мехов для нагнетания свежего воздуха – но и во вполне осознанном и дерзком «бэконианском» экспериментировании. Так, стремясь повысить экономическую эффективность своих шахт, он топил печи не дровами, а коксованным морским углем. При этом все его начинания были поддержаны лично Карлом I, который в это время остро нуждался в валюте, особенно после того, как военные действия вынудили его покинуть Лондон. Менее успешными, но не менее красноречивыми были попытки экспериментальных философов справиться с проблемой искусственного производство пороха, которого не хватало на протяжении всей пуританской революции. Весь кружок Хартлиба усиленно занимался этой проблемой. Бойль и Хартлиб ставили вопрос о выделении того, что они называли селитрой128 из воздуха. 5 апреля 1659 года Хартлиб писал Бойлю, что сделает все возможное, чтобы узнать способ производства селитры из морской соли129. Бенжамин Уорсли, приятель Бойля по Невидимому Колледжу, получил в 1646 году патент на извлечение пороха из навоза. Наконец, самыми странными можно считать эксперименты по умножению пороха, проводившиеся Бойлем вместе с зятем 128 То есть «nitre» – вещества, которое сегодня идентифицируют как нитрат калия, KNO3, с примесью нитрата натрия, NaNO3. 129 Boyle R. Correspondence of Robert Boyle. Pickering & Chatto, London, 2001 83 Хартлиба, Фредериком Клодием. В большую бочку укладывались слои пороха и грязи. После этого, в течение нескольких месяцев, бочка раз в неделю смачивалась мочой, пропущенной через конский навоз. Результатом этих экспериментов, как и следовало ожидать, стало не преумножение, а потеря имевшегося пороха, хотя Клодий позже настаивал на обратном130. Эти примеры не теряют в ценности из-за того, что все они закончились неудачей. Наоборот, они приобретают дополнительную поучительность, показывая, что хотя социально-политические факторы способны направлять научную мысль, зачастую это происходит в ущерб самой науке. Можно сказать, что в общем случае это происходит всякий раз, когда «социальный заказ» может быть реализован лишь в области, степень изучения которой остается для этого заведомо недостаточной. Глубина понимания химических процессов в середине XVII века не позволяла надеяться на какие-либо практические результаты, кроме случайных. Многообещающими были и проекты экспериментальных философов в области кораблестроения. Они вызывали особенный интерес со стороны государства (хотя и не всегда поощрялись им), не только благодаря тому, что Карл II, например, лично интересовался кораблестроением и хорошо в нем разбирался131, но и потому что спрос на военно-морские технологии был ожидаемо высок в промежутке между первой (1652-1654) и третьей (1672-1674) англо-голландскими войнами, проходившими полностью на воде. Вездесущий Хартлиб активно искал информацию об «аргонавтическом» изобретении некого Бекера – боевом корабле, способном передвигаться как на, так и под водой132. Именно с проблемами маневренности и грузоподъемности кораблей связывает Мертон эксперименты Королевского Общества по изучению гидродинамики и плавучести тел. Но среди экспериментальных философов главным специалистом по кораблестроению был, конечно, Уильям Петти. Один из самых 130 Frank R. G. Jr. Harvey and the Oxford Physiologists. Berkeley, 1980 Характер английского монарха, по всей видимости, способствовал укоренению экспериментальной философии. В отличие от своего отца или деда, Карл II проявлял интерес к экспериментированию и механике, хотя и относился к ним в высшей степени легкомысленно (см. Middleton W.E.K. What Did Charles II Call the Fellows of the Royal Society? Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 32, No. 1 (Jul., 1977)) В особенности, его не мог не привлекать «игровой» элемент экспериментирования. Так, существует множество свидетельств того, что король делал ставки на исход того или иного эксперимента. 132 Boyle R. Correspondence of Robert Boyle, Pickering & Chatto, London, Vol.1(Hartlib to Boyle 5 april 1659) 131 84 активных членов Королевского Общества, сегодня Петти более известен за свои идеи в области «политической арифметики». Но современники знали его как автора проектов «двудонок», часами дискутировавшего с Карлом II о «корабельной философии»133. Так, в сентябре 1662 года с верфи сошел первый из его двудонных кораблей134, названный как нельзя кстати Эксперимент. Автор знаменитых дневников и будущий секретарь адмиралтейства Сэмюэль Пепис описывал Эксперимент как «превосходное и вместительное судно, и [которое], я надеюсь, ждет большое будущее»135. Английские экспериментальные философы совершенно искренне верили в то, что их исследования приведут к полезным для всего человечества изобретениям. Постепенно этой верой они заражали все более широкие слои населения – представителей торговли, промышленности и знати. По всей видимости, именно эта вера привела к тому, что к концу XVII века французское правительство стабильно и щедро финансировало науку. Английская корона от такой поддержки отказалась, и на то (помимо гигантских долгов) у нее были все основания. Дело в том, что в действительности ни государство, ни общество не извлекало из экспериментальной философии практически никакой экономической выгоды. Например, исследование баллистики XVII века, осуществленное Руперт Холлом продемонстрировало, что «не существует никакой связи между баллистической теорией, ставшей важнейшей частью революции в динамике, и невероятными предложениями по разрушению или защите, которые были естественными продуктами воинственного, но немеханического века. <…> Внешняя баллистика была абсолютно бесполезна для снаряжения армии и флота XVII века, и только полное непонимание состояния науки и техники в эту эпоху может стоять за верой в то, что теоремы Гюйгенса, Ньютона, Лейбница и Бернулли имели какую-то практическую ценность136.» 133 Fraser A. King Charles II. London, 1979 Речь идет о суднах «катамаранного» типа, имевших два параллельных остова. 135 Pepys S. Diary and Correspondence of Samuel Pepys, F.R.S. Secretary to the Admiralty in the Reigns of Charles II and James II, H.G. Bohn, London, 1858 (Monday, 13 February 1664/1665) 136 Rupert Hall A. Ballistics in the Seventeenth century. Cambridge,1952 134 85 В целом невозможно не согласиться с современным английским исследователем экономической истории науки Теренсом Кили137, показавшим (хотя и не без помощи сомнительных риторических приемов), что технологическое и экономическое развитие общества было в XVI-XIX веках во многом независимо от развития фундаментальной, чистой науки. Другими словами, большинство действительно полезных изобретений выходили не из лабораторий и научных академий, а из торговых и промышленных кварталов. Хорошо известно, например, что телескоп (имевший некоторую экономическую ценность в связи с возможностью его применения в мореплавании и при ведении военных действий на суше) был изобретен и запатентован в 1609 г. инженерами, а вовсе не учеными Миддлбурга138. Галилей, это правда, значительно улучшил оптические качества зеландского телескопа. Но он это сделал именно в качестве инженера, а не ученого, т.е. методом проб и ошибок, в отсутствии всякой оптической теории. В дальнейшем, в истории науки в целом наблюдалась следующая закономерность: в случаях, когда изобретение выходило из лабораторий, как, например, фактически случилось с воздушным насосом, значительно усовершенствованным Бойлем – оно оказывалось абсолютно бесполезно в промышленности. В случаях же, когда изобретение оказывалось экономически успешным – это можно сказать о механическом ткацком станке или разных моделях парового двигателя – оно практически ничем не было обязано чистой, академической науке. Таким образом, пользуясь гессеновской терминологией, можно утверждать, что хотя социальный заказ со стороны буржуазии порой и направлял усилия ученых в нужное ей русло, осуществлен он был, благодаря рыночным механизмам, силами самой буржуазии. 4.3.2 Новизна и свободолюбие 137 Kealey T. The Economic Laws of Scientific Research. London, 1996 Helden van A. The Invention of the Telescope, Transactions of the American Philosophical Society, Vol. 67, No. 4. (1977) 138 86 Дэвид Юм, написавший, помимо философских трудов, историю Англии «от вторжения Юлия Цезаря до 1688 года», выделяет две основные движущие силы пуританской революции (курсив мой): «The confusions, which overspread England after the murder of Charles I, proceeded as well from the spirit of refinement and innovation, which agitated the ruling party, as from the dissolution of all that authority, both civil and ecclesiastical, by which the nation had ever be accustomed to be governed.»139 В политической сфере, о которой пишет Юм, эти силы реализовывались в многочисленных проектах государственного устройства, предлагавшихся (и осуществлявшихся) на протяжении 1650-х годов. В интеллектуальной сфере реализацией этих сил можно до некоторой степени считать экспериментальную философию, чьи цели во многом соответствовали политическим целями республиканцев. Это была смелая, инновационная программа, стремившаяся, без оглядки на многовековые устои, реформировать знание, сделать его доступным (отсюда делатинизация) и полезным (утилитаризм) широким слоям населения. Уже одна новизна и молодость экспериментальной философии давала ей небольшое преимущество над конкурентами. После падения консервативного режима Лода, общественное внимание, как это часто бывает во время революций, было естественным образом обращено в сторону ранее табуированного знания. Как показала Марджори Николсон140, если до 1640 года английские альманахи почти никогда не упоминали Коперника, то в следующие два десятилетия его имя стало появляться в них все чаще, наряду с именем Бэкона, Галилея и многих других. Николсон признает, что политическая позиция составителей этих каталогов при этом прозрачна: как не стоит колебаться при использовании новых инструментов и теорий, так не стоит колебаться при выборе новой власти. Таким образом, в глазах республиканцев преимущество 139 Hume D. The History of England, Indianapolis, Volume VI, Based on edition of 1778 // «Смятения, охватившие Англию после убийства Карла I, происходили как из склонности к новаторству и преобразованиям, присущей победившей стороне, так из исчезновения всякой власти, светской или церковной, посредством которой всегда управлялась страна». 140 Nicholson M. English Almanacs and the ‘New Astronomy’. Annals of science, Vol.4, January 15, 1939, No 1 87 Коперника над Птолемеем состояло уже в том, что первый предлагал разорвать с традицией, которую представлял последний. Борьба экспериментальных философов за свободомыслие и упразднение традиционных авторитетов была, по всей видимости, особенно понятна республиканцам. Одни пытались оправдать отказ от политической монополии со стороны монаршей власти. Другие искали возможности освободить натурфилософию от необходимости соответствовать, во-первых, классическим образцам античности, а во-вторых, догматам церкви и государственных научных институтов, таких как Королевский Медицинский Колледж. Если говорить об античности, то во второй главе мы указали, что авторитет грекоримских и средневековых ученых был, к началу XVII века, серьезно подорван географическими, астрономическими и физиологическими открытиями новых европейцев. Тем не менее, в целом, он оставался достаточно высок, и большинство натурфилософов, занимавших влиятельные позиции при дворе или в университете, оставались апологетами Аристотеля, Галена и Птолемея. Именно поэтому, почти каждый из реформаторов науки первой половины XVII века горячо и обстоятельно отстаивал право ученого доверять не источникам, освещенным многовековой традицией, а собственному опыту. Одним из очевидных аргументов в пользу чувственного опыта являлся тот факт, что именно ему в первую очередь доверяли сами античные ученые. В этой связи, важнейшим философским спором XVII века, охватившим весь культурный спектр от натурфилософии до драматургии, стал вопрос об относительных интеллектуальных и творческих способностях древних и новых людей. Наиболее радикальную позицию в этой полемике занимали последователи платоновской идеи «упадка природы», согласно которой все в мире постепенно разрушается и ветшает. Согласно Ричарду Джонсу141, впервые теория появляется в Англии в 1580 году в трактате A Blazyng Starre Франсиса Шакельтона, но наиболее ярко проявилась в The Fall of Man, 1616 Годфрида Гудмана, капеллана английской королевы. Симптомы разложения он видит повсюду – в эпидемиях, морали и даже на небесном своде – при этом полностью отрицая возможность превзойти античное знание. В лучшем случае, 141 Jones R.F. Ancients and Moderns. A Study of the Rise of the Scientific Movement in Seventeenth-Century England. St. Louis, 1961 88 согласно этому взгляду, современный человек может надеяться на «восстановление» античного знания142. Более умеренную позицию занимали те, кто утверждал, что хотя способности современного человека не так велики, его знания более обширны просто в силу накопительного эффекта. Это привело к распространению образа карликов, сидящих на плечах гигантов, известного сегодня благодаря письмам Ньютона, но имевшего широкое хождение в XVII веке (его использовал Хаквилль, Спрат и многие другие). Наконец, самую оптимистическую позицию занимали последователи Бэкона, сформулировавшего идею «прогресса» и считавшего, что современный человек ни в чем не уступает, а во многом и превосходит, своего античного пращура. Необходимо, говорили экспериментальные философы, взяв у античности все лучшее, разрушить вертикаль восходящую к Аристотелю и, основываясь на широком, коллективном консенсусе, заложить основы нового знания. Разумеется, именно к этому, только в политической сфере, призывали и «круглоголовые» республиканцы. Спекторский справедливо замечает, что переход от средневековой и возрожденческой науки к современной сопровождался сменой морального мировоззрения на физическое143. Моральное мировоззрение характеризовалось в первую очередь антропоморфизмом, иерархизмом и телеологизмом, его отличало уверенность в том, что естественный порядок вещей на земле (т.е. законы природы) поддерживался неизменным лишь до того момента, как люди соблюдали нравственный закон. В случае же нарушения нравственного закона следовало нарушение закона природного, например потоп, засуха или мор. Носитель нового, физического мировоззрения, в свою очередь, был совершенно свободен от этих предрассудков: «Он совершенно освобождался или по крайней мере рассчитывал совершенно освободиться от всех возможных форм рабства: от рабства метафизического, т.е. от страха перед сверхъестественным миром <…>; от рабства физического, т.е. от бессилия перед силами природы, которые, 142 Рудиментом этой теории является английское слово research, которое сегодня обычно переводят как исследование, но которое этимологически означает «переоткрытие». 143 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. СПб., 2006 89 как выяснилось если не на деле, то в принципе, из владычиц людей могли стать им послушными благодаря тому, что наконец была разгадана их естественная закономерность; наконец, от рабство морального, т.е. от влияния на человеческие поступки чувственности, страстей, предрассудков и традиций144.» В ситуации, когда природа была признана автономной, не требующей постоянной санкции или попечения со стороны какого бы то ни было существа более высокого порядка, естественно вставал вопрос о том, насколько общественный порядок нуждается в таком покровителе. Основой общественного порядка в начале XVII века была признана доктрина ‘божественного права королей’, согласно которой право на царствование монарх получает напрямую от Бога. Именно сомнение в правомерности этой доктрины, с одной стороны, привело Англию на грань политической катастрофы, а с другой – послужило мотивацией всего общественно-научного проекта Томаса Гоббса. Уже в De Cive, впервые опубликованном в 1642 году, Гоббс признает, что легитимность монархического правления невозможно доказать тем, что у вселенной один Бог, а древние, в целом, предпочитали монархию другим формам правления: «Although I say these doe hold forth Monarchy as the more eminent to us, yet because they doe it by examples and testimonies, and not by solid reason, we will passe them over.145» Таким образом, желание освободиться, помимо метафизического, физического и морального, также и от политического рабства, если не вытекало из нового мировоззрения, характерного для экспериментальных философов, то было ему чрезвычайно созвучно. Нетрудно догадаться, что противопоставили доктрине ‘божественного права королей’ бунтари-парламентарии. Запись в журнале Палаты Общин от 7 февраля 1649 года, т.е. в день, когда была фактически упразднена монархия, гласит: «Resolved, &c. That it hath been found by Experience, and this House doth declare, That the Office of a King in this Nation, and to have the Power thereof 144 Ibid., Hobbes T. De Cive, Philosophicall Rudiments Concerning Government and Society. London, Printed by J.C. for R. Royston, at the Angel in Ivie-Lane, 1651 145 90 in any Single Person, is unnecessary, burdensome, and dangerous to the Liberty, Safety, and publick Interest of the People of this Nation; and therefore ought to be abolished146.» Но помимо метафизического и, в общем, психологического противостояния с античностью, экспериментальные философы встречали вполне реальное сопротивление со стороны традиционных монополистов научного знания. До 1640-х в Англии существовала система патентов и монополий, выдаваемых королем. Например, Королевский Медицинский Колледж, созданный в 1518 году, представлял собой элитную корпорацию врачей, имевших эксклюзивные права на медицинскую практику в Лондоне и его окрестностях. При том, что количество членов редко превышало три десятка, Колледж не только во всем отстаивал устаревшее галеническое наследие, но и имел юридические полномочия преследовать так называемых «эмпириков», врачей, практиковавших вне колледжа инновационные, экспериментальные методики (которые, впрочем, совсем не всегда были эффективнее традиционных). С 1540 года, под крылом колледжа существовало Общество Цирюльников и Хирургов (Barber-Surgeons’ Company), а позже и Общество Аптекарей (The Society of Apothecaries). Каждая из этих гильдий по сути контролировала соответствующий рынок услуг. Деятельность этих инстанций не только препятствовала разработке и внедрению научных инноваций, но и приводила к недополучению населением Лондона (насчитывавшем на 1650 год 400000 жителей) адекватной медицинской помощи147. Неудивительно, что когда, после прихода к власти парламентариев, привилегии и монополии Колледжа были упразднены, в выигрыше оказались именно экспериментальные философы, предлагавшие целый ряд альтернатив традиционной методологии. Исследования Чарльза Вебстера показывают, что количество медицинских публикаций выросло между 1640 и 1650 годом более чем в три раза, притом, что подавляющая часть этой литературы адресовалась широким слоям населения, т.е. была не академического, а экспериментального, популярного характера. 146 http://www.british-history.ac.uk // «Опыт показывает, и палата заявляет, что должность короля в этой земле, и его полномочия, в руках любого отдельного человека бесполезны, тягостны и опасны для свободы, безопасности и блага народного; поэтому отныне она упраздняется». 147 Webster C. The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626-1660. Oxford, 2002 91 Во всем, что делали экспериментальные философы, они старались подчеркнуть горделивую независимость, как от античности, так и от современной политической или социальной иерархии. Поскольку всякий догматизм считался непозволительным, Спрат не только не смущался отсутствием у Королевского Общества единой экспериментальной методологии, но и считал это естественным преимуществом его членов. Довольно скоро, формула «экспериментальная философия» стала неизменно употребляться с эпитетом «свободная» («Lovers of Free, and Experimental Philosophy»). При этом свобода выражалась еще и в тяготении к идеалу социального равенства, близкого английскому обществу в середине XVII века. Существенно, например, что Королевское Общество стало первым научным институтом, организованным по принципу горизонтальной, фактически парламентской иерархии. До этого, любая академия имела, с одной стороны, ярко выраженного лидера-интеллектуала, полностью определявшего характер исследовательской деятельности института (Тихо Браге, Галилей и т.д.); а с другой стороны, мецената, от благоволения (или продолжительности жизни) которого зависела материальная обеспеченность, а значит и фактическое существование академии (Федерико Чези, Абер де Монтмор, Фердинандо и Леопольдо Медичи). Королевское Общество отказалось от этих элементов вертикальной иерархии148. Они, среди прочего, напоминали ей античные академии и средневековые университеты, т.е. образцы, от которых английские ученые осознанно открещивались. Экспериментальным философам была ближе парламентская форма организации, где позиция власти, например, спикера, занимается не за счет действительного или мнимого социального превосходства, а в результате общественного договора. Даже процедура ведения заседаний в Королевском Обществе была открыто скопирована с аналогичных заседаний Палаты Общин149: места, как и в Парламенте, распределены не были (только президент Общества и секретари, подобно спикеру с клерками, должны были занимать почетное место во главе или центре собрания); докладчик – обязательно с непокрытой головой; как в 148 Некоторые члены Королевское Общество, это правда, настаивали на получении материальной поддержки со стороны государства. Но после получения обществом статуса «королевского» такая поддержка зависела бы в буквальном смысле от короны, а не от ее преходящего носителя. Таким образом, ученые имели все основания полагать, что финансовая поддержка не нарушила бы горизонтальную иерархию академии. 149 Shapin S. The House of Experiment in Seventeenth-Century England. Isis, Vol. 79, No. 3, (Sep., 1988) 92 Парламенте говорящий всегда обращается к спикеру, так в Королевском Обществе он обращался к его президенту. Неслучайно Джон Граунт, посвящая свои Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality, 1662 Королевскому Обществу называет последнее ‘парламентом природы’150. Интересно, что после Реставрации свободомыслие экспериментальных философов стало восприниматься многими как вольнодумство. Смена политического климата потребовала новой адаптации со стороны экспериментальной философии, результатом которой и стала, в общем, апологетическая The History of the Royal Society Томаса Спрата. Здесь, среди прочего, Спрату пришлось извиняться за чрезмерное презрение к авторитетам со стороны некоторых членов Королевского Общества. Оценка Аристотеля в целом смягчается, а целая секция в третьей части The History of the Royal Society посвящена опровержению укоренившегося положения о том, что занятия экспериментальной философией делает людей заносчивыми и неспособными к субординации. Как нельзя удачно в этот контекст вписывались взгляды Фрэнсиса Бэкона, подчеркнувшего в Novum Organum, что «…велико различие между гражданскими делами и науками: ведь опасность, происходящая от нового движения, совсем не та, что от нового света. Действительно, в гражданских делах даже изменения к лучшему вызывают опасения смуты, ибо гражданские дела опираются на авторитет, единомыслие и общественное мнение, а не на доказательства. В науках же и искусствах, как в рудниках, все должно шуметь новыми работами и дальнейшим продвижением вперед151». 4.3.3 Публичность У членов Королевского Общества, руководивших работой Спрата, были все основания опасаться за судьбу академии в эпоху Реставрации. Многие их научных институтов в XVI-XVII веках были упразднены именно как рассадники политического или религиозного неблагочестия. Об этом правомерно говорить 150 151 Graunt J. Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality. London, 1662 Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1978 93 в случае с Академией Сегрета (Accademia Segreta) Джироламо Русчелли, Академией деи Сегрети (Accademia dei Segreti) Порты, и отчасти Академией Линчеи и институтом Тихо Браге. Если помнить о том, что среди важнейших членов Королевского Общества были люди, тесно связанные с режимом Оливера Кромвеля (Джон Уилкинс даже был женат на сестре Лорд-протектора), то становится ясно, что осторожность и предупредительность Спрата не была излишней. Именно в этом контексте, возможно, стоит рассматривать решение об утверждении коллективного и даже публичного характера нового экспериментального знания. Это решение реализовывалось в трех направлениях. Во-первых, согласно уставу Королевского Общества, членство в нем не требовало никакой квалификации, а любой с титулом барона или выше, принимался в общество автоматически (уже ко времени получения второй королевской грамоты в 1663, количество членов составило 115 человек). Вовторых, заседания Королевского Общества проходили за публичным проведением экспериментов и их обсуждением, иногда в присутствии внешних наблюдателей. В-третьих, результаты работы всего экспериментального сообщества регулярно публиковались в одном из первых научных журналов, Philosophical Transactions, находившемся в открытом доступе. Последнее, в частности, может говорить о том, что английские ученые извлекли уроки из неудач своих континентальных коллег: результаты работы флорентийской Академии дель Чименто были опубликованы с шестилетней задержкой из-за медлительности секретаря и прочих сложностей в организации публикации коллективной монографии152. В переходе от частной, элитарной науки к публичной можно увидеть сразу несколько важнейших составляющих. С одной стороны, он полностью соответствовал и даже естественно вытекал из социальной этики, доминировавшей во время пуританской революции. Особенно заметным поборником публичной науки стал Роберт Бойль, не устававший напоминать о преимуществах (нравственных и эвристических) свободного распространения 152 Beretta M. At the Source of Western Science: The Organization of Experimentalism at the Accademia del Cimento (1657-1667). Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 54, No. 2 (May, 2000) // Когда I Saggi di naturali esperienze fatte nell’Accademia del Cimento, наконец, попали в руки английских ученых, Ольденбург был вынужден заметить Бойлю, что опубликованные в ней факты “if they had been published 3 or 4 yeas agoe, might perhaps appear new, but would hardly doe so now”. Тем не менее, прямых свидетельств того, что итальянский опыт оказал влияние на редакционную политику Королевского Общества не существует. 94 научной информации. С другой стороны, публичность получала особенное значение в рамках экспериментальной эпистемологии. Несмотря на то, что Бойль и Гук проводили свои исследования поодиночке, повторение экспериментов в публичном пространстве (например, на заседаниях Королевского Общества) в некотором роде легитимизировало полученные результаты и становилось залогом их объективности153. Наконец публичный характер экспериментальной философии был, хотя бы отчасти, ответом на политический климат Реставрации. Здесь нужно заметить, что многие их проектов формального научного института, так или иначе предлагавшихся во время пуританской революции, должны были быть реализованы в организациях закрытого типа. Так, о знаменитом Невидимом Колледже, в который входил Бойль, до сих пор известно так мало, что историки продолжают спорить о том, кто же еще, кроме Хартлиба и Бойля, были его членами. 9 мая 1657 г. Эвлин пишет Бойлю о проекте нового “математико-химикомеханического колледжа» под руководством Джона Уилкинса, условием членства в котором должна была стать клятва о неразглашении результатов154. В ноябре 1659 г. Хартлиб пишет Бойлю об открытии нового филантропического секретного общества, выражая надежду, что его письма не попадают в чужие руки155. Однако после 1660 г. разговоры о секретном обществе больше не ведутся. Таким образом, естественно предположить, что в условиях стабилизации политической ситуации, секретность не только потеряла смысл, но и оказалась крайне нежелательной формой сотрудничества в научной сфере. 4.3.4 Аполитичность Одной из особенностей политического климата пуританской революции стала высокая степень идеологической раздробленности общества. Согласно Мертону, к 1650 году только религиозных сект в Англии насчитывалось не меньше 180156, притом, что зачастую границы между фракциями лежали не в 153 Shapin S. The House of Experiment in Seventeenth-Century England. Isis, Vol. 79, No. 3, (Sep., 1988) 154 Boyle R. Correspondence of Robert Boyle, London, 2001, Vol.1 Ibid. 156 Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, Osiris, Vol. IV, pt. 2, pp. 360-632. Bruges: St. Catherine Press, 1938 155 95 религиозной, а в политической или социальной сфере. Почти двухлетний промежуток между смертью Оливера Кромвеля (3 сентября 1658 года) и реставрацией монархии (29 мая 1660 года) объясняется именно неспособностью многочисленных групп придти к единому политическому консенсусу. Роялисты и республиканцы, пресвитерианцы и сторонники епископальной церкви, военные и возможные претенденты на место Лордпротектора (Ламберт, Ричард Кромвель, Монк) – все видели необходимость преодолеть разногласия, но каждый при этом настаивал на своем пути выхода из кризиса. В этой ситуации любая идеология, обострявшая существовавшие противоречия, вызывала всеобщее неодобрение; и наоборот та, что стремилась найти общую точку отсчета и сблизить конфликтующие стороны, получала широкую поддержку общества. Реставрация стала, разумеется, своеобразной формой общественного договора. Но при этом она только повысила чувствительность к философским системам, способным пошатнуть социальное равновесие, оказавшееся на поверку достаточно хрупким. Уже 22 августа 1660 года, через три месяца после Реставрации Сэмюэль Пепис запишет в своем дневнике: «…[G.Montagu] made me sit all alone in the House, none but he and I, half an hour, discoursing how there was like to be many factions at Court between Marquis Ormond, General Monk, and the Lord Roberts, about the business of Ireland; as there is already between the two Houses about the Act of Indemnity; and in the House of Commons, between the Episcopalian and Presbyterian men.157» Хорошо известно, что разнообразные заговоры (действительные и мнимые), мятежи и восстания были чрезвычайно часты как до, так и после Реставрации158. 157 Pepys S. Diary and Correspondence of Samuel Pepys, F.R.S. Secretary to the Admiralty in the Reigns of Charles II and James II, H.G. Bohn, London, 1858 158 Так, в июне 1659 года, из-за предательства сэра Ричарда Уиллиса, провалился роялистский заговор. В декабре 1660 власти арестовывают 40 человек по обвинению в подготовке покушения на короля и генерала Монка (см. Дневники Пеписа, 16 декабря, 1660). В январе 1661 – мятеж «людей пятой монархии». Неизбежно, подозрение падало и на членов Королевского Общества. Так, Генри Ольденбург, ведший всю переписку от лица Королевского Общества, был арестован в июле 1667 года по обвинению в шпионаже, а его переписка была конфискована. Ольденбург провел в Тауэре около месяца, после чего обвинения с него были сняты (см. Boas Hall M. Henry Oldenburg, Shaping The Royal Society. Oxford, 2002). 96 Естественно, что в такой обстановке любой профессиональной группе, а тем более Королевскому Обществу, собиравшемуся за закрытыми дверьми, уделялось повышенное внимание. Но экспериментальные философы не только, как это принято говорить, «вышли сухими из воды», но и сумели извлечь из этой ситуации определенную выгоду. В первую очередь, это произошло благодаря тому, что экспериментальная философия, по существу, была лишена каких бы то ни было политических коннотаций. Если схоласты были тесно связаны с католицизмом, а картезианцев можно было упрекнуть в материализме, а, следовательно, и в атеизме, то экспериментальное естествознание было, вполне осознанно, аполитично: «Осознанное решение зачинателей Королевского Общество избегать острых тем было важно для существования группы. В то время как судьба Агентства Хартлиба напрямую зависела от развития политической ситуации, распад Республики и восстановление монархии не повлиял на деятельность Грэшем колледжа. <…> Их научная работа была изолирована от идеологических разногласий159.» В социальной сфере аполитичность достигалась за счет того, что Королевское Общество принимало в свои ряды без оглядки на политическую или религиозную принадлежность. В нем состояли и пуритане, и англикане и даже те, кто, как Сэмюэль Пепис, попадал под подозрение в скрытом католицизме. В эпистемологической сфере, она достигалась, прежде всего, за счет разграничения «гипотез» и «фактов», о котором мы говорили в первой главе. Эта дихотомия была искусно вплетена в политический дискурс. Первые отождествлялись с метафизикой, с разнообразными классическими философскими течениями и соответственно имели идеологическую подоплеку; вторые же, наоборот, привязывались к «физике», т.е. к наблюдаемым явлениям реальности, которые и составляли суть экспериментальной философии. 4.3.5 Монистические тенденции экспериментальной философии 159 Webster C. The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626-1660. Oxford, 2002 97 Но еще бòльшим преимуществом этого разграничения была даже не аполитичность. Гипотезы, утверждали экспериментальные философы, неизменно ведут к разногласиям, потому что не способствуют нормальному обмену мнениями и формированию доверительных отношений между возможными оппонентами. Два человека, принявшие, по каким-то причинам, противоположные гипотезы, не имеют общей точки опоры, что в перспективе приводит лишь к углублению между ними антагонизма. Экспериментальные же факты, будучи в некотором смысле неоспоримыми, способствуют сближению людей самых разных убеждений. Спрат не без самодовольства отмечает, что некоторые из членов Королевского Общества (которое состояло из людей самых разных политических симпатий) сходятся только в обсуждении экспериментов, хотя расходятся во всех остальных, в том числе и политических, вопросах160. Таким образом, в десятилетия, омраченные многочисленными внутренними и международными конфликтами, эксперименту, в научном социуме, приписывается миротворческая функция. Спекторский абсолютно прав, когда говорит161, что монистическая тенденция, т.е. «стремление не разъединять, а соединять, не распределять по классам и категориям, а, напротив, во всем видеть единую субстанцию, единый принцип, единый закон» была характерна не только для экспериментальной философии, но и для всей новой философии в целом. Нередко с ней связывали надежды на прекращение споров и разногласий. У Декарта, например, она выражалась в почти безграничной вере в силу чистого разума: корень человеческих ошибок (а значит и споров) находится не в имманентных недостатках разума, а в воле, или, иначе говоря, в неспособности или нежелании пользоваться разумом. Если же уметь им пользоваться, то ошибок легко избежать, а необходимость споров пропадает сама собой. Именно поэтому, говорит Декарт, “j’ai plutôt écrit des Meditations que des disputes”162. В очень похожем ключе высказывается и Гоббс163, находившийся долгое время под влиянием Декарта. В определенные моменты он даже сближается с экспериментальными философами (с которыми в остальное время он 160 Sprat T. The History of the Royal Society of London, For the Improving of Natural Knowledge. London, 1722 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. СПб., 2006 162 Descartes R. Reponses aux Secondes Objections. Dans Œuvres et Lettres, Paris, 1953 163 Hobbes T. Leviathan (Pars I, Cap. V, Opera, III, 33) 161 98 враждовал), утверждая, что человек, который правильно видит природу, не может ошибаться, потому что natura ipse errare non potest.164 Но понимание истины как своеобразного философского откровения, характерное для Гоббса и Декарта, не могло применяться в натурфилософии (а тем более в общественных дисциплинах, интересовавших Гоббса) так же легко и естественно, как и в геометрии, служившей идеалом науки для всех рационалистов XVII века. Это привело к тому, что монистические тенденции картезианской и гоббсианской философии не способствовали сближению враждующих фракций, подобно тому, как общее, казалось бы, откровенное понимание Священного Писания не сближало Сервета и Кальвина. И поэтому Декарт, выведший из вполне очевидного cogito совсем не очевидную систему мира, мог по праву считаться догматиком, неспособным к переговорам и адаптации своей философской позиции. Интересно, что, как и с редакционной политикой, на взгляды англичан в данном случае мог повлиять опыт их европейских коллег. Около 1654 года в Париже начала регулярные встречи так называемая «академия Абера де Монтмора», друга Гассенди и богатого покровителя естественных наук165. На встречах академии (официальную конституцию она получила в конце 1657 года) Пети, Сорбьер, Монтмор, Шаплян, Тевено, Биллиад и др. обсуждают вопросы естествознания; вне заседаний они поддерживают активную переписку с лучшими учеными Европы – Гюйгенсом и Робервалем. Все говорило в пользу того, что эту группу ученых ждет большое научное будущее. Но уже через год после официального открытия становится ясно, что академия не может нормально функционировать из-за того, что обсуждения ведутся не в плоскости «фактов», а в плоскости «гипотез». «French naturalists are discursive than active or experimental. In the meantime the Italian proverb is true: Le parole sono femine, li fattj maschij.» напишет о монтморианцах Ольденбург 2 августа 1659 года в письме своему покровителю и другу Роберту Бойлю166. На практике это приводит к невозможности вести диалог и работать в коллективе, составленном из людей разных политических и научных взглядов. В декабре 1658 года в академии происходит показательная сцена – публичный конфликт между Робервалем и 164 Ibid., Brown, H. Scientific Organisations in Seventeenth Century France, 1620-1680. New York, 1967 166 Boyle R. Correspondence of Robert Boyle. London, 2001, Vol.1 (Oldenburg to Boyle, 2 August 1659) 165 99 Монтмором. Хотя формально конфликт состоял в личном оскорблении, нанесенном Робервалем хозяину дома (встречи проводились в особняке Монтмора), поводом для оскорбления стала именно приверженность последнего картезианству. Результатом же конфликта стало «изгнание» Роберваля из академии и попытка уйти от обсуждения доктрин в пользу экспериментальных фактов. Браун не нашел прямых свидетельств того, что форма организации заседаний в академии Монтмора повлияла на конституцию Королевского Общества. Тем не менее, Бойль был, безусловно, осведомлен о существовании академии от Ольденбурга, проведшего в Париже целый год, начиная с апреля 1659 года до апреля 1660, и регулярно посещавшего французскую академию. В этой связи нелишне заметить насколько позиция самого Бойля отражала скрупулезное внимание к процессуальной составляющей научных дебатов. Бойль настойчиво призывал отказаться от аргументов ad hominem, и даже, по его собственным словам, часто отдавал должное авторам, чьи постулаты при этом объявлял несостоятельными: «for I love to speak of persons with civility, though of things with freedom167.» Литературный стиль Бойля в целом, как верно заметили Шапен и Шаффер, отличался от стиля его предшественников тем, что был не поучающим (верь мне!), а инициативным (проверь меня!)168. Особенный интерес в данном контексте представляет сформулированная экспериментальными философами идея неизменной качественной ценности эксперимента. В отличие от теории или гипотезы, говорит Генри Пауэр в своей Experimental Philosophy, строго проведенный эксперимент не может быть «ложным» или «ошибочным»169. Эксперимент – это факт, и как таковой он не имеет истинностного значения. Другими словами, он ценен вне зависимости от того, подтверждает ли он или опровергает сформулированную гипотезу (его ценность не пропадает даже в отсутствии всякой гипотезы). Именно это, утверждает Бойль, заставляет его обращаться к экспериментальным авторам, чьи теории он считает ложными: ведь ничто не мешает читателю, отбросив 167 Boyle R. Proemial Essay in The Works of the Honourable Robert Boyle, printed for A. Millar, London, 1744 // «о людях я люблю говорить вежливо, а о вещах – свободно». 168 Shapin S. & Schaffer S. Leviathan and the Air-Pump. Princeton University Press, 1985 169 Power H. Experimental Philosophy. London: T. Roycroft, 1664 100 последние, извлечь выгоду из экспериментальных фактов.170 Данная идея крайне важна для философии науки. С восстановления в правах «экспериментальной неудачи» берет свое начало та ее ветвь, которая приведет к фальсификационизму Карла Поппера и методологии научноисследовательских программ Имре Лакатоша. Но в XVII веке у этой идеи был и политический смысл. Отсутствие у эксперимента истинностного значения становилось гарантией того, что он не станет причиной раздоров и неурядиц как раз потому, что им может в одинаковой степени воспользоваться и, например, сторонник существования вакуума, и пленист, и картезианец. 170 Boyle R. Proemial Essay in The Works of the Honourable Robert Boyle, printed for A. Millar, London, 1744 // Соответствующий текст процитирован в первой главе данной работы. 101 Глава 5 Пуританство и экспериментальная философия 5.1 Наука и религия Взаимоотношения науки и религии – одна из фундаментальных проблем истории и философии науки, породившая огромное количество литературы. В настоящей работе у нас нет возможности дать адекватный обзор этого поля, и поэтому, в качестве вступления, мы вынуждены ограничиться лишь несколькими ремарками общего характера. Итак, без сомнения, логически наука и религия являются несовместимыми формами познания окружающего мира. Иными словами, невозможно одновременно быть и добросовестным ученым, и по-настоящему верующим человеком171. В теории, такое совмещение стало бы возможно, если бы та или иная религиозная конфессия была бы готова полностью отказаться от позитивных утверждений, описывающих окружающую реальность, и ограничиться нормативными, предписывающими, как следует себя вести в рамках этой реальности. Но на практике, конечно, религия способна, в лучшем случае, пойти на уступки в вопросах гелиоцентризма или эволюции и не может отказаться от утверждений о существовании Бога или святого духа. Эти нормативные утверждения должны приниматься паствой на веру. А вера – способ познания мира противный науке. Однако редкому человеку удается быть полностью последовательным в своих убеждениях. Именно поэтому психологически наука и вера, кончено, не исключают друг друга. Это еще раз подтверждается тем бесспорным фактом, что множество ученых – и даже лучших из них – были искренними адептами того или иного религиозного течения. XVII век оказался особенно богат такими учеными. Если в XVI веке наука была еще слишком незрела, чтобы говорить о полноценном наслоении двух этих форм познания; если XVIII век стал свидетелем беспрецедентной секуляризации научной мысли, что позже позволило Лапласу самоуверенно утверждать, что он попросту не нуждался в божественной «гипотезе»; то в XVII веке следы набожности, хотя и не всегда 171 Worrall J. Does Science Discredit Religion? in Contemporary Debates on Philosophy of Religion. Oxford, 2004 102 ортодоксальной, можно найти в работах практически любого крупного ученого. А нередко, ученые даже совмещали исследования в области естествознания и религиозный сан. Последнее явление уходит корнями в средние века, в традицию монаховученых, но в XVII веке наиболее ярко оно проявилось именно в протестантской Англии. В католической Италии, например, контрреформация и введенный ею Индекс Запрещенных Книг фактически привели к тому, что карьера ученого была закрыта для духовного лица. Насколько строго следовали этому правилу можно судить уже по тому, что знаменитая Академия дель Чименто была закрыта после того, как Леопольдо Медичи получил кардинальский сан. Сам Леопольдо почти не занимался наукой, он был не членом академии, а ее il Protettore. Но, по всей видимости, даже такое опосредованное участие в естественнонаучных исследованиях считалось неподобающим для кардинала172. Исключением из общего правила являлись иезуиты, эта ударная сила католической науки. Но их пример только подчеркивает, насколько равноправное сосуществование религиозного и научного мировоззрения было невозможно в XVII веке на территории, подчиненной Римской Церкви. Наука иезуитов была строго подчинена католическому богословию, что отчасти объясняет потрясающие успехи этого ордена в лишенной идеологии математике.173 Совершенно иначе обстояла ситуация в Англии. Из ста десяти ученых, составлявших оксфордское научное сообщество и включенных в таблицу Роберта Франка174, более тридцати (!) являлись священнослужителями. А среди примерно двухсот членов Королевского Общества за 1667 год можно найти пять епископов и двух архиепископов. Конечно, как справедливо замечают многие исследователи (Мертон, Стимсон и др.), сами по себе эти цифры могут вводить в заблуждение. Принятие сана могло быть обусловлено исключительно экономическими соображениями (достаточно высокий доход при наличии свободного времени), а вступление в Королевское Общество – формальностью или данью моде (что, кстати, правомерно в отношении двух архиепископов). Но 172 Abetti G. L’Accademia del Cimento in Celebrazione della Accademia del Cimento nel Tricentenario della Fondazione, Domus Galilæana, Pisa, 1958 173 The new science and Jesuit Science \\ 174 Frank R. G. Jr. Harvey and the Oxford Physiologists. Berkeley, 1980 103 помимо высокого процента духовных лиц в среде протестантских ученых, существует громадное количество свидетельств того, что Англия в середине XVII века стала центром беспрецедентно тесного и гармоничного сосуществования науки и религии. Например, Джон Уилкинс одновременно выполнял обязанности секретаря Королевского Общества и епископа Честерского; Томас Спрат, официальный историк Королевского Общества и будущий епископ, видел самую прямую параллель между реформаторами религии и науки. А Роберт Гук в своей знаменитой Micrographia даже утверждал, что такие инструменты, как микроскоп хорошие уже тем, что способны компенсировать недостатки органов чувств, вызванные первородным грехом: «By the addition of such artificial Instruments and methods, there may be, in some manner, a reparation made for the mischiefs, and imperfection, mankind has drawn upon it self, by negligence, and intemperance, and a wilful and superstitious deserting the Prescripts and Rules of Nature, whereby every man, both from a deriv'd corruption, innate and born with him, and from his breeding and converse with men, is very subject to slip into all sorts of errors.175» 5.2 Наука и протестантство Существует ли связь между расколом католической церкви и становлением новой науки? И действительно ли, как иногда утверждают, протестантство оказалось для естествознания более плодородной почвой, чем католичество? Последняя мысль приходила в голову любому, кто когда-либо занимался историей семнадцатого столетия. Уже Анна де Сталь утверждала в своей De l'Allemagne, что «в человеческом духе есть две весьма различные силы: одна внушает потребность верить, другая – потребность испытывать»176. Таким образом проводилось различие между протестантством и католичеством, 175 Hooke R. Micrographia, Jo. Martyn, and Ja. Allestry, London, 1665 // «С прибавлением таких искусственных инструментов и методов, возможно, в некотором смысле, добиться исправления изъянов и недостатков, на которые обрекло себя человечество своим пренебрежением, несдержанностью и осознанным или суеверным отказом от предписаний и правил природы, так что каждый человек, как из порчи, присущей и врожденной ему, так и из воспитания и общения с людьми, склонен впадать во все разновидности ошибок» 176 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. СПб., 2006 104 первое из которых, по выражению Хомякова, оказывалась свободой без единства, а второе – единством без свободы. Исследовательская свобода, приписываемая протестантскому духу, берет свое начало, по всей видимости, из доктрины о личном суждении одного из столпов учения Лютера. Заявив Вормскому сейму, что он не может пойти против собственной совести, Лютер не только отказался следовать авторитету традиции, но и дал возможность каждому верующему самостоятельно, без посредников, проверять чистоту собственной веры Священным Писанием. Такое понимание веры, действительно, давало христианину несравненно больше свободы, чем раньше, и он, в целом, не преминул ей воспользоваться. Но скоро (и довольно предсказуемо) это привело к формированию новых религиозных ответвлений, таких как анабаптизм, которые были уже чужды не только католичеству, но и собственно Лютеру и его сторонникам. Существенно помнить, что духовная эмансипация, осуществленная Лютером, долгое время ограничивалась рамками Священного Писания, а потому, с легкостью идя на разрыв с одной традицией, ранние протестанты не всегда желали расставаться с другими, в том числе и научной. Хорошо известно холодное и даже враждебное отношение Кальвина и Лютера к гелиоцентрической гипотезе. Меланхтон не мог не признать вычислительного превосходства коперниканской модели, но воспринимал ее исключительно как математическую гипотезу и направлял усилия своих коллег на то, чтобы перевести ее на геостатическую основу177. Таким образом, на протяжении XVI века между протестантством и свободой исследования в широком смысле сохранялась существенная дистанция. Но, уже начиная с конца XVI века, эта дистанция стала мало помалу сокращаться, что причудливым образом контрастировало с нарастающим конфликтом науки и католической церкви. Сокращение этой дистанции было вызвано разнообразными интерпретациями (как со стороны духовенства, так и со стороны паствы в целом) лютеранского и особенно кальвинистского богословия, которые оказались благоприятными для новой науки. Здесь необходимо провести различие между прямым и косвенным влиянием религии 177 Westman R. S. The Melanchthon Circle, Rheticus, and the Wittenberg Interpretation of the Copernican Theory. Isis, Vol. 66, No. 2 (Jun., 1975) 105 на науку. Прямым влиянием можно называть непосредственное указание в богословской литературе на богоугодность (или богопротивность) той или иной научной доктрины или эпистемологической стратегии. Рассматривая такую форму влияния вряд ли возможно утверждать, что кальвинизм, например, был более благоприятным религиозным течением, чем католицизм,178 хотя у последнего и был более развитый репрессивный аппарат. В свою очередь косвенным влиянием можно называть роль религии в формировании более широкой шкалы ценностей и социальных приоритетов, способных ускорить или затормозить развитие науки. Именно таким понятием оперировал Вебер и Мертон. И поскольку даже основоположники религиозных течений неспособны предвидеть природу этого косвенного влияния, его принято называть непредумышленным. В этом втором смысле, протестантство действительно оказалось более благоприятной средой, по крайней мере, для научных дисциплин эмпирикоэкспериментального характера. Если итальянская наука после смерти Галилея постепенно затухает, и концу века перестает существовать как самостоятельное явление; если французские академики, не без влияния картезианства, заостряют свое внимание преимущественно на дисциплинах, поддающихся математизации; то в таких областях как инженерия, ботаника, зоология, астрономия, медицина лидерство прочно закрепилось за странами с подавляюще протестантским населением. Это подтверждают уже самые ранние статистические исследования религиозных предпочтений европейских ученых. Во второй половине XIX века швейцарский ботаник Альфонс Декандоль подсчитал, что среди 101 иностранца, принятых во французскую академию наук между 1666 и 1885, европейских протестантов было 78, а европейских католиков – всего 18, при том, что католическое население Европы за пределами Франции почти в два раза превышало протестантское (107 миллионов против 68). Похожее исследование Декандоль провел и в отношении Королевского Общества. Его результаты были не так красноречивы – примерно одинаковое количество протестантов и католиков среди 178 Свидетельством в пользу этого можно считать тот факт, что пока Женева строго следовала букве Кальвина (примерно до 1725 года), она не дала миру ни одного серьезного ученого. Если верить Декандолю, первый гражданин Женевы был избран членом европейской академии наук (в данном случае, Королевского Общества) в 1739 году. 106 иностранцев – но в пересчете на европейскую популяцию за пределами Англии (139 миллионов католиков на 44 миллиона протестантов), все равно говорили о подавляющем преимуществе протестантов. При этом, чтобы исключить влияние экономических или политических факторов, Декандоль указал на то, что среди швейцарцев, в популяции которой соотношение католиков и протестантов равно 1:1 ½ , ни один из 14 членов европейских научных академий не является католиком179. Несколько факторов способны объяснить подобную корреляцию. Во-первых, становление новой науки осуществлялось в противостоянии с натурфилософией Аристотеля, которая, в свою очередь, была тесно связана с католикосхоластической традицией. Таким образом, отказ от Аристотеля, и других языческих философов (таких как Гален или Птолемей), составлявших основу католического естественнонаучного миропонимания, для многих казался не только рациональным выбором, но и в каком-то смысле праведным. Во-вторых, уверенность в скрытом, неизменяемом законе предопределения, характерная для большой части протестантов, соотносилась с формированием в зарождавшемся научном сообществе понятия «закона природы». Наконец, втретьих, протестантское богословие, ограничив непосредственное вмешательство Бога в земные дела, провело четкую грань между понятиями «естественного» и «сверхъестественного», что в перспективе позволяло науке стать более независимой дисциплиной. Отказавшись от веры в чудотворные реликвии и чудеса вообще (помимо ветхо и новозаветных) и перестав ассоциировать болезнь с грехом, протестанты были вынуждены искать объяснение этих феноменов естественными причинами. Все это, вместе с доктриной о личном суждении, если и не приводило напрямую к современному научному методу, то, по крайней мере, косвенно легитимизировало и создавало благоприятный климат для нового экспериментального естествознания. Конечно, анти-авторитаризм и эмпирический индивидуализм создавали, в лучшем случае, отношение общей направленности между ранним протестантизмом и учеными начала XVII века. По счастью, помимо общих 179 Candolle, A. The Influence of Religion on the Development of the Sciences (1885) in Cohen I.B. (ed.) Puritanism and the Rise of Modern Science. New Brunswick and London, 1990 107 врагов, у протестантства и новой науки были дополнительные точки соприкосновения. Основной из них являлась, по всей вероятности, выделенное Максом Вебером учение о «добрых делах». Кальвинистская доктрина о предопределении и сопровождавший ее постулат о невозможности определить, кто является избранным для спасения, говорит Вебер, создавали психологически напряженную ситуацию в жизни каждого верующего180. Успешное осуществление «добрых дел» стало восприниматься в этой ситуации как показатель избранности, что, согласно Веберу, привело к развитию у протестантского населения «духа капитализма», а согласно более поздним исследователям, предопределило одобрительное отношение протестантства к науке. Особенно ярко это явление проявилось в английской ветви протестантизма, пуританстве: «Поздние последователи Кальвина чувствовали необходимость знать, спасены они или потеряны. <…> так, к середине XVII века Пуритане в целом признавали, что постоянное производство добрых дел указывало на то, что человек принадлежит к спасенным. Среди добрых дел, санкционированных пуританской этикой, были и научные исследования. Пуританский богослов Джон Коттон дошел до того, что объявил в 1654 году изучение природы положительной обязанностью христианина181.» 5.3 Пуританство и английская наука Зародившееся во второй половине XVI века пуританство изначально являлось сугубо религиозным течением, требовавшим от английских церковных (а значит, и светских) властей продолжения реформ, направленных на очищение веры. Требования пуритан простирались от таких формальных, как неиспользование креста при крещении, до таких фундаментальных, как упразднение епископата и переход на альтернативную форму управления церковью, например, пресвитерианскую. Все это, разумеется, ставило их в 180 Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Los Angeles, 2002 Mason S.F. The Scientific Revolution and the Protestant Reformation (1953) in Cohen I.B. (ed.) Puritanism and the Rise of Modern Science. New Brunswick and London, 1990 181 108 оппозицию к англиканской церкви. После 1633 года, когда архиепископом Кентерберийским стал Уильям Лод, крайне враждебно настроенный по отношению к пуританам, часть из них (например, упоминавшийся выше Джон Коттон) эмигрировала в Америку. В то же время вокруг оставшейся части стало кристаллизоваться революционное движение, получившее возможность практически реализовывать свои цели после созыва Долгого Парламента в 1640 году. Следующее двадцатилетие принято называть пуританской революцией, потому что и до, и после казни короля именно пуритане контролировали политическую, экономическую и культурную жизнь английского содружества. Благодаря монографии Роберта Мертона Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, вышедшей в 1938 году, влияние пуританства на современную науку изучено достаточно хорошо. Эта работа вызвала такое количество откликов среди философов, историков и социологов науки, что о ней принято говорить просто как о «тезисе Мертона» даже несмотря на то, что собственно пуританству в ней уделяется лишь небольшая часть. «Тезис Мертона» можно условно разделить на социологические данные, рабочую гипотезу и ее проверку. В том, что качается первых, то изучив Dictionary of National Biography, содержащий биографическую информацию о каждом шеститысячном человеке, жившем в Англии в XVII веке, Мертон пришел к выводу, что в революционное двадцатилетие интерес к науке значительно вырос – все больше и больше людей посвящали себя связанным с ней профессиям. Соответственно гипотеза Мертона состояла в том, что пуританизм непредумышленно способствовал формированию социального этоса, оказавшегося благоприятным для зарождавшейся науки. При этом он выделил два основных элемента этого этоса. Во-первых, идея того, что цель человеческого существования – прославление Бога, в соответствии с чем, изучение природы воспринимается как прославление Бога через его творения. Во-вторых, что «добрые дела» должны, предпочтительно, приносить пользу обществу в целом, так как именно это наиболее радует Бога. Это тоже давало преимущество утилитарно ориентированным дисциплинам. Наконец, проверкой этой гипотезы стало для Мертона изучение религиозных предпочтений членов Королевского Общества, основанного в 1660 году. 109 Посчитав, что многие из них были носителями пуританского этоса, Мертон сделал осторожный вывод о корроборации собственной гипотезы. Если социологические данные Мертона не были оспорены, то его гипотеза и особенно проверка этой гипотезы вызвали ожесточенные споры в научном сообществе, которые, к сожалению, отчасти затмили безусловную ценность Science, Technology and Society. Одной из основных сложностей оказалось то, постановка проблемы Мертоном требовала критерия, по которому можно было бы безусловно определить, является ли тот или иной представитель научного сообщества пуританином или нет. Мертон был прекрасно осведомлен о чрезвычайной широте религиозного спектра, характерной для двадцатилетия английской революции. Но, замечает он, расхождения между большинством лежали в плоскости организации церкви и ритуалов. В то же время то общее мировоззрение, которое эти секты объединяло, Мертон и предложил называть пуританством. Однако, приняв такое широкое определение, практически всех английских протестантов можно было считать пуританами, что противоречит исторической интуиции, согласно которой пуританин должен быть, по меньшей мере, анти-роялистом. Таким образом, терминологическая путаница и не очень удачная форма проверки гипотезы привели к неправильному пониманию значения Science, Technology and Society. Очевидно, что Мертон имел в виду не столько прямой, психологический эффект религиозной доктрины, сколько косвенный, социологический эффект ее разнообразных интерпретаций: “Пуританство сформировало систему ценностей, которая способствовала положительному восприятию науки, но которая, во второй половине XVII века, уже не имела ничего общего с религиозной приверженностью. В тезисе Мертона пуританство нельзя считать отдельной богословской доктриной, чье влияние на науку можно измерить количеством ученыхпуритан”182 182 Abraham G.A. Misunderstanding the Merton Thesis: A boundary Dispute between History and Sociology. Isis, 74 (1983) 110 Для нас важно заново проанализировать тезис Мертона. При этом, мы попытаемся сделать следующий шаг и показать, что пуританство оказалось особенно благоприятной средой именно для экспериментальной философии. Если говорить о науке в целом, то поскольку пуританство фактически являлось радикальным крылом реформации, много из того, что было характерно для протестантства в целом, проявилось в Англии с удвоенной силой. Это касается, прежде всего, критического отношения к унаследованной интеллектуальной традиции, свободы от схоластических ценностей, антиавторитаризма и духовного индивидуализма. Иллюстрацией этому может служить место Святого Духа в пуританском богословии183. В христианстве высокий статус Священного Писания объяснялся тем, что оно, согласно традиции, было продиктовано непосредственно Святым Духом. С другой стороны, в протестантстве Лютера и Кальвина Святой Дух помогал при прочтении того или иного отрывка. Естественно возникал вопрос: каковы отношения между Святым Духом и словом Священного писания, проводником и выразителем этого духа. В классической традиции слово приравнивалось к духу, и, соответственно, любое отхождение от слова считалось и отхождением от духа. Но у пуритан это тождество соблюдалось уже не всегда строго. Кромвель говорит, что иногда Святой Дух говорит больше слова (хотя и «согласно слову»). А квакеры, например, совершенно порвали с этой традицией, утверждая, что священное писание заложено в каждом из нас. И хотя квакеры были носителями настолько радикальных взглядов, что большинство пуритан считало их злейшими врагами, Наттал отмечает, что квакерство было лишь логическим следствием всего пуританского движения, для которого именно личный духовный опыт являлся верховным судьей в вопросах миропонимания. Возможностью общения с Богом фактически напрямую объясняется толерантный и где-то даже эгалитаристский климат английской революции. Поскольку каждому вменялась способность понимать слово Божье не хуже других, барьеры между представителями различных сословий или даже религиозных конфессий отчасти снимались. В религиозных кругах это привело к 183 Nuttall G.F. The Holy Spirit in Puritan Faith and Experience. Oxford, 1947 111 распространению практики публичного «толкования» Священного Писания, когда, после официальной проповеди, слово давалось кому-то из «одаренной братии». Более того, при Кромвеле серьезно обсуждался вопрос о том, могут ли простые, нерукоположенные прихожане проповедовать наравне со священнослужителями. Уже здесь нельзя не отметить прямую параллель с практикой экспериментальных философов, считавших, что каждый может поучаствовать в общем деле познания природы, за счет обнаружения или описания того или иного научного факта. Такая аналогия может показаться натянутой, но в действительности ее проводили уже некоторые из пуританских утопистов. Джордж Розен цитирует Джеррарда Уинстанлея, главу движения диггеров, утверждавшего в отношении своего проекта утопического сообщества, что «He who is the chosen Minister for that year to read shall not be the only man to make Sermons or Speeches: but every one who hath any experience, and is able to speak of any Art of Language, or of the Nature of the Heavens above, or of the Earth below <…> And every one who speakes of any Herb, Plant, Ant, or Nature of Mankind, is required to speak nothing by imagination, but what he hath found out by his own industry and observation in tryal184» В предыдущей главе мы говорили о том, что тенденция к разрушению социальной и духовной иерархии была отличительной чертой религиознополитического климата английской революции. Здесь необходимо сказать, что она была характерна как для умеренного пуританства, так и для многочисленных сект, более или менее радикальной направленности. Индепенденты настаивали на праве каждого прихода на самоуправление; конгрегационалисты, что в его управлении должен принимать участие каждый прихожанин; левеллеры требовали введения расширенного избирательного права и установления равенства перед законом; диггеры предлагали (и отчасти осуществляли) перераспределение земли в пользу малоимущих. Помимо уже упомянутой аналогии, для развития нового знания такая тенденция имела три важных последствия. Во-первых, среди радикальных пуритан стали появляться 184 Winstanley G. The Law of Freedom in a Platform, 1652. Процитировано в: Rosen G. Left-Wing Puritanism and Science (1944) in Cohen I.B. (ed.) Puritanism and the Rise of Modern Science. New Brunswick and London, 1990 112 апологеты обскурантизма, считавшие, что поскольку для общения с Богом не требуется квалификации, то систему высшего образования можно просто упразднить. Во-вторых, что гораздо важней, она сыграла роль в формировании идеала взаимовыгодного сотрудничества людей разных сословий, что привело к частичному разрушению социальных барьеров внутри научного сообщества. В-третьих, она неизбежно сказалась на привлекательности философии Бэкона, надеявшегося, как известно, что его метод «почти уравнивает дарования и мало что оставляет их превосходству, ибо он все проводит посредством самых определенных правил и доказательств»185. Стремление к прямому контакту с Богом, без посредников в виде духовного лица или текста, привело к эффекту «узнавания» Бога в его творениях, характерному для пуританского религиозного сознания: «…было недостаточно созерцать и восхищаться Богом как Создателем, вечным, но далеким в небесах. Бог должен быть обретен в результате непосредственного, личного опыта, находящимся, через Его Святой Дух, прямо в сердце и способным заставить людей сказать вместе с Иовом: “ Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя186”». «Узнаванию» способствовало еще и то, что дистанция между Богом и человеком-созерцателем была сокращена до минимума, благодаря изобретенным в начале XVII века инструментам, таким как телескоп и особенно микроскоп. На иллюстрации 5 можно увидеть увеличенное изображение «голубой мухи», напечатанное Робертом Гуком в его Micrograhia, 1665. Наряду с мухой, Гук, желавший продемонстрировать мощность нового инструмента познания, микроскопа, включил в свою книгу рисунки других насекомых (вшей, блох, комаров), растений (мха, пробки), а также некоторых рукотворных артефактов (игла, бритва, ткань). Чем можно объяснить такой выбор объектов исследования? И что могло служить мотивацией для такого скрупулезного, почти любовного изображения живых объектов в эпоху, когда биологическая таксономия еще не существовала? В действительности, мотивация художника в 185 186 Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1978 Nuttall G.F. The Holy Spirit in Puritan Faith and Experience. Oxford, 1947 113 такой ситуации имеет, как правило, несколько составляющих. В одних случаях им руководит желание продемонстрировать виртуозную технику; в других – ощущение сопричастности чудесному. Все это, безусловно, касалось Роберта Гука и Кристофера Рена, выполнившего часть иллюстраций к Micrograhia. Но, возможно, ключевым стимулом в их случае стала возможность продемонстрировать с помощью своих рисунков мудрость и могущество Бога. Строение крыла божьей коровки говорит теперь о совершенстве мира (и его архитектора) также красноречиво, как и безупречная гармония небесных сфер. Поэтому же в книгу были включены такие объекты, как иголка или лезвие. На их примере авторы пытались показать, что если рукотворные артефакты при оптическом увеличении оказываются все более и более несовершенными, то с божьими тварями наблюдается обратная тенденция: безыскусные и даже отталкивающие на первый взгляд, они на поверку обнаруживают продуманность и изящество. Здесь нельзя не заметить, что исследовательский размах, о котором мы говорили как об отличительной особенности экспериментальной философии, объясняется, видимо, еще и тем, что абсолютно на всем экспериментальный философ видел печать божественного провидения. На то, что познание природы неразрывно связано у пуритан с восхвалением Бога, обратил внимание еще Мертон. Особенно ярко это проявилось в работах Роберта Бойля. В своей Some considerations Touching the Usefulness of Experimental Natural Philosophy он открыто говорит о том, что у познания природы есть два главных достоинства: удовлетворение любопытства и укрепление набожности. Последнее неизбежно потому что «at least in the creating of the sublunary world, and the more conspicuous stars, two of God’s principal ends were, the manifestation of his own glory, and the good of men.187» Таким образом, наблюдая природу, человек убеждается в могуществе, мудрости и доброте Бога. Могущество, например, выражается в размерах Вселенной, которые в отсутствии наблюдаемого параллакса, поражали даже 187 Boyle R. Some considerations Touching the Usefulness of Experimental Natural Philosophy in The Works of the Honourable Robert Boyle, printed for A. Millar, London, 1744 114 воображение Бойля, а мудрость – в ее великолепном устройстве, изысканном и экономичном, словно часовой механизм. Более того, некоторые считали, что наблюдения и эксперименты смогут в конечном итоге свидетельствовать и о существовании нематериальной реальности. Так считал, например, член Королевского Общества, знаменитый кембриджский платоник Генри Мор. Согласно Хоппену, «эта цель лежала в корне симпатии Мора к Королевскому Обществу, так как он считал, что эксперименты и наблюдения дают все больше свидетельств в пользу реальности «духа природы», настолько близкого кембриджским платоникам188.» В этом же ключе высказывается Томас Спрат в The History of the Royal Society. Вера в такие существа, как ангелы, говорит он, только возрастает, когда человек видит, как сложно устроен даже материальный мир189. Невозможно сомневаться в искренности религиозного чувства Бойля или Спрата, но в их настойчивом примирении науки и религии чувствуется, тем не менее, некоторая нарочитость. Она объясняется, скорее всего, осознанным желанием ученых пойти навстречу религии и воспользоваться благоприятной для них социальной атмосферой. Хотя пуританский этос сам по себе способствовал формированию и развитию в обществе научных интересов, ученые, не смущаясь, пользовались этим в риторических целях. Это было тем более естественно, что каждая из сторон извлекала из взаимодействия определенную выгоду: положение ученых в обществе, где доминировала религия, становилось гораздо более прочным, а богословие, в свою очередь, переставало быть исключительно умозрительной дисциплиной и становилось как бы доказательной наукой. Подобный союз подтолкнул некоторых исследователей к тому, чтобы утверждать, что суть тезиса Мертона – возможность использования религии в целях пропаганды науки190. И хотя мы не готовы согласиться с такой радикальной оценкой работы американского социолога, он, безусловно, отдавал себе отчет в том, что сближение науки и 188 Hoppen K.T. The Nature of the Early Royal Society: Part I. The British Journal for the History of Science, Vol. 9, No. 1 (Mar., 1976) 189 Sprat, T. The History of the Royal Society of London, For the Improving of Natural Knowledge. London, 1722 190 Abraham G.A. Misunderstanding the Merton Thesis: A boundary Dispute between History and Sociology. Isis, 74 (1983) 115 религии в середине XVII века произошло в результате обоюдного движения в сторону удовлетворительного компромисса: «Пуританские принципы без сомнения представляют собой в какой-то степени адаптацию к имевшему место научному и интеллектуальному прогрессу». Но «Прямое совпадение между пуританскими догмами и превосходными качествами науки как призвания, подсказанное историком Королевского Общества, является софистикой. Без сомнения, это отчасти намеренная попытка встроить ученого в роли мирянина в систему доминирующих нравственных и общественных ценностей191.» 5.4 Пуританство и экспериментальная философия Не стоит забывать, что помимо ученых, чьи взгляды сложились под влиянием пуританства, формы естественного богословия артикулировали и другие протестантские мыслители, например, Кеплер или Бэкон. В XVIII веке оно станет неизменной спутницей многих протестантских натуралистов, таких как Карл Линней или Шарль Бонне192. В то же время для католических ученых такая философия не была свойственна. Галилей настаивает на гармоничном, но во многом изолированном сосуществовании науки и религии, а Паскаль под конец жизни сформулировал и вовсе противоположную идеологию, согласно которой познание природы может свидетельствовать в пользу Бога только в том случае, если человек уже пришел к нему другим путем. В противном же случае, говорит Паскаль, изучение природы ведет человека в лучшем случае к деизму, а в худшем – к атеизму. 191 Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, Osiris, Vol. IV, pt. 2, pp. 360-632. Bruges: St. Catherine Press, 1938 192 Daston L. Attention and the Values of Nature in the Enlightenment. The Moral Authority of Nature. Chicago, 2004 116 В Англии, симбиоз пуританского этоса и бэконианской философии привел к тому, что познание природы было объявлено богоугодной деятельностью уже в середине XVII века. Но разные способы познания природы занимали разное место на шкале пуританских ценностей. Это произошло из-за резко негативного отношения пуритан к любой форме праздности. Хорошо известно, например, что театральные и спортивные мероприятия в период пуританской революции практически не проводились. Но даже среди богоугодных занятий, те, что требовали затрат физической энергии, котировались выше остальных – интеллектуальная деятельность если не приравнивалась к лени, то ценилась значительно ниже. Именно отсюда происходит популярный в пуританских кругах обычай восхвалять добродетели простого ремесленника193. И именно поэтому экспериментальная философия получала в этой среде конкурентное преимущество в сравнении с более рационалистическими эпистемологиями, такими как картезианство или даже гипотетико-дедуктивный метод Галилео Галилея. Экспериментальная философия как нельзя гармонично вписывалась в религиозный климат английской революции, что связано, конечно, с тем, что она отчасти являлась его продуктом. Чарльз Вебстер, возможно, самый значительный историк науки, пошедший по стопам Мертона, описывает ее привлекательность для пуритан лаконично и емко: «Во-первых, у нее отсутствовали очевидные недостатки схоластической системы. Бэконианская наука была в целом анти-авторитарна; ее критерий истинности основывался на апелляции к эксперименту, что воспринималось как аналогия личному откровению. Далее, в отличие от философии Аристотеля, она не ассоциировалось напрямую с метафизикой и богословием <…> и ее легко можно было примирить с пуританской богословской позицией. Во-вторых, благодаря естественному богословию, экспериментальная философия могла быть вознесена до роли важнейшего союзника духовной религии. Наконец, 193 Здесь также, пуритане лишь продолжали вектор, намеченный консервативным протестантством. Так, еще Лютер утверждал, например, что «что [любой] гончар имеет более глубокие знания о естественных вещах, чем можно почерпнуть из книг Аристотеля». (см. Лютер М. Время молчания прошло в Избранные произведения 1520-1526 гг. Харьков, 1984) 117 наука могла быть использована для практических целей, в согласии с социальной этикой пуритан…»194 Здесь, очевидно, речь идет о том, что мы назвали косвенным или непредумышленным влиянием пуританской религиозной доктрины на экспериментальное естествознание. Но между ними, на наш взгляд, существовала в то же время и прямая, хотя, быть может, не настолько сильная связь. Дело в том, что переживание духовного опыта, характерное для пуритан, было в чем-то синонимично проведению научного эксперимента. Это отчасти можно объяснить размытостью понятия ‘эксперимента’, на которое мы указывали в первой главе. Поскольку простое наблюдение считалось экспериментом, то им же могла считаться сосредоточенная интроспекция, характерная для религиозного сознания английских протестантов. В действительности же, даже активное познание элементов духовного и материального мира осуществлялось у пуритан по схожей схеме: отказ от опоры на источники и традицию, обращение к чувственному опыту и попытка его превзойти за счет методичных, и заранее продуманных реитераций. Так, Якоб Бёме, немецкий мистик, популярный среди некоторых пуритан, утверждал, что цель духовного опыта – преодолеть ‘the shell and cover of things’ для достижения духовного откровения через ‘inward Experience, Examination or Experimenting of Spiritual things’195. Как и в случае с «игровыми» экспериментами Бойля, результат духовных экзерсисов не всегда был, а иногда и принципиально не мог быть, известен заранее. Неслучайно умирающий епископ Джон Вилкинс, в ответ на предложение Годдарда прикладывать к шее пластырь из шпанской мушки, отвечал, что в этом нет необходимости, потому что он уже подготовил себя к «the great Experiment»196. Интересно, как описывает свое обращения Джордж Фокс, лидер движения квакеров: «But as I had forsaken the priests, so I left the separate preachers also, and those esteemed the most experienced people; for I saw there was none among them all that could speak to my condition <…> then, I heard a voice 194 Webster C. The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626-1660. Oxford, 2002 Ibid., 196 Shapiro B. John Wilkins 1614-1672. An Intellectual Biography. Berkeley and Los Angelos, 1969 195 118 which said, "There is one, even Christ Jesus, that can speak to thy condition" <…> Then the Lord let me see why there was none upon the earth that could speak to my condition, namely, that I might give Him all the glory. For all are concluded under sin, and shut up in unbelief, as I had been; that Jesus Christ might have the pre-eminence who enlightens, and gives grace, and faith, and power. Thus when God doth work, who shall hinder it? This I knew experimentally».197 Познание религиозной истины Фокс называет экспериментальным, что с одной стороны, должно было отражать отношение субъекта к познаваемому факту, с другой – говорить об исключительной надежности этого знания, и, наконец, с третьей – свидетельствовать о том, что это знание доступно любому, кто сосредоточит на нем свое внимание. При этом Фокс был не первым, кто вторил ученым-современникам в описании своего приобщения к божественной истине. Пуританский священнослужитель Томас Тэйлор (1576-1633) писал, что «true knowledge of Christ is experimental,’ и приобретается оно ‘not…by reading, not out of books or relations, as physician knows the virtue of books by reading; but by experience of himself».198 197 Fox G. A journal or historical account of the life, travels, sufferings, Christian experiences and labour of love, in the work of the ministry, of that ancient, eminent, and faithful servant of Jesus Christ, George Fox. Kimber&Sharpless, Philadelphia, 1839 198 Hill C. Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford, 1965 119 Заключение Экспериментальная философия была, безусловно, важнейшим явлением английской научной жизни между 1645 и 1670 гг. Тем не менее, она оказалась лишь переходной стадией между эклектичным бэконианским экспериментированием и тем, что можно назвать современным научным методом. Фигура Ньютона имеет здесь символическое значение. С одной стороны, он и его окружение добавили английской науке рационализма, который был практически полностью вытеснен эмпирико-экспериментальной методологией. С другой стороны, его собственная исследовательская парадигма имела настолько высокую объяснительную силу, что говорить о ней лишь как об одной из многочисленных гипотез уже не представлялось возможным. В дальнейшем вся научная деятельность стала сводиться к апробации, корроборации или опровержению результатов ньютоновой физики, а эгалитаризм и даже демократизм, свойственный экспериментальной философии, сменился вертикалью власти, на вершине которой заслуженно восседал сэр Исаак Ньютон: ‘Nature and nature's laws lay hid in night; God said "Let Newton be" and all was light.’ Осуществление этого перехода от Бэкона к Ньютону стало возможным, на наш взгляд, только благодаря тесному и плодотворному сотрудничеству между учеными и представителями власти во время пуританской революции и непосредственно после нее. При этом плодотворная роль последних могла быть, как и в случае с религиозной доктриной, непредумышленной. Так, Чарльз Вебстер замечает, что во время революции: “[В Оксфорде] как и в Кембридже, парламентское вмешательство в университет шло на пользу натурфилософии. На вовлеченность в экспериментальную философию смотрели благосклонно, так как ее адепты в общем казались умеренными и надежными.”199 В целом, это может поставить под сомнение утверждение Теренса Кили, что «[the history of scientific method] reveals that its triumph did not require the active 199 Webster C. The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626-1660. Oxford, 2002 120 support of the State»200. Потому что если согласиться с тем, что государственное влияние во время пуританской революции было положительным, гипотеза английского исследователя становится недоказуемой. В то же время, историю экспериментальной философии можно интерпретировать и в пользу теории невмешательства. Ведь английское научное сообщество во многом кристаллизовалось именно после падения авторитарного государственного строя, когда новая власть, больше занятая войной или политическим устройством, невольно практиковала по отношению к науке laissez-faire. Некоторые выводы, сделанные в нашем исследовании, не могут считаться окончательными. Мы нарочно старались формулировать их осторожно, насколько это было возможно без ущерба их интеллектуальному содержанию. В то же время, настоящая работа может служить отправной точкой для последующих исследований менее широкого характера, так как, например, интересная, но пока убедительно неподтвержденная гипотеза о том, что движение в сторону от бэконианской, утопической эпистемологии ранней революции к механико-математической эпистемологии конца 1650-х (которая, в свою очередь, уже не обещала быстрой выгоды, а, наоборот, говорила о медленной и трудной реконструкции истины) было вызвано сменой идеологического состава научного сообщества, где радикалы, подобные Хартлибу и Хааку, уступили место умеренному крылу во главе с Бойлем и Вилкинсом. Другой вопрос, требующий подробного изучения, это количество выдающихся математиков среди англичан XVII века. В отличие от экспериментальной философии, математика не имела откровенно утилитарной направленности. Она не могла быть убедительно использована для восхваления Бога, а умозрительный компонент в ее изучении был настолько велик, что математик по праву должен был находиться, с точки зрения пуританина, на противоположном полюсе от ремесленника. И, тем не менее, в Англии этой эпохи выросли такие выдающиеся ученые, как Напье, Бриггс, Валлис, Рен, Харриот, Галлей и, конечно, Ньютон. Возможно, ключ к разгадке лежит в интригующей оценке этих ученых, данной Николя Бурбаки, утверждавшего, что «многое в трудах ведущих математиков этого периода 200 Kealey T. The Economic Laws of Scientific Research. London, 1996 121 производит на нас впечатление экспериментирования201». безудержного и восторженного 201 Процитировано по Касавин И.Т. Роберт Бойль и начало эмпирического естествознания. Философия науки. Вып. 10. М.: ИФ РАН, 2004 122 Библиография Первоисточники: 1. Декарт Р. Сочинения в 2 т. М.: Мысль, 1989 2. Леонардо да Винчи. Избранные произведения. Academia, МоскваЛенинград, 1935 3. Лютер М. Время молчания прошло в Избранные произведения 15201526 гг. Харьков, 1984 4. Bacon F. The Letters and Life of Francis Bacon, Vol. 1, J. Spedding, 1861 5. Bacon F. New Organon. Cambridge, 2000 6. Boyle R. Certain physiological essays and other tracts in The Works of the Honourable Robert Boyle, printed for A. Millar, London, 1744 7. Boyle R. Correspondence of Robert Boyle. London, 2001 8. Boyle R. New Experiments in The Works of the Honourable Robert Boyle printed for A. Millar, London, 1744 9. Boyle R. Proemial Essay in The Works of the Honourable Robert Boyle, printed for A. Millar, London, 1744 10.Boyle R. Some considerations Touching the Usefulness of Experimental Natural Philosophy in The Works of the Honourable Robert Boyle, printed for A. Millar, London, 1744 11.Fox G. A journal or historical account of the life, travels, sufferings, Christian experiences and labour of love, in the work of the ministry, of that ancient, eminent, and faithful servant of Jesus Christ, George Fox. Kimber&Sharpless, Philadelphia, 1839 12.Galilei G. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. Milano, 2008 13.Graunt J. Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality. London, 1662 14.Harvey W. The anatomical exercises: De motu cordis and De circulatione sanguinis. New York, 1995 (based on the first English text of 1653) 15.Hobbes T. De Cive, Philosophicall Rudiments Concerning Government and Society. London, Printed by J.C. for R. Royston, at the Angel in Ivie-Lane, 1651 16.Hooke R. Micrographia, Jo. Martyn, and Ja. Allestry, London, 1665 17.Norman R. The Newe Attractive. London, 1720 123 18.Palissy, B. Discours admirable de la nature des eaux et fontaines tant naturelles qu'artificielles. Paris: Martin le Ieune, 1580 19.Paracelse. De l’Alchimie. Strasbourg, 2000 20.Pepys S. Diary and Correspondence of Samuel Pepys, F.R.S. Secretary to the Admiralty in the Reigns of Charles II and James II, H.G. Bohn, London, 1858 21.Power H. Experimental Philosophy. London: T. Roycroft, 1664 22.Shadwell T. The Virtuoso. Lincoln and London, 1966 23.Sprat T. History of the Royal Society of London, For the Improving of Natural Knowledge. London, 1722 24.Wilkins J. Mathematical Magic, Or The Wonders that May Be Performed by Mechanical Geometry. London, 1691 25.Wren S. Parentalia or Memoirs of the family of the Wrens. London, 1750 Вторичные источники: 3. Боганцев И.A. Институциональное наследие Фрэнсиса Бэкона. Эпистемология & философия науки. 2010, № 3 (XXV) 4. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М. 2009 5. Гайденко П.П. Христианство и генезис новоевропейского естествознания. М. 1997 6. Гессен Б.М. Социально-экономические корни механики Ньютона. Л. 1933 7. Грэхэм Л. Социально-политический контекст доклада Б. М. Гессена о Ньютоне. Вопросы истории естествознания и техники. No 2, 1993. C. 2031 8. Касавин И.Т. Роберт Бойль и начало эмпирического естествознания. Философия науки. Вып. 10. М.: ИФ РАН, 2004 9. Койманс Л. Художник Смерти. Анатомические уроки Фредерика Рюйша. СПб, 2008 10.Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. СПб, 2006 11.Abetti G. L’Accademia del Cimento in Celebrazione della Accademia del Cimento nel Tricentenario della Fondazione, Domus Galilæana. Pisa, 1958 12.Abraham G.A. Misunderstanding the Merton Thesis: A boundary Dispute between History and Sociology. Isis, 74 (1983) 124 13.Ash H.E. Power, Knowledge and Expertise in Elizabethan England. Baltimore, 2004 14.Bayon H.P. William Gilbert (1544-1603), Robert Fludd (1574-1637), and William Harvey (1578-1657), as Medical Exponents of Baconian Doctrines. Proceedings of the Royal Society of Medicine Vol. XXXII, 31 15.Beretta M. At the Source of Western Science: The Organization of Experimentalism at the Accademia del Cimento (1657-1667), Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 54, No. 2 (May, 2000), pp. 131151 16.Boas Hall M. Henry Oldenburg, Shaping The Royal Society. Oxford, 2002 17.Brown, H. Scientific Organisations in Seventeenth Century France, 1620-1680. New York, 1967 18.Buck A. La contribution humaniste à la formation de l’esprit scientifique, dans Sciences de la Renaissance. Paris, 1973 19.Buck A. La polémique humaniste contre les sciences, dans Sciences de la Renaissance. Paris, 1973 20.Candolle, A. The Influence of Religion on the Development of the Sciences (1885) in Cohen I.B. (ed.) Puritanism and the Rise of Modern Science. New Brunswick and London, 1990 21.Cartwright N. How the Laws of Physics Lie. Oxford, 1983 22.Daston L. Attention and the Values of Nature in the Enlightenment. The Moral Authority of Nature. Chicago, 2004 23.Daston L., Park K. Wonders and the order of Nature, New-York, 1998 24.Duane H. Roller D. Did Bacon Know Gilbert's De Magnete? Isis, Vol. 44, No. 1/2 (Jun., 1953) 25.Eamon W. Paheau F. The Accademia Segreta of Girolamo Ruscelli, Isis, Vol. 75, No. 2 (Jun., 1984) 26.Farrington B. Francis Bacon. Philosopher of Industrial Science. London, 1951 27.Feyerabend P.K. Classical Empiricism in Problems of Empiricism, Cambridge, 1981 28.Flocon A. Les artistes du XVI siècle et la fabrique du corps humain, dans Sciences de la Renaissance. Paris, 1973 29.Frank R. G. Jr. Harvey and the Oxford Physiologists. Berkeley, 1980 30.Fraser A. King Charles II. London, 1979 125 31.Gibson R.W. Francis Bacon, A Bibliography of His Works and of Baconiana to the year 1750. Oxford, 1950 32.Gribbin J. The Fellowship. Woodstock & New York, 2007 33.Gough J.W. The Superlative Prodigall. Bristol: J.W. Arrowsmith, 1932 34.Grmek M. Le chaudron de Médée. Institut Sunthélabo, 1997 35.Helden van A. The Invention of the Telescope, Transactions of the American Philosophical Society, Vol. 67, No. 4. (1977) 36.Hill C. Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford, 1965 37.Hill C. William Harvey and the Idea of Monarchy, Past & Present, No. 27 (Apr., 1964) 38.Hoppen K. T. The Nature of the Early Royal Society: Part I, The British Journal for the History of Science, Vol. 9, No. 1 (Mar., 1976), pp. 1-24 39.Hume D. The History of England, Indianapolis, Volume VI, Based on edition of 1778 40.Hunter M. Science and the Shape of Orthodoxy. Woodbridge, 1995 41.Hunter M. & Wood P. B. Towards Solomon's House: Rival Strategies for Reforming the Early Royal Society. History of Science, Vol. 24 42.Jones, R.F. Ancients and Moderns. A Study of the Rise of the Scientific Movement in Seventeenth-Century England. St. Louis, 1961 43.Kealey T. The Economic Laws of Scientific Research. London, 1996 44.Koyré A. L’apport scientifique de la Renaissance. Études d’histoire de la pensée scientifique. Paris, 1966 45.Koyré A. A l’Aube de la science classique. Paris: Hermann & Cie, 1939 46.Koyré A. Du monde clos à l’univers infini. Paris, 1973 47.Kuhn, T. The Copernican Revolution. Cambridge, 2002 48.Kuhn T.S. Mathematical vs. Experimental Traditions in the Development of Physical Science. Journal of Interdisciplinary History, Vol. 7, No. 1 (Summer, 1976) 49.Leary J.E. Jr. Francis Bacon and the Politics of Science. Iowa, 1994 50.Mason S.F. The Scientific Revolution and the Protestant Reformation (1953) in Cohen I.B. (ed.) Puritanism and the Rise of Modern Science. New Brunswick and London, 1990 51.McKie D. The Origins and Foundation of the Royal Society of London, Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 15 (Jul., 1960), pp. 1-37 126 52.Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, Osiris, Vol. IV, pt. 2, pp. 360-632. Bruges: St. Catherine Press, 1938 53.Middleton W.E.K. What Did Charles II Call the Fellows of the Royal Society? Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 32, No. 1 (Jul., 1977) 54.Moran B.T. (ed.) Patronage and institutions. Science, Technology, And Medicine at the European court 1500-1750. The Boydell Press, 1991 55.Nardi B. Significato del motto «Provando e riprovando» in Celebrazione della Accademia del Cimento nel Tricentenario della Fondazione, Domus Galilæana, Pisa, 1958 56.Nicholson M. English Almanacs and the ‘New Astronomy’. Annals of science, Vol.4, January 15, 1939, No 1 57.Nuttall G.F. The Holy Spirit in Puritan Faith and Experience. Oxford, 1947 58.Panofsky E. Artist, scientist, Genius: Notes on the Renaissance-Dämmerung in The Renaissance: Six Essays by Wallace K. Ferguson and others. New York, 1962 59.Pelseneer J. Gilbert, Bacon, Galilée, Képler, Harvey et Descartes: Leurs relations. Isis, Vol. 17 No.1 (1932) 60.Randall J.H. The School of Padua and The Emergence of Modern Science. Padova, 1966 61.Rosen G. Left-Wing Puritanism and Science (1944) in Cohen I.B. (ed.) Puritanism and the Rise of Modern Science. New Brunswick and London, 1990 62.Rossi P. Francis Bacon. From Magic to Science. London, 1968 63.Rupert Hall A. Ballistics in the Seventeenth century. Cambridge,1952 64.Sciences de la Renaissance. Paris : J.Vrin, 1973 65.Shapin S. The House of Experiment in Seventeenth-Century England, Isis, Vol. 79, (Sep., 1988) 66.Shapin S., & Schaffer S. Leviathan and the Air-Pump. Princeton University Press, 1985 67.Shapiro B. John Wilkins 1614-1672. An Intellectual Biography. Berkeley and Los Angelos, 1969 68.Syfret R.H. The origins of the Royal Society, Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 5, No. 2 (Apr., 1948), pp. 75-137 69.Voltaire. Lettres philosophiques in Oeuvres V. 1, P., 1834 70.Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Los Angeles, 2002 127 71.Webster C. The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626-1660. Oxford, 2002 72. Webster C. Richard Towneley, the Towneley Group, and Seventeenth-Century Science. Transactions of the Historic Society of Lancashire and Cheshire, 118 (1966) 73.Westman R. S. The Melanchthon Circle, Rheticus, and the Wittenberg Interpretation of the Copernican Theory. Isis, Vol. 66, No. 2 (Jun., 1975) 74.Worrall J. Does Science Discredit Religion? in Contemporary Debates on Philosophy of Religion. Oxford, 2004 128 Иллюстрации Илл.1 129 Илл.2 130 Илл.3 131 Илл. 4 132 Илл. 5 133