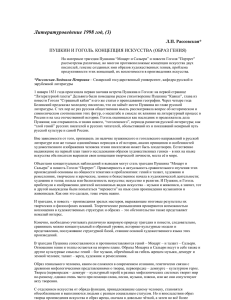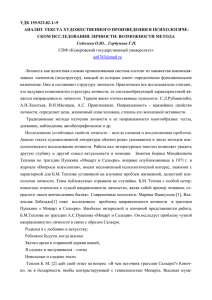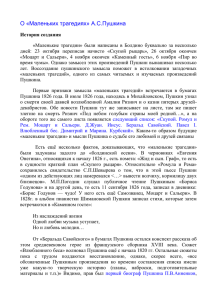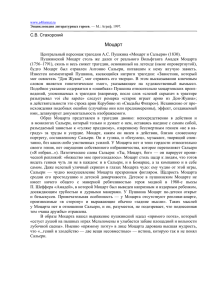Argumento
advertisement

ПРИЛОЖЕНИЕ Иллюстрированный сборник о «Маленьких трагедиях» А.С.Пушкина, Часть II СОДЕРЖАНИЕ Введение I «Скупой рыцарь». « Скупой не только скуп…» II «Моцарт и Сальери». Легенда или реальность? III «Каменный гость». Жизнь есть любовь. IV «Пир во время чумы». Непреходящее и вечное… V «Маленькие трагедии» на сцене. Заключение «Талант неволен, и его подражание не есть постыдное похищение – признак умственной скудости, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые миры, стремясь по следам гения, - или чувство, в смирении своем ещё более возвышенное: желание изучить свой образец и дать ему вторичную жизнь» А.С.Пушкин. Сегодня стало общепризнанным фактом, что всё меньше людей обращается к литературе как источнику высокого духовного наслаждения и нравственных ориентиров. Наш техногенный век привнёс в жизнь высокие скорости и напряжённый ритм, тем самым лишив человека возможности вместе с талантливым писателем размышлять о вечных вопросах бытия. Это явление носит глобальный характер, и последствия такого отношения к искусству слова уже заметны: всё чаще мы становимся свидетелями того, что в сознании многих размываются грани между добром и злом, что «ужасный век» подчинил их себе. И не случайно всё чаще звучит мысль о потерянном поколении. Между тем обращение к творчеству Александра Сергеевича Пушкина даёт тем, кто вступает в жизнь, прекрасную возможность открыть для себя понастоящему спасительные основы бытия. Так, в «Маленьких трагедиях» писатель развенчал порочную идею самоутверждения любыми средствами, идею, которая могла родиться только в жестокий индивидуалистический век, и противопоставил этому веру в спасительные творческие возможности человека, жизнелюбивую духовность, мечту о достижении человечеством единства личных устремлений и общих интересов. Именно в этом и видится актуальность выбранной темы. Именно поэтому Пушкин – «на все времена». Выявлению этого жизнеутверждающего начала в цикле «Маленьких трагедий» и посвящена данная работа. Введение Наряду с произведениями из русской жизни, созданными в «болдинскую осень», Пушкин написал «Маленькие трагедии», воссоздающие картины и образы разных стран и эпох. Это не было уходом от современности: в «Маленьких трагедиях» ставились живые вопросы, волновавшие передовых людей 30-х годов — социально-философские и морально-этические. «Маленькие трагедии» - не пушкинское название. Оно возникло при публикации тетралогии и основывалось на фразе из письма Пушкина, где словосочетание «маленькие трагедии» употребляется в буквальном смысле. Авторские варианты: «Драматические очерки», «Опыт драматических изучений» и т.п. «Маленькие трагедии» были написаны в период «болдинской осени» 1830 г., в цикл вошли: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы». Называя свои позднейшие маленькие трагедии «сценами» и «опытом драматических изучений», Пушкин стремился определить их жанр, внутреннее единство и назначение. Это вовсе не значит, что он считал эти короткие пьесы камерными или незначительными по своим темам, характерам и проблемам. Но все их сюжеты взяты из западноевропейской жизни, являются творческими обработками тамошних мифов (сюда относится и легенда о Моцарте, и поныне с успехом заменяющая его подлинную биографию) и литературных произведений, продуманно отобранных автором и иногда выдаваемых за перевод. Это «вечные» сюжеты и образы, очищенные от всего преходящего, временного. Национальные миры Англии, Испании, Франции и имперской Австрии здесь также мифологичны, условны, далеки от исторической реальности. Все скупо, сжато, замкнуто в пространствах комнат, подвалов, башен, трактирных залов, монастырских и кладбищенских интерьеров. Нет ничего лишнего или случайного (Моцарт упоминает в разговоре с Сальери о Бомарше потому, что он уже написал по его знаменитой революционной пьесе гениальную оперу о любви «Свадьба Фигаро»). Действия мало, одни диалоги и монологи, но велики их драматическая содержательность, напряжение мысли и страсти персонажей, насыщено словесное действие. Ведь знаменитые монологи старого барона и Сальери – это уже маленькие трагедии, они могут играться отдельно. Велика роль музыки, неожиданно открывающей новые пространства в жизни и душах действующих лиц. Характерно то острое восприятие связи этих произведений с действительностью последекабрьской России, которое было свойственно Герцену. «Когда Пушкин, — писал он, — начинает одно из своих лучших творений («Моцарт и Сальери») этими страшными словами: Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше! Для меня Так это ясно, как простая гамма, — не сжимается ли у вас сердце, не угадываете ли вы сквозь это видимое спокойствие разбитое существование человека, уже привыкшего к страданию?». Вместе с тем «Маленькие трагедии», на разном материале затрагивавшие темы серьезнейшего идейного значения, свидетельствуют о горячем стремлении Пушкина продолжать ту реформу русской драматургии и русского театра, которая была начата «Борисом Годуновым». Объектом творческих размышлений Пушкина стала «судьба человеческая», как формулировал он сам в статье о народной драме. Основным требованием Пушкина к драматургу было: «... истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах». Как показывают «Маленькие трагедии», практика Пушкина-драматурга продолжает оставаться резко противоположной практике французской драмы «чертогов». Новые герои «Маленьких трагедий» Пушкина — обычные люди, взятые в реалистическом плане, кто бы они ни были: типические феодалы «ужасного века», люди искусства в Вене XVIII века, влюбленные экзотической Испании или персонажи старой Англии. В нашем небольшом исследовании предпринимается попытка проанализировать, во-первых, «Маленькие трагедии» Пушкина и питавшие их факты из истории и литературы Англии, Франции, Испании, Австрии с точки зрения современных данных о проблеме, во-вторых, контрасты между самими героями пушкинских трагедий и их прототипами, в-третьих, судьбу этической стороны искусства. «Скупой рыцарь». « Скупой не только скуп…» Самой ранней из «Маленьких трагедий» явился «Скупой рыцарь», задуманный еще в 1826 году в Михайловском и законченный в 1830 году в Болдине. Для своей трагедии Пушкин на этот раз избрал эпоху средневековья, период возникновения в феодальном строе новых отношений. Не прикрепляя сюжета «Скупого рыцаря» к какому-либо точному моменту истории Франции, Пушкин более интересовался созданием общего условно-средневекового колорита, на фоне которого им показан центральный образ, воплотивший страсть накопления, характерную для переходной эпохи, в отличие от Мольера, у которого «Скупой скуп — и только». В новых устремлениях своей «романтической» драмы Пушкин интересовался созданием сложного психологического образа. Эта задача приобрела характер основной, а нам захотелось узнать, какими чертами всетаки обладал Скупой рыцарь у Мольера. Для того чтобы разобраться в хитросплетениях комедии и трагедии, нам пришлось начать с «азов», т.е. с литературных традиций, на которых основывалась новая трагедия. „Смесь трагического с комическим“ — принцип, выдвигавшийся и романтиками и Пушкиным. Это одно из основных положений новой трагедии. Поэтому-то литературные традиции, на которых основывалась новая трагедия, в равной степени восходят как к трагедии, так и к комедии. В порядке преодоления односторонней классической системы романтические драматурги в равной степени обращались как к Расини, так и к Мольеру. „Высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, и нередко близко подходит к трагедии“ (1830). Эти разновременные высказывания в достаточной степени согласованы между собою и образуют стройную систему Вильям Шекспир драматургических взглядов. Высшие формы 1564-1616 драматургической разработки характеров, если не считать Шекспира, Пушкин видел в комедии, в Мольере. В технике изображения характеров комедия приближалась к трагедии, и естественно было сопоставлять Мольера и Шекспира. Но уже a priori можно сказать, что пьесы Пушкина не могли быть ни в какой степени подражанием комедиям Мольера, и в данном случае мы имеем дело не с вульгарным случаем „влияния“. Задача Пушкина — преодоление классической схемы характеров. Классическому скупому он противопоставлял романтического скупого, классическому Дон Жуану — романтического. Заменяя комическую разработку трагической, Пушкин совершенно естественно отходил от плана пьес Мольера, так как план комедии с ее традиционными формами интриги невозможно было облечь в трагические формы. С другой стороны, характер основного героя должен был подвергнуться психологизации, чтобы удовлетворить принципам художественного индивидуализма в создании „живого“ образа в отличие от абстрактной схематизации Мольера. При нашей попытке сопоставить параллельные сцены из пьес Пушкина и Мольера мы заметили, где пересекаются реальные пункты соприкосновения обоих драматургов. Мольеровский „Avare“ (1669) — одна из наиболее популярных его пьес. Если измерять популярность количеством постановок, то „Скупой“ в репертуаре Мольера занимает третье место (после „Тартюфа“ и „Лекаря по неволе“). Вольтер в 1739 г. писал об этой комедии (и мнение его почти буквально повторено Лагарпом в „Лицее“): „Эта превосходная комедия была поставлена в 1667 г., но тот же предрассудок, который вызвал падение Каменного Гостя, потому что эта комедия была в прозе, была причиной падения Скупого. Мольер, не считавший нужным резко Мольер (Жан-Батист Поклен) (1622- 1673) противостоять мнению критики и учитывавший, что бесполезно спорить с тем, кто неправ, предоставил публике время одуматься и поставил Скупого только через год: публика с течением времени всегда разбирается в том, что хорошо, и эта пьеса заслужила должный успех. Тогда поняли, что могут быть отличные комедии в прозе, и что, быть может, труднее добиться удачи в этом простом стиле, где только мысль поддерживает автора, в то время как в стихотворных произведениях рифма, ритм и гармония украшают простые мысли, которые в прозе проигрывают“. Пушкин произнес свое суждение об „Avare“: „У Мольера Скупой скуп — и только“. Но этим Пушкин, понятно, не выразил полностью своей мысли о характере Гарпагона. Исходя из своей системы взглядов, он должен был бы отметить не только изоляцию скупости от каких бы то ни было страстей, но и соединить в лице Гарпагона скупость с влюбленностью. Влюбленность Гарпагона нужна только для развития обязательной комедийной любовной интриги и ни в какой мере не входит органически в характеристику героя. „Гарпагон является не столько характером, данным в своем развитии, сколько собранием характеристических черточек скупости, которые плохо слажены“, писал Фр. Сарсе в 1873 г., и с ним трудно не согласиться. Схема пьесы исключительно примитивна и традиционна. Конкуренция Гарпагона и сына Клеанта, влюбленных в одну девушку, Марианну, осложнена эпизодом, в котором сын, обращаясь к неизвестному ростовщику, узнает в лице ростовщика своего отца. Параллельно основной любовной интриге развивается другая: Валери и дочери Гарпагона, Элизы. Развязка механична. Старик Ансельм, за которого собирался выдать замуж свою дочь Гарпагон, оказывается отцом Марианны и Валера. Фиктивная кража шкатулки с деньгами заставляет Гарпагона для получения шкатулки согласиться на брак Марианны и Клеанта. Для заполнения пяти актов введено несколько комедийных эпизодов, не слишком связанных с сюжетом. Было бы трудно непосредственно сопоставлять „Avare“ со „Скупым Рыцарем“, если бы пьеса Мольера не дошла до Пушкина в своеобразно комментированном виде. В 1758 г. Ж. Ж. Руссо написал свое знаменитое „Письмо Даламберу“ по поводу его заметки в Энциклопедии о Женеве. В своем письме Руссо коснулся также и „Avare“: „Велик порок скупости и ростовщичества, но не менее велик порок сына, если он обкрадывает отца, оказывает ему непочтение, оскорбляет его тысячами грубых упреков; а когда возмущенный отец посылает ему проклятие, отвечает ему издевательским тоном, что ему нечего делать с его дарами? Если шутка и превосходна, она от этого не менее достойна наказания; а пьеса, в которой привлекается сочувствие зрителей к дерзкому сыну, произнесшему подобную шутку, разве не перестает быть школой дурных нравов?“ Руссо намекает на диалог сцены V акта IV, где развивается ссора Гарпагона с Клеантом, которую мы попытались перевести на русский язык: -HarpagonJe te renonce pour mon fils. -CléanteSoit. -HarpagonJe te déshérite. -CléanteTout ce que vous voudrez. Гарпагон Отрекаюсь от тебя как от сына. Клеант Пусть. Гарпагон Лишаю тебя имущества. Клеант Всё что вам угодно. -HarpagonEt je te donne ma malédiction. -CléanteJe n’ai que faire de vos dons. …………………………………………. - Cléante Ah ! mon père, je ne vous demande plus rien et c'est m'avoir assez donné que de me donner Mariane. - Harpagon Comment ? - Cléante Je dis, mon père, que je suis trop content de vous, et que je trouve toutes choses dans la bonté que vous ayez de m'accorder Mariane. - Harpagon Qui est-ce qui parle de t'accorder Mariane ? Гарпагон И проклинаю тебя. Клеант Мне нечего делать с этим вашим даром …………………………………………………… Клеант Ах, мой отец, я больше ничего не прошу; Вы мне достаточно дали, отдавая мне Марианну. - Cléante Vous, mon père. - Harpagon Moi ? - Cléante Sans doute. - Harpagon Comment ! c'est toi qui as promis d'y renoncer. - Cléante Moi, y renoncer ? - Harpagon Oui. - Cléante Point du tout. - Harpagon Tu ne t'es pas départi d'y prétendre ? - Cléante Au contraire, j'y suis porté plus que jamais. - Harpagon Quoi, pendard ! derechef ? Гарпагон Как? Клеант Я говорю, мой отец, что я очень доволен Вами, и я нахожу столько всего в доброте, которую Вы проявляете, отдавая мне Марианну. Гарпагон Кто говорит о том, что тебе отдают Марианну? Клеант Вы, мой отец. Гарпагон Я? Клеант Несомненно. Гарпагон Как! Это ты обещал отказаться от неё. Клеант Я, отказаться от неё? Гарпагон Да. Клеант Совсем нет. Гарпагон Ты не отказался претендовать на неё? Клеант Напротив. Я склонен к ней больше чем когданибудь. Гарпагон Что, негодяй! Опять? - Cléante Rien ne peut me changer. - Harpagon Laisse-moi faire, traître. - Cléante Faites tout ce qu'il vous plaira. - Harpagon Je te défends de me jamais voir. - Cléante A la bonne heure. - Harpagon Je t'abandonne. Клеант Ничто не может изменить моё мнение. Гарпагон Ну ты ещё увидишь, предатель. Клеант Делайте всё, что хотите. Гарпагон Запрещаю тебе увидеть меня когда-нибудь. Клеант В добрый час. Гарпагон Я отказываюсь от тебя. - Cléante Abandonnez. - Harpagon Je te renonce pour mon fils. - Cléante Soit. - Harpagon Je te déshérite. - Cléante Tout ce que vous voudrez. - Harpagon Et je te donne ma malédiction. - Cléante Je n'ai que faire de vos dons. Клеант Отказывайтесь. Гарпагон Я отрекаюсь от тебя как от сына. Клеант Пусть Гарпагон Лишаю тебя имущества. Клеант Всё, что Вам угодно. Гарпагон И проклинаю тебя. Клеант Мне нечего делать с этим Вашим даром. Перевод Наумовой Насти 10 кл. Каламбур „donner sa malédiction“ — „les dons“, отчасти подготовленный характеристикой Гарпагона в сц. V акта II („il ne dit jamais Je vous donne, mais Je vous prête le bonjour“, ср. в след. сцене употребление Гарпагоном глагола „prêter“), по мнению критиков, для Мольера был кульминационным пунктом комической перебранки, на моральную сторону которой никто не обращал внимания. „Что узнаем мы из сцен Гарпагона с сыном? Что скупость отцов вызывает дурное поведение детей? . . . полезная истина, что смешные стороны общественного строя являются источником его недостатков“. Мармонтель развил эту мысль подробнее: „Вообразим, что в проповеди оратор сказал бы, обращаясь к Скупому: «Ваши дети добродетельны, чувствительны, признательны, рождены для вашего утешения; отказывая им во всем, подозревая их, заставляя их краснеть за позорный порок, который господствует над вами, знаете ли вы, что вы делаете? Ваша непреклонная жесткость утомляет и отпугивает их нежность. Напрасно они вспоминают, что вы их отец; если вы забываете, что это — ваши дети, порок преодолеет добродетель, и презрение, которым вы сами себя покрываете, подавит уважение, с которым они обязаны к вам относиться. Приведенные к необходимости выбирать — или оставаться безо всего или предвосхищать наследство разорительными займами, они расточат в ростовщичестве накопленное ростовщичеством; их слуги войдут с ними в соглашение, чтобы похитить у вашей скупости то, что дети не могут получить от вашей любви. Расточительность, кража будут плодом ваших накоплений, и ваши дети, став порочными по вашей вине и вам в наказание, привлекут еще сочувствие публики, которую вы возмущаете». Спрашиваю у г. Руссо — неужели этот урок безнравствен? То, что сказал бы проповедник, поэт изображает, а комедия Мольера — не что иное, как мораль в действии. Ни проповедник, ни поэт не хотят поощрять тем самым детей в том, чтобы они нарушали свой долг по отношению к родителям, но оба хотят научить отцов не подвергать своих детей такому жестокому испытанию“. Жоффруа, авторитетный театральный критик, писал в „Journal des Débats“ в фельетоне 6 февраля 1810 г., вошедшем в его „Cours de Littérature dramatique“ (1819, т. I, p 368—369): „Ж. Ж. Руссо жестоко упрекает Мольера за то, что он выводит сына, проявляющего непочтительность по отношению к своему отцу. В самом деле, когда Гарпагон говорит сыну: «посылаю тебе свое проклятие», сын отвечает насмешливым тоном: «Мне нечего делать с вашими дарами». Руссо принужден признать шутку превосходной. И она в самом деле превосходна; но она возмущает этого строгого моралиста: как будто Мольер, изображая непочтительного сына, хоть в малой степени одобряет его дерзость! Как могло случиться, чтобы такой умный и талантливый человек как Руссо был так чужд драматическому искусству, чтобы не видеть, что комический автор вовсе не санкционирует изображаемые им пороки? Это вовсе не вина Мольера, если скупого отца проклинают его дети; если этот презренный порок, подавляющий естественные чувства в сердце отца, подавляет их также в сердце сына. Его долг показать это следствие скупости. Он не одобряет пороков сына, но показывает их как естественный результат строгости и бесчувственности старика. Конечно, Клеант был бы гораздо более достоин уважения, если бы низость и гнусность выродка-отца не ослабляли в нем чувства сыновней почтительности: он был бы образцом святости и добродетели; но он не был бы персонажем комедии. С какой силой, с какой верностью кисть Мольера изображает нам скупца, разобщающегося со своей семьей, видящего врагов в своих детях, которых он опасается и которым сам он внушает не меньший страх: сосредоточивший всякую свою привязанность в сундуке, в то время, как его сын разоряется, одалживая у ростовщиков, а это время дочь заводит интригу в его же доме с переодетым возлюбленным! Скупой не знает ничего, что происходит в его семье, ничего, что делают его дети; он знает в точности только счет деньгам: это единственно, что его трогает и занимает, это единственный предмет его бдительности; деньги заменили ему детей, родных и друзей. Вот мораль, вытекающая из замечательной комедии Мольера; именно подобная картина в наибольшей степени заставляет ненавидеть и презирать скупость“. У Пушкина совершенно иной подход. В самом названии «Скупой рыцарь» кроются парадокс и авторская оценка: ведь настоящий рыцарь не может быть скупым. Это – храбрый воин, образованный дворянин, благородный и любезный человек, проводящий свою жизнь в боях и походах, турнирах и пирах, служении прекрасной даме. Все это требует немалых денег, и потому в кармане у рыцаря всегда пусто. Именно таков Альбер, сын старого барона, юноша расточительный, ветреный, легкомысленный, но добрый (отдал последнюю бутылку испанского вина больному кузнецу), честный (с гневом отверг предложение гнусного ростовщика отравить богатого скупого отца, не пошел дорогой Раскольникова), гордый (его тяготит и унижает вечная нищета), жаждущий исполнить свой рыцарский долг. Он весел и молод, храбр, полон надежд, тянется к живой жизни, радости и любви. Ничего этого не надобно его старому, обезумевшему от скупости отцу, чьи уродливые мечты и идеалы сосредоточились в мрачном тайном подвале и ржавых сундуках с сокровищами. Кажется даже, что барон никогда не был молодым. Такого отвратительного скупца легко осудить. Но ведь это трагедия, большая трагедия человека незаурядного, когда-то храброго воина, любящего мужа и отца семейства, верного друга покойного герцога. Мрачная могучая страсть его переродила. Одно столкновение между старым бароном и Альбером говорит о нарушении всех семейных связей и нравственных норм. Старик ненавидит родного сына и наследника и обречен на одиночество. Ведь именно о нем сказаны в финале трагедии знаменитые слова герцога: «Ужасный век, ужасные сердца!» В рукописи трагедия называлась просто «Скупой». Но мы видим, как далека она от одноименной комедии Мольера. Первая из «Маленьких трагедий» превратила традиционного скупца в живое лицо определенной эпохи, сложное прежде всего тем, что скупец в то же время оказывается и рыцарем. Полного слияния подобных противоречивых черт в едином образе мировая литература не знала ни до Пушкина, ни после. В образе скупого рыцаря художественно символизирована власть денег. Апофеозом ее и вместе с тем обличением, раскрытием обесчеловечивающей, жестокой власти денег является монолог барона, хватающегося то за свой меч (рыцарь), то за золото (скупой). Скупой становится на миг поэтом своей страсти: Послушна мне, сильна моя держава; В ней счастие, в ней честь моя и слава! Я царствую... Но Пушкин срывает маску с этого образа, показывая страшную изнанку процесса накопления: Да! если бы все слезы, кровь и пот, Пролитые за все, что здесь хранится, Из недр земных все выступили вдруг, То был бы вновь потоп... Образ скупого рыцаря приобретает значение большого историко-философского обобщения. Сочетание глубокой идеи и гармонической во всех отношениях формы ставит «Скупого рыцаря» на исключительное место в мировой поэзии. Трагедия была напечатана Пушкиным только через шесть лет после ее написания. В подзаголовке по неясным причинам Пушкин приписал ее английскому писателю Ченстону, у которого в действительности нет подобного произведения. «Моцарт и Сальери». Легенда или реальность? «Моцарт и Сальери» — пьеса, посвященная художественнопсихологическому анализу другой страсти — зависти. Зависть – могучая человеческая страсть. И когда Пушкин задумал в 1826 году маленькую трагедию «Моцарт и Сальери», он вначале так и назвал ее – «Зависть» и хотел выдать свою оригинальную пьесу за перевод с немецкого. Потом он так объяснил свой замысел: «В первое представление «Дон Жуана», в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист – все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы, в бешенстве, Вольфганг Амадей Моцарт снедаемый завистью. Сальери умер лет 8 тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что 1756-1791 на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении – в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать «Дон Жуана», мог отравить его творца». Зависть – сюжетный узел, стягивающий все персонажи и нити пушкинской трагедии. Но само явление в ней Моцарта, величайшего композитора и удивительно цельной и светлой личности, существенно раздвигает рамки первоначально обозначенной автором темы, речь шла уже о гениальном творце и природе музыки, нравственном смысле творчестве, преступлении и наказании, терзаниях зависти и совести. Пожалуй ни одна из «Маленьких трагедий» Пушкина не вызывала и не вызывает столько споров и разных суждений, как «Моцарт и Сальери». Причем дискуссия российских пушкинистов-исследователей неожиданным образом фокусируется почти исключительно на самом содержании произведения. Как трактовать сказанное героями? Для любого художника можно считать наивысшей похвалой, если критики - не просто читающая публика - а именно критики берутся обсуждать не эстетические достоинства произведения, а всерьез комментируют психологию персонажей, созданных по сути лишь в воображении автора. В этой главе мы попробовали сравнить имеющиеся взгляды и высказать свое мнение относительно некоторых спорных вопросов. Antonio Salieri 1750 – 1825 Вопрос об отравлении Моцарта не был решен четверть века назад, не решен он и до сих пор. Возможно, в истории он так и останется нерешенным, так как достоверных фактов, которые могли бы склонить исследователей в пользу одной гипотезы, насколько сейчас известно, не существует. Споры между знатоками биографий Моцарта, Сальери и близких к истории других композиторов ведутся в основном методом косвенного подтверждения и окольными путями возможных, но не доказанных связей между известными событиями и людьми. В трагедии Пушкина, по мнению Бонди, не важно «так ли точно все было в действительности, как показывает в своей трагедии Пушкин», а важно « не оклеветал ли писатель (из художественных соображений) ни в чем не виноватого «благородного», знаменитого композитора?» Знакомясь с литературной критикой, мы пришли к выводу, что отечественное литературоведение трагедию Пушкина в этическом смысле оправдывает. Бонди указывает на то, что Пушкин «был вполне убежден» в виновности Сальери и имел для этого достаточные основания. Без этого он не взялся бы писать трагедию, в которой действуют исторические личности: «Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено – и не великодушно. Клевета и в поэмах казалась мне непохвальною» (Пушкин в заметке о «Полтаве»). А вот литературовед Фомичев С.А. возникновение сюжета объясняет так: «К тому времени об этом много писали. Пушкин мог узнать из разных источников и Сальери прямо обвиняли в этих публикациях в смерти его собрата по искусству. Эта версия была достаточно прочно укоренена в сознании и немецкого, так сказать, читателя, и русского читателя, который следил за этой литературой, и так далее» (из цикла передач Марио Корти). В одном из источников мы нашли не напечатанную Пушкиным заметку о Сальери, написанную года через полтора после маленькой трагедии «Моцарт и Сальери»: «В первое представление Дон Жуана, в то время, когда весь театр, полный изумленных знатоков, безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист – все обратились с негодованием, и знаменитый Сальери вышел из залы – в бешенстве снедаемый завистью». Пушкин завершает заметку словами: «Завистник, который мог освистать Дон Жуана, мог отравить его творца». Однако мы познакомились и с другой точкой зрения, вступающей в противоречие с точкой зрения Фомичева С.А. и Бонди. Вопрос этики пушкинской трагедии с новой силой вспыхнул в наши дни. И, как можно догадаться, именно итальянцы решительно отстаивают честь своего соотечественника. В интернете есть цикл передач «Моцарт и Сальери» итальянского музыковеда Марио Корти, посвященных развенчанию мифов, связанных с Моцартом и Сальери. Марио Корти открыто признается, что ставит себе задачу «заставить памятник спуститься с пьедестала». Под памятником подразумевается Пушкин и его трагедия. Версия отравления основывалась на том, что якобы Сальери перед смертью признался кому-то, что он отравил Моцарта. Версия была подхвачена несколькими газетами и журналами. В то же время лондонский музыкальный журнал Quarterly Musical Magazine за 1826 год опубликовал опровержение слуха, написанное знакомым Сальери, композитором Зигисмундом Нойкоммом: «Когда распространяются необоснованные сведения, оскверняющие память знаменитого художника, то долг любого честного человека доложить о том, что ему известно. Отношения между Моцартом и Сальери отличались взаимным уважением. Не будучи задушевными друзьями, каждый из них признавал заслуги другого. Никто не может обвинять Сальери в том, что он ревновал к таланту Моцарта, и те, кто, как я, находился с ним в близких отношениях, не может не согласиться с тем, что 58 лет он вел безупречный образ жизни, исключительно занимаясь своим искусством, и всегда готов был делать добро своим ближним. Такой человек, человек, который 34 года - столько лет прошло со смерти Моцарта - сохранил удивительное спокойствие духа, не может быть убийцей». Доказывает ли сие свидетельство друга Сальери, что он абсолютно не способен на убийство Моцарта? Если придерживаться версии Пушкина, то нет. Мог ли быть у реального Сальери мотив зависти к Моцарту? Таким вопросом задается Марио Корти. В теме «Кто кому завидовал?», он ставит под сомнение существование романтически-высокой зависти, что описана в трагедии Пушкина. Он объясняет свою точку зрения тем, что Моцарт в свое время был совсем не так популярен, как сейчас, несмотря на то, что его музыка обладала значительно лучшим качеством, чем у Сальери. М. Корти видит причину в публике, в ее особом вкусе. Он объясняет это так: «В 18-м веке музыку, в частности оперу, о которой в данном случае идет речь, воспринимали иначе, чем воспринимают ее в наше время. Это нужно учесть, если мы хотим понять почему, например, творчество Сальери воспринималось в свое время с восторгом, и почему в наше время этого не происходит. Во-первых, у оперных зрителей того времени был совсем другой музыкальный опыт, и эстетические критерии, эстетические требования, предъявляемые к опере были другие. Было другое ощущение времени и, следовательно, темп жизни был другой». Итак, различие заключалось в особых эстетических требованиях публики. Научная сессия Центрального института моцартоведения в Зальцбурге слушала в 1964 году доклад «Легенда об отравлении Моцарта» и реабилитировала Сальери. Об этом же писала немецкий критик Марина Нойберт в одной из своих статей, которую мы прочли и перевели на русский язык: Salieri will Gerechtigkeit und tötet Mozart - Alexander Puschkin offenbart in den „Kleinen Tragödien“seine Sehnsucht nach Anerkennung Von Marina Neubert Was wäre, wenn man Genies nur an der Größe ihrer Anerkennung zu Lebzeiten ausfindig machen könnte? Es würde wimmeln von lauter Genies. Aber weder Alexander Puschkin noch eine der Hauptfiguren seiner "Kleinen Tragödien", Wolfgang Amadeus Mozart, kämen auf diese Liste. Würde man ein Genie an dem Ausmaß der Ablehnung und Missgunst erkennen wollen, stünden die Beiden dagegen weit vorne. Ein kritischer Geist, Rebell, bekannter Don Juan und Heißsporn, passte der geborene Aristokrat und Begründer der neueren russischen Literatursprache Alexander Puschkin (1799-1837) weder in den gesellschaftlichen Rahmen der damaligen Adelswelt noch in den Kreis der konventionellen Dichter. Mit 31 Jahren, als die Missgunst der russischen Oberschicht ihm gegenüber ihren Höhepunkt erreicht hatte, zog er sich aus Sankt Petersburg aufs Land zurück und schrieb dort fünf "Kleine Tragödien": "Der geizige Ritter", "Mozart und Salieri", "Der steinerne Geist", "Das Gelage während der Pest" und "Rusalka", die er zu einem Kurzdrama miteinander verband. Seine eigenen Erfahrungen mit Ablehnung, Neid und Verrat setzte Puschkin in Bezug zu vorhandenen weltgeschichtlichen Erfahrungen, etwa zu den Legenden über Don Juan oder über Mozart und Salieri. Die Brücke, die die fünf Sujets miteinander verbindet, ist das Drama der unerfüllten Sehnsucht nach Gerechtigkeit, das auch Puschkins persönliches Drama war. Seine Hauptfiguren sind einander und vor allem ihm selbst sehr ähnlich. Juan, Mozart, Albert, Müllers Tochter oder Salieri - das ist ein und derselbe Mensch in wechselnden Kostümen, der sich missverstanden fühlt und in atemberaubender Kürze immer wieder die gleiche Frage stellt: Was, wenn es die höchste Gerechtigkeit gar nicht gibt? Auch "Mozart und Salieri" beginnt mit Salieris verzweifeltem Aufruf nach Gerechtigkeit. Er, ein talentierter Komponist, der kraft seines Verstandes und durch die Liebe zur Musik höchste Anerkennung in der Gesellschaft erreichte, weint vor Begeisterung bei Mozarts Musik und empfindet dessen Genialität als größte Ungerechtigkeit. Wie konnte Gott diesem leichtsinnigen Schurken so eine hohe Gabe schenken? Mozart sei dieser Gabe nicht würdig, meint Salieri und rebelliert. Er selber glaubt die Gerechtigkeit wiederherzustellen, indem er Mozart vergiftet. Natürlich ist Salieri ein Verbrecher, Mörder, doch er ist bei Puschkin auch ein Opfer seiner Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Dafür musste ein Genie sterben. Wie ungerecht! Alexander Puschkin sah in Mozart sich selbst. Deshalb ist auch Mozarts Tragödie seine eigene: Die Tragödie eines ungerecht Behandelten. Und was, wenn es die Gerechtigkeit gar nicht gibt? Er beantwortete in den "Kleinen Tragödien" diese Frage nicht, obwohl er sie nachdrücklich stellte. Er tat es nicht, weil er keine Antwort wusste. In einem privaten Brief an einen seiner Freunde schrieb er: "Ich weiß nicht, ob das, was ich mir wünsche, nennen wir es Gerechtigkeit, überhaupt existiert?" In Puschkins ehrlichem Eingeständnis besteht auch seine große Kunst. Deshalb sind seine "Kleinen Tragödien", die von den Zeitgenossen, die dieses Eingeständnis als Hilflosigkeit auslegten, abgelehnt wurden, sein tiefstes, aufrichtigstes Werk. (Aus der Berliner Morgenpost vom 19. Juli 2007) Сальери хочет справедливости и убивает Моцарта – Александр Пушкин открывает в «Маленьких трагедиях» его страстное желание к признанию Александр Пушкин: Маленькие трагедии .Сальери хотел восстановить справедливость и убил Моцарта – Александр Пушкин открывает в «Маленьких трагедиях» его страстное желание через признание . Что было бы, если гении могли открываться только через величину их признания при жизни. Мир кишил бы сплошь гениями. Но ни Александр Пушкин, ни Вольфганг Амадей Моцарт не попали в этот список. Если захотеть опознать гения по масштабу отверженности и зависти ,то оба (Пушкин и Моцарт ) далеки от этого. Критический ум, мятежность, известный своей вспыльчивостью Дон Жуан, был близок врождённому аристократу и основателю нового русского литературного языка Александру Пушкину (1799-1837), не вписывающегося ни в общественные рамки тогдашнего аристократического мира, ни в круг «соблюдающих все формы приличия» поэтов. В 31 году, когда зависть российского высшего общества достигла своего апогея , он возвратился из СанктПетербурга в деревню и написал пять маленьких трагедий : «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы», и «Русалка», которые он связал между собой в короткую драму. Его собственный опыт отверженности, зависти и предательства Пушкин сопоставил с существующим историческим опытом ,например легендами о Дон Жуане или Моцарте и Сальери. Мостом ,который соединяет друг с другом пять сюжетов, является драма исполненного страстного желания к справедливости, которая была так же для Пушкина предметом личной драмы. Его главные герои очень похожи между собой и близки самому Пушкину. Жуан, Моцарт, Альберт, дочь мельника или Сальери – это один и тот же человек в меняющихся костюмах, которого не понимают и который, затаив дыхание, снова и снова задаёт один и тот же вопрос: А что, если высшей справедливости вовсе не существует? Так же Моцарт и Сальери начинается с отчаянного призыва Сальери к справедливости. Он – талантливый композитор, в силу своего разума и любви к музыке достигший высшего признания в обществе, плачет от восхищения музыкой Моцарта, и считает его гениальность большой несправедливостью. Как Бог мог дать такой великий дар, талант этому легкомысленному негоднику? «Моцарт не достоин этого дара», подумал Сальери и взбунтовался. Сальери считает своим долгом восстановить справедливость, отравив Моцарта. Конечно, Сальери является преступником, убийцей, но он у Пушкина является так же и жертвой своего стремления, страстного желания к справедливости. Из-за этого должен был умереть гений. Как несправедливо! Александр Пушкин увидел в Моцарте самого себя. Поэтому трагедия Моцарта это и его собственная трагедия: трагедия несправедливого обхождения с ним. А что если справедливости совсем нет? Он не ответил на этот вопрос в маленьких трагедиях, хотя настойчиво ставил его, и ничего не смог сделать, потому что не знал ответа. В письме к одному из своих друзей, он писал: «Я не знаю, что я желал бы себе, назовём это справедливостью, если она вообще существует». В честном признании Пушкина заключается его великий талант. Поэтому его маленькие трагедии, которые у его современников истолковывались, как признание в беспомощности и были отклонены, на самом деле являются глубоким, искренним произведением. (перевод Литвинова Димы 10 кл) Насколько силен литературный миф, можно судить по тому, что он до сих пор нуждается в постоянном опровержении. Возникает вопрос почему? Марио Корти отвечает на него так: « Художественное произведение действует на человека как наркотик. Оно живет какой-то своей реальностью, не совпадающей с реальностью жизни, и в массовом сознании художественная правда воспринимается как правда настоящая. Таким образом, художественное произведение не подлиннее, а прочнее, устойчивее, я бы даже сказал, обманчивее, чем факты жизни». Время доказало, что искусство ниспровергнуть нельзя, поскольку оно не претендует на документальную истинность. Напротив, у настоящего искусства есть такая сила, можно сказать право, о котором говорит Пушкин в «Разговоре книгопродавца с поэтом»: Поэт казнит, поэт венчает; Злодеев громом вечных стрел В потомстве дальном поражает; Героев утешает он… «Моцарт и Сальери» наиболее лиричная из «Маленьких трагедий». Контраст между жрецом, ремесленником искусства, поверяющим «алгеброй гармонию», аналитически разеявшим ее «как труп», и непосредственностью чудесно одаренного гения раскрывается на фоне обыденной жизни музыкантов. Борьба Сальери с Моцартом показана не как борьба слабого с сильным. Сальери тоже силен в своем роде, но он — представитель иного подхода к искусству, иного типа художник, ремесленник-аскет, одержимый эгоистической страстью. Сальери побежден подлинным творчеством, связанным с живой жизнью. Убийство им Моцарта подготовлено всей системой его мировосприятия. Проблему совместимости гения и злодейства предлагается решить читателю-зрителю, которому самим ходом событий подсказывается отрицательный вывод. Бунт Сальери против Моцарта «на земле» есть в то же время бунт против отсутствия правды «и выше» («О небо! где же правота...»). Уступить выстраданный им успех «безумцу», «гуляке праздному» Моцарту, для Сальери так же невозможно, как для аскета — Скупого рыцаря — уступить выстраданное богатство «безумцу, расточителю молодому» Альберу; вынужденные к этому, они ропщут против несправедливости и нарушения высшего права («Где ж правота?» — спрашивает один; «А по какому праву?» — страстно восклицает другой). Неожиданная смерть гения в расцвете лет завершает линию его жизни бесконечным многоточием… Неразрешимая загадка, связанная со смертью великого композитора будет всегда волновать человечество, вызывая множество толкований. Тайна, связанная со смертью Моцарта, волновавшая его современников, волнует и сейчас. Какими бы не были данные научных исследований, есть правда, созданная гением Пушкина, который как никто другой мог понять психологию гения Моцарта. Именно поэтому его художественно выраженная гипотеза звучит сама по себе как вторая реальность, которая могла бы случиться с великим композитором, тем более что современники Моцарта всерьез полагали, что такое возможно. «Каменный гость». Жизнь есть любовь. А вот «Каменный гость» в полном соответствии с законами драматического цикла посвящен идее Жизни. Жизнь есть любовь. О великом любовнике Дон Жуане, этом вечном образе мировой литературы, написана пьеса Мольера. В «Каменном госте» Пушкин, как и в «Скупом рыцаре», обращаясь к одному из традиционных сюжетов мировой литературы, дает ему совершенно оригинальную трактовку. Ему был известен ряд обработок сюжета о севильском обольстителе и вольнодумце. Сюжет о Дон Жуане восходит к средневековой испанской народной легенде. Севильские летописи сохранили рассказ о некоем доне Хуане, графе де Тенорио, гуляке, распутнике, первом дуэлянте в Севилье. Однажды он похитил дочь командора Гонсило де Ульоа, а его самого сразил насмерть. Монахи обманом заманили дона Хуана в храм францисканского монастыря к семейной усыпальнице рода Ульоа. Поздней ночью в условленный час он прибыл на место свидания, но обратно уже не вернулся. Он исчез бесследно, тело его нигде не нашли. Наутро монахи распустили слух, будто дон Хуан пришёл ночью в храм, оскорбил статую убитого командора и тогда она ожила, притянула к себе нечестивца и столкнула его в разверзшуюся бездну. В те времена ни один благоверный католик не усомнился в истинности этой истории. Убив дона Хуана, монахи, сами того не ведая, дали ему бессмертие в легенде о "севильском озорнике". Она долго бытовала в народе и впервые была обработана в XVII веке испанским драматургом Тирсо де Молина. Легенда привлекала внимание и за пределами Испании: своего Дон Жуана создавали драматурги и поэты Франции, Италии, России, Германии и других стран. Впервые образ Дон Жуана (в пьесе — дона Хуана Тенорьо) был выведен в комедии Тирсо де Молина «Севильский обольститель, или Каменный гость» (в различных переводах — «Севильский озорник», «Севильский насмешник»; исп. El burlador de Sevilla y convidado de piedra (1630) . Тирсо де Молина (Габриэль Тельес) 1571- 1648 Именно эти материалы нам захотелось прочитать, по возможности, перевести и проанализировать. El burlador de Sevilla y convidado de piedra es una obra de teatro que por primera vez recoge el mito de Don Juan Tenorio, sin duda, el personaje más universal del teatro español. De autoría discutida, se atribuye tradicionalmente a Tirso de Molina y se conserva en una publicación de 1630. Мы прочитали и перевели краткое содержание этого произведения Argumento Un joven noble español llamado Don Juan Tenorio seduce en Nápoles a una duquesa, Isabela, haciéndose pasar por su novio el duque Octavio, lo que ella descubre al querer alumbrarle para ver y él niega el farol. Tras esto, en la huida va a parar a la habitación del Rey, quien le encarga al guarda Don Pedro Tenorio (pariente del protagonista) atrapar a ese hombre que ha deshonrado a la Duquesa. Al entrar Don Pedro en la habitación y descubrir que el burlador es su sobrino decide escucharle y ayudarle a escapar alegando que no pudo alcanzarlo debido a su agilidad al saltar desde la habitación a los jardines, con lo que consigue escapar después de ser descubierto. Tras esto, viaja a España y naufraga en Tarragona, donde a duras penas Catalinón (su criado) consigue llevarlo hasta la orilla donde aguarda Tisbea que los ha oído su grito de socorro, allí, Tisbea manda a Catalinón a buscar a los pescadores a un lugar no muy lejano y en el tiempo que están ellos solos Don Juan la seduce y esa misma noche la goza en su cabaña, desde la que más tarde huirá con las dos yeguas que Tisbea había criado. La deja y regresa a Sevilla, donde la historia llega a oídos del rey que busca arreglo y lo compromete con Isabela. Mientras, Don Juan se encuentra con su conocido, el marqués de la Mota, el cual le habla sobre su amada, doña Ana de Ulloa, tras hablar de burlas, “ranas” y mujeres en todos los aspectos; y como el Marqués de la Mota dice de Ana que es la más bella sevillana llegada desde Lisboa, Don Juan tiene la imperiosa necesidad de gozarla y afortunadamente para él, recibe la carta que es para el Marqués al que luego informará de la carta pero con un cambio horario de una hora para así él gozar a Ana. Por la noticia de la carta de Ana de Ulloa, el Marqués le ofrece una burla a Don Juan el cual no la rechaza y para lo cual este ha de llevar la capa del Marqués, que se la presta sin saber que la burla no iba a ser la estipulada, sino la deshonra de Ana al estilo de la de Isabela. El joven entonces va y engaña a la dama, pero es descubierto por el padre de ésta, Don Gonzalo de Ulloa, y se enfrentan en combate en el que Don Juan mata a Don Gonzalo y tras esto huye en dirección a Lebrija. Mientras se encuentra lejos de Sevilla, realiza otro engaño, interponiéndose en el matrimonio de dos plebeyos, Aminta y Batricio. Engañándolos hábilmente para así en la noche de bodas llegar a parecer interesado en un casamiento con Aminta, que ella se lo crea y así gozarla. Luego regresa a Sevilla donde se encuentra con la tumba de Don Gonzalo y se burla del difunto, invitándole a cenar. Sin embargo, la estatua de éste llega a la cita (El convidado de piedra) cuando realmente nadie esperaba que un muerto fuera hacer cosa semejante. Luego, el mismo Don Gonzalo convida a Don Juan y a su lacayo Catalinón a cenar a su capilla y Don Juan acepta la invitación acudiendo al día siguiente, y allí el convidado Don Gonzalo de Ulloa se venga y lo mata sin darle tiempo para el perdón de los pecados de su “Tan largo me lo fiáis”. Famosa frase del Burlador que significa que la muerte y el castigo de Dios están muy lejanos y que por el momento no le preocupa la salvación de su alma. Tras esto se recupera la honra de todas aquellas mujeres que habían sido deshonradas; y puesto que no hay causa de deshonra, todas las mujeres a las que engañó pueden casarse con sus pretendientes. Origen del mito Los orígenes de Don Juan son difíciles de determinar. Según Youssef Saad, el Don Juan de España es una figura auténticamente española, pero tiene muchas semejanzas con una figura árabe, Imru al-Qays, quien vivió en Arabia durante el quinto siglo: Como Don Juan, era un burlador y un seductor famoso de mujeres; como el don Juan de Zorrilla, fue rechazado por su padre por sus burlas y también desafió abiertamente a la ira divina. Según Víctor Said Armesto, las raíces literarias de Don Juan se pueden encontrar en los romances gallegos y leoneses medievales. Su precursor típicamente llevaba el nombre de “Don Galán” y este hombre también trata de engañar y seducir a las mujeres, pero tiene una actitud más piadosa hacia Dios. Evolución del mito Tras esta acuñación del personaje de Don Juan Tenorio, El Burlador de Sevilla como llega él a llamarse, se dan varias imitaciones del mito, como la de Molière cuyo Don Juan no solo roza los límites de la más cínica arrogancia, sino que también nos muestra un Don Juan con un gran escepticismo religioso, lo que es una gran distinción con el de del dramaturgo murciano. A la mentalidad del siglo XVIII corresponden tres obras sobre Don Juan: la española de Antonio de Zamora, No hay plazo que no se cumpla, la italo-austriaca, con libreto de Da Ponte y música de Mozart y la italiana de Goldini, titulada Don Juan o el castigo del libertino. En el romanticismo se dio un nuevo rumbo al mito; unas veces se une al tipo primitivo y otras a la expresión de la vivencia personal a creadores que en su vida tuvieron mucho que ver con él. Como el Don Juan de Byron, y del protagonista de El estudiante de Salamanca, de Espronceda. Y en relación con los primitivos están la versión de Zorrilla, Don Juan Tenorio, y las francesas de Merimée y A. Dumas. Aunque el Don Juan romántico pierde con respecto al primitivo ya que a veces llega a mostrarse como un simple juguete del destino y hasta se enamora sinceramente, dejando de ser el mito eterno del cínico seductor que fácilmente olvidaba para volver a seducir. Don Juan personifica una leyenda sevillana que inspiró a Molière, Lorenzo da Ponte (autor del libreto de Don Giovanni de Mozart), Azorín, Marañón, lord Byron, Pushkin, Zorrilla y a un largo etcétera. «Севильский обольститель и Каменный гость» это драматическое произведение, которое впервые использует миф о Дон Хуане (Жуане), без сомнения, самом популярном персонаже испанского театра. Произведение традиционно приписывается Тирсо де Молине и хранится в публикации 1630 года. Сюжет Молодой благородный испанец по имени Дон Хуан Тенорио обольстил в Неаполе герцогиню, Изабелу, выдавая себя за её жениха, герцога Октавио, подмену она обнаруживает, когда хочет увидеть его лицо, чтобы понять, кто он такой, а он отказывается дать ей светильник. После этого, сбежав, он останавливается в доме короля, который поручает Дону Педро Тенорио (родственнику героя) поймать мужчину, который обесчестил герцогиню. Когда Дон Педро вошёл в дом и обнаружил, что обольститель является его племянником, он решает выслушать его и помочь убежать, оправдываясь тем, что не смог догнать его из-за проворности, благодаря которой ему удалось выпрыгнуть в сад и убежать после того, как его обнаружили. Затем он едет в Испанию и терпит неудачу в Таррагоне, а Каталинон (его слуга), благодаря большим стараниям, сумел донести его до берега моря, где их ждала Тисбеа, которая услышала его крик о помощи. Тисбеа посылает Каталинона искать рыбаков в деревеньку, которая находится неподалеку, а за то время, оставшись наедине, Дон Хуан обольщает её в той самой хижине, откуда позже убежит на коне, которого достала ему Тисбеа. Он её оставляет и возвращается в Севилью, где история доходит до сведения короля, который ищет решение и находит, компрометируя его с Изабелой. В это время Дон Хуан встречается со своим знакомым, маркизом Де ля Мота, который говорит ему о своей возлюбленной Донье Анне де Ульоа, рассказывая о разных розыгрышах и женщинах; и поскольку маркиз Де ля Мота говорит о том, что Анна является самой красивой женщиной в Севилье, приехавшей из Лиссабона, Дон Хуан чувствует огромную потребность обладать ею и, к счастью для него, он получает письмо, предназначенное для маркиза. Сообщив маркизу о письме , он изменил время на час, с тем чтобы самому встретиться с Анной. Благодаря письму от Анны де Ульоа маркиз предлагает Дону Хуану розыгрыш, который последний не отвергает. Для розыгрыша ему нужно будет надеть плащ маркиза, который тот ему отдает, не зная, что розыгрыш окажется не тем, на который он рассчитывал, и что это будет такое же бесчестье Анны, как и позор Изабелы. Дон Хуан обманывает даму, но это обнаруживает её отец, Дон Гонзало де Ульоа, они сталкиваются в поединке, в котором Дон Хуан убивает Дон Гонзало де Ульоа и после этого убегает в направлении Лебрихи. Пока он находится вдали от Севильи, он осуществляет ещё один обман, вмешиваясь в брак двух простых людей, Аминты и Батрисио. Он обманывает их очень искусно с тем, чтобы в ночь свадьбы, приехав к Аминте, показаться влюбленным, очаровать её и совратить. Затем он возвращается в Севилью, где попадает на могилу Дона Гонзало и, издеваясь над умершим, приглашает его на ужин. Однако статуя Дона Гонзало приходит на свидание (Каменный гость) в тот момент, когда на самом деле никто не ожидал его, удивляя своим появлением всех. Потом тот же Дон Гонзало приглашает Дона Хуана и его лакея Каталинона отужинать в своей часовне, и Дон Хуан принимает приглашение, приходя на следующий день. И теперь Дон Гонзало де Ульоа мстит, убивая его, даже не дав ему времени на молитву. Дон Хуан считал, что смерть и Божье наказание очень далеки, и поэтому в данный момент его не интересовало спасение собственной души. Таким образом, восстанавливается честь всех обманутых женщин, и поскольку обольститель наказан, все женщины, могут выйти замуж за своих претендентов. Происхождение мифа Происхождение Дон Хуана трудно определить. Согласно Юсефу Сааду (Youssef Saad), испанский Дон Хуан является чисто испанской фигурой, но у него много схожего с арабской фигурой, Имру ал-Кайс (Imru al-Qais), который жил в Аравии в V-ом веке. Как и Дон Хуан, он был озорником и известным обольстителем женщин; как и Дон Хуан испанского писателя Соррилы, он был отвергнут его отцом изза его розыгрышей, и, кроме того, он открыто бросил вызов божьему гневу. Согласно Виктору Саиду Арместо, литературные корни Дон Хуана можно найти в галисийских и леонских средневековых рыцарских романах. Его предшественник носил типично имя «Дон Галан» и этот мужчина тоже пытается обмануть и обольстить женщин, но у него больше преимуществ перед Богом. Эволюция мифа Путём такого изображения персонажа Дон Хуана Тенорио, Севильского обольстителя, как его зовут, даются разные интерпретации мифа, как, например, у Мольера, Дон Хуан которого не только доходит до пределов самого циничного высокомерия, но также показан с большим религиозным скептицизмом, что отличает его от аналогичного персонажа мурсианского драматурга. Менталитету XVIII века соответствуют три произведения о Дон Хуане: испанское произведение Антонио де Саморы, италоавстрийское с либретто Да Понте и музыкой Моцарта и итальянское Гольдини, названное «Дон Хуан» или «Наказание либертина». В романтизме миф получил новые оттенки: иногда он отождествляется с примитивным типом, а иной раз с кредиторами, которые часто имели дело с ним в жизни, как и Дон Хуан Байрона, героя Саламанского студента Эспронседы. В связи с примитивными образами находятся версия Соррилы, Дон Хуан Тенорио, и французские версии Мериме и А. Дюма. Романтический Дон Хуан проигрывает примитивному герою, хотя иной раз он показан как простая игрушка судьбы и даже влюбляется искренне, перестав быть вечным мифом циничного обольстителя. Дон Хуан персонифицирует севильскую легенду, которая вдохновила Мольера, Лоренцо да Понте (автор либретто Дон Джованни Моцарта), Асорина, Мараньона, лорда Байрона, Пушкина, Соррилью и многих других. (Перевод Ломакина Максима 8 кл.) «Испанский» фон был для Пушкина только предлогом к разработке психологического характера. Дон-Жуан (или «Дон-Гуан», как писал Пушкин, стараясь приблизиться к испанскому произношению) прежде всего безрассудный безумец, хотя страсть его и раскрыта как проявление живого психологического характера, не лишенного противоречий. Синтезируя элементы романтические и психологические, Пушкин достигает нового реалистического эффекта. Дон-Гуан одержим страстью, как барон, как Сальери, но он не аскет, его страсть есть борьба за жизнь. Он контрастно противопоставлен эпизодической фигуре скептического и мрачного Дон-Карлоса. В нем заложены жизнеутверждение и оптимизм, свойственные и другим героям «Маленьких трагедий» — Альберту, Моцарту. В его лице жизнь вызывает на поединок самую смерть. Физически побежденный ею в пьесе, он не оставляет впечатления побежденного или наказанного. Он умирает в борьбе, не задрожав, обращаясь к избранному им земному идеалу. В «Каменном госте» Дон-Гуан целостен и целеустремлен, а героиня полна колебаний. Убеждая Дону Анну, он сам начинает искренно верить в свое перерождение, он превращается во вдохновенного поэта, в импровизатора, знающего, что «и любовь — мелодия». Он обладает даром покоряющего красноречия. Дона Анна колеблется между долгом памяти, долгом чести и своим увлечением. Перед этим мужественным напором, любезным красноречием, полным знанием женского суетного сердца и счастливым цельным характером никто и ничто не устоит. Заметим, что Дон Гуан – испанский гранд, он знатен и богат, но он безоглядно щедр, вечно всем рискует, все, даже жизнь свою готов отдать для радости и любви, ради них нарушает суровый королевский указ и тайно возвращается в поэтический город страсти и красавиц Мадрид. И в этом он настоящий человек эпохи Возрождения. Дон Гуана любит за вдохновенный артистизм, смелость и удачливость своевольная актриса Лаура, которая ценит свое искусство из сердца рождающегося «вольного вдохновенья» и потому брезгливо отворачивается от мрачного религиозного аскета Дона Карлоса, на любовном свидании некстати напоминающего ей о грядущей старости. А Дон Гуан всегда говорит женщине то, что она хочет слышать. И сам этому верит, иначе она не поверит ему. Этот великий и тонкий льстец смело и изобретательно возвращает к жизни и любви молодую красавицу вдову Донну Анну и даже статую ее мужа Командора великодушно приглашает участвовать в их празднике радости и увлекательной страсти. Смелость его такова, что он протягивает руку Каменному гостю и выдерживает страшное пожатие его каменной десницы. Даже силы ада и смерти не могут остановить этого вдохновенного служителя жизни, радости и любви. “Он Дону Анну взаперти держал...” — вспоминает убитого им командора пушкинский Дон Гуан. “Проси статую, — приказывает он Лепорелло, — завтра к Доне Анне/Придти попозже вечером и стать/У двери на часах”. Давно уже замечено, что это приглашение является отличительной деталью пушкинской трагедии. В “Каменном Госте” статую приглашают не на ужин, как в пьесе Мольера или в опере Моцарта, но стать на часах, издевательски предлагают покойнику продолжать заниматься тем, чем он занимался при жизни, — охранять свой дом, свою жену. Иначе говоря, покойному командору предлагают выступить в привычной для него роли к о м е н д а н т а возведенной им нравственной крепости. «Пир во время чумы». Непреходящее и вечное… Последняя из «Маленьких трагедий» — «Пир во время чумы» — исключительно интересна тем, что, являясь в своей основе переводом из английского поэта Джона Вильсона (1785—1854), она вместе с тем представляет собой неповторимое в своем своеобразии и вполне оригинальное произведение Пушкина. В 1830 году, во время холерной эпидемии, охватившей Россию, тема чумы привлекла внимание отрезанного от мира в своем Болдине поэта. Закончив собственные трагедии, он использовал и «материал» Вильсона. Близко, иногда буквально, переводя его романтическую стихотворную сцену из жизни уголка старой Англии, охваченного смертоносной заразой, Пушкин наполнил ее, как и каждый перевод, над которым работал, своим дыханием, своей мыслью. С точки зрения переводческого искусства многое в переводе Пушкина — подлинный шедевр. В свой замечательный перевод поэт сознательно вносит и существенные изменения, радикально меняющие общий тон целого. Общие принципы перевода, которыми руководствовался Пушкин, рассмотрены, в частности, Е.Г. Эткиндом в книге «Русские поэтыпереводчики от Тредиаковского до Пушкина». Работа с английскими первоисточниками и текстами для нас была не новой: в прошлом году мы уже работали над русско-английским проектом «Шекспир и современность». Мы научились пользоваться английскими оригиналами, взяли первые уроки поэтического перевода, поэтому теперь нам захотелось подойти к проблеме немного с другой стороны, на наш взгляд, более сложной. Провести Джон Вильсон 1785 - 1854 сопоставительный анализ двух произведений: драмы Вильсона «Чумный город» (1816) и драмы А.С.Пушкина «Пир во время чумы». «Пир во время чумы» не привлекал пристального внимания ни литературоведов, ни переводоведов, и, возможно, потому, что первые считали эту трагедию переводом, а вторые – самостоятельным произведением. П.В. Анненков объявил ее переводом. Московский педагог Лев Поливанов писал: «Выбор этой сцены … для перевода объясняется тем, что поэтическое чувство Пушкина нашло в ней оригинальный замысел и трагизм положения этих людей, пирующих на краю гроба». Д.Н.Овсянико-Куликовский в книге «Пушкин» уверяет: «Переведя именно 4-ую сцену I акта Вильсоновой трагедии, Пушкин, по выражению Мольера, нашел и взял «свое добро»; но и со всем тем черты гениального творчества в приведенном отрывке принадлежат Пушкину, а не Вильсону». Как видим, Овсянико-Куликовский, назвав трагедию Пушкина переводом, все же указывает и на некие черты, которые делают ее чем-то большим, нежели только перевод. Н. Яковлев констатирует: «… перевод Пушкина вообще, чрезвычайно точен и близок к подлиннику, местами же – почти подстрочен». А вот мнение Ю.М. Лотмана: «Пир во время чумы» меньше всех других пьес цикла привлекал внимание исследователей, видимо, отчасти из-за его переводного характера». Таким образом, все перечисленные исследователи подмечают двойной характер «Пира во время чумы». Что касается источников трагедии, то на них точно указывает Яковлев, это книга Даниеля Дефо «История великой лондонской чумы 1665 г.» и «Чумный город» Дж. Вильсона. Яковлев пишет: «Книга Дефо… повлияла на того, кто в свою очередь явился источником для Пушкина, – на английского писателя Джона Вильсона» «История великой лондонской чумы 1665 г.» была найдена в библиотеке Пушкина, и, возможно, он читал и ее тоже. «A Journal of the Plague Year » is a novel by Daniel Defoe, first published in March 1722. Daniel Defoe (1659/1661 [?] - April 24 [?] 1731 [1]), born Daniel Foe, was an English writer, journalist, and pamphleteer, who gained enduring fame for his novel Robinson Crusoe. Defoe is notable for being one of the earliest practitioners of the novel, as he helped to form the popularis in Britain, and is even referred to by some as one of the Даниель Дефо founders of the English novel. [2] A prolific 1659/1661-1731 and versatile writer, he wrote more than five hundred books, pamphlets, and journals on various topics (including politics, crime, religion, marriage, psychology and the supernatural). He was also a pioneer of economic journalism. A work that is often read as if it were non-fiction is his account of the Great Plague of London in 1665. The novel is a fictionalised account of one man's experiences of the year 1665, in which the Great Plague struck the city of London. The book is told roughly chronologically, though without sections or chapter headings. Although it purports to have been written several years after the event, it actually was written in the years just prior to the book's first publication in March 1722. Defoe was only five years old in 1665, and the book itself was published under the initials H. F. The novel probably was based on the journals of Defoe's uncle, Henry Foe. Титульный лист оригинального издания 1772 In the book, Defoe goes to great pains to achieve an effect of verisimilitude, identifying specific neighborhoods, streets, and even houses in which events took place. Additionally, it provides tables of casualty figures and discusses the credibility of various accounts and anecdotes received by the narrator. The novel often is compared to the actual, contemporary accounts of the plague in the diary of Samuel Pepys. Defoe's account, although fictionalized, is far more systematic and detailed than Pepys's first-person account. Раз основой пушкинской трагедии является драма Вильсона, то с неё мы и начали своё исследование. John Wilson ("Christopher North") was the son of a Paisley manufacturer. After study at Glasgow University, he took his M.A. from Magdalen College, Oxford (1810). Wilson worked as an attorney in Edinburgh before joining the editorial staff of Blackwood's Magazine in 1817, where he became, with John Gibson Lockhart, one of the leading Tory journalists of the age. With support from Sir Walter Scott, Robert Southey, Reginald Heber, and others, he was elected professor of moral philosophy at Edinburgh University (1820-51). As a poet, Wilson passed from one extreme to the other, for he began by writing a cloyingly saccharine verse but was much more successful when he moved to the opposite pole of violent Gothic excess. His first major work, The Isle of Palms, was charitably described by Poe as a piece in which 'the poetic predominates greatly over the intellectual element', and certainly the poem is prettified and pious at the expense of what Crabb Robinson called 'strength of imagination.' Typically, In such a fairy Isle now prayed Fitz-Owen and his darling Maid. The setting sun, with a pensive glow, Hath bathed their foreheads bending low, Nor ceased the voice, or breath of their prayer, Till the moonlight lay on the mellowed air. John Wilson ("Christopher North") 1785 - 1854 In The City of the Plague (1816), however, Wilson decisively changed tactics, replacing the Isle's 'raptures about female purity and moonlight landscapes, and fine dreams, and flowers, and singing-birds' with scenes of violence, hysteria, and desecration. 'The "City of the Plague"', declared Byron, '...[is] full of the best "matériel" for tragedy that has been seen since Horace Walpole', and Francis Jeffrey praised the poem's 'savage and powerful “Christopher North" eloquence'. Aleksandr Pushkin used a (John Wilson) scene from the poem for his 1832 tragedy The Feast during the Plague, which one critic characterizes as 'merely a translation' from Wilson. Shelley read the poem as soon as it appeared and, as Eleanor Sickels has persuasively argued, almost certainly borrowed from it a year later in The Revolt of Islam, where scenes of massacre, famine, and religious terror seem clearly to draw on Wilson's imagery and rhetoric. 'What signifies a living maniac's face?', Wilson asks: Have we not often seen the unsheeted dead Reared up like troops in line against the walls? ...And as I hurried off in shivering fear, Methought I heard a deep and dismal groan From that long line of mortal visages Shudder through the deepening darkness of the street. (Wilson, Works, XII. 167) Much of Wilson's poetry is sanctimonious and unreservedly sentimental, but when he turned to the Gothic mode he was much more successful. The desolation and terror of The City of the Plague impressed Byron and Jeffrey, influenced Pushkin, and almost certainly informed Shelley's Revolt. При знакомстве с произведением Вильсона и критической литературой мы определили, что пушкинский текст предельно близок к Вильсонову, а «местами же почти подстрочен», как и писал Яковлев. Но вместе с тем, есть и существенные расхождения. Прежде всего, различие начинается с песни Мери и Президента (у Пушкина - председателя), поэтому мы занялись переводом этих песен. У английского поэта Мери поет длинную песню на Шотландском наречии, не имеющую ничего общего с простодушной и сердце-раздирающей песнью, вложенной Пушкиным в ее уста. Песня Мери Грэй у Вильсона исполнена местного колорита Шотландии в пейзаже и бытовых деталях. I walk'd by rnysel' owre the sweet braes o' Yarrow, When the earth wi' the gowans o' July was drest; But the sang o' the bonny burn sounded like sorrow, Round ilka house cauld as a last simmer's nest. I look'd 'thro' the lift o' the blue smiling morning, But never ae wee cloud o' mist could I see On its way up to heaven the cottage adorning Hanging white owre the green o' it's sheltering tree Я бродила когда-то по милым сердцу склонам, где рос тысячелистник, Когда земля была одета в июльские одежды; А теперь песнь любимого ручейка печально звучит, И зияет круглый домашний котел, словно опустевшее летнее гнездо. Я любовалась улыбающейся восходящей зарей, И не было на ее пути к небесам ни единого облачка, И украшала она дом, Освещая крону дерева, укрывавшего его. By the outside I ken'd that the in was forsaken, That nae tread o' footsteps was heard on the floor; —O loud craw'd the cock whare was nane to awaken, And the wild-raven croak'd on the seat by the door Теперь я узнала, что покинут тот дом, Не слышна в нем поступь милых ног, Сладкоголосый петушок уж не будит никого, Лишь дикий ворон каркает на крылечке у двери, Sic silence—sic lonesomeness, oh! were Но что теперь! Болезненная тишина! Болезненное одиночество! bewildering! I heard nae lass singing when herding her sheep. I met nae bright garlands o' wee rosy children Dancing on to the school-house just wakened frae sleep. I past by the school-house—when strangers were coming, Whose windows with glad faces seem'd all alive Ae moment I hearken'd, but heard nae sweet humming, Par a night o' dark vapour can silence the Hive. I past by the pool whare the lasses at daw'ing; Used to bleach their white garments wi' daffin and din; But the foam in the silence o' nature was fa'ing, And nae laughing rose loud thro' the roar o' the linn. I gaed into a small town—when sick o' my roaming Whare ance play'd the viol, the tabor and flute; Twas the hour lov'd by Labour, the saft-smiling gloaming,Yet the Green round the Cross-stane was empty and mute. To the yellow-flower'd meadow and scant rigs o' tillage The sheep a' neglected had come frae the glen; The cushat-dow coo'd in the midst o' the village, And the swallow had flown to the dwellings o' men! —Sweet Denholm ! not thus, when I lived in thy bosom, Thy heart lay so still the last night o' the week; Then nane was sae weary that love would nae rouse him, And grief gaed to dance with a laugh on his cheek. Sic thoughts wet my eyne—as the moonshine was beaming On the kirk-tower that rose up sae silent and white; The wan ghastly light on the dial was streaming. But the still finger tauld not the hour o' the night. The mirk-time past slowly in sidling and weeping, I waken'd and nature lay silent in mirth; Owr'e a' holy Scotland the Sabbath was sleeping, And heaven in beauty came down on the earth. Не слышна песня девушки, собирающей овец, Не видна ватага ребятишек, Бегущих в школу, едва проснувшись. Я прохожу мимо школы, где бывало так много людей, Где окна с радостными лицами казались живыми. Теперь я прислушиваюсь, но не слышу сладостного гула, Словно черная печаль царит в этом улье. Я прохожу мимо заводи, где на закате бывало Девушки весело и шумно стирали белье, Теперь лишь пена шуршит в тишине И не заглушает веселый смех шум водопада. Я бродила, рыдая, по маленькому городку, Где раньше, бывало, играли скрипка, барабан и флейта; Когда-то здесь кипела работа, Теперь же поля пусты и молчаливы. По желтым лугам и вспаханным пашням Без присмотра бродят овцы, Посреди деревни воркуют дикие голуби, И ласточки поселились в деревенских домах! Милый Денхолм! Еще вчера ты любил меня, И сердце мое ликовало от счастья; А теперь моя любовь не может тебя разбудить, И только горе, смеясь, пляшет на его щеках. Печальные мысли заставляют меня плакать, когда над башней кирхи Восходит луна, такая бледная и тихая, И проливает призрачный свет, Но ни единый шорох не потревожит ночь. Ночь длится долго, крадучись и плача, Но я просыпаюсь и природа тиха, Милая Шотландия и Саббат спят, И небо в своем очаровании словно спустилось на землю. The morning smiled on—but nae kirk-bell was ringing, Nae plaid or blue bonnet came down frae the hill; The kirk-door was shut, but nae psalm-tune was singing, And I miss'd the wee voices sae sweet and sae shrill. I look'd owr'e the quiet o' Death's empty dwelling, The lav'rock walk'd mute 'mid the sorrowful scene, And fifty brown hillocks wi' fresh mould were swelling Owre the kirk-yard o' Denholm last simmer sae green. Улыбается утро – но не звучит церковный колокол, Ни 'юбочка', ни ' шапочка' не сбегает с холма, Дверь церкви закрыта, не слышно псалмов, Мне не хватает родных голосов, таких звонких и пронзительных. Я смотрю на пустое жилище Смерти, Жаворонок сидит моча посреди печальной сцены И пятьдесят свежих холмиков возвышается На церковном дворе. The infant had died at the breast o' its mither; The cradle stood still near the mitherless bed; At play the bairn sunk in the hand o' its brither; At the fauld on the mountain the shepherd lay dead. Ребенок умер на груди своей матери; Колыбель стоит пустая рядом с опустевшей кроватью, Играя, умер ребенок на руках своего брата, На склоне холма лежит бездыханный пастух. Oh ! in spring time 'tis eerie, when winter is over, And birds should be glinting ow're forest and lea, When the lint-white and mavis the yellow leaves cover, And nae blackbird sings loud frae the tap o' his tree. Весной, когда уже кончилась зима, Когда птицы должны петь в лесах и лугах, Не слышно певчих дроздов, Лишь черный дрозд громко кричит из чужого гнезда. But eerier far when the spring.land rejoices And laughs back to heaven with gratitude bright, To hearken ! and nae whare hear sweet human yoices! When man's soul is dark in the season o' light! Но далеко-далеко, когда снова будет весна, И с благодарностью улыбнется небесам, Прислушайся! Ты не услышишь людских голосов! А в душах людей будет мрак, когда на улице весна! Перевод Корчагиной Ольги10 кл. Пушкин сознательно дает песню, освобожденную от типично-шотландских деталей, песню родную и для русского слуха: Было время, процветала В мире наша сторона: В воскресение бывала Церковь божия полна; Наших деток в шумной школе Раздавались голоса, И сверкали в светлом поле Серп и быстрая коса. Ныне церковь опустела; Школа глухо заперта Нива праздно перезрела; Роща темная пуста; И селенье, как жилище Погорелое, стоит, Тихо все - одно кладбище Не пустеет, не молчит Поминутно мертвых носят, И стенания живых Боязливо бога просят Упокоить души их. Поминутно места надо, И могилы меж собой, Как испуганное стадо, Жмутся тесной чередой. Если ранняя могила Суждена моей весне Ты, кого я так любила, Чья любовь отрада мне, Я молю: не приближайся К телу Дженни ты своей; Уст умерших не касайся, Следуй издали за ней. И потом оставь селенье. Уходи куда-нибудь, Где б ты мог души мученье Усладить и отдохнуть. И когда зараза минет, Посети мой бедный прах; А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах! Сравнивая песню Мери Грэй у Вильсона и у Пушкина, мы определили, что первая песня, тяжеловесная по размеру; вторая выдержана в легком музыкальном ритме. Следующее различие, на которое мы обратили внимание, - это картина кладбища. И Пушкин и Вильсон дают картины кладбища во время чумы, но у Вильсона это традиционная романтика такого рода I look'd owr'e the quiet o' Death's empty dwelling Я взглянула на спокойствие пустынной обители Смерти У Пушкина — прямо противоположная реалистическая картина: «... одно кладбище не пустеет, не молчит». Еще интереснее при сопоставительном анализе оказался «гимн» Председателя. Вильсон начинает ее описаниями двух кораблей, сражающихся на море, и двух армий, бьющихся на земле, бедствия и страсти которых противопоставляются ощущениям заразы. Председатель пира у Вильсона поет песню, подхватываемую хором и полную растянутых сравнений (картина гибели двух армий и двух флотов), обращений к персонифицированным Безумию, Слабоумию, Лихорадке, Чахотке, Параличу, ничтожным в сравнении с Чумою. Two navies meet upon the waves That round them yawn like op'ning graves; The battle rages ; seamen fall, And overboard go one and all! The wounded with the dead are gone; The wounded with the dead are gone; And, at each plunge into the flood, Grimly the billow laughs with blood. —Then, what although our Plague destroy Seaman and landinan, woman, boy? When the pillow rests beneath the head, Like sleep he comes, and strikes us dead, What though into yon Pit we go, Descending fast, as flakes of snow? What matters body without breath? No groan disturbs that hold of death, Chorus. Then, leaning on this snow-white breast, I sing the praises of the Pest ! If me thou would'st this night destroy, Come, smite me in the arms of Joy. Two armies meet upon the hill; They part, and all again is still. No! thrice ten thousand men are lying Of cold, and thirst, and hunger dying. While the wounded soldier rests his head, About to die upon the dead, What shrieks salute yon dawning light? 'Tis Fire that conies to aid the Fight! —All whom our Plague destroys by day, His chariot drives by night away. And sometimes o'er a church.yard wall His banner hangs, a sable pall! Where in the light by Hecate shed With grisly smile he counts the dead, And piles them up a trophy high In honour of his victory. Две эскадры встретились на морских волнах, Которые зияют, как вырытые могилы, Битва свирепствует: один за другим Падают за борт моряки, раненые и убитые. Бушующий океан заглушает стоны, И каждый, кому суждено исчезнуть в его пучине, Вызывает у него лишь жестокую кровавую усмешку. - Разве не так же и нас губит чума, На море, и на земле, и женщин, и детей? Когда голова покоится на подушке, Она подкрадывается, как сон, и сражает насмерть. Что если и нам суждено исчезнуть в этой зияющей яме? Растаять мгновенно, подобно снежинке? Что значит наша плоть, лишенная дыханья? И когти смерти не разжать стеная. Хор Ну что ж, припав к твоей белоснежной груди, Тебе, душегубка, пою эту песнь, И, если этой ночью мне не суждено погибнуть, Приходи, улыбнись, обними меня с радостью. Две армии встретились на холме; Разошлись они, и снова все стихло. Нет! Трижды по десять тысяч человек лежат. Умерев от холода, жажды и голода. Вот умирает раненый солдат, Бессильно голову склонив. Кто громко приветствует этот угасающий свет? Огонь, что лжет, помогая той бойне! -Всех, кого уничтожила за день чума, Его колесница увозит в ночь. И порой за церковным забором Его знамя развевается точно соболья мантия! Когда в свете зловещей луны Он трупы считает с ужасной улыбкой И в кучу кладет их, как трофеи, Символизирующие его победу. King of the aisle ! and church-yard cell! Thy regal robes become thee well. With yellow spots, like lurid stars Prophetic of throne-shattering wars, Bespangled is its night-like gloom, As it sweeps the cold damp from the tomb. Thy hand doth grasp no needless dart, One finger touch benumbs the heart. If thy stubborn victim will not die, Thou roll'st around thy bloodshot eye, And Madness leaping in his chain With giant buffet smites the brain, Or Idiocy with drivelling laugh Holds out her strong-drugg'd bowl to quaff, And down the drunken wretch doth lie Unsheeted in the cemetery. Что ж, король трущоб и жалких келий, Тебе к лицу королевский наряд, С желтыми пятнами, словно пылающими звездами, Предвестниками разрушительных войн. Только звезды освещают ночную мглу, Когда ты смахиваешь пыль с холодных могил. Твоя рука сжимает бесполезное копье, Ведь, даже пальцем коснувшись, ты останавливаешь сердце. А если упрямая жертва не сразу умрет, Ты так поведешь кровавым глазом, Что Безумие, взмахнув своей цепью, Нанесет по Разуму разрушающий удар, Или Слабоумие с безумным смехом Поднесет ей пьяную чашу, И все равно бедняга будет лежать Непокрытый на кладбище. Thou ! Spirit of the burning breath Alone deserv'st the name of Death! Hide Fever! hide thy scarlet brow; Nine days thou linger'st o'er thy blow, Till the leach bring water from the spring, And scare thee off on drenched wing. Consumption ! waste away at will! In warmer climes thou fail'st to kill And rosy Health is laughing loud As off thou steal'st with empty shroud! Ha! blundering Palsy ! thou art chill! But half the man is living still; One arm, one leg, one cheek, one side In antic guise thy wrath deride. But who may 'gainst thy power rebel, King of the aisle! and church-yard cell. Лишь ты один, огнедышащий дух, Достоин носить имя Смерть! Сгинь, Лихорадка, спрячь свое алое чело; Всего девять дней длишься ты, Пока не принесут воды из ручья И не спугнут тебя дозой лекарств. Чахотка! Сгинь и ты! Ты не можешь убивать в теплых странах, Где веселое Здоровье смеется звонко, И бродишь ты украдкой с пустым саваном! Смеюсь над тобой, Паралич! Ты расстроен! Ведь половина пораженных тобой все еще живы; Однорукие, одноногие, с одной щекой и одним боком, С гримасой гнева на лице, Они смеются над тобой. А кто может восстать против силы твоей, Король трущоб и жалких келий. To Thee O Plague ! I pour my song, Since thou art come I wish thee long! Thou strikest the lawyer 'mid his lies, The priest 'mid his hypocrisies. The miser sickens at his hoard. And the gold leaps to its rightful lord. And the gold leaps to its rightful lord, May wed a new and blushing bride, And many a widow slyly weeps O'er the grave where her old dotard sleeps, Тебе, о, Чума! Я песню пою! Уж коль ты пришла, оставайся надолго! Ты убиваешь юриста с его ложью, Священника с его лицемерием, Скрягу с его сбережениями, И золото достается его законному хозяину. Муж, теперь уже свободный, Может жениться на новой румяной невесте. И плачет лукаво вдова над могилой, Где спит ее 'старый дурак’, While love shines through her moisten'd eye. 'Tis ours who bloom in vernal years To dry the love-sick maiden's tears, Who turning from the relics cold, In a new swain forgets the old. А в глазах ее влажных светится любовь. И нам, цветущим и молодым, предстоит Осушить слезы жаждущих любви вдов. Оставив охладевшие тела, С молодыми возлюбленными они забудут старых Перевод Литвинова Димы10 кл. Любимова Саши 10 кл. Все это - признаки стиля ранней английской поэзии, весьма далекой и чуждой Пушкину. Когда могущая зима, Как бодрый вождь, ведет сама На нас косматые дружины Своих морозов и снегов, На встречу ей трещат камины, И весел зимний жар пиров. Царица грозная, Чума Теперь идет на нас сама И льстится жатвою богатой; И к нам в окошко день и ночь Стучит могильною лопатой.... Что делать нам? и чем помочь? Как от проказницы зимы, Запремся также от Чумы! Зажжем огни, нальем бокалы; Утопим весело умы И, заварив пиры да балы, Восславим царствие Чумы. Есть упоение в бою, У бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы. Всё, всё, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья Бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог. И так - хвала тебе, Чума! Нам не страшна могилы тьма, Нас не смутит твое призванье! Бокалы пеним дружно мы, И Девы-Розы пьем дыханье Быть может … полное Чумы! Предел смелости вильсоновского Председателя — стихи: To Thee O Plague! I pour my song, Since thou art come I wish thee long! Тебе, о Чума, обращаю я песню свою! Раз уж ты пришла, я хочу, чтобы ты подольше оставалась! Ни одного признака, подобного придумывания мотивов и искусственного распространения их у Пушкина. Свободно и сильно вылетает лирическая песнь его, хотя и сберегает некоторые черты подлинника». Пушкинский «Гимн» — одно из наиболее высоких, совершенных и своеобразных произведений русской лирической поэзии. Гимн дан Пушкиным как вызов, бросаемый жизнью смерти. Он перекликается с вызовом Дон-Гуана. Мы думаем, что нет никаких оснований видеть в нем ноты обреченности и пессимизма. Наоборот, гимн Пушкина преодолевает страх смерти («Нам не страшна могилы тьма»). Он славит бесстрашие человека: Есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы... Две вводные песни (Мери и Председателя) принадлежат к лучшим образцам пушкинской лирики. Изучение материалов позволило нам прийти к следующему выводу: кроме различий в песнях, снят конфликт между Председателем и молодым человеком в конце трагедии; опущены некоторые детали, изменены некоторые авторские ремарки по ходу пьесы, и, самое главное, что и заставляет по-новому осмыслить весь текст, добавлена последняя ремарка, которой в английском тексте нет вовсе. Священник. Спаси тебя господь! Прости, мой сын. (Уходит. Пир продолжается. Председатель остается погруженный в глубокую задумчивость.) Содержанию отрывка придано новое звучание и значение, внешняя же форма (за исключением песен Мери и Председателя пира) осталась без изменений. Гимн пушкинского Вальсингама — своеобразнейшее явление в мировой поэзии. Он потрясает смелостью своей мысли. Выбрав из большой трехактной драмы только одну, наиболее яркую сцену и подняв ее на вершины лирической мысли, Пушкин тем самым превратил ее в самостоятельную гениальную «маленькую трагедию». «Маленькие трагедии» на сцене. «Маленькие трагедии » всегда привлекали к себе внимание театральных и кинорежиссеров. Были попытки поставить их на сцене, но, работая с театральной литературной критикой, мы пришли к выводу, что успешных было мало. Есть воспоминания, в которых упоминается о том, что сам Станиславский во МХАТе играл Сальери и Скупого рыцаря, но спектакль успеха не имел. В 60-х годах Евгений Симонов в театре Вахтангова осуществил постановку с ведущими актерами Гриценко (Дон Гуан) и Целиковской (Дона Анна). Белохвостикова (Дона Анна) и Высоцкий (Дон Гуан) снялись в фильме Хейфица, музыку к которому написал Шнитке. Высоцкий сыграл блестяще, Белохвостикова не очень удачно. Все это были реалистические постановки, а в "маленьких трагедиях" закодировано нечто таинственно-трагическое, и это требовало какого-то другого решения. По утверждению Юрия Лотмана, в «Маленьких трагедиях» «живое борется с мертвым, живые люди превращаются в предметы, а предметы - в живых людей». Спектакль «Маленькие трагедии» в постановке Московского областного ТЮЗа, который посчастливилось нам посмотреть, это уникальное прочтение Пушкина, в котором его герои находятся вне времени и пространства. В постановке сошлись пушкинское, наше и грядущее время. Чтобы понять это, нужно представить Сальери, в пиджаке и при галстуке. Проводя параллели между прошлым, настоящим и будущим, режиссер показывает нам, что в пушкинских героях легко угадываются сегодняшние персонажи. В Сальери кто-то наверняка узнает современного амбициозного музыканта, готового ради завоевания эстрады на всё, в Бароне богатого, но жадного чиновника, в Альберте молодого юнца, жаждущего денег. Начинается спектакль с трагедии «Моцарт и Сальери», а заканчивается всё «Пиром во время чумы». Показательно, не правда ли? Вот, что об этом спектакле рассказала в школьном журнале ученица 10 класса Корчагина Ольга. «После спектакля я долго размышляла о том, понравилась ли мне постановка. Я была в некоторой растерянности, мне показалось, что глагол "нравиться" в данном случае совершенно неуместен. Можно ответить на такой вопрос положительно или отрицательно, если вы присутствуете на концерте легкой музыки или на веселой комедии. Я же была "соучастницей" огромного труда, в который вовлекли меня актеры спектакля и режиссер, так как спектакль нужно было не просто созерцать, а думать, переосмысливать, стараться успеть за высоким темпом. У меня есть точный критерий: если я на следующий день не помню уже, что смотрела или слушала, значит, это и не стоит вспоминать. Если же остается "послевкусие" и на второй день, и через месяц, значит, это талантливо, это настоящее. Спектакль не оставил меня равнодушной. Я все время мысленно возвращаюсь к нему, пытаюсь понять авторский замысел, ведь современная интерпретация классических произведений – не новый для нас жанр, он сегодня используется многими режиссерами ( в прошлом году нам довелось посмотреть «Ромео и Джульетту» в постановке Р.Козака в Пушкинском театре). А теперь вот Сальери в черном костюме и черном галстуке, Моцарт – в черном костюме и белом галстуке, а в «Пире» все актеры в современной одежде – джинсы, майки, рубашки «навыпуск», обычные кроссовки. Чтобы до конца разобраться в собственных ощущениях и рассказать о спектакле ребятам, я обратилась с вопросом к режиссеру Заслуженному деятелю искусств России Валерию Персикову: « Что для Вас было важно в этой постановке, что хотели сказать зрителям?» После небольшой паузы Валерий Персиков рассказал о своей идее. «Известно, что «Маленькие трагедии» - это не подлинно пушкинские истории, оригинальные замыслы этих пьес просматриваются в произведениях средневековых зарубежных писателей. Таким образом – Пушкин представил читателю современное ему видение давно существующих историй. А я представил зрителю свое восприятие тех же событий с позиций сегодняшнего дня». Музыка в спектакле абсолютно не мешала восприятию происходящего на сцене, как бывает в некоторых постановках, кроме того, она несла эмоциональную нагрузку (Музыкальный руководитель – Григорий Слободкин). Это было не просто музыкальное сопровождение, а пение «акапелло», что придавало постановке особый, необычный колорит. «Большую музыку» олицетворял рояль, сосредоточивший внимание зрителей. "Пир во время чумы" – вторая, последняя часть представления, которая вызывает неоднозначную реакцию. На сцене актеры в современной одежде. Тихая песнь актеров начинает действие. Это вызывает тревогу, внутреннее беспокойство, которое помогает увидеть в постановке реалии нашего времени. Здесь уже трудно понять о каком времени идет речь, складывается впечатление, что Пушкин перенесся в наше время, увидел « белую чуму», которая угрожает нам. Заключительная сцена настолько реалистична, что у многих вызывает отвращение. Думаю, именно этого добивался режиссер. В этот спектакль вложен талант и труд большого коллектива: режиссера, актеров, декораторов, костюмеров, гримеров, музыкального руководителя и многих других, а нам, зрителям, остается только полюбить его, потому что он создавался для нас». Посещение спектакля еще раз доказало, что сюжеты и образы «Маленьких трагедий» вечные, очищенные от всего преходящего, временного, речь в них идет о сути реальной жизни, текучей и вместе с тем вечной. Их персонажи и темы все время перекликаются, друг друга объясняют, здесь все время вершится суд, но не обычный, а творческий. В мире и душах людей Пушкиным неожиданно открыты новые глубины. Для этого сцена очищена им от всего лишнего, могущего отвлечь нас от продуманного сцепления судеб и характеров, их сценического выявления и развития. Остаются олицетворенные великие страсти человека и могучие мировые силы, определяющие его характер и судьбу, само движение жизни. Заключение Темы «Маленьких трагедий» отнюдь не маленькие, они вечны и касаются каждого человека. Достаточно прочитать коротенькую пьесу «Пир во время чумы», чтобы увидеть ее ключевую проблему – «Человек и смерть». Человек, увы, смертен, и работа жизни и смерти вокруг него не останавливается ни на секунду и в любой момент может оборвать его или его близких судьбу. С этой точки зрения наша жизнь является непрерывным пиром во время чумы, только люди стараются об этом не думать, их спасает дар забвения, счастливый дар духовной слепоты. Но в пьесе Пушкина наступает прозрение. Эпидемия чумы лишь обнажает, обостряет для каждого понимание своей бренности, смертности; болезнь ежечасно уносит на глазах у всех свои многочисленные жертвы. Люди в отчаянном пьяном и любовном разгуле стремятся забыться, защититься от этой простой и жестокой мысли о неизбежном. Похоронивший мать и жену Вальсингам, председатель этого безбожного пира, говорит укоряющему его священнику: ...Я здесь удержан Отчаяньем, воспоминаньем страшным, Сознаньем беззаконья моего, И ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю... Поразительны и слова печального поэта Вальсингама, с какой-то задумчивостью, отрешенностью обращенные к юной шотландской крестьянке Мери: Твой голос, милая, выводит звуки Родимых песен с диким совершенством... Ведь и волшебное искусство Моцарта тоже совершенно, но это не дикое, а гармоническое, высшее совершенство светлого гения музыки. А все же чистая, наивная, жалобная песня счастливой некогда девы выше бездушного мастерства не знающего любви и счастья завистника Сальери. И здесь мы видим движение пушкинских образов в его «опыте драматических изучений». Чума меняет жизнь всех этих людей, заставляет их устроить этот жестокий спектакль – пир во время чумы, искать забвения, веселиться среди общей трагедии, выставлять напоказ свое бесстрашие: Но много нас еще живых, и нам Причины нет печалиться. Это бунт смертного человека против смерти, отчаянный, безнадежный вызов ей. Меняются их характеры, трезвеют мысли. Открываются мрачные глубины души. И в знаменитой песне председателя, предвосхищающей мысли Достоевского, сказано, что сама близость смерти, опасности духовно обогащает, раскрывает человека: Есть упоение в бою И бездны мрачной на краю, И в разъяренном океане, Средь грозных волн и бурной тьмы, И в аравийском урагане, И в дуновении Чумы. Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Неизъяснимы наслажденья – Бессмертья, может быть, залог! И счастлив тот, кто средь волненья Их обретать и ведать мог. Проделанная работа позволяет нам сказать, что высокая идейная содержательность, законченность и пластическая выразительность стиховых образов пушкинских «Маленьких трагедий» явились эпохой в русском не только драматическом, но и вообще словесном искусстве. Образы их, помимо фактов прямого влияния, имели громадное идейное и эстетическое воспитательное значение для самых разнообразных сторон последующей русской культуры (поэзия, музыка, театр).