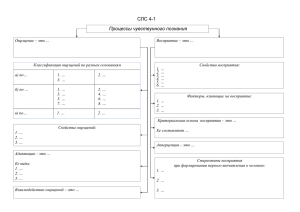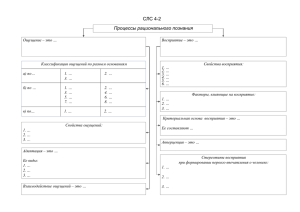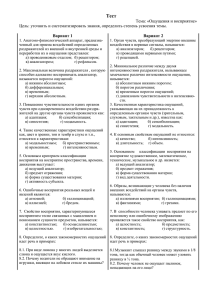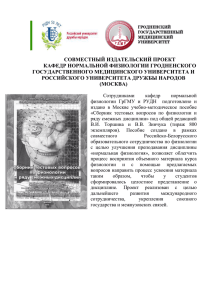Элементы физиологии и художественное восприятие Л.С.Салямон
advertisement
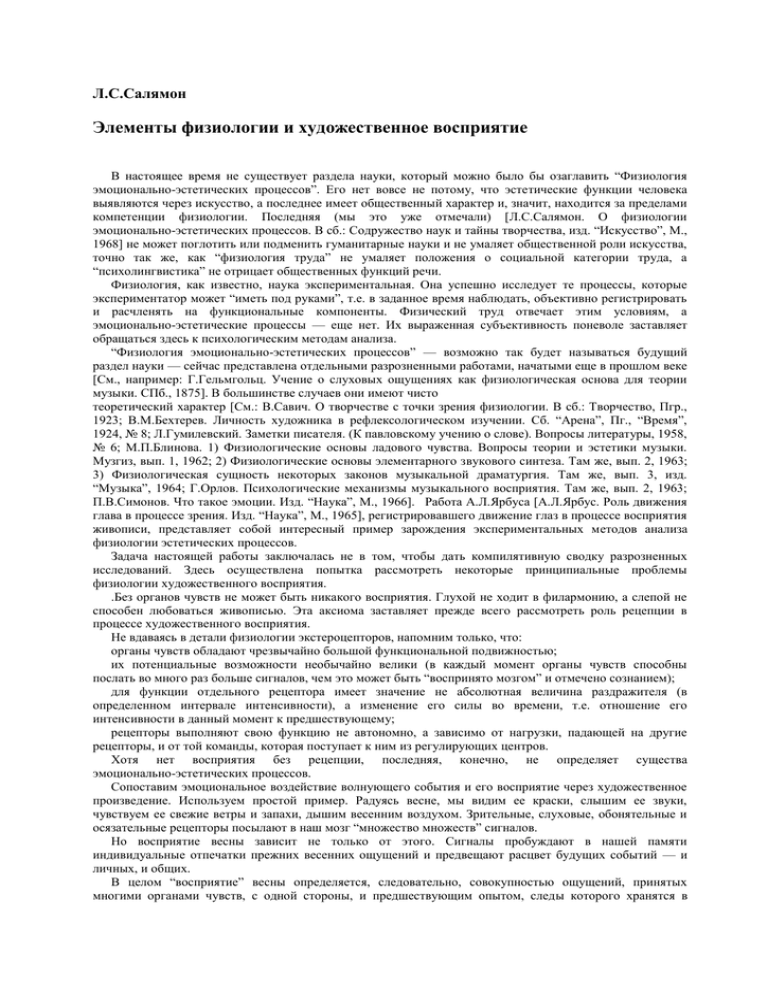
Л.С.Салямон Элементы физиологии и художественное восприятие В настоящее время не существует раздела науки, который можно было бы озаглавить “Физиология эмоционально-эстетических процессов”. Его нет вовсе не потому, что эстетические функции человека выявляются через искусство, а последнее имеет общественный характер и, значит, находится за пределами компетенции физиологии. Последняя (мы это уже отмечали) [Л.С.Салямон. О физиологии эмоционально-эстетических процессов. В сб.: Содружество наук и тайны творчества, изд. “Искусство”, М., 1968] не может поглотить или подменить гуманитарные науки и не умаляет общественной роли искусства, точно так же, как “физиология труда” не умаляет положения о социальной категории труда, а “психолингвистика” не отрицает общественных функций речи. Физиология, как известно, наука экспериментальная. Она успешно исследует те процессы, которые экспериментатор может “иметь под руками”, т.е. в заданное время наблюдать, объективно регистрировать и расчленять на функциональные компоненты. Физический труд отвечает этим условиям, а эмоционально-эстетические процессы — еще нет. Их выраженная субъективность поневоле заставляет обращаться здесь к психологическим методам анализа. “Физиология эмоционально-эстетических процессов” — возможно так будет называться будущий раздел науки — сейчас представлена отдельными разрозненными работами, начатыми еще в прошлом веке [См., например: Г.Гельмгольц. Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки. СПб., 1875]. В большинстве случаев они имеют чисто теоретический характер [См.: В.Савич. О творчестве с точки зрения физиологии. В сб.: Творчество, Пгр., 1923; В.М.Бехтерев. Личность художника в рефлексологическом изучении. Сб. “Арена”, Пг., “Время”, 1924, № 8; Л.Гумилевcкий. Заметки писателя. (К павловскому учению о слове). Вопросы литературы, 1958, № 6; М.П.Блинова. 1) Физиологические основы ладового чувства. Вопросы теории и эстетики музыки. Музгиз, вып. 1, 1962; 2) Физиологические основы элементарного звукового синтеза. Там же, вып. 2, 1963; 3) Физиологическая сущность некоторых законов музыкальной драматургия. Там же, вып. 3, изд. “Музыка”, 1964; Г.Орлов. Психологические механизмы музыкального восприятия. Там же, вып. 2, 1963; П.В.Симонов. Что такое эмоции. Изд. “Наука”, М., 1966]. Работа А.Л.Ярбуса [А.Л.Ярбус. Роль движения глава в процессе зрения. Изд. “Наука”, М., 1965], регистрировавшего движение глаз в процессе восприятия живописи, представляет собой интересный пример зарождения экспериментальных методов анализа физиологии эстетических процессов. Задача настоящей работы заключалась не в том, чтобы дать компилятивную сводку разрозненных исследований. Здесь осуществлена попытка рассмотреть некоторые принципиальные проблемы физиологии художественного восприятия. .Без органов чувств не может быть никакого восприятия. Глухой не ходит в филармонию, а слепой не способен любоваться живописью. Эта аксиома заставляет прежде всего рассмотреть роль рецепции в процессе художественного восприятия. Не вдаваясь в детали физиологии экстероцепторов, напомним только, что: органы чувств обладают чрезвычайно большой функциональной подвижностью; их потенциальные возможности необычайно велики (в каждый момент органы чувств способны послать во много раз больше сигналов, чем это может быть “воспринято мозгом” и отмечено сознанием); для функции отдельного рецептора имеет значение не абсолютная величина раздражителя (в определенном интервале интенсивности), а изменение его силы во времени, т.е. отношение его интенсивности в данный момент к предшествующему; рецепторы выполняют свою функцию не автономно, а зависимо от нагрузки, падающей на другие рецепторы, и от той команды, которая поступает к ним из регулирующих центров. Хотя нет восприятия без рецепции, последняя, конечно, не определяет существа эмоционально-эстетических процессов. Сопоставим эмоциональное воздействие волнующего события и его восприятие через художественное произведение. Используем простой пример. Радуясь весне, мы видим ее краски, слышим ее звуки, чувствуем ее свежие ветры и запахи, дышим весенним воздухом. Зрительные, слуховые, обонятельные и осязательные рецепторы посылают в наш мозг “множество множеств” сигналов. Но восприятие весны зависит не только от этого. Сигналы пробуждают в нашей памяти индивидуальные отпечатки прежних весенних ощущений и предвещают расцвет будущих событий — и личных, и общих. В целом “восприятие” весны определяется, следовательно, совокупностью ощущений, принятых многими органами чувств, с одной стороны, и предшествующим опытом, следы которого хранятся в нашем мозгу, с другой [Мы сознательно упускаем здесь еще один физиологический фактор — “биологический весенний фон”, обусловленный сезонными колебаниями активности эндокринных органов и влияющий на эмоциональную восприимчивость человека]. Допустим теперь, что вы хотите поделиться с другими своими весенними восторгами. Выразить восторг (удивление, радость и т. п.) нетрудно. Это умеет каждый человек. “Все останавливались и говорили разные слова. Одни говорили: —Ай-яй-яй! Другие говорили: — Вот это да! Третьи говорили: — Ну и ну! А четвертые говорили:—Ничего не скажешь!” [Ю.Казаков. Как я строил дом. Изд. “Детская литература”, М, 1967]. Этот отрывок из рассказа Юрия Казакова превосходно демонстрирует — пусть в шутливой форме — общедоступность непосредственного эмоционального выражения и его обычную бессодержательность. Выразить собственное возбуждение нетрудно. Трудно “переложить” в голову другого ту совокупность ощущений, которыми это возбуждение вызвано. Искусству удается в большей или меньшей степени преодолеть такое затруднение. Художник решает чрезвычайную задачу. Он должен сложную совокупность ощущений и мыслей выразить средствами одного языка — словесного, живописного, музыкального и т.п. Выразить так, чтобы произведение могло консервировать и затем легко ретранслировать эту совокупность ощущений, т.е. так, чтобы произведение отвечало условию обратимости и обеспечивало бы эффект эмоциональной информации. Попытка объяснить это явление в терминах физиологии рецепции приводит к безрадостным результатам. Перевести обоняние или осязание в цветовую картину пейзажа или в звуки музыкального произведения, конечно, нельзя! Даже речь, возможности которой чрезвычайно велики, но не безграничны (как иногда об этом ошибочно говорят), тоже принципиально не может запечатлеть совокупность, всех воспринимаемых человеком ощущений. Это было нами прежде показано [Л.С.Салямон. О физиологии эмоционально-эстетических процессов]. Следовательно, художественное произведение не фиксирует всей суммы падающих на органы чувств сигналов. Этот вывод не обогащает эстетику. Он в терминах физиологии доказывает известное положение о том, что художественная литература — не протокол, а картина — не фотография. Принципиальные трудности художника становятся очевидными, если сопоставить, с одной стороны, ограниченные средства его языка, с другой — большой эффект эмоционального воздействия, которого удается достичь. Живописец, например, должен перепроэцировать многокомпонентную чувственную сферу в плоскость зрительных ощущений. Художнику приходится, отсеивая третьестепенное, выискивать концентрат доминирующих ощущений и способ их доходчивой передачи. Весну нам может вернуть и картина Саврасова “Грачи прилетели”, и несколько поэтических строчек Б. Пастернака: Февраль. Достать чернил и плакать, Писать о феврале навзрыд. Понятно, что отбор ощущений, их эффективное перекодирование и обратный процесс восприятия художественного произведения не могут быть осуществлены без активного участия центральной нервной системы. Анализ процессов, протекающих в центральной нервной системе при эмоционально-эстетической активности человека, чрезвычайно труден. “Эстетический анализ величайших произведений музыкального искусства и понимание причин их красот встречает всюду, по-видимому, непреодолимые препятствия”, — писал Гельмгольц [Г.Гельмгольц. Учение о слуховых ощущениях как физиологичеcкая основа для теории музыки, стр. 506]. Это положение характеризует не только физиологию времен Гельмгольца и касается не только восприятия музыки. Не менее трудным оказывается даже современный психолингвистический анализ восприятия простой фразы. Рассматривая последовательность психолингвистических функций “в направлении от поверхности к глубинным процессам”, Дж. Миллер отмечает, что эти глубинные процессы “сейчас почти целиком скрыты во мраке”. Для того чтобы проиллюстрировать различия между пониманием высказывания и его субъективной интерпретацией, Дж. Миллер приводит следующий пример: “Муж, встреченный у двери словами: ‘Я купила сегодня электрические лампочки’, не должен ограничиваться их буквальным истолкованием; он должен понять, что ему надо пойти в кухню и заменить перегоревшую лампочку” [Дж. Миллер. Психолингвисты. В кн.: Теория речевой деятельности. Изд. “Наука”, М., 1968, стр. 249. См. также: Дж. Миллер. Речь и язык. В кн.: Экспериментальная психология, т. II. ИЛ, М., 1963, стр. 367]. Пример Дж. Миллера касается семантической оценки только обычного предложения, восприятие которого определяется ассоциативными процессами и зависят от предшествующего опыта “приемника”. Насколько же более сложным должно оказаться восприятие художественного произведения! Известно, что анатомическая и физиологическая организация: нервной системы человека определяется принципом общего конечного пути, или принципом воронки [Ч.Шеррингтон. Интегративная деятельность нервной системы. Изд. “Наука”, М., 1969. См. также руководства по физиологии]. Это приводит к тому, что начальные звенья органов чувств принимают больше сигналов, чем их по нервным проводникам доходит до центральной нервной системы, а в начальные отделы центральной нервной системы поступает больше сигналов, чем в высшие. Так, например, человеческий глаз имеет около 6 млн цветочувствительных и около 100 млн светочувствительных точек. Но от глаза к мозгу идет только около миллиона проводников. Дальнейшее суживание трудно поддается количественному учету. Однако известны некоторые функциональные параметры верхушки конуса зрительного анализатора — “получателя сообщения”, как назвали его В.Д.Глезер и И.И.Цуккерман [В.Д.Глезер, И.И.Цуккерман. Информация и зрение. Изд. АН СССР, М., 1961, стр. 154]. Функциональные возможности получателя сообщения таковы, что человек способен одномоментно различить 7±2 зрительных образов (точек, предметов, слов, букв и т.д.). Это, по выражению Миллера, “магическое число”, характерное не только для зрительного, но также и для слухового анализатора, привлекает внимание исследователей и даже используется в качестве “интеллектуального теста”. Существует точка зрения, согласно которой восприятие определяется только верхушкой конуса анализатора (“получатель сообщения”). Прилагая теорию информации к физиологии восприятия и сопоставив колоссальное число падающих на органы чувств раздражений и сравнительно небольшое количество выделенных сознанием и словесно зарегистрированных образов, некоторые исследователи говорят “о большой избыточности естественного изображения”. Но если принять эту точку зрения и все невысказанные оттенки и нюансы ощущений считать “избытком”, то невольно аннулируется и эстетическая сфера восприятия. На сите сознания тогда останется только смысловая, логическая оценка события. Напомним, что центральная нервная система способна суммировать подпороговые раздражения. Это явление, открытое сто лет тому назад И.М.Сеченовым, также не позволяет считать “избытком” всю невербализуемую часть раздражений. Следует обратить внимание еще и на то, что сортировка сигналов при их движении по воронкообразной дороге есть активный физиологический процесс. Отбор во многом определяется психической установкой личности. Превосходной иллюстрацией этого может служить один шутливый рисунок. Супруги стоят около витрины магазина. На парном рисунке изображено, что видит он и что — она. Жена видит все детали платья и его отделки, слегка закрытые пустым ярлыком; муж четко видит женскую фигуру манекена, а все остальное пунктиром, кроме жирных знаков на ярлыке, — “1000 руб.” Физиологическая теория, объясняющая механизмы такого отбора, давно уже созданная, используется не так широко, как этого заслуживает. Речь идет о теории доминанты А.А.Ухтомского. “Возбуждение аппарата общего пути в сторону определенного рабочего вектора предполагает сопряженное с этим возбуждением торможение на данный момент времени других движений в том же общем пути” [А.А.Ухтомский, Собр. соч., т. 4, изд. ЛГУ, 1954, стр. 124]. Механизм этого процесса определяется доминантой. Предыдущая подготовка создает в определенном участке общего пути доминирующий очаг стационарного возбуждения. Он тормозит “посторонние” для этой доминанты процессы и в то же время “берет на себя” посторонние импульсы и подкрепляется ими, если только они не чрезмерно сильны и назойливы; в последнем случае посторонние импульсы начинают “конкурировать” за преобладающую роль и тормозить доминирующую функцию. А.А.Ухтомский показывает, что этот же процесс имеет место и в высших отделах центральной нервной системы (в коре головного мозга). Приведем один из примеров, которым иллюстрируется это положение. “Макака, получавшая в руки зеркало, ведет себя в высшей степени замечательно. Забравшись в... укромный угол, она способна часами высиживать, детально рассматривая свое изображение... забывает про еду и питье, не реагирует на текущие раздражения или реагирует лишь короткими защитными рефлексами на раздражители, которые без зеркала привлекли бы ее оживленное внимание”. “Вот картина из дорожных наблюдений в вагоне. В московском поезде, направляющемся в Ленинград, поутру, проехав Вишеру, просыпается молодая дама и, достав из сумочки зеркальце, на протяжении десятков километров детально изучает свое изображение с сосредоточенностью, которая не дает ей заметить, что делается вокруг нее в купе, так что остаются незамеченными и официант, приносящий кофе, и кондуктор с квитанциями, на отсутствие которых пассажирка жалуется уже в виду Ленинграда. Возможно, что такая доминанта, свидетельствующая во всяком случае о высоком развитии зрительных анализаторов в коре полушарий, легко превращается в занятие уже не вполне производительное, хотя и уместное для дамы, желающей быть приятной во всех отношениях” [Там же, т. 1, 1950, стр. 127]. Доминирующая установка выражает личность, и именно поэтому “мерой увиденного можно измерить душевное богатство человека” [Ефим Дорош. Живое дерево искусства. Изд. “Искусство”, М. 1967, стр. 255]. Как явствует из теории доминанты, отбор сигналов по ходу сужения их путей — не механическая сортировка, а те сигналы, которые как бы отсеиваются, — не мусор и не шлак. Сторонние сигналы в определенных условиях могут усиливать доминанту или перебивать ее. Все это имеет прямое отношение к процессам художественного восприятия. А.А.Ухтомский специально отмечал, что те доминантные установки, которые протекают с участием коры полушарий, сопровождаются вместе с тем эмоциональными реакциями. Таким образом, не только оформленные на вершине анализатора (“получателя сообщений”) словесно регистрируемые восприятия, но и не дошедшие до этого уровня сигналы тоже могут оказаться действенными и определять фон и нюансы ощущений. Недаром психологи давно подчеркивают различия между восприятием и ощущением. Все это имеет существенное значение для анализа протекающих в нас эмоционально-эстетических процессов. Потому что “до тех пор, пока мы сравниваем что-то с чем-то не по химическому составу и не физическим свойствам, а по тем впечатлениям и чувствам, которые вызывает в нас окружающий мир, до тех пор вместе с нами будет существовать поэзия” [С.Залыгин. Тропы Алтая. Новый мир, 1962, № 3, стр. 66]. Принципиальное различие между рациональной областью восприятия и ее эмоционально-эстетической сферой специально исследовалось Молем [А.Моль. Теория информации и эстетическое восприятие. Изд. “Мир”, М., 1966]. Его выводы, основанные на серьезном и последовательном анализе, следует вкратце осветить. Используя теорию информации, Моль определяет “сообщение как последовательность элементов набора, несущих информацию, пропорциональную относительной оригинальности сообщения, т.е. непредвиденности, непредсказуемости” [Там же, стр. 195; см. также и далее]. Причем оригинальность уменьшается с увеличением избыточности. Чем лучше человек знает сообщение, которое он должен получить, тем лично для него оригинальность сообщения уменьшается, а “избыточность будет стремиться к 100%”. Логическая последовательность заставляет Моля рассмотреть следующую проблему: “…нельзя ли заменить симфонию ее заглавием, если симфония нам известна? Не эквивалентна ли первая строка стихотворения всему стихотворению, если мы знаем его наизусть, и почему мы ходим смотреть, как играют ‘Сирано де Бержерака’, если мы уже знаем эту пьесу?” [Там же, стр. 198]. Оказывается, что вытекающая из положений точной науки “идея исчерпывания информации недостаточна, чтобы объяснить стремление к повторному восприятию эстетических сообщений; ведь мы жаждем повторения именно эстетических сообщений, а не последних известий по радио, интерес к которым проходит после того, как само событие миновало” [Там же, стр. 200]. Мы не можем обсуждать выходящий за пределы нашей компетенции вопрос о правомерности молевского подразделения информации на два типа: семантическую и эстетическую. Но существенного значения это не имеет. Может быть, теория информации как таковая (т.е. в ее технической и математической интерпретации) и не допускает подобного подразделения. Тогда эмпирический вывод Моля требует иной словесной формулы. В нашей области смысл вывода Моля от этого не изменится. А смысл заключается в том, что если рассматривать человека как приемника сообщений, то теория информации здесь наталкивается на принципиальные затруднения [Этот вывод не противоречит положению Дж. Пирса, который в конце специальной главы “Теория информации и психология” пишет: “...если теория информации играет центральную роль в электрической теории связи, то для психологии она пока только любопытна” (Дж. Пирс. Символы, сигналы, шумы (закономерности и процессы передачи информации). Изд. “Мир”, М., 1967, стр. 290)] и оказывается применимой лишь отчасти. Она позволяет анализировать смысловые, семантические элементы сообщения, но не дает возможности понять сущность эмоциональных (Моль называет их эстетическими) [Л.С.Салямон. О физиологии эмоционально-эстетических процессов] компонентов информации. Мы согласны с Молем, что такого рода различия определяются структурой психофизических элементов. Более того, нам кажется, что именно принцип воронки позволяет понять специфику этой структуры и физиологическую обусловленность различий между семантическим и эмоциональным восприятием. Следовательно, ни начальные звенья рецепции, ни последний осознанный итог восприятия не позволяют понять физиологическую специфику художественного восприятия. В первом случае раздражений оказывается чрезмерно много и художественное произведение принципиально не может их перекопировать, во втором случае, напротив, на фильтре сознания остается обобщенная смысловая оценка события, отсеивающая все ненужные для этой оценки ощущения. Здесь не остается места для искусства. Тогда не надо сочинять весенних стихов или писать картин, а достаточно сказать: “весеннее время года”. Как нами уже было показано, функциональная воронкообразность нервной системы позволяет подойти к пониманию некоторых закономерностей эмоционально-эстетической активности человека. Эта точка зрения объясняет, почему сфера ощущений оказывается значительно более широкой, чем эффекторная сфера выражения этих ощущений, и почему легче информировать другого о том, “что я знаю”, нежели “что я чувствую”. Нами были также рассмотрены некоторые физиологические механизмы, обеспечивающие “эффект, обратный воронке” и позволяющие средствами искусства передавать чувственные элементы сообщения. Возвращаясь к нашему примеру, нетрудно показать, что ретрансляция восприятия весны требует не фотографической копии и не сгустка смысловой формулы, а эффекта эмоциональной информации. Поэтому в лирическом произведении, посвященном весне, главное значение имеет не перечень ее атрибутов, а исповедь о душевном волнении, ею вызванном. Классическим примером здесь могут служить стихи Пушкина: Какое томное волненье В моей душе, в моей крови! С каким тяжелым умиленьем Я наслаждаюсь дуновеньем В лицо мне веющей весны ... Несколько поэтических строчек могут индуцировать весенние ощущения, даже если они вообще ничего не говорят о внешних признаках весны. Рассмотрим уже цитированный отрывок из стихотворения Б. Пастернака: Февраль. Достать чернил и плакать, Писать о феврале навзрыд… Здесь нет весеннего пейзажа. Февраль не обязательно символизирует весну. Февраль может быть и зимним месяцем. Но когда после слова “февраль” речь идет о наплыве чувств, только им, февралем, вызванных, то этого достаточно для ассоциаций, воссоздающих эквивалент весенних эмоций. Эти эквивалентные (и никогда не тождественные авторским) ощущения обязательно субъективны. И если первые знаки весны заставляют Б.Пастернака восторженно плакать и “слагать стихи наобум”, то такой оттенок весенних ощущений не может быть для всех обязательным. Их тон может быть совсем иным: Весна как первая улыбка Сквозь слезы тающего льда, Еще несмелая и зыбкая… Но отступают холода, Забыты беды и ошибки И незабытые года, Когда весна цветет улыбкой Сквозь слезы тающего льда. (А.Самсонов) Субъективность (в данном случае возрастная) весенних ощущений выявляется в следующем стихотворении: Я старею. Засыхаю. Старым мест не уступаю, Негодяйству реже негодую И влюбляюсь изредка — во сне. В старость медленно иду я, По привычке радуясь весне. (Д. Янин) Мы привели эти несколько, в значительной мере случайных, примеров поэтического выражения весенних ощущений для демонстрации методов эмоциональной информация. Значение ассоциаций, контрастов, стихотворного ритма и т.д. для эффекта, обратного воронке, обеспечивающего доходчивость “чувственного сообщения”, нами уже обсуждалось. Нет необходимости повторять все это. Отметим лишь, что существует не один, а множество путей, позволяющих достигнуть эффекта, обратного воронке. Воспользуемся аналогией. Чтобы обратить внимание человека на малозаметные явления, ему можно крикнуть об этом, а можно ткнуть в бок и указать пальцем, куда глядеть. Аналогично этому и усилить чувственные восприятия можно разными путями. Подчеркнем, что доходчивость эмоционального сообщения обычно обеспечивается не изолированным воздействием, вызывающим эффект, обратный воронке, а их совокупностью (например, одновременно и ритмом, и ассоциациями, и контрастом и т.д.). Таким же путем художественное слово может передать эмоциональную характеристику не только внешнего события, но и субъективного “движения чувств” вне зависимости от того, какими реальными или мнимыми причинами оно было вызвано. Для иллюстрации приведем один пример. Душевная боль довольно убедительно (по нашему мнению) выражена в следующем четверостишии: Тоска — подстреленная птица. Ни избавленья, ни конца! Навстречу лица, лица, лица… И ни единого лица. (А. Самсонов) Тягостная картина раненой птицы, которая бьется о землю и не может избавиться от беды, служит здесь ассоциативным приемом, создающим у читателя определенный эмоциональный фон. Две последние строчки не только самим текстом рисуют одиночество в толпе тоскующего человека, но также и содержат элемент контраста (сперва — множество лиц, и вдруг — ни одного лица). Контраст же стимулирует процессы возбуждения и поэтому должен оказывать эффект, обратный воронке. Все это сочетается со стихотворным ритмом, который сам по себе оказывает эмоциональное влияние. Эту проблему мы уже обсуждали [Л.С.Салямон. О физиологии эмоционально-эстетических процессов]. Дополним прежние данные одним новым соображением. Мы полагаем, что в процессе восприятия поэтического произведения доминантный корковый эффект подкрепляется многими, иногда явными, а иногда как будто сторонними, воздействиями, и думаем, что функция ассонансов и аллитераций определяется явлением подпорогового суммирования. Подпороговое суммирование — физиологическое явление, при котором повторяющиеся, но чрезмерно слабые (т.е. подпороговые) раздражения могут: а) вызвать в конце концов явную реакцию, б) усилить эффект последующего “надпорогового” раздражения. Нам кажется, что эта закономерность дает возможность понять сущность эмоционального действия звуковых повторов стихотворного текста (здесь и ниже термином “повтор” обозначаются звуковые повторения помимо рифмы). Ю.М.Лотман, анализируя стихи Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я, обращает внимание на сочетание слов: “утром”, “уверен”, “увижусь”. Нужно согласиться с Ю.М.Лотманом, что звук “у” сам по себе никакого значения не имеет (вопреки предположению В.Шкловского о некой имманентной мрачности звука “у”), хотя повторение этого звука “заставляет выделить его в сознании говорящего” [Ю.М.Лотман. Лекции по структуральной поэтике, вып. 1. Тарту, 1964]. А.И.Гербстман обратил внимание на то, что в стихах Пушкина часто обнаруживается явление “звуковой подготовки” [А.И.Гербстман. Звукопись Пушкина. Вопросы литературы, 1964, № 5. См. также: Е.Д.Поливанов. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники. Вопросы языкознания, 1963, № 1]. По нашему мнению, такая подготовка обусловлена физиологическим процессом подпорогового суммирования. а б в г д е ж А я в напрасной скуке трачу Судьбой отсчитанные дни. И так уж тягостны они. Я знаю: век уж мой измерен; Но, чтоб продлилась жизнь моя, Я утром должен быть уверен, Что с вами днем увижусь я… Последняя строчка кульминационная. Звуковые повторы служат ей и усиливают ее эмоциональное звучание. Помимо повторов звука “у”, а в последних четырех строчках “я”, здесь часто еще звучит “ж”. Вся эта “звуковая подготовка” исподволь служит финалу: ------------ увижусь я. Заключительные звуки как будто вкраплены в предшествующий текст в - - УЖ тягоСтны - г д е ж Я-----УЖ - ИЗмерен ------ЖИЗНЬ моЯ Я - - долЖен - УВерен --------УВИЖУСЬ Я... В процессе перекодирования слуховых ощущений в смысловое восприятие предшествующий звуковой ряд (независимо от его семантической нагрузки), вероятно, оставляет “тайный след” и путем подпорогового суммирования сенсибилизирует последующее восприятие. Мы проверили это предположение и убедились в его справедливости. Приведем пример. -------- Хладнокровно, Еще не целя, два врага Походкой твердой, тихо, ровно Четыре перешли шага, Четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, Не преставая наступать, Стал первый тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, И Ленский, жмуря левый глаз, Стал также целить — но как раз Онегин выстрелил… Пробили Часы урочные: поэт Роняет молча пистолет. Напряжение достигает апогея, и тогда раздается — “выстрелил”. Значение здесь подчеркнуто и паузой многоточия и последующим переносом. Но помимо этого кульминационное слово предуготовлено звуками соседнего текста. Фонетические компоненты глагола “выстрелил” в несобранном виде повторяются в смежных строчках и исподволь сенсибилизируют заданное восприятие. ---------- СТупени сВой пиСТоЛет ------ преСТаВая наСТупать СтаЛ ------------- - шагоВ - - СтупиЛи --------------СтаЛ ---- - - - - - ВЫСТРЕЛИЛ. Настойчивые повторы “СТ”, “СТ-Л”, “В---СТ-Л” кажутся зыбким шепотом подсказки. Сочетание “СТ” в 10 последних строчках XXX строфы “Евгения Онегина” встречается 9 раз! Это не случайное распределение знаков. Мы подсчитали и нашли, что в последующих 10 строфах (XXXI—XLI) сочетание “СТ” встречается в среднем 4.0 ± 0.15, а в предшествующих 10 (XX— XXIX)— 3.0 ± 0.17 раза на 14 строк строфы. Ни в одной из этих 20 строф частота “СТ” никогда не достигала 9. Сочетание “СТ-Л”, при котором “Л” содержится в том же или следующем слоге, в XXX строфе встречается также значительно чаще, чем обычно. Еще один пример. В известной книге Ю.Тынянова содержится очень интересный анализ восприятия последней строчки баллады Жуковского “Алонзо” (из Уланда): Кличет там он: Изолина! И спокойно раздается: Изолина! Изолина! Там в блаженствах безответных. . . Ю.Тынянов обращает внимание на то, что “основной признак слова ‘блаженства’ (блаженное состояние, счастье) значительно затемнен… слово ‘блаженства’ имеет здесь значение чего-то пространственного” [Ю.Тынянов. Проблема стихотворного языка. Изд. “Academia”, Л., 1924, стр. 88]. Этот смысловой оттенок, т.е. ощущение пространства, подготовляется, как показывает Ю.Тынянов, частными элементами предшествующего текста: “там в стране”, “ищет”, “с земли на небо”, “пролетая” и т.д. Возникает “слитный групповой ‘смысл’, вне семантической связи членов предложения” [Там же]. Ю.Тынянов замечает, что оригинал Уланда лишен “нарастания пространственного признака” и что заключающее слово “Seligkeiten” не подготовлено предшествующим текстом баллады: Aller Himmel lichte Räume Sieht er herrlich sich verbreiten: “Blanka! Blanka!” ruft er sehnlich Durch die öden Seligkeiten… Если продолжить анализ, начатый Ю.Тыняновым, и принять во внимание, что подготовка восприятия может быть осуществлена путем сочетания не только смысловых, но и фонетических элементов текста, то легко обнаружить, что такого рода звуковая подготовка в оригинале баллады Уланда имеется. Фонетическая последовательность “Seligkeiten” почти нацело вкраплена во вторую строчку и частично содержится в третьей строчке последней строфы баллады. ------------------Sieh…--...lich … ich - … eiten ----------------seh…lich -------------------- Seligkeiten… “Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на острие нескольких слов. …Из-за них существует стихотворение”, — писал А.Блок [Цит. по: Русские писатели о литературном труде, т. 4. Изд. “Советский писатель”, Л., 1956, стр. 263]. Понятно, что эти главенствующие слова не обязательно расположены в последней строчке стиха. Так, в известном стихотворении В.Маяковского “Товарищу Нетте, пароходу и человеку”, начиная со строки В коммунизм из книжки верят средне, чрезвычайно часто появляется звук “ж”. Характер звуковой подготовки — “жив”, “жет”, “жив”, “жат” — подтверждает, что в этом скорбном по теме стихотворении одним из главенствующих является слово “жить”. Жить единым человечьим общежитьем -------------------------------Мне бы жить и жить… Мы хотим обратить внимание на принципиальную сторону явления и не будем увеличивать количество частных его примеров, (что при желании не трудно сделать). Отметим попутно, что фонетический узор речи (особенно письменной) небезразличен также и для восприятия ее обыденных, т.е. нелитературных, форм. Здесь повторение может иногда усилить эмоциональную силу слова (например, банальное, но эффектное словосочетание “не только и не столько”); однако значительно чаще звуковой повтор отягощает речь и не способствует ее восприятию. Мы полагаем, что и это явление обусловлено процессом подпороговой суммации. Такие сочетания, как “автономный фактор, выявленный автором” или “явление является”, царапают слух, мы думаем потому, что процесс суммирования приводит к выпячиванию случайного (второстепенного или служебного) слова и перебивает смысловой план речи. В поэтическом же тексте звуковые повторения могут образовать систему, которая проецируется на определенное слово или выражение и умножает их эмоциональную силу. Доходчивость эмоционального сообщения, как было уже показано, обеспечивается не одним, а совокупностью воздействий. Только одним из них служит внесемантический фактор звуковых повторов, усиливающих заданное вербальное восприятие. Для иллюстрации положения о совокупности средств эмоционального выражения рассмотрим две последние строфы стихотворения М.Цветаевой “Душа”: Так, над вашею игрою — крупною, (Между трýпами — ú — кýклами!) Не общупана, нé куплена, Полыхая и пля-ша — Шестикрылая, ра-душная, Между мнимыми — ниц! — сущая, Не задушена вашими тушами, Ду-ша! Вряд ли можно оспаривать, что кульминационное слово заключает стихотворение и что многими путями (явными и скрытыми) подготавливается звучание трагического, мужественного и гордого выкрика “Ду-ша!”. Это достигается не только смысловой сущностью стихотворения, не только расположением слова на всю строчку, восклицательным знаком и скандирующим разделом на два слога: “ду-ша!”. Звуковой строй стихотворения здесь тоже не случаен. А если это так и если все предшествующие “д”, “щу”, “яша”, “душ”, “туша” призваны усилить выразительность слова “душа”, то механизм такого усиления должен быть обусловлен процессами подпорогового суммирования. Конечно, звуковые повторы могут выполнять и другую подсобную функцию — звукоассоциативную: И зацокали гонцы Из дворца во все концы. (Д.Алешин) Понятно также, что само по себе повторение звуков даже гладко слаженное, но вне смысла и текста стиха художественного значения иметь не может. Складный стих Из-за леса, из-за гор Едет дедушка Егор нельзя назвать очень содержательным и впечатляющим. Среди множества факторов эмоционального воздействия определенное значение имеет и название художественного произведения. Выше мы упоминали о весенних пейзажах. Обратим внимание, что известная картина Саврасова “Грачи прилетели” воспринимается нами не только через органы зрения; впечатление дополняется словесным воздействием названия картины. Слова “Грачи прилетели” служат здесь не просто обозначением для каталога, но играют существенную роль при восприятии пейзажа. Таким образом, трудная задача эмоциональной информации здесь решается сразу и средствами живописи и дополнительным словесным сообщением, пусть кратким, но эффективно воссоздающим заданный художником чувственный фон. В живописи (как, впрочем, и в других формах “бессловесного” искусства) наименование произведения несмотря на свою лаконичность часто оказывается мощным средством эмоционального воздействия. Попытаемся отдать себе отчет в том, какое значение для нас имеет название пейзажа Левитана “Над вечным покоем” или картины Рериха “Зловещие”. Без названия, т.е. без дополнительного использования иной рецептивной сферы, художественное восприятие этих картин было бы ослабленным или вовсе не соответствовавшим замыслу автора. Здесь, следовательно, мы вновь сталкиваемся со специфичной для эмоциональной информации комплексностью воздействия. Ощущение весны, попытки художника выразить его средствами искусства и донести до реципиента (читателя, слушателя, зрителя) рассматривались здесь, конечно, в качестве (прибегнем к популярному термину) модели. Модель была элементарной и не принимала во внимание, что любая весенняя картина, представленная живописью, словом или музыкой, всегда выражает не только весну, но и мироощущение художника. Мы использовали такую модель как удобный объект для анализа, но полагаем, что такие же закономерности имеют место и в других случаях общения людей через искусство. Если это действительно искусство, а не поделка, то оно непременно содержит глубокий отпечаток “движения чувств” художника. “Трагедии не пишутся ни святой, ни дистиллированной водой. Принято говорить, что их пишут слезами и кровью” [Андре Боннар. Греческая цивилизация. ИЛ, М., 1959, стр. 13]. Именно поэтому произведение искусства способно “глаголом жечь сердца людей”. Его художественная сила и значимость, при прочих равных условиях, связаны с доходчивым кодированием “движения чувств”, иначе говоря, с эмоциональной информативностью произведения. Мы отмечаем это потому, что процесс декодирования и соответствующий эмоциональный резонанс осуществляются посредством физиологических механизмов, а анализ этих явлений есть объективный анализ процессов, обусловливающий субъективность восприятия. Таким образом, попытки использовать физиологический подход для анализа художественного восприятия позволяют более четко выделить отдельные компоненты эмоционально-эстетического воздействия и могут оказаться небесполезными для искусствоведческих дисциплин. Впрочем, автору этой статьи кажется, что будущая “физиология эмоционально-эстетических процессов” принесет больше пользы самой физиологии, чем эстетике. [1971] Текст дается по изданию: Художественное восприятие. Сборник I. Под ред. Б.С.Мейлаха. Л.: Изд. “Наука”, Ленинградское отделение, 1971, с. 98 - 113