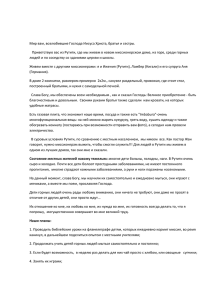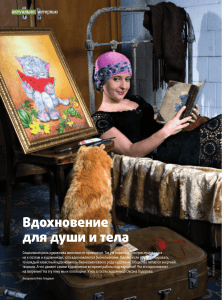рокайроль жан поля как образ человека модерна
advertisement
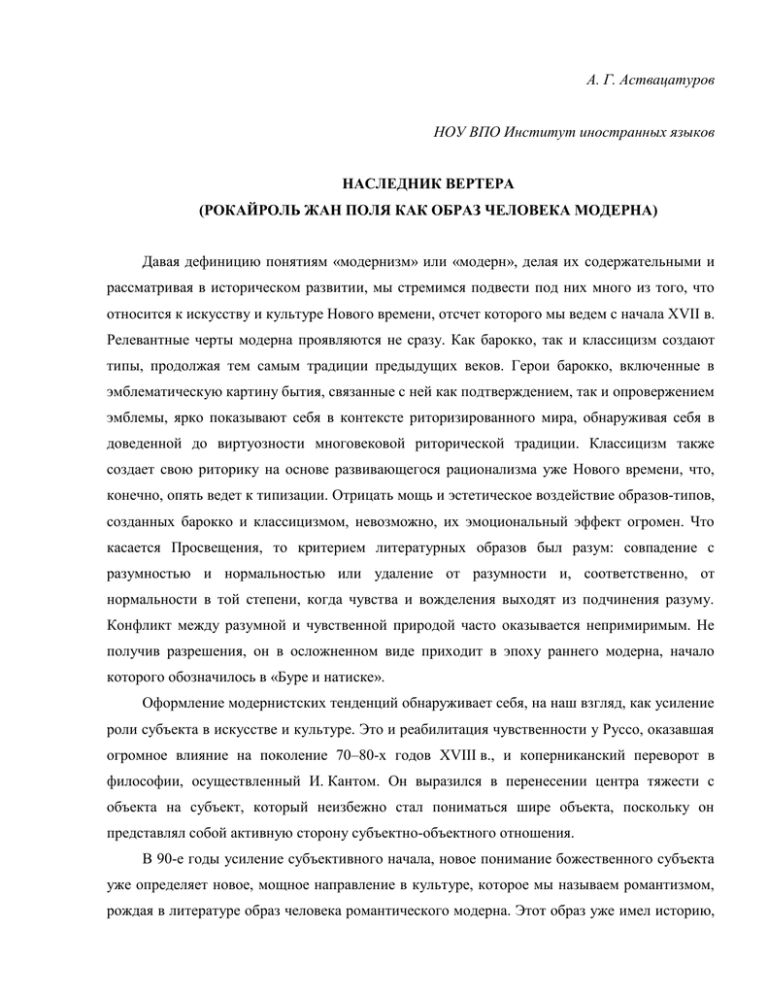
А. Г. Аствацатуров НОУ ВПО Институт иностранных языков НАСЛЕДНИК ВЕРТЕРА (РОКАЙРОЛЬ ЖАН ПОЛЯ КАК ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА МОДЕРНА) Давая дефиницию понятиям «модернизм» или «модерн», делая их содержательными и рассматривая в историческом развитии, мы стремимся подвести под них много из того, что относится к искусству и культуре Нового времени, отсчет которого мы ведем с начала XVII в. Релевантные черты модерна проявляются не сразу. Как барокко, так и классицизм создают типы, продолжая тем самым традиции предыдущих веков. Герои барокко, включенные в эмблематическую картину бытия, связанные с ней как подтверждением, так и опровержением эмблемы, ярко показывают себя в контексте риторизированного мира, обнаруживая себя в доведенной до виртуозности многовековой риторической традиции. Классицизм также создает свою риторику на основе развивающегося рационализма уже Нового времени, что, конечно, опять ведет к типизации. Отрицать мощь и эстетическое воздействие образов-типов, созданных барокко и классицизмом, невозможно, их эмоциональный эффект огромен. Что касается Просвещения, то критерием литературных образов был разум: совпадение с разумностью и нормальностью или удаление от разумности и, соответственно, от нормальности в той степени, когда чувства и вожделения выходят из подчинения разуму. Конфликт между разумной и чувственной природой часто оказывается непримиримым. Не получив разрешения, он в осложненном виде приходит в эпоху раннего модерна, начало которого обозначилось в «Буре и натиске». Оформление модернистских тенденций обнаруживает себя, на наш взгляд, как усиление роли субъекта в искусстве и культуре. Это и реабилитация чувственности у Руссо, оказавшая огромное влияние на поколение 70–80-х годов XVIII в., и коперниканский переворот в философии, осуществленный И. Кантом. Он выразился в перенесении центра тяжести с объекта на субъект, который неизбежно стал пониматься шире объекта, поскольку он представлял собой активную сторону субъектно-объектного отношения. В 90-е годы усиление субъективного начала, новое понимание божественного субъекта уже определяет новое, мощное направление в культуре, которое мы называем романтизмом, рождая в литературе образ человека романтического модерна. Этот образ уже имел историю, которую можно было бы назвать историей европейской субъективности, и история эта не была бесконфликтной, а скорее трагической, как и вся история модерна. Она представляла собой многоактную драму. И первый акт этой драмы — «Страдания юного Вертера» И. В. Гёте. Экзистенциальная напряженность, возникшая в результате коперниканского переворота, обозначившего, как указывал Жан Старобинский, вектор развития «от субъективизма чувства к субъективизму воли», вызывает в литературе человека модерна к жизни. В ней как выражение фундаментальных переживаний занимают свое место три фигуры, причем чистым человеком модерна является Вертер, а два других — Фауст и Дон Жуан (конечно, Дон Жуан у Моцарта) — пришельцы из других эпох, старые образы, омоложение которых невозможно без влияния Вертера. Если в Вертере сконцентрировано отличительное свойство модернистской психики — рефлексивность, вся мощь чувства и эмоций, наполняющая энергией вертеровские проекции, творящие в его сознании мир, то два других персонажа, Фауст и Дон Жуан, получают «в наследство» от ушедшего из жизни Вертера рефлексивность. Фауст ее получает в дополнение к своему стремлению ко всезнанию и богоравности. Рефлексивность разъедает в герое с двумя душами сверхчеловеческое, вызывая меланхолию с ее циклами депрессии и эйфории. Дон Жуан, изначально нерефлексирующий герой с неукротимой волей к наслаждению, оказывается во власти рефлексии, парализующей эту волю (Н. Ленау, К. Д. Граббе). Как в первом, так и во втором случае мы имеем дело с усложнением образов. Происходит это путем гибридизации, прививки вертеровских черт Фаусту и Дон Жуану. А что, собственно прививается? Если на время забыть, что мы имеем дело с искусством, у которого свои законы формообразования и история и которое невозможно редуцировать к психологическим или психоаналитическим константам, то прививается интровертная психика, воображение фантаста, захват объекта психической энергией субъекта, а также инфантильные реакции в области объекта. Бесспорно, фантазматический дискурс и искусство не одно и то же, но примечательно, что в определенные эпохи модерна аналитику приходится их сближать, естественно с особой осторожностью, постоянно принимая во внимание эстетическую сторону дела, как в философском, так и в лингвистическом смыслах. После выхода гетевского романа образ его героя оказывает огромное воздействие на литературу. Герои молодого Людвига Тика в повести «Абдалла», (1792) в романе «История господина Уильяма Ловелла», (1794-1796) в драме «Карл фон Бернек»(1795) в определенном смысле списаны с Вертера. В этих произведениях они живут в эстетической реальности, характерной для черного жанра, авантюрного романа, драмы судьбы, где готика пересекается, совмещается с миром рефлексии героев, а авантюра становится образом их жизни. В «Уильяме Ловелле» стадии восторженного сотворения сознанием мира, вызванные мистическим чувством, постепенно становятся извращением последнего и превращаются в стадии деградации личности. Как указывал В. М. Жирмунский: «Тема безумного счастья, которое превращается в преступление, здесь затронута грубо и мелодраматично, проходит через всю романтическую поэзию». Восторженные энтузиасты, чувствительные влюбленные, стремящиеся пережить чувство слияния с природой, живут циклами, каждый из которых, в сущности, уничтожение, аннигиляция объекта, замена реальной жизни интровертными проекциями, что приводит их в конечном счете к выхолащиванию чувства жизни, лишению ее смысла и странной форме марионеточного бытия, приводящего героя на грань безумия. Герои молодого Тика — своего рода декаденты вертеризма. Фридрих Гундольф, относившийся строго к творчеству молодого Тика, очень точно указал на то, что осталось за пределами образов писателя. «Что не удалось субтильному Тику, так это показать в символическом и собственном немецком образе угрожавшие также немцам опасности рококо, выразившиеся в беспомощности сил в разлагавшемся обществе. Это осуществил в своем великом творении „Титан“ Жан Поль». Оспаривать это суждение, высказанное много десятилетий назад, невозможно, так как оно правильно, и выдающийся литературовед сразу же приводит в качестве примера образ Карла Рокайроля из романа Жан Поля Рихтера «Титан», и этот образ, по нашему мнению, показывает нам наиболее яркого «наследника Вертера», воплотившего в себе гетерогенные и гибридные черты человека модерна. «Рокайроль — увиденное поэтически, пропитанное кровью, а не только чернилами, воплощение повесы эпохи рококо, созданное изобилием души, переизбытком фантазии и отвращения к его облику». По размаху изображения эпохи, по мощи воплощения идей, конфликтов, по глубине созданных характеров «Титан» превосходит все произведения Жан Поля, написанные в эту эпоху его жизни, «Невидимую ложу» и «Геспера», хотя у этих романов с «Титаном» много общего. Замечательный исследователь творчества Жан Поля М. Л. Тронская писала: «Во всех романах центральная роль принадлежит герою — носителю идеала будущего. Функция Густава и Оттомара в „Невидимой ложе“, Виктора, Фламина и трех англичан в „Геспере“, Альбано в „Титане“ — целеустремленная общественная деятельность: борьба нравственной личности с пороком перерастает в борьбу с реальным немецким злом. Этим объясняется однотемность его романов того периода, повторяемость фабульных мотивов, ситуаций и персонажей. Это однообразие можно лишь частично отнести за счет недостатка творческой выдумки Жан Поля. Главная причина в том, что единственно важная проблема для передового писателя конца XVIII в. — это осмысление своего назначения в жизни: в герое, антагонистическом окружающему миру, Жан Поль воплощает идейную сущность своего романа, стремясь придать ему наибольшую художественную выразительность. И показательно, что на протяжении 1790-х годов этот герой, сохраняя все тот же облик, на пути от Густава и Фламина к Альбано становится художественно ярче и полнее». Роман Жан Поля был назван «Титан». Название это символическое. Для эпохи раннего модерна титанизм — наиболее значимое явление, определяющее поведение личности, прежде всего ее выход за пределы обыденных мышления и чувствования. Форма интровертного созидания, основанная на охватывающих мир проекциях, предполагает такую широту интеллектуальных и душевных стремлений, которая делает возможным превосхождение самого себя. Пример тому — титанизм Фауста и широта души Вертера, стремление к богоравности и вселенской гармонии. Первоначальная концепция романа — в образе Альбано должен был быть представлен человек модерна во всей его целостности как отражение времени, образ должен был объединять «и положительные, и отрицательные черты титанизма». В окончательном варианте романа как параллельно, так и пересекаясь изображается жизнь двух героев конца XVIII в. Альбано Цезары и Карла Рокайроля. Воспитательная линия романа связана с Альбано, которому, по замыслу Жан Поля, открывается будущее и его личность показывается как расширяющаяся Вселенная; кризис личности, ее замкнутость в капсуле сознания, которое находится в состоянии экзистенциального кризиса, приобретая различные черты «несчастного сознания» в гегелевском смысле, крушение личности показаны в образе Рокайроля. Как пишет М. Л. Тронская, Рокайроль предстает в романе как «демонический эгоист», «и на его образе разрешается проблема подлинного и искаженного титанизма, столь актуальная в период развития романтического индивидуализма». Роман «Титан» — сложное, особым образом структурированное повествовательное целое, которое можно рассматривать как пример романтической эстетики романа. К нему применимо все, что Айвор Армстронг Ричардс назвал синестетической поэзией, поэзией, которая обращается ко всем чувствам человека для достижения гармонического состояния. Мозаичность, гетерогенность и гибридность мира и культуры модерна, на которую обратил внимание Ф. Шиллер, отражается и на человеке, его характере, его действиях как в согласии, так и в противодействии миру и его культуре. В творчестве Жан Поля мы находим необходимую для изображения мира и человека модерна синестетическую и синкретическую поэтику, находящую свое наиболее полное воплощение в жанре романа, вмещающем в себя все принципы формообразования, известные искусству. Для Жан Поля роман представляет собой необходимое человеку модерна синтетическое произведение искусства. Жан Поль — один из самых музыкальных немецких писателей, почти все его произведения пронизаны звуками музыки, и музыкальные интуиции играют не последнюю роль как в процессе осмысления эмоционального отношения к миру и человеку, определяя ценностно-ориентационный подход к ним, но важнейшие структурно-архитектонические блоки романа. Для художественного воплощения мира и человека в романах Жан Поля характерно использование модели оперы как синтетического искусства, высоко им ценимого, и это объясняет многообразное повсеместное использование в прозе квазимузыкальных структур, распространяемое на основной текст романа и на его интертекстуальные составляющие. О музыке Жан Поль писал многократно, но для нашей темы важнее всего опубликованное посмертно его сочинение «О музыке». Подводя итог своим размышлениям, Жан Поль пишет: «Она (музыка. — А. А.) — самая великая, когда зрению, как в опере, еще даются предметы, которые ее выговаривают». В рамках концепции мирового театра, каковым для Жан Поля является роман, опера как модель играет важную роль. Мир оказывается театром, театром музыкальным. Исследуя функцию модели оперного театра в романе Жан Поля, можно привести целый ряд примеров, взятых из метафорики театра, в котором названы и функционализированы опера и определенные жанры оперного театра. Следовательно, театр необходимо понимать как задуманную очень широко концепцию. Сцена, маски, кулисы, машинерия — все это включает в себя музыкальный театр. Эта концепция мира как театра позволяет Жан Полю развивать в своих романах две проблемные линии. Первая линия — близкая к просветительской и развиваемая романтизмом. Здесь речь идет о критике придворного и бюргерского общества, сущность которого — маска, личина, когда фиксируется «полное несоответствие между внешним блеском явления и внутренней пустотой голов и сердец». Вторая линия касается принципиальной проблемы видимости и кулисообразности бытия как экзистенциальной фатальности, которой никому невозможно избежать. Обе линии составляют метафору театра. Они, как подчеркивает Моника Шмитц-Эманс, не соединяются друг с другом. Вторая линия приобретает со временем большее значение, представляя собой более радикальный вариант. Это распространенная в романтизме метафора театра, восходящая к Шекспиру и эпохе барокко. Решающее различие состоит в том, что в концепции мирового театра барокко утверждалось нерушимое доверие к Богу как «главному режиссеру мировой игры, в то время как у романтиков это доверие в транцендентальном смысле потеряно. Оставленность Богом порождает „Я“ на мировой сцене без заднего плана, в одних кулисах. Это „Я“ привязано к роли, отношение которой к сокровенной или завоевываемой идентичности становится все более проблематичным». Образ Рокайроля у Жан Поля — виртуозное в художественном плане решение проблемы личности, рожденной модерном. И первое появление совсем юного сына министра в романе выглядит как драматическая увертюра, в которой вертеровская тема бросает тень на всю жизнь юноши. Рокайроль — натура артистическая, в сознании которой мир драм Шекспира, Гёте, Клингера и Шиллера не отделен непроницаемой стеной от его собственного мира. Клавиго и Вертер — части его «Я». Чувства Рокайроля воспитываются не жизнью, а литературой и театром, и их воздействие интенсивнее, мощней, концентрированней. Символично, что роковое событие в жизни юноши происходит на бале-маскараде, где Рокайроль встречает Линду де Ромейро, и этот бал-маскарад превращается в место театральной любовной игры, в свободную инсценировку гетевского романа. Линда в платье Вертеровой Лотты потрясает юношу «роскошью своей деспотической прелести». Но самое важное, что игра пошла по гетевскому сценарию: настойчивость Рокайроля встречает сопротивление, и это дает развитие вертеровской темы. Юноша убегает домой, надевает фрак Вертера, берет с собой пистолет и опять появляется на маскараде, обращаясь к Линде со страстными признаниями, ожидая, что девушка ответит ему взаимностью. Но когда он, «наполовину опьяненный прелестью Лотты, страданиями Вертера и пуншем», в пятый, в шестой раз слышит «нет», он пытается выстрелить себе в голову; к счастью, пуля проходит мимо, лишь поранив ему мочку левого уха. Линда покидает этот злосчастный бал-маскарад, а окровавленного, потерявшего сознание юношу уносят домой. Вся эта сцена изображена с легкой иронией и выглядит как рассказ об оперном действии. Крах первой и единственной любви остается неизлечимой душевной травмой, вызывающей переворот в сознании, и в соединении с художественными интересами и искусством формируется личность, для которой жизнь — материал игры с ней, в том числе и собственная. Самоубийство — печать судьбы на этой личности: «неудавшийся самоубийца, разорвавший прекрасную, прочную жизнь, возвращается назад из своего смертного часа как чуждый, страшный дух, которому мы больше не можем доверять, ибо он в своей необузданности каждую минуту постоянно ведет высокомерную игру с человеческим образом». Для Жан Поля Рокайроль — «дитя и жертва века», взращенный на просветительских идеях, идеях свободы, пришедших к нему от «филантропических учителей». Идеи не подкрепляются действиями для их осуществления, они остаются нереализованными мыслями, становясь для людей типа Рокайроля крепкими напитками. «Если к тому же еще они обладают, как Рокайроль, фантазией, делающей их жизнь нефтеносной почвой, откуда каждый шаг высекает огонь, то пламя и уничтожение, куда бросаются науки, становятся еще большими. У этих погорельцев жизни нет больше новой радости и новой истины, у них нет и старой, прочной и свежей; высохшее будущее, полное тщеславия, отвращения к жизни и противоречия, лежит перед ними. Только крыло фантазии еще вздрагивает на их трупе. Он предугадывал не только истины, но также и ощущения. Все прекрасные состояния, все движения, где любовь, дружба и природа возвышают сердце, все это он пережил раньше в стихах, чем в жизни, раньше как актер и театральный поэт, чем человек, раньше в солнечном свете фантазии, чем в непогоде действительности; поэтому, когда они наконец живые появились в его груди, он смог их осмыслить, охватить их, править ими, убивать и извлекать их для ледника будущих воспоминаний; он бросался в добрые и злые приключения и любовные связи и изобразил все на бумаге и в театральных пьесах, он сожалел или благословлял; и каждое изображение глубоко его выхолащивало, как у солнца от погибших миров остаются впадины». Красавец, блестящий офицер, искусный соблазнитель, чувственный любовник, обладающий всеми качествами Дон Жуана и фантазией, Рокайроль неотразим, в то же время при кажущемся блеске он — проблематичная натура. В образе Рокайроля Жан Поль выразил собственное сомнение в просветительской надежде на совершенствование человеческой природы, у которой еще есть вера в моральные ценности, которые могут быть предпосылками морального миропорядка. «То мечтатель, то либертин в любви, он проскальзывал все быстрей и быстрей между эфиром и тиной, прежде чем они смешаются. Его цветы поднимались вверх на лакированном стебле идеала, бесцветно сгнивавшего в почве». Вертеровский фрак и пистолет — это не только атрибуты маскарадной забавы, но это и отождествление себя с гетевским героем; у Рокайроля с ним много общего, прежде всего чувствительность, страстность и рефлексивность. В не меньшей степени в наследство от Вертера он получает меланхолию. Все ее симптомы и следствия налицо: тяга к одиночеству, депрессия, эйфория, взрывы творческой активности в стремлении преодолеть меланхолию, даже экстатические целительные средства, лекарства от меланхолии — поэзия и музыка, которые уходящим XVIII в. рассматривались как паллиативы, а в умеренных дозах как излечивающие меланхолию, — все это есть у Рокайроля. А интерес Вертера к военной службе, где есть возможность сложить голову на поле брани, стал профессией Рокайроля. Он офицер; и здесь наряду с возможностью погибнуть в бою также беззаботная и праздная жизнь. В мире муз Рокайроль свой человек. Он прекрасно сам играет на фортепиано и может оценить игру другого. Инструмент помогает ему изливать свои чувства в звуках музыки. В психотерапевтической практике XVIII в. поэзия и музыка использовались как средства душевного успокоения. Однако наблюдалось и другое: неправильный выбор и неумелое дозирование приводит к вредному результату и в значительной степени усиливает меланхолию. Поэзия и музыка Рокайроля выглядят как гипертрофия чувствительности и аффективности и одновременно как безжалостное их разрушение, а следовательно, разрушение гармонии душевной, которое усиливает меланхолию. Шоппе, друг и наставник Альбано, ненавидит Рокайроля, «так как его непримиримые глаза выдают в нем два невыносимых сердцу порока, хроническую опухоль тщеславия и безбожный разгул и мотовство чувств». Последние оказываются выродившейся чувствительностью, игрой своими чувствами и чувствами других, злоупотреблением душой. Рокайроль — расточитель чувств: в нем контроль разума, воспитание не противостоят этому расточительству. Стихия игры настолько захватывает его, что лишает этого либертина меры, честности и благородства. Рокайроль разрешает себе любое преувеличение, искусственно взвинчивает чувства, это взвинчивание необходимо для расточительства. Для Рокайроля важен сам процесс игры, все может стать для нее поводом, поводом для наслаждения собственными чувствами. Чем сильнее нарастает в чувствительном человеке искусственность, тем больше его поведение выглядит поводом для произвола чувств. Тогда возникает постоянная потребность вызывать чувства из-за боязни их притупления, и неизбежное притупление требует взвинчивания чувств и самотрансценденции. Этот процесс кажется бесконечно циклическим, и его финал — полная бесчувственность, принимающая форму обманчивой игры чувствами и притворства. В этом, собственно, и заключается проклятие чувствительности, ее глубокая опасность. К такому же результату приходит человек модерна в XX в., и речь здесь идет об одной из великих и постоянных опасностей времени, приобретающих угрожающий образ. Постоянное использование чувств в разнообразных пустых играх, цель которых — обман и манипуляция, где коэффициент неистинности, неискренности, фальши значительно выше, чем в конце XVIII в. Велика и опасность рефлексии, ибо последняя превращается в инструмент разгула чувств, чувственного расточительства, которые очень далеки от того, что Ницше назвал «дарящей добродетелью». Ничем не контролируемая, ничем не сдерживаемая жизнь чувства в конечном итоге себя уничтожает. В таких натурах, как Рокайроль, жизнь чувства разрушается еще и тем, что дух злоупотребляет иронией, а последняя отчуждает, дистанцирует человека от его собственного чувства. В своем исповедальном письме Альбано Рокайроль пишет об этом: «Если черви внутренностей „Я“ (Eingeweide-wьrmer des Ich) злоба, восхищение, любовь копошатся и гложут и один пожирает другого, то и что мне до всего этого, когда все уходит в бесконечность». История философии показывает, что осознавшее себя «Я» получило свою легитимацию от философии, сделавшей «Я» исходным принципом. В «Я» живет абсолютная свобода каждого духовного существа, созидающего, творящего силой своего духа не только так называемый мир, а в действительности и самого себя. Поэтому такое существо, такой субъект может смотреть на все созданное сверху вниз, он выше созданного, ибо субъект шире, больше объекта. Ему кажется, что он располагает полной свободой Творца мироздания. Рокайроль видит себя независимым художником как в искусстве, так и в жизни; автономность художника и искусства понимается им как произвол. Что же представляет собой искусство-игра Рокайроля? Свою способность в фантазии предвосхищать чувства и истины, способность антиципации игрок Рокайроль подчиняет своим субъективным проекциям. Это не приводит к созданию объективного образа, а постепенно ведет к истощению его человеческой субстанции, духовных ресурсов личности, когда после фантастического горения, по словам И. Бродского, остается «зола, тусклые уголья». Фигура Рокайроля показывает нам критическое отношение Жан Поля к эстетизму эпохи Гете, кажущемуся ему нечестивым и аморальным. Страшную гримасу показывает эстетизм, угрожающий романтизму, которого постоянно искушает игра произвола субъекта. Если Шиллер рассматривал эстетическое воспитание человека как программу гуманизации личности, а эстетическую игру как область обретения свободы, то для Жан Поля в культуре, где господствует субъективизм воли, это не только утешающая человека иллюзия, но и разрушающая личность химера, парадоксальная возможность свободно творить несвободу. История жизни и гибели Рокайроля непосредственно связана с разочарованием человека модерна в дворянско-бюргерской системе ценностей и ориентаций, в ее аффирмативности, в том, что бюргер понимает под нормальностью, что получило свою легитимацию и кажется поэтому незыблемым. В свою очередь, это создает дистанцию в отношении к иллюзорным надеждам на прогресс человечества, в который верило Просвещение, а также острую эмоциональную реакцию на различные формы отчуждения в межчеловеческих отношениях, в частности в коллизиях любви. Рокайроль сам себе нравится в роли аристократического повесы, собирательного образа от Ловласа Ричардсона до моцартовского Дон Жуана. Так себя, во всяком случае, он подает. Рокайроль — развивающийся образ. Унаследовав от Вертера меланхолию, он как гений в эйфории переживает вспышки душевного подъема, его охватывает желание обновления. Жан Поль сближает своего героя с гетевским Фаустом, который видит перед собой лишь унылое здание современной ему науки, похожее на тюрьму, стоящее в стороне от жизни природы, в котором он вынужден постоянно пребывать. Чем сильнее Фауст ощущает ограничения, которые ставит ему жизнь в этой тюрьме, тем мощнее говорит в нем стремление преодолеть эти ограничения. Диалектика свободы и ограничения для него немыслима. На первый взгляд кажется, что с Рокайролем дело обстоит по-иному. На самом же деле расточительство чувств и эстетическая свобода от морали, свобода, понятая как произвол, оказывается парадоксальной формой тюрьмы, убивающей интерес к жизни и ввергающей героя в новые состояния меланхолии и депрессии, которые углубляются безответной и безнадежной любовью к Линде де Ромейро и навязчивым желанием овладеть ею. Во время одного из душевных кризисов у Рокайроля возникает иллюзия, что он найдет спасение от опустошения в новой, чистой любви к невинной девушке, которая была бы полной противоположностью темпераментной, деспотической красавице Линде. Любовь к Рабетте, названой сестре Альбано, должна вызвать в его душе обновление всех чувств. Поначалу Рокайроль старается внушить себе благородные, светлые чувства к доброй, чистосердечной девушке, рисуя свои отношения к ней как спасительную идиллию. Жан Поль показывает, как из роли чистого влюбленного Рокайроль возвращается к своей прежней роли пресыщенного повесы рококо, либертина-циника. Он выпадает из роли Вертера весенних писем и превращается в аристократического Фауста. А доброй и милой Рабетте остается роль гетевской Гретхен, которую предают, бросают и любовь ее высмеивают. Не страсть, а скука владела Рокайролем, когда он вступил в любовные отношения с Рабеттой: «Мужчины из-за скуки легче всего грешат с добрыми, но скучными девушками». После всей страшной истории с Рабеттой Рокайроль остается наедине со своей несбыточной мечтой добиться любви своего ангела-мучителя Линды де Ромейро. Здесь Рокайролю приходится входить в очень близкую его натуре роль, роль Дон Жуана. Страшная ирония судьбы в том, что осуществление мечты в роли Дон Жуана означает для Рокайроля гибель. У Жан Поля мы встречаем инверсию либретто моцартовской оперы. В первом акте Дон Жуан в костюме и маске Дона Оттавию, жениха Донны Анны, проникает в ее спальню и пытается овладеть ею, но терпит неудачу. У Жан Поля Рокайролю удается то, в чем Дон Жуан потерпел поражение, но именно эта победа в роли легендарного соблазнителя неотвратимо привела Рокайроля к полному крушению его личности и катастрофе. Последняя сцена истории Рокайроля задумана Жан Полем как внутренний интертекст, спектакль-опера в романе, который дает Рокайроль своим друзьям. Его спектакль — синтез двух типов итальянской оперы, в которых работал Моцарт, оpera- buffa и оpera- seria, соединение трагедии и комедии. Спектакль, названный Рокайролем «Трагический актер», начинается с символической проспекции. Бледный Рокайроль под звуки музыки в ладье Харона отправляется на тенистый остров. Звучит «вечная увертюра из Моцартова „Дон Жуана“ как невидимый сонм духов». Она подчеркивает аллюзию на архетипическую фигуру соблазнителя в предыдущей сцене соблазнения Линды. Особенности пьесы Рокайроля в том, что музыка окончательно стирает границу между миром и театром, истиной и видимостью, инсценировкой и жизнью. Пьеса Рокайроля выглядит как фантасмагорическое действо, созданное сцеплением несовместимых и взаимоисключающих сцен. Их персонажами являются зрители, близкие Рокайролю люди. В пьесе Рокайроль действует симультанно на всех уровнях, инсценируя свое действительное самоубийство как смерть на сцене. Перед этим он выступает с покаянным признанием Альбану и Линде, прося прощения за то, что разрушил их союз. Монолог-признание Рокайроля начинается. когда в городе раздается пушечный выстрел, означающий, что там ищут дезертира, с которым он себя отождествил. «Он взял в руку пистолет: „Да, да, выстрел значит — беглец — беглец из мира. Поднялся бы утром острый серп и перерезал жизнь! Я так устал“». В покаянии Рокайроля признание бесцельности и аморальности его жизни, жизни проигранной, которая на самом деле открывала этому талантливому человеку все возможности для самореализации. Наряду с Фаустом Рокайроль — один из самых ярких образов человека модерна, который получит свое яркое воплощение в литературе XIX–XX вв.