Духан_Пространство,время,стиль(пространственно
advertisement
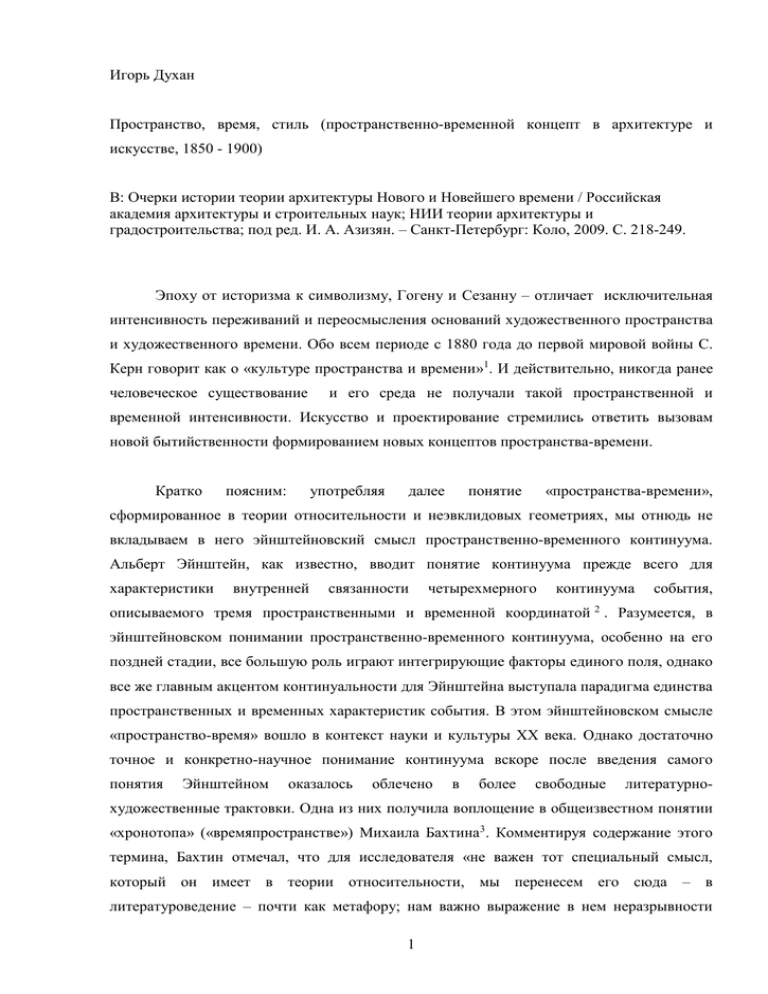
Игорь Духан Пространство, время, стиль (пространственно-временной концепт в архитектуре и искусстве, 1850 - 1900) В: Очерки истории теории архитектуры Нового и Новейшего времени / Российская академия архитектуры и строительных наук; НИИ теории архитектуры и градостроительства; под ред. И. А. Азизян. – Санкт-Петербург: Коло, 2009. С. 218-249. Эпоху от историзма к символизму, Гогену и Сезанну – отличает исключительная интенсивность переживаний и переосмысления оснований художественного пространства и художественного времени. Обо всем периоде с 1880 года до первой мировой войны С. Керн говорит как о «культуре пространства и времени»1. И действительно, никогда ранее человеческое существование и его среда не получали такой пространственной и временной интенсивности. Искусство и проектирование стремились ответить вызовам новой бытийственности формированием новых концептов пространства-времени. Кратко поясним: употребляя далее понятие «пространства-времени», сформированное в теории относительности и неэвклидовых геометриях, мы отнюдь не вкладываем в него эйнштейновский смысл пространственно-временного континуума. Альберт Эйнштейн, как известно, вводит понятие континуума прежде всего для характеристики внутренней связанности четырехмерного континуума события, описываемого тремя пространственными и временной координатой 2 . Разумеется, в эйнштейновском понимании пространственно-временного континуума, особенно на его поздней стадии, все большую роль играют интегрирующие факторы единого поля, однако все же главным акцентом континуальности для Эйнштейна выступала парадигма единства пространственных и временных характеристик события. В этом эйнштейновском смысле «пространство-время» вошло в контекст науки и культуры ХХ века. Однако достаточно точное и конкретно-научное понимание континуума вскоре после введения самого понятия Эйнштейном оказалось облечено в более свободные литературно- художественные трактовки. Одна из них получила воплощение в общеизвестном понятии «хронотопа» («времяпространстве») Михаила Бахтина3. Комментируя содержание этого термина, Бахтин отмечал, что для исследователя «не важен тот специальный смысл, который он имеет в теории относительности, мы перенесем его сюда – в литературоведение – почти как метафору; нам важно выражение в нем неразрывности 1 пространства и времени (время как четвертое измерение пространства)» 4 . Говоря о фундаментальной неразделимости пространства и времени в исследуемых им литературных феноменах, М. Бахтин делает значимую «оговорку» - связь пространства и времени в художественных формах реализуется различным образом, и вводя понятие «времяпространства» мы осознанно концептуализируем «живую» литературную форму, осуществляя концептуальную компрессию пространственных и временных аспектов в континуум. Однако континуум далеко не всегда является реальностью художественной ткани. Континуум – скорее страстно искомый идеал, а не очевидность и пред-заданность литературно-художественных творений. «Сильная» концепция сжимает и нивелирует сложность и многообразие художественного устроения. Именно поэтому, в используемое ниже понятие «пространства-времени» мы вкладываем ситуационный, средовой, а не континуальный смысл. индивидуализированные определенных Иными словами, мы пространственно-временные культурно-архитектурно-художественных рассмотрим образы, достаточно локализованные средах и контекстах, в в сложности их тектоники и сопряжений «пространств» и «времен» 5 . Разумеется, в рассматриваемом здесь историческом контексте стремление пространственно-временных образов к континууму было достаточно выражено – однако для нас это и есть особенный, во многом уникальный, сюжет сжатия пространственного-временного многообразия. Внутренняя связь между историей и произведением искусства начинает активно осмысливаться на пороге Нового времени, прежде всего - в художественной культуре эпохи барокко. Ренессансная культура создает определенные структурные предпосылки трактовки произведения искусства как культурно-исторического синтеза. Прежде всего это проявилось в понимании художественного творения как воплощения ренессансной категории varieta-разнообразия. Гуманистическое понятие “разнообразия” прежде всего отражало представление об особом строении художественного творения, как бы стягивающего в свой микрокосм все многообразие универсума и стремящегося превратить произведение искусства в согласие многообразия миров6. В ренессансном разнообразии, однако, доминировало пространство, это – соединение многообразия мест и событий вне осмысления их глубинно-исторической связанности. Тем не менее, такое понимание художественного творения создало морфологическую основу для введения глубинновременного и культурно-исторического разнообразия уже в эпоху барокко. Эпоха барокко наполняет ренессансное разнообразие внутренней историчностью. Именно здесь складывается компендиума, стремящегося понимание произведения как свода, произведенияк интеграции в своей структуре универсально - исторического многообразия 7 . Этому введению истории в структуру произведения 2 соответствует формирование новой концепции Historia Universalis – универсальной истории в мировоззрении барокко. Новое понимание истории основывалось на универсализации исторического мышления, на включении в контекст исторического не только политической истории, но и истории открытия истин в науках, истории литературы и т.д.8, причем наряду с универсализацией содержания истории все более стремились к универсальности ее хронологические и топологические границы. Главное напряжение художественного творения барокко – в стремлении вместить и организовать внутри себя содержание исторического как Historia Universalis: “Энциклопедическое создание барокко репрезентирует мир в его завершенности и целокупности и репрезентирует мир в энциклопедической полноте его тем <…> Барочное произведение, произведение-свод, строящее себя как смысловой объем, который заключает в себе известную последовательность и одновременно множество <…> упорядочиваемых материй, в точности соответствует тому, как мыслит эта эпоха знание: как стремящийся к зримой реализации объем, заключающий в себе Все <…> И точно так же, как внутри барочного произведения возникает напряжение между полнотой обособленных материй и <…> последовательностью текста и возможного сюжета, такое же напряжение проявляется в самом мышлении истории, которая есть не только свод сведений, но и последовательность исторических событий” 9 . Архитектурное произведение барокко (особенно когда оно достигает мощного охвата времени и пространства) стремится к сопряжению в своей структуре универсальной и локальной истории и, пожалуй, впервые в европейской художественной культуре формирует новый тип архитектуры, строящей свою внутреннюю историчность как культурно - исторический синтез. Однако утверждение историзма как принципа философского и художественного мышления связано с XIX столетием10. Строго говоря, мыслители XIX столетия употребляли термин «историцизм» (“historicism”) и только в 1940-е годы его вытеснил «историзм» (“historism”)11. В основании историцизма XIX века - простые для нас сегодня вещи – осознание фундаментального различения прошлого и настоящего, и признание конкретности исторических феноменов. Как писал в 1852 году Карл Прантл (Carl Prantl), подлинный историзм схватывает историческое бытие в его «конкретном пространствевремени («Zeitlich-Räumlichkeit»)» и тем самым существенно отличается от универсальной системы истории в гегелевском идеализме12. Отсюда – некоторые весьма очевидные «следствия» в для пространственно-временных концептов в архитектуре и искусстве: если романтические образы строятся на некоем синтетическом и воображаемом концепте истории, то для собственно историзма XIX века существенна точность исторической цитаты как выражения определенного смысла-функции. 3 Историзм XIX века развивает проект Historia Universalis в двух аспектах: вопервых, всеобщая история в философии истории получает исключительную стремительность эволюции, соответствующую духовному развитию человечества, вовторых, историческая реальность рассматривается с точки зрения индивидуализации формирующих ее событий и форм. Для Леопольда Ранке и Вильгельма Гумбольдта исторические эпохи, нации и государства "имеют большую индивидуальную выраженность, нежели отдельные представители (человечества - И.Д.)" 13 . Соединение стремительности исторической эволюции и идеи индивидуальности исторических форм получает отражение в философии архитектурного и художественного историзма, в интеграции исторических острохарактерных форм и стилей в новую предметную среду – метафору исторической эволюции универсальной архитектуры. На переходном этапе от романтического видения к зрелому историзму польско-французский архитектор и теоретик Адам Иджковский и русский писатель Николай Гоголь выразили эту метафору архитектурного произведения как застывшего в острохарактерных формах времени следующим образом: "Мне приходила прежде в голову одна мысль: я думал, что не мешало бы иметь в городе одну такую улицу, которая вмещала бы в себя архитектурную летопись. Чтобы начиналась она тяжелыми мрачными воротами, прошедши которые, зритель видел бы с двух сторон возвышающиеся величественные здания первобытного дикого вкуса, общего первоначальным народам, потом постепенное изменение ее в разные виды: высокое преображение в колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потом в красавицу - греческую, потом в сладострастную александрийскую и византийскую с плоскими куполами, потом в римскую с арками в несколько рядов, далее вновь нисходящую к диким временам и вдруг поднявшуюся до необыкновенной роскоши – аравийскою, потом дикою готическую, потом готико-арабскую, потом чисто-готическую, венцом искусства, дышащею в Кельнском соборе" и так далее до архитектуры Нового времени (Н. В. Гоголь); "Если разнообразие форм может быть почти бесконечным, то нельзя понять, ради чего мы должны ограничивать себя только определенным их числом " – и далее Иджковский переходит к описанию улицы "города истории" в духе Н. Гоголя14. Архитектура историзма стремится к синтезу многообразия исторических форм, продолжая при этом воплощать трансцендентное единство истории. Архитектурным образам Гоголя и Иджковского не хватает пока точности исторической цитаты, которая будет привнесена зрелым историзмом. Обратимся к пространственно-временным стратегиям нескольких выразительных градостроительных комплексов историцизма. арена осуществления одной из самых Вена второй половины XIX столетия – изысканных, 4 сложных и завершенных историцистских программ – Рингштрассе. Рингштрассе – «улица-кольцо» - возникла как результат грандиозного эксперимента по сносу широкого полукольца мощных средневековых фортификаций Вены. Пожалуй, немногие из градостроительных инициатив XIX столетия подвергались такой сильной критике со всех сторон, как новый венский Ринг15. Реконструкция Вены, начатая в конце 1850-х годов, драматично вошла в урбанистическую историю столицы Габсбургов. Собственно логика этой реконструкции была направлена на заполнение разрывов, образовавшихся в течение XVIII — XIX веков в изменяющейся ткани городов. В XVIII веке внутренний город Вены, расположенный внутри городских стен и застроенный в основном в течение позднего Средневековья и барокко, стал тесен для новой жизни. Постепенно аристократические резиденции стали возводить за его пределами, в пригородах. Стремление сохранить венскую архитектурную идентичность выразилось в композиционной ориентации новых усадебно-парковых пространств на центр Вены. Особенно примечателен в этом смысле осуществленный лишь фрагментарно замысел Шенбрунна, с его предполагавшейся анфиладой прозрачных экранов арок и парков, сквозь которые видится зрелище старой Вены (или, было бы точнее сказать, на которых изображаются венские панорамы). И все-таки между внутренним городом и предместьями возникла пространственная пауза, разрыв. Их разделяло кольцо городских оборонительных укреплений, значение которых после второй осады Вены турками, когда последние были разгромлены (1683 год), утратило свою фортификационную функцию. Приказ молодого императора Франца Иосифа о сносе укреплений Вены и распоряжение о застройке этого пояса были опубликованы в конце декабря 1857 года и стали развязкой в противостоянии исторического центра и пригородов. В самой Вене это распоряжение было воспринято поразному: чутким к собственной истории жителям в бастионах старого города виделся один из образов великого венского прошлого. И все-таки замысел новой широкой кольцевой магистрали, так и названной Ринг-штрассе, или более кратко - Рингом, оказался реализованным в расширившемся смысловом пространстве венской идентичности. Ринг-штрассе стала своеобразным зеркалом, экраном, на который спроецировались архитектурные образы старой Вены и архитектурная история иных культурных пространств. Градостроительная композиция Ринга с рациональным изяществом вписана в структуру Вены: окружая внутренний город, подобно подкове, она стала переходом от него к предместьям. Два основных ансамбля Ринга композиционно включены в систему пространственно-смысловых координат исторического центра города. Планировочная ось композиции первого ансамбля, включающего 5 Университет, Ратушу, Парламент и Городской театр, сориентирована на главный силуэт старого города - Собор святого Стефана. Ось второго ансамбля, объединившего дворец Хофбург, Естественно-исторический и Историко-художественный музеи, выходит на другой смысловой фокус Вены центр античного города. Другие важные сооружения Ринга также часто поставлены так, что их оси сориентированы на смысловые фокусы старой Вены, в основном на Собор святогоСтефана. К. Шорске в тонком культурологическом анализе Рингштрассе обратил внимание на противоречие между интегрирующей градостроительной ролью общего кругового движения Ринга, объединяющего сориентированные на него основные здания и ансамбли, и архитектурной стратегией изоляционизма в конкретных объемно-пространственных решениях: «Смысл изолированности и разрывов в пространственном расположении зданий подчеркнут многообразием исторических стилей, в которых они воплощены. В Австрии как и повсеместно, торжествующий средний класс утверждал собственную независимость от прошлого посредством права и науки. Но когда же он устремлялся к воплощению собственных ценностей в архитектуре, он возвращался к истории. Как Фёрстер (Людвиг фон Фёрстер – один из авторов реконструкции и новой планировки Ринга. – И.Д.) отмечал на раннем этапе своей карьеры (1836), когда он выступал за привнесение сокровищ прошлого вниманию современных строителей в журнале Die Bauzeitung, «гений девятнадцатого столетия неспособен идти собственной дорогой… Столетие не имеет определяющего цвета времени». Отсюда - он выражал себя в визуальных идиомах прошлого, избирая стиль, исторические ассоциации которого наиболее соответствовали задачам репрезентации данного здания» 16 . В ансамблях Венского Ринга это вело к «доминированию стилистической импозантности над функциональной целесообразностью»17. Рингштрассе в целом – зримая генеалогия либерализма: «на руинах Марсовых полей приверженцы либеральной культуры воздвигли политические институты конституционного государства, школы для образования элиты свободного общества, и музеи и театры чтобы привнести культуру которая возвысит novi homines над его скромным происхождением»18. При этом иконография архитектуры Ринг-штрассе сложна и разнообразна и отсылает к различным архитектурным эпохам и культурным традициям19. Здание Арсенала (1868—1879) варьирует образы оборонного средневекового зодчества, в которые вплетаются мотивы ренессансной архитектуры. Романтический замысел костела-памятника, костела-жертвоприношения определяет идею Вотивного костела (1856—1871), возведенного по проекту Генриха Ферстеля в память о неудавшейся попытке покушения на императора Франца Иосифа. Романтическая по существу идея 6 воплощена в рафинированных формах готики, с идеализированной симметричностью общей композиции и отточенным решением каждого элемента формы. Тот же архитектор — Генрих Ферстель — запроектировал Университет (1873—1883), решенный, однако, уже с совершенно иной ориентацией, в основном на архитектурные формы итальянского Ренессанса, что должно было бы символизировать специфический образ университетских studium humanitatis. Расположенная близ Университета Ратуша (1872-1883), построенная Фридрихом Шмидтом с ориентацией на немецкую готику, своими формами представляет своеобразную аллегорию вольного городского самоуправления. Парламент (1874—1883) возведен в стиле "греческого ренессанса" с элементами палладианства и, как утверждал его автор, Теофил Хансен, именно в этих формах должна ясно прочитываться важная для либералов политическая идея "демократии и народа"20. Архитектура Готфрида Земпера на Ринге, а именно Бургтеатр (1880—1886) и грандиозный ансамбль Нового Хофбурга с музеями (спроектированный в соавторстве с Карлом Хазенауэром) — выдающиеся по мастерству архитектурного письма сооружения, основанные на археологически тщательном и в то же время артистичном использовании образцов ренессансной архитектуры. Знаменитая венская Опера (1861—1868) - одно из самых сложных и интересных по иконографии архитектурных творений Ринга. Подход Эдварда ван дер Нюлля и Августа Сиккардсбурга, авторов проекта Оперы, вызвал критику со стороны венских академических кругов, как отмечалось, за субъективизм в использовании исторических стилей21. Действительно, в архитектурной декорации фасадов и интерьеров Оперы были использованы мотивы архитектуры ломбардского, французского, немецкого Ренессанса и маньеризма, иногда достаточно маргинальные по отношению к известным классическим образцам. Но именно это придает иконографической программе Оперы оригинальность, которая, как нам представляется, не была только внешней и случайной, но основывалась на оригинальном художественном прочтении идеи Оперы как интегрирующего пространства культуры ее проектировщиками. Взгляд на Ринг как на панораму архитектурных стилей привел известного венского теоретика урбанизма Камилло Зитте к удрученному заключению о художественной несостоятельности Ринга22. В видении Зитте Ринг предстал как сплошная череда разрывов между художественно выразительными — этого Зитте не отрицал — архитектурными произведениями, созданными в разных стилях и манерах и коллажно сближенных в локально обозримом пространстве. Зитте предложил еще раз реконструировать Ринг, создавая плавные переходы от одного сооружения к другому посредством целой системы небольших площадей, сохраняя общую пластичность 7 урбанистического целого. Предложения Зитте не были осуществлены, однако его критика, взятая в своей аналитической части, позволяет оценить особенности темпорального "монтажа" Ринга. Действительно, в потоке Ринг-штрассе оказались сведенные совершенно разные, сориентированные на различные эпохи и культурные пространства, замыслу и объему архитектурные сооружения. Для грандиозные их объединения по ресурс собственно художественной композиционной формы оказался недостаточным. Темпоральность, объединяющая это пространство художественного разнообразия — это темпоральность Истории. Игра разрывов при этом приобретает характер художественного приема, скорее всего, не входившего в замысел создателей Ринга, который однако, артикулирует и делает особенно выразительными художественные формы магистрали, в соотнесении с объединяющей целостностью Истории. Вместе с тем темпоральность композиции Ринга характеризуется последовательностью — гармонизирующим периодом развития пространства. В своем движении Ринг четыре раза меняет направление, огибая внутренний город, он делится на пять отрезков почти равной длины, организованных по принципу подобия. В центре каждого отрезка помещен яркий пространственный акцент, либо композиционная ось симметрии; и то, и другое сориентированы на центр старого города. Поток острохарактерных индивидуализированных форм подчинен общему гармонизирующему принципу развития, в результате чего композиция Ринга получает выразительную «стаккатность». "Макартовской процессией архитектурных стилей" назвал Ринг-штрассе В. Хофман 23 , удачно использовав в качестве эпитета имя Ганса Макарта, известного австрийского исторического живописца XIX века. Метафора исторической процессии, с ее внутренним разнообразием движения, сочетанием динамики и покоя, устремленности к переживанию смысла, когда внешние модуляции настойчиво указывает на их скрытый смысл — эта метафора приближает нас к пониманию временной интриги Ринг-штрассе. Восприятие Ринга постоянно колеблется - от динамичного «клипового стаккато» визуального восприятия к замедленно-напряженному тактильному, однако то, что связывает эти флуктуации — это непрерывное, порождаемое историцизмом форм Ринга, стремление перейти от видимого к невидимому, разгадать смысл самой плоти архитектуры. В этом плане Ринг-штрассе предстает поверхностью столкновения значений, каждое из которых стремится потеснить, оттеснить и вытеснить другое в борьбе за наше внимание. Эта борьба значений отсылает к иному, третьему — синтезирующему началу Ринг-штрассе — к Истории, которой, в сущности, посвящена архитектура Ринга. Примерно в те же годы в реконструкции другой европейской столицы – Парижа, оказались реализованы существенно иные пространственно-временные принципы. 8 Реконструкция Парижа была проведена под руководством префекта департамента Сены барона Османа в предельно короткий отрезок времени — основные работы были начаты в 1852 году и завершены в 1870-м; реконструкция изменила облик и структуру громадной территории центра Парижа; в результате Париж "стал первым городом, приспособившимся к индустриальной эпохе" 24 . Скорость, с которой производились урбанистические изменения, оказалась подобна динамичной организации самой урбанистической структуры нового Парижа. В своих мемуарах Осман с удовлетворением назвал себя artiste-démolisseur - художником-разрушителем по отношению к старому Парижу, и действительно, Париж, который мы видим сегодня — это во многом Париж барона Османа. Можно сказать, что в середине XIX века Османом на старый остов Парижа как бы натянута новая градостроительная структура, в которую вкомпоновались оставшиеся в процессе реконструкции фрагменты старого города. Уже это отличает Париж от Вены; если в Вене новая часть возникла как отражение старой и «зеркально» в нее вкомпоновалась, то в Париже все происходило наоборот. Париж получил две новые планировочные оси, пересекавшиеся почти под прямым углом в районе улицы Риволи, первая из которых объединила в северо-южном направлении Страсбургский, Севастопольский бульвары и бульвар Сен-Мишель, а вторая стала развитием на запад и на восток улицы Риволи. Их дополнили два концентрических кольца бульваров, огибавших ядро и центральную часть города. Новая структура возникла как за счет "пробивки" новых улиц, так и посредством вкомпоновки в новую урбанистическую парадигму старых, часто кардинально перестраивавшихся. Темпоральную стратегию османовской реконструкции лучше всего характеризует новая категория — скорость 25 . Скорость выявляет соотношение пространства и преодолевающего его человеческого динамизма как на уровне общей стратегии реконструкции, так и в архитектурных формах градостроительного ландшафта. Центр доосмановского Парижа — сложно изгибающаяся паутина планировки («дорога ослов», по Ле Корбюзье), с иррациональным смыслом пространства, которое не давало никаких однозначных ориентиров при движении к цели и скрывало в своей иррациональности структуру плана, — получил совершенно иную организацию. План и замысел города были сделаны Османом прозрачными; его урбанистическая структура упрощена, предельно раскрыта и прояснена. Реконструкция "сжала" пространство-время города, новая структура превратила его в максимально доступные основные центры притяжения, а связи между ними — в наикратчайшие. Время подчинило пространство. Прямой луч — основное композиционное средство, которым Осман производил "хирургическую" реорганизацию центра Парижа. Вальтер Беньямин заметил, что 9 градостроительный идеал Османа — перспективное видение длинных, ускользающих улиц 26 . В этой концепции Османа была доведена до своего предела планиметрическилучевая традиция французского урбанизма, причем планировки Османа ближе всего к простоте и однозначности урбанистических решений, характерных для раннего этапа французского градостроительного искусства, запечатленного в геометрически простых планах крепостей, возводившихся в XVII веке под руководством Себастьяна Вобана и других инженеров-фортификаторов. Взгляд с легкостью покоряет пространство новых бульваров и авеню Парижа. Пространства, образовавшиеся в период реконструкции, легко узнать по типу многоэтажного дома, с "витринами" либо аркадами-галереями на первом этаже, плоским фасадом с "французскими" окнами, высокой мансардной крышей. "Просто и без обсуждений он (Осман — И.Д.) распространил этот унифицированный фасад на весь Париж" 27 ; этот тип жилого дома, интересный сам по себе, многократно варьируется и повторяется в перспективах авеню и бульваров, и зрение легко скользит по поверхности этих волнообразных модуляций. Итак, «техническая» реконструкция Парижа в «эпоху» барона Османа дает значительно более «собранный» образ пространства-времени, нежели рафинированный полистилизм Вены. Эту тенденцию к интегрированному образу мы можем наблюдать и в иных архитектурно-художественных комплексах историзма, например, в викторианском Белфасте середины и второй половины XIX века. Однако если в Париже компактность пространства-времени достигалась модернистскими архитектурно-техническими приемами - поэтизацией «скорости», то в Белфасте XIX – начала ХХ столетий подобный результат достигался средствами историзма. В современном Белфасте – столице мятежной Северной Ирландии Объединенного Королевства, после многих лет политических и религиозных конфликтов, достаточно сложно рассмотреть блистательный викторианский gesamtkunstwerk. Именно в Викторианскую и Эдвардианскую эпохи Белфаст пережил исключительно продуктивную эпоху промышленного и интеллектуального расцвета. Достаточно заметить, что корабельный супергигант эпохи – Титаник – сошел именно с белфастских судостроительных и верфей; в городе развивались многочисленные индустриальные и торговые компании, причем филиалы и представительства многих из них были рассредоточены по всему миру, включая и столицу Великобритании28. Викторианский Белфаст – архитектурный манифест собственного «экономического чуда». Неоготические вертикали викторианских храмов образуют единый мощный образпоток вертикального, прочерчивая основную силуэтную тему. При этом стилистическая интерпретация этих вертикалей-ориентиров весьма многообразна. Один из наиболее 10 ранних образцов – Пресвитерианская церковь (1856 – 1857), созданная по проекту ведущего белфастского архитектора-строителя сэра Чарльза Ланьона (Charles Lanyon) и его молодого, исключительно одаренного партнера Вильяма Генри Линна (William Henry Lynn), несет отпечаток свободной Раскиновой венецианско-ломбардийской поэтики (высокая башня-кампанила, полихромия, аркады) 29 . Венецианско-ломбардийская тема продолжается и в мощной многоярусной башне-колокольне Эльмудской пресвитерианской церкви (Elmood Presbyterian Church, 1859-1862), построенной Джоном Кори (John Corry) на новой Университетской улице, ставшей ярким акцентом и ориентиром для активно развивающейся части Белфаста в районе Университета, Малонской и Странмиллис трасс. Пожалуй, наиболее интересным пластическим мотивом здания стала зооморфная резьба по камню капителей «ренессансной» аркады на главном фасаде, с ее удивительной воздушной светотеневой моделировкой форм, и с уникальным, не повторяющимся, художественным решением каждой капители. Недалеко от Эльмудской церкви, на Университетской же улице, через несколько лет возник еще один изящный вертикальный акцент, развивающий темы ломбардской романской архитектуры – Методистская церковь (1864-1865, Вильям Барре (William Barre)). Если образ только что рассмотренных вертикальных силуэтных акцентов развивал итальянские мотивы, привитые викторианской архитектуре Джоном Раскиным30, то новый мощный ориентир в сердце исторического Белфаста – мемориал Альберта (1865-1869), основное белфастское творение Вильяма Барре – «викторианская версия Вестминстерской часовой башни Биг Бена, где вместо пьюджиновских (Август Пьюджин – архитектор Биг Бена – И.Д.) деталей поздней английской готики мы имеем излюбленное Барре эклектическое соединение стилей, включая образцы ранней французской и итальянской готики, с раннеренессансными геральдическими львами, завершающими аркбутаны у основания»31. Последующие вертикальные акценты (Пресвитерианские церкви в Фортвильям-парке, 1880-1885 и Святого Иоанна на улице Ормо, 1890-1892, комплекс Пресвитериансой ассамблеи, 1900 – 1905, и др.) развивали неоготические темы однобашенного здания. Для более полной характеристики архитектурного образа Белфаста середины и второй половины XIX века необходимо упомянуть ансамбль Королевского университета, созданный в 1840-х годах под руководством Чарльза Ланьона в изящном Тюдоровском стиле, впрочем, несколько однообразный в своей сложной декоративной орнаментике32. Во второй половине XIX века завершается архитектурное обрамление главной площади Донегал, с окружающими ее зданиями, свободно интерпретирующими образцы шотландской (стиль шотландских баронов), готической или ренессансной архитектуры. В центре площади на рубеже XIX-ХХ веков возводится мощное необарочное каре мэрии, 11 созданное по проекту тогда еще молодого лондонского архитектора Альфреда Брамвела Томаса (Alfred Brumwell Thomas 33 . Грандиозный купольный силуэт мэрии, напоминающий лучшие купольные композиции в английском зодчестве (купол Собора Святого Павла в Лондоне или Гринвичского госпиталя) вновь интегрировал своей массой среду городского центра. При всем многообразии культурно-исторических прообразов викторианский Белфаст создает впечатляющий эффект целостности. архитектуры, От тюдоровских ассоциаций в архитектурных формах 1840-х до неоготики и «шотландского стиля» второй половины XIX века – всё это отсылает к объединяющей традиции британской идентичности. В этот мощный хор вплетены и иные голоса, однако при всем многообразии стилистических тенденций, над Белфастом второй половины XIX века доминирует образ великой британской поликультурной стихии. Мы не найдем здесь того рафинированного музеологического подхода к архитектурным творениям и тонкого ученого цитирования культурных образцов, который делает уникальными образы Венского Ринга. Вместе с тем, стремление к синтезу и воля к стилю в существенно более «массовидном» теле викторианского Белфаста выражены активнее и значительнее. Художественная сторона целостности нового образа Белфаста XIX века предопределяется контаминацией активных вертикалей-ориентиров и центрирующего всё пространство объемом купола мэрии, подчиняющих себе все многообразие архитектурной среды. Однако в глубине архитектурного сознания историцизма – остро ощущаемая проблема соответствия своей эпохе и поиск трансцендентной целостности образа. В сердцевине пространственно-временной коллизии историцизма – грезы и заклинания «большого стиля эпохи» на фоне разыгрывания и соединения многообразных дискретных образов архитектурной и пластической Historia Universalis в реальном зодчестве и визуальном языке. Вся эпоха грезила о некоем метафизически «большом» стиле, который будет способен объединить и выразить ее идеалы. Архитектурная и художественная пресса середины и второй половины XIX столетия наполнена почти шаманскими порывами к новому стилю 34 . Мюнхенская Академия художеств в 1851 году учредила специальную премию за архитектурный проект в едином новом стиле 35 . Профессор архитектуры Лондонского университета Томас Дональдсон (1795-1885, Thomas Leverton Donaldson) не уставал призывать архитекторов и заказчиков к созданию нового стиля: «Способны ли мы обладать архитектурой нашего времени, особенным (distinct), индивидуальным, очевидным (palpable) стилем девятнадцатого столетия (выделено мною - И.Д.)?»36 Как показал современный английский историк архитектуры Дж. М. Крук в фундаментальном исследовании, симптоматически озаглавленном «Дилемма стиля», в 12 самой сердцевине викторианской эпохи в Англии развернулась страстная борьба за создание нового стиля, сопровождавшаяся и радостью побед, и отчаянием. Образцы английской, итальянской или «ранней французской» архитектуры были отобраны так, чтобы создать нечто вроде кокона бабочки, из которого затем возникнет новый архитектурный «авангард». Идея стиля была отражением позитивистско осмысленной концепции прогресса и эволюции – почему девятнадцатое столетие, совершившее такое значительное количество открытий в технологии, науке и метафизике, не может наконец изобрести или создать собственный архитектурный стиль и образ? 37 «За последние пятьдесят лет, - восклицал выдающийся теоретик и поэт архитектуры Джон Раскин на заседании Королевского института Британских архитекторов, - возникло больше блестящих идей, и больше утонченных рассуждений об искусстве чем за предшествующие 5000 лет, и к чему же все они привели?»38. Эксперименты по созданию нового стиля эпохи предпринимались в различных регионах Европы - в Антверпене в 1861 году, например, собрался «художественный конгресс» для того, чтобы обсудить проблему стиля эпохи: «почему же наша эпоха, во многих отношениях превосходящая предшествующие столетия, не имеет своей особенной формы архитектуры (its own particular form of architecture)»39. Иными словами - для того, чтобы новый стиль стал реальностью культурного пространства, недостаточно к нему метафизически страстно стремиться – необходима конструктивная «воля к стилю», «воля к форме», как их определил на рубеже XIX – XX веков Алоиз Ригль - выдающийся венский художественный мыслитель переходной эпохи от историзма к модерну – времени реального конструирования стиля. «Во многом загадочное понятие «воли к форме», представлявшее собой в глазах Ригля, по тонкому замечанию Э. Винда, «реальную силу» (при осуществлении которой материал играл второстепенную роль «коэффициента трения»), придало истории искусств подобие ретроспективного пророчества», - писал М. Н. Соколов40, а концепту стиля – тотальный и формально однородный характер41. Взгляд на полистилистику Вены времен юношества и интеллектуального становления Ригля позволяет понять, почему именно здесь протест против «стилевой» диверсификации историзма и стремление к новой формуле единого получил такой полемически яркий характер. Художественная воля к стилю соединяет внешнее и внутреннее, духовный порыв и его феноменальное художественное воплощение. Э. Панофский, дополняя Э. Винда, отмечал, что в Kunstwollen Ригля – это квинтэссенция, синтез, имманентный смысл художественных феноменов42. Ригль обладал феноменальной способностью к выявлению принципиальной стратегии стилеобразования, отвечающей духу эпохи, и подчиняющей художественную технику и материал43. 13 Риглевская «воля» к стилю во многом объясняет стратегии позднего историзма, внутри которых все определеннее звучала интегрирующая пластика модерна. Примером того, что еще на рубеже XIX – ХХ веков проектирование сохраняло дух романтического воссоздания образа исторического стиля, однако при этом решающим фактором художественного синтеза становились пластические приемы модерна, служит одно из наиболее интересных творений польской католической архитектуры тех лет – костел в Ютросине (Познаньское воеводство Польши), построенный по проекту архитектора Томаша Пайздерского в 1900 году 44 и позднее, в 1908 году, «повторенный» в Минске. Ютросинский и Минский костелы представляют собой динамичную композицию масс с доминантой романской башни-колокольни. Томаш Пайздерский мастерски соединяет эту башню с латинской базиликой, завершающуюся двумя небольшими башенками. Если в Ютросинском «оригинале» основной вертикальный объем башни-доминанты продолжает фасад, то в Минской «реплике» она вкомпонована с средокрестие нефа и трансепта, что создает замечательный эффект вертикального развития масс от нижних объемов вверх. В польской архитектурно-художественной критике Ютросинский костел стал знаком выхода из состояния художественного безволия в направлении создания духовного символа времени. Зенон Пржесмыцки восторженно писал в связи с произведением Томаша Пайздерского: «В истории нашего, столь бедного сегодня, монументального искусства, благодаря князю Здиславу Чарторыйскому светлый путь истинно в духе Медичи проложен - несмотря на то, сооружение это (костела в Ютросине – И.Д) до окончательного декорирования еще не доведено. От Медичи здесь – пылкое и созидательное стремление к возвышенной красоте, свидетельствующее об опытном вкусе обращение не только к тем художникам, которые … «уже победили в борьбе за существование», но и к сущностным, основательным талантам… В г-не Пайдзерском наконец мы нашли архитектора-художника, а в Ютросинском костеле быть может впервые за Сравнительно пятьдесят небольшая лет подлинное святыня творение создает, монументального благодаря ясности искусства… общих планов, соответствующему подчинению им деталей, а также полной творческой жизни единоцельности стиля (jednolitości stylowej), истинно внушительное впечатление»45. Критик точно диагностировал основной эффект Ютросинско-Минского костела «стилевая единоцельность», проявляющаяся в оригинальной интерпретации романских мотивов (хорошо известных Пайдзерскому по немецкой и французской романике) активными «собирающими» композиционными средствами. Парадоксальный эффект творения Пайдзерского состоит в том, что приемами модерна (югенстиля) он интегрирует архитектурные темы западноевропейского средневековья. Орнаментальное многообразие 14 романики архитектор объединяет и «снимает» в контрастной ассиметричной композиции, причем романика получает характер пластической арабески, вкомпонованной в компактную объемно-пластическую динамику модерна. Формообразование модерна сообщает всей композиции образ новой стилевой тотальности («стилевой единоцельности»). В эволюции пространственно-временных образов архитектурного историзма второй половины XIX столетия заметно усиление континуальности - «воля к стилю» все более интенсивно подчиняет себе романтическое diversità культурно-исторических цитат и образов. Если романтическому историзму первой половины – середины XIX века соответствует идеал «исторической» улицы Николая Гоголя с доминированием многообразия истории над стягивающим единством стиля, то вторая половина столетия – это постепенное «снятие» многообразия и движение стилевой формулы от метафизики к пластическому воплощению. Колеблющиеся между надеждой и отчаянием, призывы «к стилю» дают, наконец, на рубеже XIX – ХХ столетий яркий стилевой и культурный эффект пространственно-временного континуума – Gesamtkunstwerk модерн. Перейдем от архитектуры к визуальному творчеству, от историзма к символистским тенденциям 1880 – 1890-х годов. В понимании символизма иногда присутствует тенденция интерпретировать его как определенную параллель историзму всего XIX века 46 , а не как эпизод последней четверти столетия. В настоящем исследовании нам хотелось бы обратить внимание на существенно иную парадигму пространства-времени, которую символизм вносит в художественную культуру. Еще раз отметим: если архитектура выступала основным языком историзма, поддерживая его стремление к культурно-историческим панорамам, то индивидуально-метафизические интенции символизма с его принципиальной «неясностью», «тайной», «смутной неопределенностью» требовали языка живописи (разумеется, после поэзии). Общее в архитектурном историзме и живописном символизме – сущностное расширение границ пространственно-временного мира произведения. Гюстав Моро вовлекает свои обширные философские, исторические и археологические познания в живописное творчество, что выразилось в сложной нарративности его произведений, где взгляд часто останавливается на декодировании отдельных мотивов и деталей. Одилон Редон вводит в живописное пространство фантастические грезы, буддистские темы, циклопические макромиры и фрагменты микормира. Поль Гоген в своей живописи и пластике формирует несколько «параллельных» культурно-исторических миров – мартиникский, бретонский, таитянский <…> Символистские интенции к созданию культурно-исторической разомкнутости художественного творения охарактеризовал 15 Иорис-Карл Гюйсманс, объясняя причины своего разрыва с кругом Эмиля Золя: «Существовало множество причин, которых Золя не мог понять. В первую очередь это была испытываемая мною потребность распахнуть окна, бежать из среды, в которой я задыхался; затем охватившее меня желание стряхнуть предрассудки, вдребезги разнести границы романа, открыть его для искусства, науки, истории, - одним словом, использовать его лишь как обрамление для более серьезной работы»47. Символистская художественная стратегия – овнешнение внутреннего, смутного, неясного, придание им визуальной формы: «Для каждой ясной мысли существует пластический эквивалент. Но идеи часто приходят к нам запутанными и туманными. Таким образом, необходимо прежде выяснить их, для того, чтобы наш внутренний взор мог их отчетливо представить. Произведение искусства берет свое начало в некоей смутной эмоции, в которой оно пребывает, как зародыш в яйце. Я уясняю себе мысль, погребенную в этой эмоции, пока эта мысль ясно и как можно более отчетливо не предстанет перед моими глазами. Тогда я ищу образ, который точно передавал бы ее … Если хотите, это и есть символизм» 48 . Подобную художественную тактику Редон охарактеризовал следующим образом: «некоторые люди решительно хотят свести работу художника к изображению того, что он видит. Те, кто остаются в пределах этих узких рамок, ставят перед собой невысокую цель. Старые мастера доказали, что художник, выработавший собственный язык и заимствовавший у природы необходимые средства выражения, - обретает свободу и законное право черпать свои сюжеты из истории, из поэзии, из своего собственного воображения»49. И далее: «Хотя я признаю необходимость наблюдений реальности как основы… истинное искусство заключается в реальности прочувствованной»50. Мир в символизме предстает воображаемым музеем, и эта идея мира–музея неоднократно обсуждалась в литературной периодике того времени. Это мир сладостного созерцания и приостановленного времени: «Вопреки предсказуемости повседневного опыта и предполагаемой смерти, человеческая жизнь стремится к непредсказуемому и еще не постигнутому. Если мы обратимся к тому измерению реальности, которое философы девятнадцатого века не осмыслили в достаточной мере – времени – символ может быть обращен ко всему тому в реальности мира, что еще не было осмыслено целиком или к стремящемуся к воплощению в бытии, но еще не поучившего полноту существования, - отмечает М. Гибсон и далее подчеркивает: «Отвержение реального времени в символистском образе мышления значительно легче обнаруживается в литературе, и это помогает прояснить то, о чем говорит нам изобразительное искусство символизма. Пьеса Мориса Метерлинка «Пелеас и Мелисанда», с ее воображаемым 16 призрачно–кельтским средневековым миром, типична для этого предпочтения безвременности (timelessness). Жизнь персонажей – простая абстракция, выражающая томительное желание упразднить всю историю во имя вечной реальности. Это становится очевидно в том, как каждый персонаж выведен на сцене. Отвержение истории персонифицировано в образе Мелисанды, которая показана блуждающей в безымянном лесу в состоянии, близком к амнезии. Отрицание общества явственно в образе одиноко охотящегося Голо, без конюхов, загонщиков, сокольничих или прислуги с гончими; между тем как Пелеас бесцельно бродит по мрачному замку – призрачный принц без функции, без интереса к жизни, за исключением достаточно странного влечения, испытываемого им к болезненному и смущенному созданию - Мелисанде…»51. Приостановленная внеисторическая темпоральность живописи символистов отражала ту «действительность» неясностей и переходов, которая и инициировала символистское видение и которую Б. Л. Пастернак охарактеризовал следующими словами: «Они писали мазками и точками, намеками и полутонами, не потому, что так им хотелось и что они были символистами. Символистом была действительность, которая была вся в переходах и брожении; вся она скорее что-то значила, нежели составляла, и скорее служила симптомом и знамением, нежели удовлетворяла»52. Именно эта приостановленная внеисторическая художественная временность – время вне становления, - стало объектом острой критики Эммануэля Левинаса в ранней работе «Реальность и ее тень»53. Наиболее острая критика Левинаса направлена как раз на квази-время художественного творения, арестованное в границах вечно длящегося «момента» («жизнь произведения не преодолевает границу момента»), не способного перейти в будущее – время, длящееся вечно. Художник даёт своему творению «безжизненную жизнь», противоположную диалектике времени мира. Критикуя время искусства как обманчивую тень бытия, Левинас прежде всего обращается к символистский поэтике времени (хотя и не делает непосредственных референций к символизму)54. Диссонанс между сюжетным и художественным временем лежит в основе творений Гюстава Моро. В сюжетном плане Моро – мастер исторических и библейскомифологических сцен55, однако собственно структура творений Моро переводит историю в план вневременной медитации. Характерный прием остановки времени в построении живописных работ Моро 1890 – х годов – фиксация центральной оси симметрии и расположение на ней главной фигуры, мощного объема, центральной колонны симметричного портика в центральной перспективе и т.д. Характерна в этом аспекте композиция «Юпитера и Семелы» (1894 – 96, Музей Гюстава Моро, Париж). Застывший 17 взор Юпитера, восседающего на троне строго в центре картины, пронизывает и гипнотизирует зрителя – последний застывает в предстоянии языческому божеству. Картина не предполагает диалога – она требует предалтарного трепета в бесконечности вещего и вечно длящегося взора. В связи с «Желтым Христом» (1889, Художественная галерея Олюрайт-Нокс, Буффало) Поля Гогена Р. Розенблюм и Х. Джэнсон вводят метафору замкнутого «времени-капсулы»: «Гоген здесь, в сущности, играет роль не верующего, творящего образ Распятия, но своеобразного антрополога-наблюдателя, потрясенного, как он выразился, «великой деревенской простотой верования» в этом мире времени-капсулы (time-capsule world), где католическая вера, подвергшаяся в девятнадцатом столетии столь решительным вызовам, кажется, все еще сохраняется. Вот три бретонские женщины, подобно трем современным Мариям у креста, твердо восседают, их взоры направлены вовнутрь, их руки сведены в полукруг, у подножия запечатленного Гогеном действительно существовавшего деревянного Распятия из капеллы в Тремало» 56 . Полукружия сомкнутых рук бретонских женщин получают продолжение в круговом ритме их расположения в картине вокруг оси – Распятия. Собственно живописная композиция стремится замкнуть мир-капсулу – один из примером точного взаимодействия смысла и структуры в художественном образе символизма. В связи с уже отмеченной основной художественно-концептуальной проблемой символизма – овнешнением внутреннего, смутного и иллюзорного, несомненный интерес представляет опыт Гогена по интеграции двух модусов – реального и иллюзорного – в едином пространстве картины. В «Видении после проповеди («Борьба Иакова с ангелом») (1888, Национальная галерея Шотландии, Эдинбург) Гоген соединяет «реальное» и «воображаемое» пространства: «В этой картине пейзаж и борьба существуют для меня лишь в воображении этих молящихся женщин, как результат проповеди. Вот почему налицо такой контраст между этими реальными людьми и борющимися на фоне пейзажа фигурами, которые нереальны и непроницаемы» 57 . В основе композиции – энергичное диагональное построение: диагональ дерева разделяет реальное (низ с изображением бретонских крестьянок и кюре) и иллюзорное (верх – библейская сцена). Отход от «реального» намечается уже в странных головных уборах бретонских крестьянок. Отношение реального и иллюзорного подчеркнуто соотношением масштабов, напоминающим принцип разно-масштабности в древнем искусстве: размеры борющихся фигурок резко сокращены по сравнению с фигурами переднего плана. Идеальным выражением перехода «реального» пространства-времени в «иное» в живописи символистов становится мотив сновидения. Этот переход часто получал форму 18 кругового движения, уже отмеченного нами выше при создании образа «мира-капсулы». Тонко разработанный мотив замкнутого круговращения мы найдем в «Водоеме» Виктора Борисова-Мусатова (1902, Государственная Третьяковская галерея). «В основе композиции, - пишет О. Я. Кочик, - лежит простая, но тщательно выверенная схема: согласования двух треугольников и двух овалов. Треугольник торса правой фигуры повторен большим по размеру треугольником, к которому приведено строение всей левой фигуры. Овал платья на первом плане, намного увеличенный, превращается в очертания водоема. Оси сходных фигур параллельны между собой. Такое отражение, эхо форм повышает значение и ценность каждой отдельной формы и в то же время спаивает все построение в связное единство».58 Основным же алгоритмом картины становится, как нам представляется, мотив двойного замкнутого круговращения – глади водоема, где «осью вращения» становится фигура второго плана, и контрапункта двух женских фигур относительно точки их касания. Две фигуры в характерном для этого художника диалогемолчании соотносятся между собой так, будто они движутся в загадочном медленном танце вокруг центра, образованного легким пересечением руки женщины на переднем плане и савана, в который облачена другая женская фигура. Вся картина БорисоваМусатова – игра замкнутых круговращений и изысканно обозначенных осей. Одна фигура – в реальном пространстве, вторая – уже в иллюзорном. Мотив касания мира иного и нашей реальности – композиционный узел «Водоема», картины-в-картине, где совмещены две реальности – физическая (берег) и сновидения (водоем). Как показал в анализе оптики сновидения этого произведения М. М. Алленов, связь двух фигур, одна из которых исходит из «мира иного» сновидения-зазеркалья водоема, а другая – от мира физически устойчивой реальности берега – связь мгновенного соприкосновения: «роль такой связи или «зацепки» играет точка соприкосновения савана центральной фигуры с запястьем той, что пребывает на берегу – соприкосновения, вследствие которого в очень строгой геометрике картины образована единственная подвижная, «живая» диагональ, как если бы только на этой траектории происходило трепетание, струение воды, неподвижной во всем пространстве картины» 59 . Мотив касания символически значим – это мотив зова: фигура «сновидения» как будто медленно уплывает и зовет к себе, в свой эон зазеркалья еще находящуюся «здесь» фигуру берега. В интерпретации культуры fin-de-siècle связь «иного» (сновидческого) мира и мира физически объемной дневной реальности происходит через смещения и касания, а не посредством миметических отображений. Сновидение, пишет Фрейд, «как бы накладывает друг на друга различные составные части», «обнаруживает непреложную связь между всеми частями скрытых мыслей тем, что соединяет весь этот материал в одну 19 ситуацию: оно выражает логическую связь сближением и во времени и в пространстве, подобно художнику, соединяющему на картине, изображающей Парнас, всех поэтов, которые, конечно, никогда не находись вместе на одной вершине горы», функция сновидения – «в сгущении материала, смещении его и наглядном его представлении, к которым присоединяется еще последний непостоянный элемент – истолковывающей переработки» физического, 60 . Именно отсюда – фундаментальное значение мотива касания – и и метафизического - как интриги перехода в формировании художественного пространства-времени символистов. Известный русский критик серебряного века Сергей Маковский дал филигранные определения «оживления» сновидений в грезах «Мира искусства», прежде всего – у Александра Бенуа и Константина Сомова. В образах Александра Бенуа, почти «по Фрейду», вспыхивают глубинно-подсознательные импульсы: «Версальская греза обнаружила как бы древнюю душу Бенуа, совершенно непохожую на несколько наивные души большинства русских художников. Редчайший случай – это тяготение вкуса и ума к стране отцов, к пышности Короля-Солнца, к величавой изысканности барокко, этот сладкий недуг воспоминаний о пережитом когда-то на бывшей родине, вновь обретенной творческим наитием… смотрит он Россию «оттуда», из прекрасного далека»61 . «Сомов отдает дням минувшим тоску свою и насмешку. Призраки, которые он оживляет, знакомы ему до щемящих подробностей… Его искусство какое-то щемящее, сентиментальноироническое и немного колдовское приятельство с мертвыми… Сомов, самый законченный мастер этой плеяды, как будто и не живет настоящим, вращаясь в заколдованном королевстве кукольных призраков, с которыми он породнился душой, женственной, отдающейся наваждению»62. И Бенуа, и Сомов смотрят «оттуда», из мира иного – их образы возникают в мире сновидений и грез и «оттуда» движутся навстречу внешней «реальности». Время–отсрочка и время–медитация – основные художественные стратегии в живописи символистов. Художник стремится к полному погружению в сконструированный им мир-капсулу, с приостановленным пространством-временем. Именно в эти годы мы встречаемся со специально меблированными в экзотических или мифо-исторических формах студиями и экзотической жизненной средой художников, где они погружаются в мир, изоморфный их творческому визионерству. Близкий символизму пространственно-временной образ мы находим в живописи неоимпрессионистов Жоржа Сёра и Поля Синьяка, а также в живописи Гогена 1880 – 1890 –х годов (не сводимой только к символизму). Приостановленное пространство-время символистов здесь 20 оборачивается концептом энергичного пространственно-временного синтеза, выраженного в новой формуле визуального единства, или стиля63. Обратимся к произведениям Сёра. Фактически Сёра создает новую визуальную формулу, которую весьма условно и лишь в силу исторической необходимости отделения от предшествующего этапа была названа неоимпрессионизмом - более точно ее можно было бы определить как антиимпрессионизм, или «импрессионизм наоборот». Вместо импрессионистического квази-момента восприятия во всей богатейшей насыщенности его свето-цветовых ньюансов и тончайших переходов одного состояния в другое, богатейшего живописного раскрытия микро-флюидов времени жизни – Сёра создает формулы квази-вечной длительности и остановленного времени созерцания-медитации. Этому соответствует фризообразность и статичность его творений. При определенной технической близости к импрессионистам, неоимпрессионисты в итоге создали свою визуальную формулу, «стиль». Один из первых интерпретаторов неоимпрессионистов Феликс Фенеон ясно зафиксировал это различение: «Облик неба, воды, зелени, согласно импрессионистам, ежесекундно меняется. Зафиксировать на полотне одно из таких беглых впечатлений – вот в чем заключалась цель… Задача же неоимпрессионистов – синтезировать пейзаж в определенно аспекте, закрепив при этом ощущение художника»64. Продолжим рассуждение Фенеона, сопоставив два программных творения Сёра – «Купание в Аньере» (1883-1884, Национальная галерея, Лондон) и «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» (1884-1886, Художественный институт, Чикаго). Оба произведения возвращают нас к излюбленному сюжету импрессионистов – купанию, границе парка и реки. Однако если в импрессионистических трактовках мы прежде всего обнаруживаем длящуюся вибрацию атмосферы, зелени и водной поверхности в едином свето-воздушном поле, то Сёра стабилизирует вибрацию и движение свободных живописных красочных мазков импрессионистов в точно зафиксированных живописных точках – «квантах» визуального поля. Эта фиксированность на уровне живописной фактуры соответствует «замедленному» времени общей композиционной организации. Композиции «Купания в Аньере» и «Воскресенья после полудня на острове Гранд-Жатт» достаточно схожи – если их выставить рядом, то при осевом симметричном отображении они даже окажутся подобными. В глубину пространство обеих картин разворачивается фронтальными «слоями», которым соответствует такое же фронтальное расположение фигур, данных в основном в профиль или анфас. Эти фигуры немного напоминают профили, вырезанные из картона («фигуры деревянные», «композиция геометрическая», как писал по поводу «Воскресенья на острове Гранд-Жатт» парижский художественный еженедельник 65 ). Впрочем, в этой фронтальной геометрии картины Сёра создает тонко 21 сбалансированные ритмические «узоры». Определенным пояснением к введению принципа фронтальности и фриза в «Купание в Аньере» и особенно в «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» является ремарка Сёра в разговоре с Гюставом Каном: «панафинеи Фидия были процессией. Я хочу показать современных людей, двигающихся, как фигуры на фризах, раскрыть их сущность и поместить их на картинах, отличающихся гармонией красок – благодаря подбору тонов и гармонией линий <…> »66. Поиск стабильной живописной формы коррелирует со стремлением Сёра утвердить «вечные» позитивно-научные основания своей живописной системы. Сёра создает особый стиль научной живописи, или «науки живописи» 67 , если воспользоваться термином Леонардо. Наслаждение, получаемое от творений Сёра – это не только чувственное наслаждение от цветовых аккордов, но и наслаждение интеллектуальное. Параллелью к картинам Сёра может послужить серия небольших публикаций о феноменах видения (les phénomènes de la vision) теоретика перспективы Давида Сюттера в респектабельном журнале L’art в 1880 году68. Сюттер с дидактической точностью, по пунктам, раскрывает читателю методы научного построения линейной и воздушной перспективы и гармонизации формы в живописи и скульптуре. Кому могли быть адресованы эти опусы? Вряд ли это были художники-профессионалы, и без того хорошо знакомые с методами построения изображения (в том числе и по специальным работам самого Сюттера). В большей степени они были предназначены для зрителя, le grand public. Сюттер утверждал, что феномены видения составляют основу произведения искусства, что вся наука искусства (toute la science des beaux-arts) укоренена в акте видения и факторах видимого мира, и для того, чтобы искусство было истинным, необходимо прежде всего проследить как формы внешних объектов воспринимаются разумом (l’intelligence). 69 Эта почти классицистическая парадигма облечена Сюттером во вполне позитивистские штудии в духе XIX века, с детальным, по пунктам, изъяснением правил восприятия пространства и форм. Свои опусы Сюттер завершает также вполне позитивистски, отмечая, что художественная практика всех времен и состоит в осознании правил и что на природу нужно смотреть глазами разума. «Наука освобождает нас от неуверенности и дает возможность свободно двигаться в пределах очень широкого круга явлений. Все правила выведены из законов природы, их нетрудно изучить и нужно обязательно знать, и в целом в искусстве все должно быть осознанным 70. Стабильность и завершенность визуальной формулы в живописи Сёра зиждется именно на этой апории научной истинности – Сёра заимствует у науки «правила», позволяющие уверенно конструировать живописный эквивалент зримого. 22 «Замедленное» или «приостановленное» время живописи символистов не открывает перспектив в будущее – это томительное «вечное теперь». Общее настроение, соответствующее этому томлению времени, характеризует статья «Наш мнимый упадок» в первом номере журнала «Мир искусства» за 1899 год: «Нас назвали детьми упадка, и мы хладнокровно и согбенно выносим бессмысленное и оскорбительное название декадентов. Упадок после расцвета, бессилие после силы, безверие после веры – вот сущность нашего жалкого прозябания. Мы составляем еще одну печальную эпоху, когда искусство, достигнув апогея своей зрелости, окидывает “прощальными, косыми лучами заходящего солнца стареющие цивилизации”. Это вечный закон эволюции, обрекающий всякий цветок расцветать и умирать, рассыпая бессильные нежные лепестки» 71 . Медленно ускользающая в сине-лилово-зеленое инобытие живопись Константина Сомова – точное выражение этого «замедленного» времени, темпоральности-томления позднего символизма. Жест воли и симптом безволия, длительность и порыв взаимодействуют и противоборствуют в искусстве прото-авангардной эпохи. В том же 1899 году на страницах уже цитировавшегося «Мира искусства» Сергей Дягилев выступил почти с ренессансным апофеозом активной творческой личности как основы искусства, превосходящего природу: «Высшее проявление личности вне всякой зависимости от того, в какую форму оно выльется, есть красота в области человеческого творчества. Творец есть всеобъемлющее начало бесчисленных переживаемых нами художественных моментов, зачем же вне его искать объяснений основ всякого творчества? Не все ли нам равно, в чем черпает творец мотив для своего проявления, в какой внешней форме выкажется его мысль? Если он сочетается с природой, пусть он бесстрашно порабощает ее и выхватывает из нее все, что помогает ему выразить себя» 72 . Дягилевский манифест творца и активной творческой воли, превосходящей природу и свободно распоряжающейся ее формами, вполне соответствует духу конструирования нового стиля – модерна, формирующегося именно как проекция стилесозидающего волевого усилия. Любопытно, что в качестве иллюстраций к статье Дягилева в «Мире искусства», были помещены произведения Пюви де Шаванна, О. Бердслея и Э. Берн-Джонса, столь часто трактовавшиеся как безвольно-декадентские. Подразумевая связь между текстом и иллюстрациями, принципиальную для «Мира искусства», нельзя не увидеть в этих творениях вместе с Дягилевым апофеоз творческого акта, противостоящего инертности природы. Так в таинственной вымышленности и иллюзорности прерафаэлитов и символистов новый формирующийся стиль – модерн – находил обоснование своих художественно-жизнестроительных установок. 23 Призыв Фридриха Ницше к сверхнормальной «воле», звучащий рефреном в идее стиля как выражении воли к форме в теории Алоиза Ригля отражает волевые импульсы, преодолевающие томление времени прекрасной эпохи fin de siècle. Генрих Риккерт так описал переходно-сложный характер своей эпохи: «Творческое напряжение жизненных сил и святая пассивность тиши и переживания, отрицающего всякую деятельность, французский élan и русская мистика, сознательно бездеятельная в своей созерцательности, полный радостных надежд жизненный оптимизм, захваченный эволюцией сверхчеловечности, и сумрачное отчаяние в дальнейшем развитии западной культурной жизни, антинаучные пророчества о жизни и строгая научность взгляда на мир, метафизическая погруженность в потусторонность мировой сущности и до конца по сю сторону находящийся прагматический утилитаризм – все это сталкивается в той западновосточной структуре жизни, которая протягивается над Европой»73. Жизненный порыв и интуиция Анри Бергсона, сразу и непосредственно устанавливающие связь между смыслом и формой, что стало выражением нового сознания, противостоящего формам рефлексивно-замедленной культуры. Не случайно в период между началом ХХ века и первой мировой войной интуитивная философия Бергсона становится особенно популярной и образует, наряду с Ницше, доминирующий дискурс раннего авангарда 74. В движении к «сжатию» пространства-времени живописного символизма можно обнаружить аналогию эволюции архитектуры историзма от историко-культурного разнообразия к стилевой формуле пространственно-временного многообразия. Гоген как никто другой среди символистов и пост-импрессионистов приближается к стилевой формуле: «Язык его форм, устремленный к формализации и готовый принести в жертву «стиля» все, несет на себе отпечаток непрерывно текущей линии <…> «стиль», которому он все готов принести в жертву, формально не имеет ничего общего с «измами» и догмами западноевропейской художественной сцены, - на это не влияет его поклонение Энгру и Рафаэлю, - однако в центральной точке он соприкасается с духовной формулой стиля, принадлежащей Гете: а именно, в стремлении приникнуть сквозь изображение предметов к их сущности. Однако не следует упускать из виду антиэстетическую агрументацию Гогена: цель ее – освободить искусство от зависимости от школ, академий и посредственности вкуса, вновь придать ему величие первичного акта творения» 75 . Стилеобразование Гогена развивается в духе стилевых синтезов историзма, однако – и это крайне примечательно – его основой становится архаизм и новое понимание синтеза как акта первотворения. Во многом именно в силу этих факторов синтез Гогена – в отличие от синтеза истористов - завершается интегрированной емкой пластической формулой. 24 Воображение Гогена будоражит желание «стиля». Он стремится обнаружить «стиль» почти во всем. В Арле, где он сотрудничал с Ван-Гогом и где Гоген уже вскоре после прибытия затосковал по экзотическим «стильным» местам, он обнаруживает «стиль» в любой детали среды - даже в способах драпировки женских платьев: «Странно! – отмечает Гоген в письме Эмилю Бернару, - Винсента (Ван-Гога. – И.Д.) здешние места вдохновляют писать, как Домье, а я, напротив, нахожу тут смесь колорита Пюви (Пюви де Шаванна. – И.Д.) и японцев. Женщины здесь греческой красоты, прически их изящны. Шали падают складками, как в примитивах… В общем, это надо видеть. Во всяком случае это – источник прекрасного современного стиля (выделено мною. – И.Д.)»76 . Значение более поздних таитянских эпизодов для Гогена состояло именно в том, что здесь формула стиля уже как будто пре-существовала в самой экзотической среде – следовало только «снять» этот средовой стиль в живописи. Движение Гогена к стилю совпало с «определением» его как символиста, чему способствовала статья Альбера Орье с парадигматическим заголовком «Символизм в живописи: Поль Гоген» 77 . Как известно, эта статья неоднозначно отразилась на творческой биографии Гогена – с одной стороны, она несомненно содействовала его известности, с другой – стала одним из поводов ссоры и расставания с его единомышленником и другом Эмилем Бернаром, и наконец – Гоген и его творческий метод были целиком сведены к символистскому видению. Орье утверждал, что «для художника, вернее, для глаза того, кто задался целью выразить абсолютную сущность <…> предметы, как таковые, не имеют цены. Они могут существовать для него только как знаки. Они – буквы необъятного алфавита, составлять из которого слова способен только талант. Записать этими знаками свои мысли, стихи, ни на минуту не забывая, что знак, как бы ни был необходим, сам по себе не значит ничего, а идея значит все, - вот задача художника, чей глаз умеет различать ипостаси осязаемых предметов. Первым следствием этого принципа является… необходимость упрощенного написания знака (выделено мною. – И.Д.)». Таким образом, движение Гогена к стилистической формуле совпало с «теоретической грамматикой» символистов, стремящейся к минимализации экспрессивных форм означающего для более точного выявления означаемого, знака, идеи. Произведение искусства, замечает Орье, служит прежде всего выражению идеи (это – его единственная цель), и выражает эту идею посредством форм (в этом оно выступает как символическое творение). Далее Орье предпринимает еще один пассаж в духе неоплатоников, наделяющее искусство Гогена образом символистского совершенства: «Как редко встречаются люди, чью душу и плоть трогает возвышенное зрелище чистого Бытия и чистых Идей… Благодаря этому дару символы, иными словами идеи, появляются 25 из мрака, обретают душу, начинают жить уже не нашей временной и условной, но другой, ослепительной, единственно настоящей жизнью – жизнью искусства <…> Именно таким и является искусство, которое Поль Гоген… пытается воскресить в жалкой, загнившей стране, если только я правильно понимаю его творчество». Трудно представить себе что либо более противоположное друг другу, чем неясность символистского тайнотворчества Редона или Моро – и основанной на доминировании самой непосредственности видения живописи Сезанна. Впрочем, Сезанн и символисты – современники, и в творчестве Сезанна мы можем иногда встретить излюбленные символистские мотивы (например, поздний натюрморт с тремя черепами, 1902-1906, Художественный институт, Чикаго). Живопись есть истина, или живопись должна достигать чего-то истинного. Сезанн должен был бы стать главным героем «Искусства и истины» Ганса Зедльмайра. Как точно сформулировал В. Хофман, у Сезанна преходящее уловлено в длящемся: «в импрессионистическом сегменте натуры, перед нами предстает летучее мгновение, которое никогда не повторится, здесь, в картинах Сезанна – вечная, сохраняющая силу истина (выделено мною. – И. Д.), которая таится под поверхностью явлений; там – поверхностная игра прелестей цвета, здесь – универсальное знание, говорящее о законах природы, как раз та, по мнению Гёте, отличающая «стиль» опора на «глубочайшие твердыни познания, на само существо вещей, насколько нам дано его распознать в зримых и осязаемых образах <…> »78 Сезанн сам неоднократно говорил о том, что мы призваны сделать «видимым вечное» в природе. И все-таки искусство «классических» символистов, живопись Сёра, Гогена и Сезанна – уникальный культурный и живописный эксперимент по замедлению пространства-времени, созданию образов времени-вечности и времени-длительности. Бретонское и таитянские затворничества Гогена и отшельническое уединение Сезанна в Эксе – особенно значимые локусы этого «замедления». «Замедленное» время Сезанна и Гогена, вступающее в диалог с вечностью, стало художественным ответом новой скоростной темпоральности, активно введенной в культуру именно в последние десятилетия XIX века. Освоение «скорости» художественными практиками произойдет чуть позже в живописи, пластике и объектах футуристов и кубистов. Эпоха, предшествующая авангарду, стала для европейского и отечественного опыта осознанием специфической игры художественного пространства-времени. От пространственно-временных многообразий романтического историзма и раннего символизма, искусство и проектная культура развивались в направлении компрессии многообразия - к новой визуальной формуле стиля. При этом «стиль» здесь следует 26 понимать не столько как формальный синтез, но – и в смысле Гёте и Хофмана – как определенную энтелехию целого, и как формулу «пространства-времени». В большой исторической перспективе, вектор развития был интенционально обращен к континууму в понятии теории относительности и неэвклидовых геометрий 79 - идеалу сопряжения многомерного пространства-времени для следующей художественной эпохи80. 1 Kern S. The culture of time and space, 1880-1918. Cambridge (Mass.): Harvard Univ. Press, 1983 (2003). P. 1-9. 2 Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. М.: Наука, 1965. С. 165-173. Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М.: Художественная литература, 1986. С. 121291. 3 4 Бахтин М. М. Указ. соч. С. 121. Подобная «средовая», или ситуационная тактика интерпретации образа времени и пространства уже предлагалась нами ранее (подобнее см.: Духан И.Н. Категория изменчивости в интерпретации городской среды // Х Всесоюзная конференция по логике, методологии и философии науки. ─ Минск, 1990. ─ С. 170 – 172; Духан И.Н. Проблема времени в западноевропейском урбанизме второй половины XIX века // Диалог культур: Сб. ст. / Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Институт высших гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета; Под ред. И. Е. Даниловой. ─ М., 1994. ─ С.117 – 131; Doukhan I. Beyond the Holy City: Symbolic Intentions in the Avant - Garde Urban Utopia // The Real and Ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic Art / Ed. by B. Kuhnel. ─ Jerusalem, 1998. ─ P. 565 – 575; Духан И.Н. Теория искусств. Категория времени в архитектуре и изобразительном искусстве. Минск: издательство Белгосуниверситета, 2005). 5 6 Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990. 7 Михайлов А.В. Поэтика барокко. Москва, 1993. Рукопись. 8 Schmidt - Biggemann W. Topica Universalis: Eine Modellgeschichte humanistischer und barocker Wissenschaft. Hamburg, 1983. S. 28 - 31, etc. 9 Михайлов А.В. Указ. соч. С. 96 - 97. См: Barash J. A. Politiques de l’histoire : L’historicisme comme promesse et comme mythe. Paris : Presses Universitaires de France, 2004. 10 11 Iggers G. Historicism // Dictionary of the History of Ideas: In 4 vol. / Ed. by P. Wiener. New York, 1973. Vol. 2. Р.457. 12 Prantl C. Die gegenwärtigeAufgabe der Philosophie. Munich, 1852. 13 Iggers G. Op.cit. Р.460. Сравнительный анализ подходов Н. Гоголя и А. Иджковского см. в: Духан И.Н. Проблема времени в западноевропейском урбанизме второй половины XIX века // Диалог культур: Сб. ст. / Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Институт высших 14 27 гуманитарных исследований Российского государственного гуманитарного университета; Под ред. И. Е. Даниловой. М., 1994. С. 119 - 120. 15 Schorske C. Fin-de-siècle Vienna: Politics and Culture. New - York: Vintage Books, 1981. P. 24-115. 16 Ibid. P. 36. 17 Ibid. Op. cit. P. 43. 18 Ibid. P. 45. 19 Wagner-Rieger R. Wiens Architektur im 19 Jahrhundert. Wien, 1970. Ganz J. Teophil Hansens “hellenische” Bauten in Athen und Wien // Österreichische Zeitschift für Kunst und Denkmalpflege. 1972. Vol. XXVI. N 1/2. S. 79-81. 20 21 Wagner-Rieger R. Op.cit. S. 150-151. Зитте К. Художественные основы градостроительства / Пер. с нем. Я. Крастиньша. М.: Стройиздат, 1993. 22 23 Hofmann W. Das Irdische Paradies. München, 1960. S. 179-180. 24 Giedion S. Space, Time and Architecture. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1962. Р. 646. 25 О категории скорости: Kern S. Op.cit. P. 109-131. Беньямин В. Париж – столица XIX столетия (перевод В. Подороги) // Историко-философский ежегодник’90. М.: Наука, 1991. С 245. 26 27 Giedion S. Op. cit. Р. 672. См. характеристику развития Белфаста в XIX – начале ХХ века в кн.: Brett C. E. B. Buildings of Belfast 1700 – 1914. Belfast: Friar’s Bush Press, 1985. Р. 26-77. 28 29 Larmour P. Belfast: An Illustrated Architectural Guide. Belfast: Friar’s Bush Press, 1987. Р. 18. Об архитектурно-поэтической концепции Джона Раскина и ее воздействии на архитектуру викторианской Англии см.: Раппапорт А. Г. «Семь светочей архитектуры» Джона Раскина: вчера и завтра // Вопросы теории ахитектуры. Архитектурно-теоретическая мысль Нового и Новейшего времени / Под ред. И. А. Азизян. - М.:КомКнига, 2006. С. 109-148; Crook J. M. Op. cit. Р. 69-98. 30 31 Larmour P. Op. cit. Р. 26. 32 Evans D. and Larmour P. Queen’s: An Architectural Legacy. Belfast: The Queen’s University, 1995. Brett C. E. B. Op. cit. Р. 65-67. См. дискуссии по проблемам стиля в российской архитектурной и общественно-литературной периодике: Кириченко Е. И. Архитектурные теории XIX века в России. М.: Искусство, 1986; Кириченко Е. И. Русский стиль. М.: ГАЛАРТ, 1997. 33 34 35 The Builder. Vol. IX, 1851. P. 223. Donaldson T. L. On a New Style in Architecture (1847). Цит. по: The Dilemma of Style: Architectural Ideas from the Picturesque to the Post-Modern. – London: John Murray, 1987. P. 100. О проблемах 36 28 стиля и истории у Дональдсона и его последователей в Университетском колледже в Лондоне см.: Crook J. Mordaunt. Architecture and History // Architectural History. 1984. Vol. XXVII. P. 555 – 578. 37 Crook J. M. The Dilemma of Style. P. 98-133. 38 Цит. по: Crook J. M. Op.cit. P. 100. 39 The Builder. Vol. XI, 1861. P. 430. Соколов М. Н. Границы иконологии и единство искусствоведческого метода // Современное искусствознание Запада о классическом искусстве XIII – XVII вв. / Под ред. А. Д. Чегодаева. М.: Наука, 1977. С. 229. 40 Riegl A. Gesammelte Aufsätze. Augsburg, Wien, 1929. О концепции Kunstwollen Ригля в связи с проблемой стиля: Ferretti S. Cassirer, Panofsky, and Warburg. New Haven: Yale University Press, 1989. Р. 177-197; Iversen M. Alois Riegl: art history and theory. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1993. 41 42 Panofsky E. Der Begriffe des Kunstwollens // Panofsky E. Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft / Hrsg. von Hariolf Oberer und Egon Verheyen. Berlin: Hessling, 1974. S. 29-43. 43 Riegl A. Gesammelte Aufsätze. Augsburg, Wien, 1929. S. 97. 44 B. C. O architekturze Poznańskiej // Tygodnik illustrowany. 1903. Nr 21. S. 414-415. 45 Przesmycki Z. Pro Arte. Warszawa: Druk. Orgelbanda, 1914.S. 283-285. Такова концепция известного исследователя культуры символизма Ганса Хофштэттера (Hofstätter H. H. Idealismus und Symbolismus. Wien – München, A. Schroll, 1972). 46 Ревалд Д. Постимпрессионизм /Вступ. ст. и общ. ред. М. А. Бессонова. М.: Республика, 1996. С. 122-123. 47 48 Chassé Charles. Le Mouvement symboliste dans l'art du XIXe siècle. Paris : Floury, 1947. P.42. 49 Ревалд Д. Указ. соч. С. 122. 50 Там же. С. 122. 51 Gibson M. The Symbolists. N.-Y. Harry Abrams, 1988. Р. 12, 16. Пастернак Б. Л. Поль-Мари Верлен // Зарубежная поэзия в переводах Б. Л. Пастернака. М.: Радуга, 1990. С. 543. 52 53 Lévinas E. La Réalité et son ombre // Les Temps Modernes. 1948. N 38 (Novembre). P. 771-789. О концепции художественного времени Эмманюэля Левинаса см.: Духан И. Н. Эммануэль Левинас и тотальность искусства // Вестник Еврейского университета (Иерусалим – Москва), 2004, 9 (27). С. 237-251; Doukhan I. The Ethics of Representation and Modern Art // Ethics and Literature. Ed. by D. Gelhard. Cambridge (Mass.): Galda + Wilch Verlag, 2001. Pp. 92-107. 54 См. анализ мотивов и иконографии Моро в: Hahlbrock P. Gustave Moreau oder Das Unbehagen in der Natur. Berlin: Rembrandt Verlag, 1976. 55 56 Rosenblum R. and Janson H. W. Art of the Nineteenth Century. London: Thames and Hudson, 1984. P. 423. 29 57 Ревалд Д. Указ. соч. С. 141. 58 Кочик О. Я. Живописная система В. Э. Борисова-Мусатова. М.: Искусство, 1980. С. 137. Алленов М. М. Изображение и образ сна в русской живописи. В. Борисов-Мусатов. «Водоем» // Сон – семиотическое окно / Под ред. И. Е. Даниловой. М., 1993. С. 54. 59 Фрейд З. О сновидении // Фрейд З. Психология бессознательного. М.: Просвещение, 1990. С. 321, 328, 333. 60 61 Маковский С. К. Силуэты русских художников (1922). М.: Республика, 1999. С. 67. 62 Там же. С. 68,70. Современную трактовку категории стиля см. в классической работе на эту тему Меира Шапиро (Schapiro М. Style // Theory and Philosophy of Art: Style, Artist, and Society. New York: George Braziller, 1995. Рp. 51-102), а также в новейших дискуссиях по проблеме стиля (Gilmore J. The Life of a Style: Beginnings and Endings in the Narrative History of Art. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2000; Neer R. Connoisseurship and the Stakes of Style // Critical Inquiry Vol. 32, N1, Fall 2005. P. 1-26). 63 64 Цит. по: Ревалд Д. Указ. соч. С. 70. 65 Там же. С. 74. 66 Там же. С. 91. Об эволюции живописной системы и «науки живописи» Сёра, ее отношении к научным и эстетическим теориям XIX века: W.I. Homer. Seurat and the Science of Painting. Cambridge, 1978 и Lee A. Seurat and Science // Art History. 1987. N 2. Pp. 203-226. 67 Sutter David. Les Phénomènes de la vision // L’Art 1880. Tome I. Pp. 74-76, 124-126, 147-149, 195197, 216-220, 268-269. 68 69 Ibid. P. 74. 70 Ibid. Pp. 268-269. 71 Наш мнимый упадок // Мир искусства. 1899. Т. 1. С. 3. 72 Дягилев С. Основа художественной оценки // Мир искусства. 1899. Т.1. с. 50. Риккерт Г. Философия жизни: Изложение и критика молодых течений философии нашего времени/ Пер. Е. С. Берловича, И. Я. Колубовского. Пб.: Academia, 1922.. С. 35. 73 Хотя влияние Анри Бергсона на культуру первой трети ХХ века неоднократно отмечалось, Марк Антлифф впервые доказал принципиальное и многогранное воздействие мышления и личности Бергсона на становление авангарда (Antliff M. Inventing Bergson: Cultural Politics and Parisian Avant-Garde. Princeton University Press, 1993). 74 75 Хофман В. Указ. соч. С.212-213. Письмо Поля Гогена к Эмилю Бернару (Арль, ноябрь 1888) // Гоген П. Письма. Ноа-Ноа. Из книги «Прежде и потом». / Пер. под ред. А. С. Кантор-Гуковской. Л.: Искусство, 1972. С. 51. 76 30 77 Aurier A. Le Symbolisme en peinture : Paul Gaugin // Mercure de France, 2, N15 (mars 1891). P. 155165. 78 Хофман В. Указ. соч. С.239. Здесь следовало бы кратко оговориться: воздействие теорий Николая Лобачевского - Георга Фридриха Бернхарда Римана, Жюля Пуанкаре, Альберта Эйнштейна, - на искусство авангарда не было прямолинейным и однозначным, и в целом связано с метафизикой расширения физического пространства-времени в «четвертое измерение» за пределами чистой рациональности. Глубина и границы рецепции новых идей неэвклидовых геометрий и относительности в авангарде остается предметом научного обсуждения (этим проблемам посвящена фундаментальная работа американской исследовательницы Л. Хендерсон (Henderson L. The Fourth Dimension and NonEuclidean Geometry in Modern Art. New Jersey: Princeton University Press, 1983.). При общем поверхностном и «поэтическом» понимании естественнонаучных и философских проблем художниками авангарда, некоторые из них сумели осознать эти новые сложные проблемы достаточно глубоко – в частности, Эль Лисицкий, блестяще и обстоятельно проанализировавший перспективы расширения художественного опыта в контексте эволюции моделей воображаемого пространства-времени в новейших концепциях математики и теории относительности (El Lissitzky. Kunst und Pangeometrie // Europa-Almanach. Potsdam, 1925. P. 103-113, интерпретацию «Искусства и пангеометрии» Лисицкого см.: Духан И. Н. Эль Лисицкий и монтаж времени // PRO-дизайн (Минск). 2002, 4. С. С. 33-37. Dukhan I. Jewishness, Constructivism, Russian-German Expressionism: Concept and Style of El Lissitzky's Works in 1920s Berlin // Staatsbibliotek zu Berlin, Neuerwerbungen der Ostasienabteilung, 2005 (Sonderheft 10). S. 53-69; Dukhan I. El Lissitzky – Jewish as Universal: From Jewish Style to Pangeometry // Ars Judaica: The Bar-Ilan Journal of Jewish Art. 2007. Vol. 3. P. 53-72). 79 Автор искренне признателен И. А. Азизян, Дж. Барашу и А. Л. Ренанскому за обсуждение идей настоящей работы. 80 31