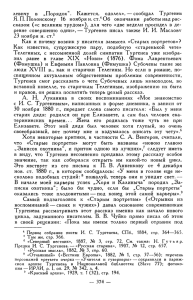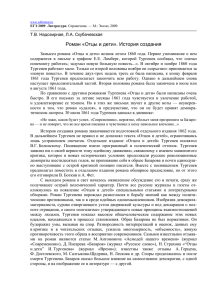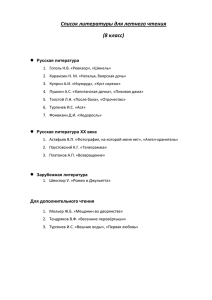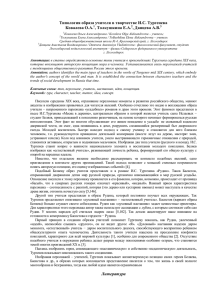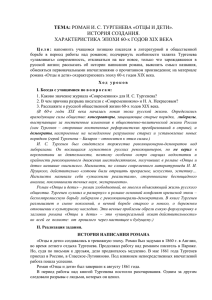"Лесной царь" - драма с несколькими действующими лицами
advertisement
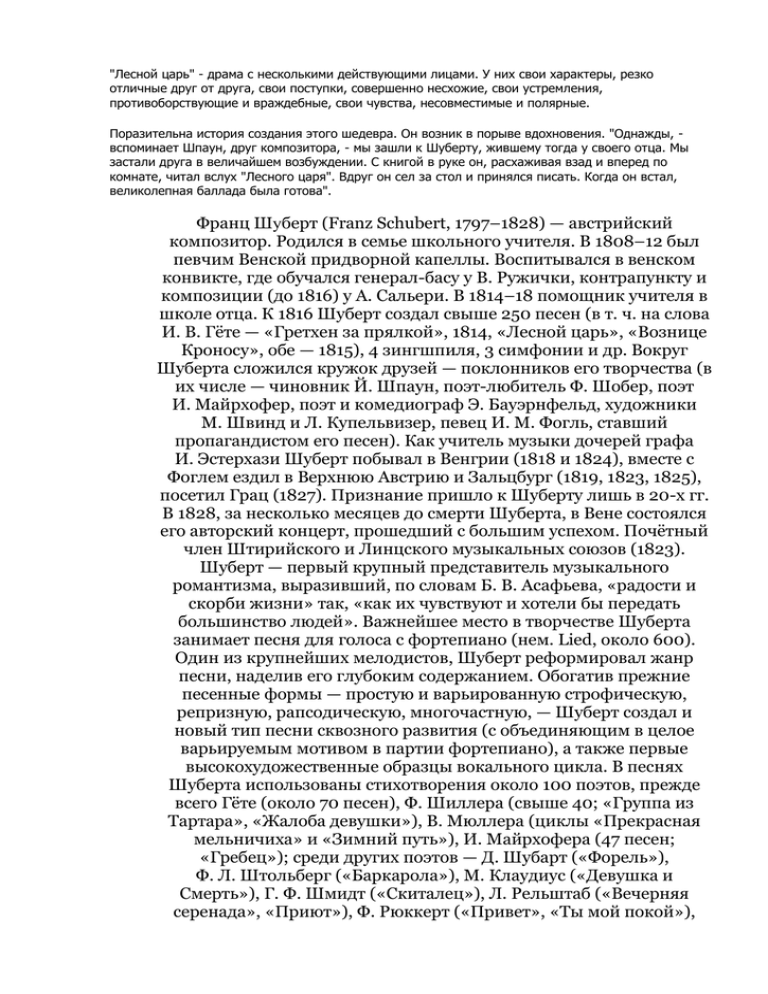
"Лесной царь" - драма с несколькими действующими лицами. У них свои характеры, резко отличные друг от друга, свои поступки, совершенно несхожие, свои устремления, противоборствующие и враждебные, свои чувства, несовместимые и полярные. Поразительна история создания этого шедевра. Он возник в порыве вдохновения. "Однажды, вспоминает Шпаун, друг композитора, - мы зашли к Шуберту, жившему тогда у своего отца. Мы застали друга в величайшем возбуждении. С книгой в руке он, расхаживая взад и вперед по комнате, читал вслух "Лесного царя". Вдруг он сел за стол и принялся писать. Когда он встал, великолепная баллада была готова". Франц Шуберт (Franz Schubert, 1797–1828) — австрийский композитор. Родился в семье школьного учителя. В 1808–12 был певчим Венской придворной капеллы. Воспитывался в венском конвикте, где обучался генерал-басу у В. Ружички, контрапункту и композиции (до 1816) у А. Сальери. В 1814–18 помощник учителя в школе отца. К 1816 Шуберт создал свыше 250 песен (в т. ч. на слова И. В. Гёте — «Гретхен за прялкой», 1814, «Лесной царь», «Вознице Кроносу», обе — 1815), 4 зингшпиля, 3 симфонии и др. Вокруг Шуберта сложился кружок друзей — поклонников его творчества (в их числе — чиновник Й. Шпаун, поэт-любитель Ф. Шобер, поэт И. Майрхофер, поэт и комедиограф Э. Бауэрнфельд, художники М. Швинд и Л. Купельвизер, певец И. М. Фогль, ставший пропагандистом его песен). Как учитель музыки дочерей графа И. Эстерхази Шуберт побывал в Венгрии (1818 и 1824), вместе с Фоглем ездил в Верхнюю Австрию и Зальцбург (1819, 1823, 1825), посетил Грац (1827). Признание пришло к Шуберту лишь в 20-х гг. В 1828, за несколько месяцев до смерти Шуберта, в Вене состоялся его авторский концерт, прошедший с большим успехом. Почётный член Штирийского и Линцского музыкальных союзов (1823). Шуберт — первый крупный представитель музыкального романтизма, выразивший, по словам Б. В. Асафьева, «радости и скорби жизни» так, «как их чувствуют и хотели бы передать большинство людей». Важнейшее место в творчестве Шуберта занимает песня для голоса с фортепиано (нем. Lied, около 600). Один из крупнейших мелодистов, Шуберт реформировал жанр песни, наделив его глубоким содержанием. Обогатив прежние песенные формы — простую и варьированную строфическую, репризную, рапсодическую, многочастную, — Шуберт создал и новый тип песни сквозного развития (с объединяющим в целое варьируемым мотивом в партии фортепиано), а также первые высокохудожественные образцы вокального цикла. В песнях Шуберта использованы стихотворения около 100 поэтов, прежде всего Гёте (около 70 песен), Ф. Шиллера (свыше 40; «Группа из Тартара», «Жалоба девушки»), В. Мюллера (циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь»), И. Майрхофера (47 песен; «Гребец»); среди других поэтов — Д. Шубарт («Форель»), Ф. Л. Штольберг («Баркарола»), М. Клаудиус («Девушка и Смерть»), Г. Ф. Шмидт («Скиталец»), Л. Рельштаб («Вечерняя серенада», «Приют»), Ф. Рюккерт («Привет», «Ты мой покой»), В. Шекспир («Утренняя серенада»), В. Скотт («Ave Maria»). Шуберту принадлежат квартеты для мужских и женских голосов, 6 месс, кантаты, оратории и др. Из музыки для музыкального театра известность приобрели лишь увертюра и танцы к пьесе «Розамунда, княгиня Кипрская» В. Шези (1823). В инструментальной музыке Шуберта, основанной на традициях композиторов венской классической школы, большое значение приобрёл тематизм песенного типа. Композитор стремился сохранить напевную лирическую тему как целое, давая ей новое освещение с помощью тональной перекраски, тембрового и фактурного варьирования. Из 9 симфоний Шуберта 6 ранних (1813–18) ещё близки сочинениям венских классиков, хотя и отличаются романтической свежестью, непосредственностью. Вершинными образцами романтического симфонизма являются лирико-драматическая 2-частная «Неоконченная симфония» (1822) и величественная героико-эпическая «Большая» симфония C-dur (1825–28). Из оркестровых увертюр Шуберта наиболее популярны две в «итальянском стиле» (1817). Шуберт — автор глубоких и значительных по содержанию камерноинструментальных ансамблей (один из лучших — фортепианный квинтет «Форель»), ряд из которых написан для домашнего музицирования. Фортепианная музыка — важная область творчества Шуберта. Испытав влияние Л. Бетховена, Шуберт заложил традицию свободной романтической трактовки жанра фортепианной сонаты. Фортепианная фантазия «Скиталец» также предвосхищает «поэмные» формы романтиков (в частности, структуру некоторых симфонических поэм Ф. Листа). Экспромты и музыкальные моменты Шуберта — первые романтические миниатюры, близкие сочинениям Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа. Фортепианные вальсы, лендлеры, «немецкие танцы», экосезы, галопы и др. отразили стремление композитора к поэтизации танцевальных жанров. К той же традиции домашнего музицирования восходят многие сочинения Шуберта для фортепиано в 4 руки, в т. ч. «Венгерский дивертисмент» (1824), фантазия (1828), вариации, полонезы, марши. Творчество Шуберта связано с австрийским народным искусством, с бытовой музыкой Вены, хотя он редко использовал в сочинениях подлинные народно-песенные темы. Композитор претворил также и особенности музыкального фольклора живших на территории Австрийской империи венгров, славян. Большое значение в его музыке имеют колорит, красочность, достигаемые с помощью оркестровки, обогащения гармонии побочными трезвучиями, сближения одноимённых мажора и минора, широкого применения отклонений и модуляций, использования вариационного развития. При жизни Шуберта получили известность главным образом его песни. Многие крупные инструментальные сочинения были исполнены лишь через десятилетия после его смерти («Большая» симфония прозвучала в 1839, под управлением Ф. Мендельсона; «Неоконченная симфония» — в 1865). Сочинения: О п ер ы — Альфонсо и Эстрелла (1822; постановка 1854, Веймар), Фьерабрас (1823; постановка 1897, Карлсруэ), 3 незавершённые, в т. ч. Граф фон Гляйхен, и др.; з и нг ш п и л и (7), в т. ч. Клаудина фон Вилла Белла (на текст Гёте, 1815, сохранился первый из 3 актов; постановка 1978, Вена), Братья-близнецы (1820, Вена), Заговорщицы, или Домашняя война (1823; постановка 1861, Франкфурт-на-Майне); му зы к а к пь е с а м — Волшебная арфа (1820, Вена), Розамунда, княгиня Кипрская (1823, там же); д л я с о л и с т о в , х ор а и о р к е с тр а — 7 месс (1814–28), Немецкий реквием (1818), магнификат (1815), оффертории и другие духовые сочинения, оратории, кантаты, в т. ч. Победная песнь Мирьям (1828); д л я ор к е ст р а — симфонии (1813; 1815; 1815; Трагическая, 1816; 1816; Малая C-dur, 1818; 1821, незавершённая; Неоконченная, 1822; Большая C-dur, 1828), 8 увертюр; к а ме р н о и н с т р ум ен т ал ь н ые а н с ам б л и — 4 сонаты (1816–17), фантазия (1827) для скрипки и фортепиано; соната для арпеджионе и фортепиано (1824), 2 фортепианных трио (1827, 1828?), 2 струнных трио (1816, 1817), 14 или 16 струнных квартетов (1811–26), фортепианный квинтет Форель (1819?), струнный квинтет (1828), октет для струнных и духовых (1824) и др.; д л я ф ор т еп и а н о в 2 р у к и — 23 сонаты (в т. ч. 6 незавершённых; 1815–28), фантазия (Скиталец, 1822, и др.), 11 экспромтов (1827–28), 6 музыкальных моментов (1823–28), рондо, вариации и другие пьесы, свыше 400 танцев (вальсы, лендлеры, немецкие танцы, менуэты, экосезы, галопы и др.; 1812–27); д ля ф ор т е пи а н о в 4 р у к и — сонаты, увертюры, фантазии, Венгерский дивертисмент (1824), рондо, вариации, полонезы, марши и др.; вок а л ь ны е ан с а м бл и для мужских, женских голосов и смешанных составов с сопровождением и без сопровождения; п е с н и д ля г оло с а с ф о р те п и а но , в т. ч. циклы Прекрасная мельничиха (1823) и Зимний путь (1827), сборник Лебединая песня (1828). В формировании русской национальной культуры все более активно участвует интеллигенция, первоначально составлявшаяся из образованных людей двух привилегированных сословий — духовенства и дворян. В первой половине XVIII в. появляются интеллигенты-разночинцы, а во второй половине этого века выделяется особая социальная группа — крепостная интеллигенция (актеры, живописцы, архитекторы, музыканты, поэты). Если в XVIII — первой половине XIX в. ведущая роль в культуре принадлежит дворянской интеллигенции, то во второй половине XIX в. — разночинцам. В состав разночинной интеллигенции (особенно после отмены крепостного права) вливаются выходцы из крестьян. В целом к разночинцам относились образованные представители либеральной и демократической буржуазии, которые принадлежали не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству и крестьянству. Это объясняет такую важную особенность культуры России XIX в., как начавшийся процесс ее демократизации. Он проявляется и том. что деятелями культуры постепенно становятся не только представители привилегированных сословий, хотя они и продолжают занимать ведущее место. Увеличивается число писателей, поэтов, художников, композиторов, ученых из непривилегированных сословий, в частности из крепостного крестьянства, но преимущественно из среды разночинцев. Русская интеллигенция и немецкие университеты на рубеже веков Р.Е. Гергило Философия образования. Сборни материалов конференции. Сери “Symposium”, выпуск 23. СПб.: Санкт Петербургское философско общество, 2002. С.431-439 [431] Традиция обучения российских студентов в немецких университетах берет начало с петровских времен. В XVIII веке — это, как правило, студенты, изучающие естественные и технические науки. Одним из первых был М. Ломоносов, слушавший лекци Х. Вольфа. Но не только русские студенты и ученые останавливались в Германии. Писатели и публицисты посещали Германию. Д. Фонвизин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский и И.А. Тургенев часто останавливались в немецких пансионах. В своем романе «Дым Тургенев воздвиг памятник своим землякам, проживавшим в курортном городке Баден-Бадене. В период после окончания Крымской войны и вплоть до начала первой мировой войны Германия переживала большой приток выходцев из России, желающих получить образование в ее университетах. С каждым годом возрастало их число, чему не в последнюю очередь способствовало правительство Александра II. Знаменитый хирур и организатор науки Н. Пирогов стоял у истоков этого массового движения. Вернувшись после своей первой служебной поездки 1865 г. в Германию по поручению министра народного [432] образования он рассказал о те немецких ученых, которы курировали русских студентов, просил русское правительство и поощрить. Среди них были Т. Момзен, Л. Фон Ранке К. Вайерштрас, Р. Вирхов Р. Бунзен, Г. Гельмгольц Р. Иеринг. Представляетс трудным перечислить все российских студентов обучавшихся в немецки университетах, но следует все ж назвать хотя бы некоторых составивших впоследствии слав российской науки: И.М. Сеченов А.П. Бородин, С.В. Ковалевская Д.И. Менделеев, В.Ф. Лугинин В.О. Ковалевский, Н.Н. Миклухо Маклай, К.А. Тимирязев Н.С. Таганцев, А.П. Семенов Тянь-Шанский, Е.И. Шпитальски и многие другие. В конце 19 и начале 20 вв. наблюдался усиленный приток русских студентов в немецкие университеты. Причины были разные. Большинство ехало не слушать знаменитых немецких философов, юристов и экономистов, а изучать медицину естественные и технические науки. В Высших технических школах Дармштадта и Карлсруэ, в горной академии Фрайбурга, в Высших коммерческих школах Берлина, Кельна и Маннгейма, а также и в известных университетах Германии российские студенты представляли большую часть иностранного контингента слушателей. Даже в небольшом и находящемся вдали от больших научных центров Фрейбургском университете, в летний семестр 1910 г. насчитывалось 143 иностранных студента, из них 67 были выходцы из России, что намного превышало число австрийских и швейцарских корпорантов. Они по-разному воспринимали то, что им предлагала немецкая академическая жизнь, но ехали в Германию как паломники, желающие соприкосновения свои религиозно настроенных душ с рационализмом немецкого неокантианства, восприятие которого в России на рубеже веко отмечалось многими историками русской философской и религиозной мысли. «Психология философов, — пишет Г.В. Флоровский в «Путях русского богословия», — становится у нас в те годы религиозной. И даже русское неокантианство имело тогда своеобразный смысл. Гносеологическая критика оказывается как бы методом духовной жизни — и именно методом жизни, а не только мысли. И такие книги. Как «Предмет знания» Г. Риккерта ил «Логика» Г. Когена, не читались ли тогда именно в качестве практических руководств для личных упражнений, точно аскетические трактаты?» [1] [433] Немало русских студенто вынуждены были получат образование за границей, ввид того, что по разным причинам н могли обучаться в отечественны университетах. После получени образования они возвращалис на родину, чтобы имет возможность работать п избранной профессии. Больша их часть в совершенстве владел немецким языком и были хорош знакомы с немецкой культурой тем не менее, находясь н чужбине, они старалис держаться вместе. В Гейдельберге одну из возможностей совместных встреч и общения предоставляла открытая в 1862 г. академическая читальня, названная в честь куратора студентов в этом городе Пироговской. Она являлась политическим центром российского студенчества. Открытие этой читальни послужило примером создания подобных читален и клубов в других университетских городах, где жили российские корпоранты Они представляли собой часть родины, места, где проводились литературные вечера и политические дискуссии. В этих клубах и библиотеках можно был ознакомиться с не только с легальной, но и с нелегальной литературой. В распоряжении была социал-демократическая, социал-революционная литература, а также газета либеральной оппозиции «Освобождение», выпускаемая П. Струве вначале под Штутгартом, а затем в Париже. К 1913 году читальни, объединения и клубы были открыты в двадцати немецких университетских городах. В Кетене и Гейдельберге таких мест встречи было по два, в Берлине, Фрайбурге и Фрайберге по три, в Дрездене пять, а в Мюнхене их число достигло шести. Общественная жизнь в этих клубах и читальнях отражала национальные и политические разногласия, существующие на родине. Так же как и в тогдашней России здесь существовали социал-демократические, либеральные и консервативные организации. Большинство студентов симпатизировало социал-демократии, а нередко и большевистскому ее крылу. Смысл обучения многих политически активных студентов, как отмечает Ф. Степун, заключался не столько в обучении сколько в подготовке революции [2]. Стоит заметить, что насколько изучены зарубежные следы большевистской социалдемократии за границей, настолько мало внимания еще уделено зарубежной деятельности русской либеральной интеллигенции. Тот, кто прибыва в Германию для получения образования, так или иначе, [434] сталкивался и с русски революционным движением Порой трудно было разделит обучение от политическог ангажемента. Это все находило выражение в мероприятиях, проводимых в читальнях, где собирались представители самых различных взглядов и мировоззрений. Все эт не оставалось без внимания немецких властей. Полиция вела, по возможности, слежку за особо активными членами политических группировок. В 1903 г. ею, совместно с русской охранкой, было организовано изъятие подготовленной к отправке в Россию нелегальной литературы. В первую очередь речь шла об «Искре», «Заре» и либеральном «Освобождении», которые были отпечатаны на средства немецкой социал-демократии в Германии. После таких обысков очень трудн стало просить разрешение властей на открытие студенческих читален. Так, даже в либерально настроенном Бадене власти не разрешили открыть академическую читальню, считая что такого рода заведения представляют собой рассадник революции. Одним из инициаторов открытия читальни в Бадене был Моисей Рубинштейн, слушавший лекции Г. Риккерта, а затем защитивший под его руководством диссертацию. Поданное через три года прошение на открытие читальни было снова отклонено и только когда студенты, среди которых был еще один ученик Риккерта Сергей Рубинштейн, обратились к находившемуся в то время в Германии А. Витте, двоюродному брату С. Витте, и заручились поддержкой профессоров Г. Шульце-Геверница и Ф. фон Химштедта, они смогли открыть читальню. Печатные издания, поступающие в распоряжение этих читален стали подвергаться цензуре. Немало русских студентов, окончив немецкие университеты, защищали там же диссертации. Так Меккой будущих российских юристов и философов был Гейдельбергский университет, где была сильна школа юриспруденции, во главе с профессором Г. Еллинеком и философская школа неокантианства, которую возглавлял В. Виндельбанд, а после его смерти Г. Риккерт. На семинарах Еллинека русские студенты готовили себя к работе над созданием демократической конституции России. В 1904 г. С. Сватиков представил к защите свою диссертацию «Наброски изменения русской конституции» а в 1908 г. М. Калантаров — «Современная конституция российской империи». В 1912 г. н 50-летнем юбилее Гейдельбергской русской читальни выступил известный профессор-юрист Г. Радбрух, пользовавшийся большой популярностью у русских студентов. [435] Стремительное развитие науки, техники и культуры Германии на рубеже XIX и XX веков делало ее привлекательной для интеллектуальной элиты России. Высокого уровня достигло развитие естественных и технических наук. В восьмидесятых годах XIX века закончил Берлинский политехнический институт, а затем некоторое время там преподавал М. Гершензон. В летнем семестре 1906 г. в Дрезденской Высшей техническо школе слушал лекции по электротехнике и машиностроению будущий автор «Гиперболоида инженера Гарина» А. Толстой. В 1901 г. во Фрайбургском университете защитил диссертацию по зоологи А. Петрункевич, а затем, после хабилитации, он был приглашен читать лекции в Гарвардский университет. Подобную карьеру сделал Сергей Бубнов, защитивший в 1912 г. во Фрайбурге диссертацию по геологии. Его брат, защитивший в 1908 г. у Виндедьбанда диссертацию на тему «О сущност и предпосылках индукции», остался преподавать в Гейдельбергском университете. Не осталась в стороне и живопись Незадолго до начала первой мировой войны в Германию прибыл В. Кандинский. Со временем он создал в Мюнхене свою художественную школу. Молодых русских философов привлекала немецкая югозападная школа неокантианства и почти все из защитивших в университетах Гейдельберга, Марбурга и Фрейбурга диссертации посвятили их разработке проблем немецкой философии. В 1909 г. С. Гессен защитил под руководством Г. Риккерта диссертацию на тему «Об индивидуальной каузальности». Только диссертация Ф. Степуна была посвящена творчеству русского философа Вл. Соловьева. Молода научная поросль из России была привлечена к научной и издательской работе. Сергей Живаго, состоявший в тесном научном контакте с М. Вебером, В. Зомбартом и Э. Яффе, издававшими «Архив социальной науки и социальной политики», рецензировал набросок конституции союза освобождения побудивший М. Вебера написать первую большую работу о русско революции 1905/06 гг. [3]. Бубнов, Гессен и Степун были не единственными, кто защитил диссертации по окончании университетов. В 1906 г. у Риккерта успешно защитился иркутчанин М. Рубинштейн. Тема его диссертации была: «Логические основоположения гегелевской системы и конец истории». Одессит Сергей Рубинштейн в 1909 и 1910 гг. слушал лекции по философии во Фрайбургском университете. [436] Затем он перевелся Марбургский университет и там, 1913 г. защитил у Когена Наторпа диссертацию по тем «Изучение проблемы метода» Очарованы достижениям немецкой философской мысл были не только е профессионалы, но представители изящно словесности. Борис Пастерна слушал в 1912 г. в Марбургско университете лекции Г. Когена П. Наторпа. Два аспект Марбургской школы особенн очаровали его — эт независимость ее философско системы и ее историзм. О свое пребывании в этом центр немецкого неокантианства о пишет в «Опальных повестях» Кроме Пастернака лекци марбуржцев слушали в сво время Н. Трубецкой С. Трубецкой, Д. Самарин Б. Вышеславцев. В Гейдельберг лекции филолога Ф. Неймана историка искусств Э. Тоде германиста В. Брауна философов В. Виндельбанда Э. Ласка слушал в 1909/10 года О. Мандельштам. В 1904 год лекции Виндельбанда слуша Н. Бердяев. В конце 90-х годо XIX в. подолгу останавливался Германии тогда еще марксис С. Булгаков. Он участвовал оживленных дискуссиях К. Каутским, А. Бебелем К. Либкхнехтом. Позднее, отойд от марксизма, он налади переписку с М. Вебером, которой обсуждалис политэкономические проблемы. этим знаменитым немецки ученым был в контакте Б. Кистяковский, тож получивший образование Германии и помогавши М. Веберу в его исследования российского политическог ландшафта того времени. Ещ одним из привлекательны очагов философской мысли бы Берлинский университет, котором в конце XIX столети преподавали В. Дильтей Г. Зиммель. Лекции последнего 1899 году слушал С. Франк Следует обратить внимание н то, что все авторы знамениты «Вех» или обучались в Германии или определенное врем проживали в этой стране. Ест все основания полагать, чт непосредственное соприкосновение с немецко философией все же повлияло н последующее изменение и теоретических мировоззренческих взглядов, те более что некоторым из ни выпало на долю вновь оказатьс в Германии, но уже в качеств беженцев. Цель основанных Русским Зарубежьем высших учебных заведений состояла в подготовке учащихся к активной деятельности на благо общества в освобожденной России. Эта цель предполагала также продолжение творческой деятельности, развития русской культуры и науки, прерванной революцией и гражданской войной. Ученыеэмигранты понимали, что их обязанностью было развивать достижения русского Серебряног века, который был резко оборван [437] начавшейся мировой войной революцией. Что бы н происходило в Советской России интеллигенция в эмиграци видела другую важную задачу том, чтобы перебросить мос через пропасть, разделившу прошлые традиции России современные достижения Запада Высшие учебные заведени Русского Зарубежья, ка занимавшиеся собственн обучением, так ориентированные больше н научно-исследовательскую работу, ставили перед собо двуединую цель: во-первых обеспечить профессиональну подготовку молодого поколени для успешной деятельности России, куда им предстоял вернуться, или в стране, где он нашли убежище. Во-вторых помочь зрелым ученым, деятеля искусства и мыслителям оказавшимся в эмиграции продолжить творческую работ на благо русской культуры познакомить местное общество вкладом России в различны области науки и культуры Результатом общих усили русской эмиграции сочувствующих им местны кругов было создание первог русского высшего научно учебного заведения в Германии. 17 февраля 1923 г. в Берлине был открыт Русский научный институт. В его создании принимали участие как русская академическая группа, созданная при поддержке ИМКА, так и их немецкие коллеги. В рамках этого института предполагалось организовать чтение курсов лекций для молодых беженцев, в том числе и военнопленных, чтобы продолжить их образование. Немецкие власти были позитивно настроены по отношению к этому предприятию и благодаря содействию таких влиятельных лиц, как профессор Отто Хетш, который имел связи в министерстве иностранных дел, при участии Берлинского университета и других высших учебных заведений, например Технического института, Русскому институту было выделено помещение и оказана материальная поддержка. Пожертвования Русскому институту рассматривались как «кредиты» немецких университетов, а выдаваемые им свидетельства признавались при поступлении в немецкие высшие учебные заведения. В письме министру культуры Германии ректор института проф. В.И. Ясинский писал, что порядка «…500 русских студентов к этому времени получили образование в берлинских высших школах. Но после окончания этих заведений они плохо подготовлены в вопросах русской культуры и особых условий российской действительности» [4]. К этому контингенту следует прибавить порядка 1500 студентов, [438] вынужденных прервать сво образование ввиду начавшейс первой мировой войны последующей за ней революции «уже давно безуспешно искал возможность продолжить и образование» [5]. С создание института они получили таку возможность. Институт включал себя три факультета: духовно культуры, которым руководи Н.А. Бердяев, юридический, по руководством И.А. Ильина экономики, во главе которог стоял С.Н. Прокопович. Списо профессорскопреподавательского состав включал в себя некоторы известные имена: Н.А. Бердяев В.Д. Брукус, А.А. Боголепов И.А. Ильин, А.А. Кизеветтер А.Я. Каминка, Л.П. Карсавин С.Н. Прокопович, П.Б. Струве М.А. Таубе, С.Л. Франк В.И. Ясинский. Летний семестр 1923 г. был самым успешным за всю историю существования института. Особы интерес у студентов и слушателей по понятным причинам, вызывала историко-культурная проблематика. Это было одной из причин большого численного состава факультета духовной культуры. Самым интересным спецкурсом был «Россия и Запад» Его создатели поставили перед собой задачу осветить связь русской и западноевропейской культур. Читали этот большой спецкурс Кизеветтер, Ильин, Айхенвальд, Карсавин, Франк и Степун. Общая численность студентов и слушателей факультета составляла 262 человека. На лекции собиралось до 200 слушателей и это при том, что оплата обучения была достаточно высока. Плата за семестр для студента составляла 5000 рейхсмарок, для вольного слушателя — 1000. Юридический факультет пользовался меньшей популярностью, и число студенто и слушателей составляло лишь 77 человек. Основные лекции читали Кизеветтер, Струве, Ильин, Таубе Бердяев, Боголепов, Франк, Айхенвальд, Каминка и другие. На экономическом факультете читались лекции по следующим дисциплинам: аграрные отношения, сельское хозяйство, промышленность, финансы, лесное хозяйство. Лекции по отраслям хозяйства носили не только общенаучный, но и прикладной характер. Имелись в виду географические особенности России. Лекции посещало 205 студентов и слушателей. Лекции читали: Кизеветтер, Ильин, Каминка, Брукус, Прокопович, Струве и другие. Кроме того, периодически факультативно читались лекции по астрономии, биологии, истори мистики в православной церкви, [439] истории русских монастырей археологии примитивных культу в России. Лекции читал Арсеньев и Каган. В лучшие времена общее число студентов института доходило до 600 человек. Процентное соотношение мужчин и женщин было приблизительно таким же, как и в учебных заведениях дореволюционной России. Интересен тот факт, что желание обучаться в Русском научном институте выражали не только бывшие российские граждане, но и иностранцы. Интересную статистику приводит в своем докладе ректор института Ясинский. Количественно иностранцы были представлены следующим образом: румыны — 43 чел.; австрийцы — 1; американцы — 2; англичане — 2; немцы 15; швейцарцы — 4; чехи — 2; персы — 1 [6]. Со временем у института появились конкуренты. В Праге, при содействии чешского президента Масарика, было решено создать Русский университет. Консервативный характер политической культуры царской России, экономические противоречия и взлет культуры. Особенности русской культуры. Золотой век русской культуры. Пушкин, Лермонтов и Гоголь. Нравственные искания Толстого и Достоевского. Расцвет музыкальной культуры: Глинка, Римский-Корсаков, Чайковский и др. Достижения русской науки. «Серебряный век» русской культуры. «Мир искусства», русский символизм. «Золотой век» русской философии. Для понимания особенностей русской культуры XIX и начала XX в. существенное значение имеет знание характера политики, экономики и права Российской Империи. В результате петровских реформ в России произошло утверждение абсолютной монархии н законодательное оформление бюрократии, что особенно ярко проявилось в «золотой век» Екатерины II. Начало XIX в. ознаменовалось министерской реформой Александра 1, который на практике проводил линию на укрепление феодально-абсолютистского порядка, учитывая новый «дух времени», в первую очередь влияние Великой французской революции 1789 г. на умы, на русскую культуру. Одним из архетипов этой культуры является любовь к свободе, воспеваемая русской поэзией, начиная с Пушкина и кончая Цветаевой. Учреждение министерств знаменовало собой дальнейшую бюрократизацию управления и усовершенствования центрального аппарата Российской империи. Одним из элементов модернизации н европеизации российской государственной машины является учреждение Государственного совета, функция которого заключалась в централизации законодательного дела н обеспечении единообразия юридических норм. Министерская реформа и образование Государственного совета завершили реорганизацию органов центрального управления, просуществовавших до 1917 г. После отмены крепостного права в 1861 г. Россия прочно вступила на путь капиталистического развития. Однако политический строй Российской Империи насквозь был пронизан крепостничеством. В этих условиях бюрократия превратилась во «флюгер», старающийся обеспечить интересы буржуа и дворян, такое же положение сохранилось и позже, в эпоху империализма. Можно сказать, что политический строй России носил консервативный характер, это проявилось и в праве. Последнее представляет собой смешанное право, ибо в нем переплетались нормы феодального и буржуазного права. В связи с развитием буржуазных отношений в 70-е годы прошлого века было принято «Русское гражданское уложение», скопированное с Кодекса Наполеона, в основе которого лежало классическое римское право. Политический строй и право выражают особенности экономического развития России в XIX в., когда в недрах крепостничества формировался новый, капиталистический способ производства. Основной сферой, где раньше и интенсивнее формировался новый способ производства, была промышленность. Для России первой половины прошлого века характерно широкое распространение мелкой промышленности, обрабатывающей преимущественно крестьянской. В сфере промышленности, изготавливавшей предметы массового потребления, мелкие крестьянские промыслы занимали господствующее положение. Развитие крестьянской промышленности преобразовывало экономический облик деревни и самый быт крестьянина. В промысловых селах интенсивнее происходили процессы социального расслоения крестьянства и отрыв его от земледелия, острее проявлялся конфликта между явлениями капиталистического характера и феодальными отношениями. Но так было лишь в наиболее развитом в экономическом отношении центрально - промышленном регионе, в других районах преобладало натуральное хозяйство. И только после 1861 г. в России был совершен промышленный переворот, однако нарождающаяся русская буржуазия зависела от царизма для неё были характерны политическая косность и консерватизм. Все это наложило отпечаток на развитие русской культуры, придало ей противоречивый характер, но в конечном счете способствовало ее высокому взлету. Действительно, крепостное право, державшее в темноте и забитости крестьянство, царский произвол, подавляющий всякую живую мысль, общая экономическая отсталость России в сравнении с западноевропейскими странами препятствовали культурному прогрессу. И тем не менее, несмотря на эти неблагоприятные условия и даже вопреки им Россия в XIX в, сделала поистине гигантский скачок в развитии культуры, внесла громадный вклад в мировую культуру. Такой взлет русской культуры был обусловлен рядом факторов. В первую очередь он был связан с процессом формирования русской нации в переломную эпоху перехода от феодализма к капитализму, с ростом национального самосознания и являлся его выражением. Огромное значение имел и тот факт, что подъем русской национальной культуры совпал с началом революционно-освободительного движения в России. Важным фактором, способствовавшим интенсивному развитию русской культуры, являлось тесное общение и взаимодействие ее с другими культурами. Мировой революционный процесс и передовая западноевропейская общественная мысль оказывали сильное влияние и на культуру России. Это было время расцвета немецкой классической философии и французского утопического социализма, идеи которых пользовались широкой популярностью в России. Не следует забывать и влияния наследия Московской Руси на культуру XIX в.: усвоение старых традиций дало возможность прорасти новым росткам творчества в литературе, поэзии, живописи и других сферах культуры. Н. Гоголь, Н. Лесков, П. Мельников-Печерский, Ф. Достоевский и др. творили свои произведения в традициях древнерусской религиозной культуры. Но и творчество других гениев русской литературы, чье отношение к православной культуре более противоречиво, — от А. Пушкина и Л. Толстого до А. Блока — несет неизгладимую печать, свидетельствующую о православных корнях. Даже скептический И. Тургенев дал образ русской народной святости в рассказа «Живые мощи». Огромный интерес вызывают картины М. Нестерова, М. Врубеля, К. Петрова-Водкина, истоки творчества которых уходят в православное икоцописание. Яркими явлениями истории музыкальной культуры стали древнее церковное пение (знаменитый распев), а также позднейшие опыты Д. Бортнянского, П. Чайковского и С. Рахманинова. Русская культура воспринимала лучшие достижения культур других стран и народов, не теряя при этом своей самобытности и в свою очередь оказывая влияние на развитие иных культур. Немалый след оставила в истории европейских народов, например, религиозная русская мысль. Русская философия и богословие оказали влияние на западноевропейскую культуру в первой половине XX в. благодаря трудам В. Соловьева, С. Булгакова, П. Флоренского, Н. Бердяева, М. Бакунина и многих других. Наконец, важнейшим фактором, давшим сильный толчок развитию русской культуры, явилась «гроза двенадцатого года». Подъем 'патриотизма в связи с Отечественной войной 1812 г. способствовал не только росту национального самосознания и формированию декабризма, но и развитию русской национальной культуры, В. Белинский писал: «1812 год, потрясши всю Россию, возбудил народное сознание и народную гордость». Культурно-исторический процесс в России в XIX — начале XX в.имеет свои особенности. Заметно ускорение его темпов, обусловленное вышеотмеченными факторами. При этом, с одной стороны, происходила дифференциация (или специализация) различных сфер культурной деятельности (особенно в науке), а с другой — усложнение самого культурного процесса, т.е. большее «соприкосновение» и взаимовлияние различных областей культуры: философии и литературы, литературы, живописи и музыки и т.д. Необходимо отметить также усиление процессов диффузного взаимодействия между составляющими русской национальной культуры — официальной («высокой» профессиональной) культурой, опекаемой государством (церковь утрачивает духовную власть), и культурой народных масс («фольклорным» пластом»), которая берет начало в недрах восточнославянских родоплеменных союзов, формируется в Древней Руси и продолжает свое полнокровное существование на протяжении всей отечественной истории. В недрах официально-государственной культуры заметна прослойка «элитарной» культуры, обслуживающей господствующий класс (аристократию и царский двор) и обладающей особой восприимчивостью к иноземным новшествам. Достаточно вспомнить романтическую живопись О. Кипренского, В. Тропинина, К. Брюллова, А. Иванова и других крупных художников XIX в. Начиная с XVII в. складывается и развивается «третья культура», самодеятельно-ремесленная, с одной стороны, опиравшаяся на фольклорные традиции, а с другой — тяготевшая к формам официальной культуры. Во взаимодействии этих трех слоев культуры, часто конфликтном, преобладает тенденция к единой общенациональной культуре на основе сближения официального искусства и фольклорной стихии, вдохновлявшегося идеями народности и национальности. Эти эстетические принципы утверждались в эстетике Просвещения (П. Плавильщиков, Н. Львов, А. Радищев), были особенно важными в эпоху декабризма в первой четверти XIX в. (К. Рылеев, А. Пушкин) и приобрели основополагающее значение в творчестве и эстетике реалистического типа в середине прошлого века. В формировании русской национальной культуры все более активно участвует интеллигенция, первоначально составлявшаяся из образованных людей двух привилегированных сословий — духовенства и дворян. В первой половине XVIII в. появляются интеллигенты-разночинцы, а во второй половине этого века выделяется особая социальная группа — крепостная интеллигенция (актеры, живописцы, архитекторы, музыканты, поэты). Если в XVIII — первой половине XIX в. ведущая роль в культуре принадлежит дворянской интеллигенции, то во второй половине XIX в. — разночинцам. В состав разночинной интеллигенции (особенно после отмены крепостного права) вливаются выходцы из крестьян. В целом к разночинцам относились образованные представители либеральной и демократической буржуазии, которые принадлежали не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству и крестьянству. Это объясняет такую важную особенность культуры России XIX в., как начавшийся процесс ее демократизации. Он проявляется и том. что деятелями культуры постепенно становятся не только представители привилегированных сословий, хотя они и продолжают занимать ведущее место. Увеличивается число писателей, поэтов, художников, композиторов, ученых из непривилегированных сословий, в частности из крепостного крестьянства, но преимущественно из среды разночинцев. В XIX в. ведущей областью русской культуры становится литература, чему способствовала прежде всего ее тесная связь с прогрессивно-освободительной идеологией. Ода Пушкина «Вольность», его «Послание в Сибирь» декабристам и «Ответ» на это послание декабриста Одоевского, сатира Рылеева «К временщику» (Аракчееву), стихотворение Лермонтова «На смерть поэта», письмо Белинского к Гоголю являлись, по сути дела, политическими памфлетами, боевыми, революционными призывами, воодушевлявшими передовую молодежь. Дух оппозиционности и борьбы, присущий произведениям прогрессивных писателей России, сделал русскую литературу той поры одной из активных общественных сил. Даже на фоне всей богатейшей мировой классики русская литература прошлого века — исключительное явление. Можно было бы сказать, что она подобна Млечному Пути, ясно выделяющемуся на усыпанном звездами небе, если бы некоторые из писателей, составивших ее славу, не походили скорее на ослепительные светила или на самостоятельные «вселенные». Одни только имена А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Л. Толстого сразу же вызывают представления об огромных художественных мирах, множестве идей и образов, которые по-своему преломляются в сознании псе новых и новых поколений читателей. Впечатления, производимые этим «золотым веком» русской литературы, прекрасно выразил Т. Манн. говоря о ее «необыкновенном внутреннем единстве и целостности», «тесной сплоченности ее рядов, непрерывности ее традиций». Можно сказать, что пушкинская поэзия и толстовская проза — это чудо; не случайно Ясная Поляна — интеллектуальная столица мира в прошлом веке. А. Пушкин был основателем русского реализма, его роман в стихах «Евгений Онегин», который В. Белинский назвал энциклопедией русской жизни, ярился наивысшим выражением реализма в творчестве великого поэта. Выдающимися образцами реалистической литературы являются историческая драма «Борис Годунов», повести «Капитанская дочка», « Дубровский » и др. Мировое значение Пушкина связано с осознанием универсального значения созданной им традиции. Он проложил дорогу литературе М. Лермонтова, Н. Гоголя, И. Тургенева, Л. Толстого, Ф. Достоевского и А. Чехова, которая по праву сделалась не только фактом русской культуры, но и важнейшим моментом духовного развития человечества. Традиции Пушкина продолжил его младший современник и преемник М. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени», во многом созвучный с пушкинским романом «Евгений Онегин», считается вершиной лермонтовского реализма. Творчество М. Лермонтова явилось высшей точкой развития русской поэзии послепушкинского периода и открыло новые пути в эволюции русской прозы. Его основным эстетическим ориентиром является творчество Байрона и Пушкина периода «южных поэм» (пушкинского романтизма). Для русского «байронизма» (этого романтического индивидуализма) характерны культ титанических страстей и экстремальных ситуаций, лирическая экспрессия, сочетавшаяся с философским самоуглублением. Поэтому понятно тяготение Лермонтова к балладе, романсу, лиро-эпической поэме, в которых особое место принадлежит любви. Сильное влияние на последующую литературу оказал лермонтовский метод психологического анализа, «диалектики чувств». В направлении от предромантических и романтических форм к реализму развивалось и творчество Гоголя, которое оказалось решающим фактором последующего развития русской литературы. В его «Вечерах на хуторе близ Диканьки» художественно осуществлена концепция Малороссии — этого славянского древнего Рима — как целого материка на карте вселенной, с Диканькой как своеобразным его центром, как средоточием и национальной духовной специфики, и национальной судьбы. Вместе с тем Гоголь является основателем «натуральной школы» (школы критического реализма); по случайно 30-е — 40-е годы прошлого века Н. Чернышевский называл гоголевским периодом русской литературы. «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя», — образно заметил Достоевский, характеризуя влияние Гоголя па развитие русской литературы. В начале XX в. Гоголь получает всемирное признание и с этого момента становится действующей и все более возрастающей величиной мирового художественного процесса, постепенно осознается глубокий философский потенциал его творчества. Особого внимания заслуживает творчество гениального Л. Толстого, которое знаменовало новый этап в развитии русского и мирового реализма, перебросило мост между традициями классического романа XIX в. и литературой XX в. Новизна и мощь толстовского реализма непосредственно связаны с демократическими корнями его искусства, его миросознания и его нравственных поисков, реализму Толстого свойственны особая правдивость, откровенность тона, прямота и, вследствие этого, сокрушительная сила и резкость в обнажении социальных протипоречий. Особое явление в русской и мировой литературе — роман «Война и мир»; в этом уникальном феномене искусства Толстой сочетал форму психологического романа с размахом и много -фигурностью эпической фрески. Прошло более ста лет со дня появления в печати первой части романа, много поколений читателей сменилось за это время. И неизменно «Войну и мир» читают люди всех возрастов — от юношей до стариков. Вечным спутником человечества назвал этот роман современный писатель Ю. Нагибин, ибо «Война и мир», посвященная одной из губительнейших войн XIX в„ утверждает нравственную идею торжества жизни над смертью, мира над войной, что приобрело колоссальную значимость в конце XX в. Поражает поистине титанический характер нравственных исканий и другого великого русского писателя — Достоевского, который в отличие от Толстого не дает анализа эпических масштабов. Он не дает описания происходящего, он заставляет «уходить в подполье», дабы увидеть, что же происходит в действительности, он заставляет нас видеть себя в самом себе. Благодаря потрясающей способности проникать в самую человеческую душу Достоевский одним из первых, если не самым первым, дал описание современного нигилизма. Его характеристика этого настроя ума неизгладима, она до сих пор завораживает читателя глубиной и необъяснимой точностью. Античный нигилизм был связан со скептицизмом и эпикурейством, его идеалом была благородная безмятежность, достижение спокойствия духа перед лицом превратностей фортуны. Нигилизм Древней Индии, который произвел столь глубокое впечатление на Александра Македонского и его окружение, в философском отношении был несколько схож с позицией древнегреческого философа Пиррона из Элиды и выливался в философское созерцание пустоты. Для Нагарджуны и его последователей нигилизм был преддверием религии. Однако современный нигилизм, хотя в его основе тоже лежит интеллектуальная убежденность, не ведет ни к философской бесстрастности, ни к благословенному состоянию невозмутимости. Это скорее неспособность создавать и утверждать, духовный изъян, а не философия. Многие беды в нашей жизни происходят от того, что «человек из подполья» подменил собой подлинного человека. Достоевский искал избавления от нигилизма не в самоубийстве и не в отрицании, а в утверждении и радости. Ответом нигилизму, которым болен интеллигент, служит живительная «наивность» Дмитрия Карамазова, бьющая через край радость Алеши — героев романа «Братья Карамазовы». В невинности простых людей — опровержение нигилизма. Мир Достоевского — это мир мужчин, женщин и детей, одновременно заурядных и необычных. Одних обуревают заботы, других сладострастие, одни бедны и веселы, другие богаты и печальны. Это мир святых и злодеев, идиотов и гениев, благочестивых женщин и терзаемых своими отцами детей-ангелочков. Это мир преступников и добропорядочных граждан, но врата рая открыты всем: они могут спастись или обречь себя на вечное проклятие. В записных тетрадях Достоевского имеется самая сильная мысль, в которую сейчас все упирается, из которой все исходит: «бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие». Миру грозит гибель, мир может — должен! — быть спасен красотой, красотой духовно-нравственного подвига — так прочитывается Достоевский сегодня, так заставляет нас прочитать его сама реальность нашего времени. В XIX в., наряду с потрясающим развитием литературы, наблюдается и ярчайшие взлеты музыкальной культуры России, причем музыка и литература находятся во взаимодействии, что обогащает тешили иные художественные образы. Если, например, Пушкин в своей поэме «Руслан и Людмила» дал органическое решение идеи национального патриотизма, найдя для ее воплощения соответствующие национальные формы, то М. Глинка обнаружил в волшебно-сказочном героическом сюжете Пушкина новые, потенциальные варианты и осовременил его, как бы предложив еще один романтический вариант эпоса, со свойственным ему «вселенским» масштабом и «рефлектирующими» героями. В своей поэме Пушкин, как известно, свернул масштабы классической эпопеи, порой пародируя ее стиль: «Я не Омер... Он может воспевать один обеды греческих дружин»; Глинка же пошел по иному пути — при помощи колоссального картинного «разбухания» его опера вырастает изнутри до многонациональной музыкальной эпопеи. Ее герои из патриархальной Руси попадают в мир Востока, их судьбы сплетаются с магией северного мудреца Финна. Здесь пушкинский сюжет переосмысливается в сюжет драмы, опера Глинки — прекрасный пример воплощения той гармонии равнодействующих сил, которая фиксируется в сознании музыкантов как «руслановское» начало, т.е. романтическое начало. Значительное влияние на развитие музыкальной культуры России прошлого века оказало творчество Гоголя, неразрывно связанное с проблемой народности. Гоголевские сюжеты легли в основу опер «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством» Н. Римского-Корсакова, «Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского, «Кузнец Вакула» («Черевички») П. Чайковского и т.д. РимскийКорсаков создал целый «сказочный» мир опер: от «Майской ночи» и «Снегурочки» до «Садко», для которых общим является некий идеальный в своей гармоничности мир. Сюжет «Садко» построен на различных вариантах новгородской былины — повествованиях о чудесном обогащении гусляра, его странствиях и приключениях. «Снегурочку» Римский-Корсаков определяет как оперу-сказку, назвав «картинкой из Безначальной и Бесконечной Летописи Берендеева царства». В операх подобного рода Римский-Корсаков использует мифологическую и философскую символику. Если «Снегурочка» связана с культом Ярилы (солнца), то в «Младе» представлен целый пантеон древне - славянских божеств. Здесь развертываются ритуальные и народно-обрядовые сцены, связанные с культом Радегаста (Перуна) и Купалы, ведут борьбу волшебные силы добра и зла, а герой подвергается «соблазнам» из-за козней Морены и Чернобога. В содержание эстетического идеала Римского-Корсакова, который лежит в основе его музыкального творчества, в качестве безусловной ценности входит категория прекрасного в искусстве. Образы высокопоэтического мира его опер весьма наглядно показывают, что искусство представляет собой действенную силу, что оно покоряет и преображает человека, что оно несет в себе жизнь и радость. Подобная функция искусства соединялась у Римского-Корсакова с пониманием его как эффективного средства нравственного совершенствования человека. Этот культ искусства в чем-то восходит к романтическому утверждению Человека-творца, который противостоит «механическим», отчуждающим тенденциям века прошлого (и нынешнего). Музыка РимскогоКорсакова возвышает человеческое в человеке, она призвана спасти его от «страшных обольщений» буржуазного века и тем самым она приобретает великую гражданскую роль, приносит пользу обществу. Расцвету русской музыкальной культуры способствовало творчество П. Чайковского, написавшего немало прекрасных произведений и внесшего новое в эту область. Так, экспериментальный характер носила его опера «Евгений Онегин», предупредительно названная им не оперой, а «лирическими сценами». Новаторская сущность оперы заключалась в том, что она отразила веяния новой передовой литературы. Для «лаборатории» поисков Чайковского характерно то, что он использует в опере традиционные формы, вносящие в музыкальный спектакль необходимую «дозу» зрелищности. В своем стремлении создать «интимную», но сильную драму Чайковский хотел достичь на сцене иллюзии обыденной жизни с ее повседневными разговорами. Он отказался от эпического тона повествования Пушкина и увел роман от сатиры и иронии в лирическое звучание. Вот почему на первый план в опере выступила лирика внутреннего монолога и внутреннего действия, движения эмоциональных состояния и напряженности. Существенно то, что Чайковскому помогали переносить пушкинские образы в новую по времени психологическую среду произведения Тургенева и Островского. Благодаря этому он утвердил новую, музыкальную реалистическую драму, конфликт которой определился в столкновении идеалов с действительностью, поэтической мечты с мещанским бытом, красоты и поэзии с грубой будничной прозой жизни 70-х годов прошлого столетия. Не удивительно, что драматургия оперы Чайковского во многом подготовила театр Чехова, которому свойственна прежде всего способность передавать внутреннюю жизнь действующих лиц. Вполне понятно, что лучшую режиссерскую постановку «Евгения Онегина» в свое время осуществил Станиславский, будучи уже прекрасным знатоком чеховского театра. В целом следует отметить, что на рубеже веков в творчестве композиторов происходит определенный пересмотр музыкальных традиций, отход от социальной проблематики и возрастание интереса к внутреннему миру человека, к философско-этическим проблемам. «Знамением» времени было усиление лирического начала в музыкальной культуре. Н. Римский-Корсаков, выступавший тогда основным хранителем творческих идей знаменитой «могучей кучки» (в нее входили М. Балакирев, М. Мусоргский, П. Кюи, А. Бородин, Н. Римский-Корсаков), создал полную лиризма оперу «Царская невеста». Новые черты русской музыки начала XX в. нашли наибольшее выражение в творчестве С. Рахманинова и А. Скрябина. В их творчестве отразилась идейная атмосфера предреволюционной эпохи, в их музыке находили выражение романтический пафос, зовущий к борьбе, стремление подняться над «обыденностью жизни». В XIX — начале XX в. существенных успехов достигла русская наука: в математике, физике, химии, медицине, агрономии, биологии, астрономии, географии, в области гуманитарных исследований. Об этом свидетельствует даже простое перечисление имен гениальных и выдающихся ученых, внесших значительный вклад в отечественную и мировую науку: С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский, И.И. Срезневский, Ф.И. Буслаев, Н.И. Пирогов, И.И. Мечников, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, П.Л. Чебышев, М.В. Остроградский, Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, Э.Х. Ленц, Б.С. Якоби, В.В. Петров, К.М. Бэр, В.В. Докучаев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский и др. В качестве примера рассмотрим творчество В.И. Вернадского — гения русской науки, основателя геохимии, биогеохимии, радиологии. Его учение о биосфере и ноосфере в наши дни быстро входит в различные разделы естествознания, особенно в физическую географию, геохимию ландшафта, геологию нефти и газа, рудных месторождений, гидрогеологию, почвоведение, в биологические науки и медицину. История науки знает немало выдающихся исследователей отдельных направлений естествознания, но значительно более редко встречались ученые, которые своей мыслью охватывали все знания о природе своей эпохи и пытались дать их синтез. Таковы были во второй половине XV и начала XVI в. Леонардо да Винчи, в XVIII в. М.В. Ломоносов и его французский современник Ж.-Л. Бюффон, в конце XVIII и первой половине XIX в. — Александр Гумбольдт. Наш крупнейший естествоиспытатель В.И. Вернадский по строю мыслей и широте охвата природных явлений стоит в одном ряду с этими корифеями научной мысли, однако он работал в эпоху неизмеримо возросшего объема информации в естествознании, принципиально новых техники и методологии исследований. В.И. Вернадский был ученым исключительно широко эрудированным, он свободно владел многими языками, следил за всей мировой научной литературой, состоял в личном общении и переписке с наиболее крупными учеными своего времени. Это позволяло ему всегда быть на переднем крае научных знаний, а в своих выводах и обобщениях заглядывать далеко вперед. Еще в 1910 г. в записке «О необходимости исследования радиоактивных минералов Российской империи» он предсказал неизбежность практического использования колоссальной по своей мощности атомной энергии. В последнее время в очевидной связи с начавшимися коренными изменениями отношения человека и природы у нас и за рубежом стал стремительно возрастать интерес к его научному творчеству. Многие идеи В.И. Вернадского начинают цениться в должной мере только теперь. В истории русской культуры конец XIX — начало XX в. получил название «серебряного века» русской культуры, который начинается «Миром искусства» и заканчивается акмеизмом. «Мир искусства» — это организация, возникшая в 1898 г. и объединившая мастеров самой высокой художественной культуры, художественную элиту России тех времен. В этом объединении участвовали почти все известные художники — А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лансере, А. Головин, М. Добужинский, М. Врубель, В. Серов, К. Коровин, И. Левитан, М. Нестеров, Н. Рерих, Б. Кустодиев, К. Петров-Водкин, Ф. Малявин, М. Ларионов, Н. Гончарова и др. Огромное значение для формирования «Мира искусств» имела личность С. Дягилева, мецената и организатора выставок, а впоследствии — импресарио гастролей русского балета и оперы за границей, так называемых «Русских сезонов». Благодаря деятельности Дягилева русское искусство получает широкое международное признание. Организованные им «Русские сезоны» в Париже относятся к числу этапных событий в истории отечественной музыки, живописи, оперного и балетного искусства. В 1906 г. парижанам была представлена выставка «Два века русской живописи и скульптуры», которая экспонировалась затем в Берлине и Венеции. Это был первый акт все европейского признания «Мира искусства», а также открытия русской живописи XVIII — начала XX в. в целом для западной критики и настоящий триумф русского искусства. В следующем году Париж мог познакомиться с русской музыкой от Глинки до Скрябина. В 1906 г. здесь с исключительным успехом выступал наш гениальный певец Ф. Шаляпин, исполнивший партию царя Бориса в опере Мусоргского «Борис Годунов». Наконец, с 1909 г. в Париже начались «Русские сезоны» балета, продолжавшиеся в течение нескольких лет (до 1912 г.). С «Русскими сезонами» связан расцвет творчества многих деятелей в области музыки, живописи и танца. Одним из крупнейших новаторов русского балета начала XX в. был М. Фокин, который утверждал драматургию как идейную основу балетного спектакля и стремился путем «содружества танца, музыки и живописи» к созданию психологически содержательного и правдивого образа. Во многом взгляды Фокина близки эстетике советского балета. Хореографический этюд «Умирающий лебедь» на музыку французского композитора Сен-Санса, созданный им для Анны Павловой, запечатленный в рисунке В^ Серова, стал символом русского классического балета. Под редакцией Дягилева с 1899 по 1904 г. издавался журнал «Мир искусства», состоявший из двух отделов: художественного и литературного. В последнем отделе публиковались сначала работы религиозно-философского плана под редакцией Д. Мережковского и 3. Гиппиус, а затем — труды по теории эстетики символистов во главе с А. Белым и В. Брюсовым. В редакционных статьях первых положения номеров журнала были четко сформулированы основные «мирискусников» об автономии искусства, о том, что проблемы современного искусства и культуры в целом — это исключительно проблемы художественной формы и что главная задача искусства — воспитание эстетических вкусов русского общества, прежде всего через знакомство с произведениями мирового искусства. Нужно отдать им должное: благодаря «мирискусникам» действительно по-новому было оценено английское и немецкое искусство, а главное — открытием для многих стала живопись русского XVIII в. и архитектура петербургского классицизма. Можно сказать, что «серебряный век» русской культуры — это век культуры высокого ранга и виртуозности, культуры воспоминания предшествующей отечественной культуры, культуры цитаты. Русская культура этого времени представляет собой синтез старой дворянской и разночинной культур. Значительный вклад «Мира искусства» состоит в организации грандиозной исторической выставки русской живописи от иконописи до современности за границей. Рядом с «мирискусниками» виднейшим направлением рубежа века был символизм — многогранное явление, не вмещающееся в рамки «чистой» доктрины. Краеугольный камень направления — символ, заменяющий собой образ и объединяющий платоновское царство идей с миром внутреннего опыта художника. Среди виднейших западныхпредставителей символизма или тесно связанных с ним — Малларме, Рембо, Верлен, Верхарн, Метерлинк, Рильке... Русские же символисты — А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, Ф. Соллогуб, И. Анненский, К. Бальмонт и др. — опирались на философские идеи от Канта до Шопенгауэра, от Ницше до Вл. Соловьева и своим любимейшим афоризмом почитали тютчевскую строку «мысль изреченная есть ложь». Русские символисты считали, что «идеальные порывы духа» не только вознесут их над покровами повседневности, обнажат трансцендентную сущность бытия, но и сокрушат также «крайний материализм», равнозначный «титаническому мещанству». Поэтов-символистов объединяли общие черты миропонимания и поэтического языка. Наряду с требованиями «чистого», «свободного» искусства символисты подчеркивали индивидуализм, доходящий до самолюбования, воспевали таинственный мир; им близка тема «стихийного гения», близкого по духу к ницшеанскому «сверхчеловеку». «И хочу, но не в силах любить я людей. Я чужой среди них», — говорил Мережковский. «Мне нужно то, чего нет на свете», — вторила ему Гиппиус. «Настанет день конца Вселенной. И вечен только мир мечты», — утверждал Брюсов. Символизм расширил, обогатил поэтические возможности стиха, что вызывалось стремлением поэтов передать необычность своего мироощущения «одними звуками, одними образами, одними рифмами» (Брюсов). Бесспорен вклад поэзии символизма в развитие русского стихосложения. К. Бальмонт со свойственной ему манерой «удивить» читателя все же имел основание написать: Я — изысканность русской медлительной речи, Предо мною другие поэты — предтечи, Я впервые открыл в этой речи уклоны, Перепевные, гневные, нежные звоны. Красота символистами рассматривалась как ключ к тайнам природы, идее добра и всего мироздания, дающий возможность проникновения в область запредельного, как знак инобытия, поддающийся расшифровке в искусстве. Отсюда представление о художнике как о демиурге, творце и повелителе. Поэзии же отводилась роль религии, приобщение к которой позволяет увидеть «незримыми очами» иррациональный мир, метафизически выступающий как «очевидная красота». К концу десятых годов XX в. символизм внутренне исчерпал себя как целостное течение, оставив глубокий след в различных сферах русской культуры. Конец XIX — начало XX в. является русским философским Ренессансом, «золотым веком» русской философии. Существенно отметить, что философская мысль серебряного века русской культуры, представляющая собой золотой самородок, сама явилась на свет как преемница и продолжательница традиций русской классической литературы. По мнению Р.А. Гальцевой, «... в русской культуре существует что-то вроде литературно-философской эстафеты, и даже шире — эстафеты искусства и философии, из сферы художественного созерцания набранная мощь тут передается в область философского осмысления и наоборот». Именно так сложились отношения между русской классикой и философским возрождением конца века, которое представлено именами Вл. Соловьева, В. Розанова, С. Булгакова, Н. Бердяева, Л. Шестова, Г. Федотова, С. Франк и др. Родившись в результате сшибки традиционной культуры с западным миром, когда, по известной формуле А. Герцена, «на призыв Петра цивилизоваться Россия ответила явлением Пушкина», — русская литература, вобравшая в себя и по-своему переплавившая плоды обмирщенной европейской цивилизации, вступила в свой классический «золотой век». Затем, в ответ на новое, нигилистическое веяние времени, опираясь на духовную крепость «святой русской литературы» (Т. Манн), восходит в конце века философия, которая подводит итоги развития духа «золотого века» классики. Оказывается, что не русская словесность «серебряного века» является главной наследницей классической литературы — для этого она морально двусмысленна, подвержена дионисийским соблазнам (соблазнам чувственности). Преемницей русской литературы оказывается именно философская мысль, она наследует духовные заветы «золотого века» классики и потому сама переживает «золотой век». В заключение следует отметить, что в предреволюционные годы культурная, литературная, мыслящая Россия была совершенно готова к войне и революции. В этот период смешалось все: апатия, уныние, упадничество — и ожидание новых катастроф. Носители русской культуры «серебряного века», критиковавшие буржуазную цивилизацию и ратовавшие за демократическое развитие человечества (Н. Бердяев, Вл. Соловьев и др.), жили в огромной стране словно на необитаемом острове. Россия не знала грамоты — в среде интеллигенции сосредоточилась вся мировая культура: здесь цитировали наизусть греков, увлекались французскими символистами, считали скандинавскую литературу своей, знали философию и богословие, поэзию и ^историю всего мира. И в этом смысле русская интеллигенция была хранителем культурного музея человечества, а Россия — Римом упадка, русская интеллигенция не жила, а созерцала все самое утонченное, что было в жизни, она не боялась никаких слов, она была в области духа цинична и нецеломудренна, в жизни вяла и бездейственна. В известном смысле русская интеллигенция совершила революцию в умах людей до революции в обществе — так глубоко, беспощадно и гибельно перекапывалась почва старой традиции, такие смелые проекты будущего были начертаны. И революция грянула, оказав неоднозначное влияние на замечательную русскую культуру. Литература 1.Валошин М. Лирики творчества. Л.,1988. 2.Ильина Т.В. История искусства. Русское и советское искусство. М.,1989. 3.Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры. М.,1990. 4.Павленко Н.И., Кобрин В.Б., Фёдоров В.А. История СССР с древнейших времён до 1861 года. – М.,1989. 5.Пушкин в русской философской критике. М.,1990. 6.Федотов Г.П. Судьба и грехи России. В 2 т. М.,1991. смотреть на рефераты похожие на "Культура России 19 века " REF.BY 2006 contextus@mail.ru Травиата [править] Материал из Википедии — свободной энциклопедии Перейти к: навигация, поиск Травиата La traviata Афиша 1853 г. Композитор Джузеппе Верди Автор(ы) Франческо Мария либретто Пьяве Количество действий 3 действия Год создания Первая постановка 6 марта 1853 Место первой Ла Фениче, Венеция постановки «Травиата» (с итал. La traviata «падшая», «заблудшая», от гл. traviare - сбивать(ся) с пути) — опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа «Дама с камелиями» А. Дюма-сына. «Травиата» была впервые представлена публике 6 марта 1853 года в оперном театре Ла Фениче в Венеции и сначала потерпела провал, однако, переработанная, стала одной из самых знаменитых опер за всю историю. Почти каждую арию можно назвать хитом. Постановки в Европе шли примерно в одно время с выходом «Дамы с камелиями» Дюма. Необычным для оперной постановки того времени являлся в первую очередь выбор главной героини — куртизанка, умирающая от неизлечимой болезни. Как и ранее в «Риголетто» и «Трубадуре» Верди поставил на центральную роль персонаж, отвергнутый обществом. Содержание [убрать] 1 Содержание оперы o 1.1 Композиция o 1.2 Главные роли и голоса o 1.3 Сюжет 2 Отношение к реальности 3 Примечания 4 Литература [править] Содержание оперы [править] Композиция Оригинальная партитура оперы делится на три акта, где действие первого проходит в салоне Виолетты, второго — в её загородном доме и во дворце Флоры Бервуа, третьего — в последней квартире Виолетты.[1] Большая длина второго акта привела к тому, что при постановке его естественным образом стали разбивать на два действия, и в наши дни «Травиата» обычно ставится как опера в четырёх действиях с тремя антрактами. [править] Главные роли и голоса Персонажи Виолетта Валери Альфред Жермон Жорж Жермон Флора Бервуа Барон Дуфоль Виконт Гастон де Леторьер Маркиз д’Обиньи Доктор Гренвиль Служанка Аннина Голоса сопрано тенор баритон меццо-сопрано баритон тенор бас бас сопрано [править] Сюжет Афиша оперы "Травиата". 29 января 1893 года. Красноярский городской театр. 1 акт. Октябрь, середина XIX века, Париж. Куртизанка Виолетта Валери устраивает один из вечеров в своём салоне. Ей представляют молодого человека, недавно приехавшего в Париж из провинции, Альфреда Жермона, который производит впечатление более внимательного и чуткого мужчины, чем её спутник барон Дуфоль. Он произносит страстный тост про любовь. Когда Виолетта отдыхает после внезапного приступа кашля, Альфред находится рядом с ней и признается в любви, а также пытается убедить её изменить образ жизни. Она объясняет ему, что не умеет любить. Виолетта даёт юноше цветок камелии, который Альфред должен вернуть, когда тот засохнет. Гости расходятся. В одиночестве Виолетта почти готова принять подлинные чувства юноши, но пытается отогнать мысли при помощи хвалебной песни материальным благам. 2 акт. 1 часть Январь. Через три месяца Альфред и Виолетта живут в загородном доме. Случайно Альфред узнает, что его возлюбленная тайком распродаёт своё имущество, чтобы обеспечить их жизнь за городом. Пристыженный, он возвращается в Париж с надеждой улучшить финансовое положение. Пока он отсутствует, Виолетту навещает отец Альфреда, Жорж Жермон, который считает, что куртизанка губит репутацию его сына; жених его дочери (сестры Альфреда) говорит, что расторгнет помолвку, если Альфред не порвет с Виолеттой, поэтому отец Альфреда требует прекратить любовные отношения. Виолетта знает, что она больна туберкулезом и в скором времени умрет, поэтому соглашается на уговоры отца. Она уезжает, оставив Альфреду прощальное письмо. Альфред сначала считает, что она покинула его из-за денег, однако из прочитанного письма узнает, что Виолетта решила вернуться к старому образу жизни. Жорж Жермон уговаривает сына вернуться домой, но тот не соглашается. Неожиданно он находит приглашение от подруги Виолетты Флоры Бервуа. Альфред спешит к Флоре, чтобы отомстить за измену. 2 часть. Бал-маскарад во дворце Флоры. Виолетта входит под руку с бароном Дуфолем, но не веселится, остро переживая разрыв с возлюбленным. Среди переодетых гостей находится и Альфред, которому везёт в карточной игре. Альфред ищет ссоры с бароном. Когда гости расходятся по другим залам, Виолетта просит Альфреда покинуть бал, опасаясь за жизнь молодого человека. Он согласен уйти лишь в том случае, что она уйдёт с ним, она отказывается, говорит, что любит Дуфоля. Ревнивый Альфред собирает в зале всех гостей и публично оскорбляет Виолетту, бросив ей в лицо выигранные деньги в качестве платы за любовь. Виолетта падает без сознания на пол. Сам отец Альфреда упрекает сына за такой поступок. Дуфоль вызывает соперника на дуэль. Виолетта опечалена, потому что не может сказать Альфреду правду. 3 акт. Февраль. Состояние Виолетты сильно ухудшилось, она не встаёт с постели и приказывает раздать все деньги беднякам. Жорж Жермон пишет в письме, что во время дуэли его сын ранил барона, поэтому должен был на некоторое время уехать за границу, но в скором времени возвращается — старик не выдержал угрызений совести и признался, что это он вынудил Виолетту покинуть Альфреда. Из открытого окна слышится шум и песни — в Париже карнавал! Внезапно приезжает Альфред, влюблённые счастливы, строят планы на будущее. Вдруг силы покидают Виолетту. Альфред клянется ей в любви, она же дарит ему медальон, который должна носить будущая невеста Альфреда. Альфред в отчаянии просит её не уходить, на мгновенье она чувствует прилив сил, но затем умирает на руках Альфреда. [править] Отношение к реальности Поскольку опера написана по мотивам «Дамы с камелиями», а роман, в свою очередь, создан автором по мотивам личных переживаний, главным персонажам оперы соответствуют реальные прототипы. Прототипом Виолетты стала знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, считавшейся не только очень красивой, но также и весьма умной женщиной. Среди поклонников Дюплесси был и Александр Дюма-сын. Считается, что в разрыве с Дюплесси и отъезде сына виноват Дюма-отец. Вернувшись в Париж, Дюма-сын не застал любимую в живых — она умерла от туберкулёза в 1847 году. Через некоторое время вышел роман «Дама с камелиями». В 1848 году роман был переработан для театральной постановки, но был разрешен только четыре года спустя, поскольку был признан безнравственным. ТРАВИАТА Опера в трех актах (четырех картинах) 1 Либретто Ф. Пиаве Действующие лица: Виолетта Валери сопрано Флора Бервуа, ее подруга меццо-сопрано Аннина, горничная Виолетты сопрано Альфред Жермон тенор Жорж Жермон, его отец баритон Гастон, виконт де Леторьер тенор Барон Дюфоль баритон Маркиз д’Обиньи бас Доктор Гренвиль бас Жозеф, слуга Виолетты тенор Слуга Флоры бас Комиссионер бас Знакомые Виолетты и Флоры, гости, маски, слуги. Действие происходит в Париже и его окрестностях в с ередине X IX века. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ Сюжет «Травиаты» заимствован из драмы А. Дюма -сына «Дама с камелиями». Прототипом героини явилась знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, чья красота и незаурядный ум привлекали многих выдающихся людей. Среди ее поклонников был и Дюма, тогда начинающий литератор. Их разрыв и последовавшее путешествие Дюма молва приписывала настояниям его отца — прославленного автора «Трех мушкетеров». Вернувшись в Париж, Дюма не застал Мари Дюплесси в живых — она умерла от туберкулеза в 1847 году. Когда вскоре после этого появился роман «Дама с камелиями», в его героине Маргарите Готье все узнали Мари Дюплесси, а в Армане Дювале, — юноше, которого Маргарита полюбила чистой и беззаветной любовью, склонны были видеть самого автора. В 1848 году Дюма переработал роман в пьесу, однако премьера ее состоялась лишь четыре года спустя: цензура долго не разрешала постановку, считая пьесу безнравственной, бросающей вызов моральным устоям буржуазного общества. Получив, наконец, доступ на сцену, «Дама с камелиями» сразу же завоевала шумный успех и обошла все театры Европы. На премьере в Париже присутствовал Верди, который вскоре принялся за создание оперы. Его сотрудником был Ф. Пиаве (1810 —1876) — один из лучших либреттистов того времени. Композитор активно участвовал в разработке либретто, добиваясь сжатости действия. «Травиата» была поставлена 6 марта 1853 года в Венеции и потерпела скандальный провал. Верди сделал героиней своей оперы женщину, отвергнутую обществом; он специально подчеркнул это названием («Травиата» — по-итальянски падшая, заблудшая). Композитор показал благородство и душевную красоту Виолетты, ее превосходство не только над той легкомыс ленной средой, которая ее окружает, но и над добродетельным представителем светского общества — отцом Альфреда. Горячее сочувствие к жертве социального неравенства, беспощадное осуждение лицемерной буржуазной морали, показ на оперной сцене современной жизн и — все это нарушало обычную традицию и было главной причиной провала оперы. Однако Верди твердо верил, что «Травиата» добьется признания. Через год опера вновь была поставлена в Венеции и имела огромный успех. Для этой постановки Верди согласился убрать современные костюмы: действие было перенесено в более отдаленную эпоху, на полтора столетия назад (вскоре, однако, он восстановил современную обстановку драмы). Спус тя некоторое время «Травиата» стала одной из самых знаменитых опер в репертуаре мирового музыкального театра. Дюма, познакомившись с «Травиатой», сказал: «Через пятьдесят лет никто не вспомнил бы о моей «Даме с камелиями», но Верди обессмертил ее». СЮЖЕТ В доме куртизанки Виолетты Валери царит шумное веселье: поклонники Виолетты празднуют ее выздоровление. Среди гостей — Альфред Жермон, недавно приехавший в Париж из провинции. С первого взгляда он полюбил Виолетту чистой восторженной любовью. Его пылкие чувства вызывают удивление и насмешки присутствующих. По просьбе гостей Альфред поет застольную песню — гимн любви и радости жизни. Из соседнего зала доносятся звуки вальса; гости устремляются туда. С Виолеттой, внезапно почувствовавшей себя плохо, остается Альфред. Он горячо убеждает Виолетту изменить образ жизни, поверить его чувству. Вначале Виолетта отвечает шутками на страстные признания Альфреда. Однако на прощание дарит ему цветок, назначая свидание на зав тра. Гости расходятся. Оставшись одна, Виолетта с волнением вспоминает нежные речи Альфреда. Впервые в своей блестящей и легкомысленной жизни она столкнулась с подлинным чувством; в ее сердце зажглась ответная любовь. Виолетта и Альфред покинули Париж, уед инившись в загородном доме. Здесь, в сельской тиши, они нашли свое счастье. Безмятежные грезы Альфреда прерывает приход служанки Аннины, которая проговаривается, что Виолетта тайно распродает свои вещи. Пораженный и пристыженный жертвой возлюбленной, он от правляется в Париж, чтобы уладить денежные дела. Виолетта рассеянно просматривает полученные письма. В одном из них — приглашение от старой подруги Флоры на бал -маскарад. Виолетта равнодушно откладывает его в сторону. Появляется отец Альфреда — Жорж Жермон. Он обвиняет Виолетту в том, что она ведет его сына к гибели, губит репутацию их семьи. Виолетта в отчаянии: любовь к Альфреду — ее единственная радость. А жить ей осталось недолго: она смертельно больна. Уступая настояниям Жермона, Виолетта решается поже ртвовать своим счастьем. Она пишет возлюбленному прощальное письмо. Возвратившийся Альфред удивлен волнением и слезами Виолетты, а после ее ухода находит письмо, которое повергает его в отчаяние. Жермон зовет сына вернуться в родной Прованс, к семье, но то т не слушает его. Внезапно Альфред замечает оставленную на столе записку Флоры. Теперь он уже не сомневается, что Виолетта навсегда покинула его. Охваченный ревностью, он спешит в Париж, чтобы отомстить за измену. Бал-маскарад у Флоры. Веселье в разгаре. З а карточным столом, среди других игроков, Альфред. Входит Виолетта с бароном Дюфолем. Флора радостно встречает ее. Пестрая суета бала чужда Виолетте; она мучительно переживает разрыв с любимым. Альфред ищет ссоры с бароном. Виолетта, в тревоге за жизнь возлюбленного, пытается предотвратить дуэль. Но Альфред сзывает гостей и при всех оскорбляет Виолетту, бросая ей в лицо деньги — плату за любовь. Сломленная страданиями и болезнью, покинутая друзьями, Виолетта медленно угасает. Доктор Гренвиль обнадеживает ее , но Виолетта знает, что конец близок. Она велит служанке раздать деньги бедным и, оставшись одна, перечитывает письмо Жермона, который сообщает о скором возвращении сына. Теперь Альфред знает все: отец рассказал ему о самопожертвовании Виолетты. С улицы д оносится веселый шум карнавала. Вбегает взволнованная Аннина. Она сообщает, что Альфред вернулся. Счастье влюбленных беспредельно; они мечтают навсегда покинуть Париж и начать новую жизнь. Но силы оставляют Виолетту: радость ее сменяется бурным отчаянием — она не хочет умирать, когда счастье так близко! Вошедший Жермон с раскаянием убеждается, что его запоздалое согласие на брак сына с Виолеттой уже не может ее спасти. В последнем порыве Виолетта бросается к Альфреду и умирает на его руках. МУЗЫКА «Травиата» — одна из первых в мировой оперной литературе лирико психологических опер — интимная драма сильных и глубоких чувств. Современный сюжет, простота и обыденность интриги позволили Верди создать подлинно реалистическое произведение, поражающее своей правдивостью, трогающее человечностью. В опере богато использованы ритмы и мелодии бытовой музыки — главным образом вальса, то веселого и грациозного, то драматичного и скорбного. Небольшая оркестровая прелюдия восс оздает печальный облик умирающей; широко струится светлая, мелодия любви. В первом акте два раздела: первый рисует беспечный мир, в котором живет Виолетта, второй содержит ее лирическую характеристику. Радостный хор гостей вводит в атмосферу шумного праздн ества. Приподнятое настроение сохраняется и в ликующей застольной песне Альфреда «Высоко поднимем мы кубки веселья», подхватываемой хором, и в стремительном вальсе за сценой. Центральный эпизод дуэта — нежное признание Альфреда «В тот день счастливый», выр азительная мелодия которого повторяется в опере неоднократно, приобретая значение темы любви. Дуэт заключается беззаботным хором гостей. В большой арии Виолетты напевная, задумчивая мелодия в духе медленного вальса «Не ты ли мне в тиши ночной» передает меч ты о счастье, ей противостоит блестящая, расцвеченная колоратурами вторая часть арии «Быть свободной, быть беспечной», в которую вплетается музыкальная тема любви (ее повторяет за сценой Альфред). От безмятежного счастья к мучительным сомнениям и драматиче скому взрыву чувств развивается музыкальная драматургия второго акта. Ария Альфреда «Мир и покой в душе моей» окрашена в светлые, спокойные тона. Противоречивые настроения воплощены в развернутом дуэте Виолетты и Жермона — с толк нове нии двух силь ных ха рак те ров. В арии Жермона «Ты забыл край милый свой» благородная напевная мелодия очерчивает облик любящего и преданного отца. Третий акт2 по характеру музыки перекликается с первым, но здесь беззаботному веселью гостей противопоставлен драматизм переживаний Виолетты. Маскарадные хоры цыганок и испанских матадоров оттеняют следующую за ними сцену карточной игры; на фоне мрачного звучания кларнетов выделяются скорбные, патетические фразы Виолетты. Возбужденное объяснение Виолетты с Альфредом вырастает в развернуту ю массовую сцену — кульминацию драмы; акт завершается драматичным октетом с хором. Четвертый акт3 резко контрастирует с предшествующим. Он открывается небольшим оркестровым вступлением, построенным на уже знакомой по увертюре музыкальном теме умирающей Вио летты. Отголоски этой печальной мелодии сопровождают разговор Виолетты со служанкой; светлым воспоминанием звучит у скрипок тема любви. Центральный эпизод акта — ария Виолетты «Простите вы навеки, о счастье мечтанья» — пронизан щемящей грустью расставания с жизнью. Одиночество Виолетты подчеркивается неожиданно врывающимся шумным карнавальным хором. Дуэт Виолетты и Альфреда передает взволнованные, трепетные чувства влюбленных: светлая, мечтательная мелодия «Край мы покинем, где так страдали» сменяется музык ой бурного отчаяния «Как страшно, горько смерти ждать». В центре финала — большой квинтет. Обращение Виолетты к Альфреду «Этот портрет, любимый мой» овеяно дыханием смерти — в оркестре звучат траурные аккорды; в последний раз у скрипок просветленно звучит мелодия любви. Ю.В. Лебедев. Тургенев (часть 26). Посол русской интеллигенции Иван Сергеевич Тургенев Романы: Дворянское гнездо Дым Накануне Новь Отцы и дети Посол русской интеллигенции Рудин Повести и рассказы: Ася Бретер Вешние воды Дневник лишнего человека Жид Записки охотника Затишье Муму Несчастная Первая любовь Песнь торжествующей любви Петушков Поездка в Полесье После смерти (Клара Милич) Степной король Лир Фауст Часы Яков Пасынков Пьесы: Где тонко, там и рвется Завтрак у предводителя Месяц в деревне Холостяк О писателе: Ю.В. Лебедев. Тургенев Обзор интернета Поиск: ?? Конец формы Заказ книг по литературе Другие литературные сайты Полезные ссылки Реклама: Длительное пребывание во Франции сблизило Тургенева с французс из них он сошелся в тесном дружеском кружке. Конечно, меру этой близо общении Тургенева с французскими собратьями нет-нет да и прос высокомерное отношение Западной Европы к России как нецивилизованно Эдмон Гонкур впервые встретился с Тургеневым, од записал в своем дневни кроткий, с белыми волосами, у него вид доброго горного или лесного ген красив, чрезмерно красив, с небесной синевой в глазах, с очаровательной особенными переливами в голосе, напоминающими не то ребенка, не то нег и восторженной характеристике есть налет экзотики: так говорят о некой забавной для рафинированного интеллигента-парижанина. Характеристика, данная Тургеневу стареющей французской Ламартином, и вовсе удивляла своей несообразностью. Тургенев у него "соединяя воинственную суровость скифа с мягкостью податливого сл осененный густыми волосами, походил на древний храм в тени священной писал Тургенев Анненкову по поводу такой характеристики, - почему же это даже и гениальному французу, как только он потянет носом другой воздух..." Присутствие Тургенева во Франции сыграло особую роль в преодоле предубеждений, какие существовали в "культурном слое" Западной Европы литературе. Странствия Тургенева по Германии, Англии и Франции помогали в качестве добровольного миссионера, "решительного радетеля" за родну одним из самых деятельных посредников между французскими и русским французами и немцами. С апреля 1874 года Тургенев, Э. Гонкур, Г. Флобер, Э. Золя, и А. До освистанных литераторов" ежемесячными обедами. Тургенев вводит франц им русский культурный мир. Он рассказывает им о нравах и обычаях Рос юности, о загадочном русском мужике. В ответ на возражения, что культу скучно общество невежественного крестьянина, он говорит: "Напротив, поучиться у этих невежественных мудрецов, вечно занятых своими дума культурного общества". Тургенев рассказывает французским приятелям простоте и силе чувств", таящихся в народе. Блистательный рассказчик, он покоряет всех не только завор энциклопедизмом, широтою эрудиции. "В нем чувствовалось знание всего ог писал американец Г. Джеймс, - знание малодоступных другим явлений горизонт, в котором терялся узкий горизонт Парижа, и эта широта знания и п парижских литераторов". Своим присутствием в кружке, своими разговор национальные границы между разными культурами, поскольку условн чувствовала его по-русски отзывчивая и восприимчивая душа. Тургенева подчас удивляла и раздражала национальная кичливос замкнутость и обособленность. Какая там Россия! И в "цивилизованно стремились узнать то, что выходило за пределы Франции. В беседе с В. Г французский гений "ровно ничего не видит в сочинениях Гёте". Он не шиллеровского "Валенштейна", поскольку "никогда не читает этих немцев", написать и написали Гёте и Шиллер - "одного поля ягоды". Тургенева приво знает и английской литературы, а русская, конечно, ему вообще представляе На традиционные обеды Тургенев является с томиками Гёте и Пуш знакомит французских писателей с красотами чужих литератур, перево немецкого, русского на французский, толкует, объясняет "своим мягким, с голосом". То же самое он делает в Германии и Англии. Его английски литературы Вильям Рольстон покорён глубиною познании и мастерств обладает Тургенев. И Мопассан говорит о "величайшем очаровании и рассказов и бесед". Порой миссионерская деятельность Тургенева наталкивается на глух друзья, отказываются принимать тургеневский культ женственности, особую героинь. Ипполит Тэн, известный французский историк, прочитав роман "Нов совсем дезориентирован насчет ваших нигилистов. Я столько слышал о ни собственность, семью, мораль... А в ваших романах нигилисты - единствен меня поразило их целомудрие. Ведь ваши Марианна и Нежданов даже не п разу, хотя поселились в уединении рядом. У нас, французов, это вещь нев происходит? От холодного темперамента?" Когда в кругу литераторов речь заходила о любви, то французский ш этого святого для Тургенева чувства он воспринимал, по мнению францу изумлением варвара". Его попытка возразить, его стремление уб "натуралистического" приземления закончилась тем, что Альфонс Доде сказа - Никогда, mon cher, в этом не признавайтесь, иначе вы покаж насмешите. "Раз в Париже, - вспоминал Тургенев, - давали одну пьесу... Я французских писателей собрались на эту пьесу взглянуть, так как она нема она и журналистам я публике. Мы пошли, взяли места рядом и поместились Какое же я увидел действие? - А вот какое... У одного негодяя была ж Негодяй муж не только прокутил всё состояние жены, но на каждом шаг Наконец, потребовал развода... Он остаётся в Париже кутить; она с дет уезжает в Швейцарию. Там она знакомится с одним господином и, полюбив е всю жизнь свою до старости считается его женой. Оба счастливы - он труд ней, но и о её детях: он их кормит, одевает, обувает, воспитывает. Они родного отца и вырастают в той мысли, что они его дети. Наконец сын с сестра - девушкой-невестой. В это время состарившийся настоящий муж у получает большое наследство. Проведав об этом, старый развратник, б отношениях, задумывает из расчета опять сойтись с женой и с этой целью где живет брошенная им мать его детей. Прежде всего он знакомится с сыном и открывает ему, что он оте приходит спросить: отчего же, если он законный отец, он не жил с его мате его дети, то отчего, в продолжение стольких лет, он ни разу о них не поза мысленно упрекать свою мать и ненавидеть того, кто один дал ей покой и на сестру, как родных детей своих. И вот происходит следующее. На сцене брат и сестра. Входит воспит обыкновению, здороваясь, как всегда, хочет прикоснуться губами к голове д он привык смотреть как на родную дочь. В эту минуту молодой человек хватает его за руку и отбрасывает в ст - Не осмеливайтесь прикасаться к сестре моей! - выражает его негод имеете никакого права так фамильярно обходиться с ней! И весь театр рукоплещет, все в восторге, - не от игры актера, а от так поступка молодого человека. Вижу, Флобер тоже хлопает с явным сочувств сцене7. Когда мы вышли из театра, Флобер и все другие французы стали молодого человека достоин всяческой похвалы и что поступок этот высокон которое сказалось в нем, поддерживает семейный принцип или то, что назыв И вот чуть ли не всю ночь я с ними спорил и доказывал противное, омерзительный, что в нем нет главного чувства - чувства справедливос явилась на русской сцене, автора бы не только ошикали - стали проповедующего неправду и безнравственность. Но, как я ни спорил, что н своем мнении. Так мы и порешили, что русский и французский взгля безнравственно, что хорошо и дурно, - не один и тот же..." Вероятно, это стол особенно чувствительно: оно обнаруживало с французской точки зрения аб искренних отцовских чувств, которые питал Тургенев к детям Полины и Луи Марианну, возил с собою постоянно ее фотографии, показывал с неиз восхищения своим русским и немецким друзьям. Другой любимицей Турге По-отцовски он преувеличивал ее способности, считал едва ли не гениа впоследствии удивить весь мир... И вот перед лицом французского формал его трогательная отцовская доброта легко и даже торжественно упразд гражданства сентиментальность "нецивилизованного варвара", оскорбляюще Никогда не переоценивал Тургенев и меру своей писательской по среди близких друзей. Гонкур читал лишь "Записки охотника", не далее уш при первой их встрече Тургенев пришел в изумление: "Правда, вы читали м как плохо раскупаются в Париже его книги. "Я в глазах здешней публики не и Едва знают мое имя, да и с чего им знать?" - писал Тургенев русским друзьям Действительно, по-настоящему ценили и знали Тургенева-писателя Флобер не пользовался в те годы популярностью. И его, точно так же не изб часто утешал и убеждал "работать твердо для нас обоих", "не поедать самог И в Англии Тургенева знали только отдельные литераторы. Так Диккенса, он присутствовал на обеде в честь лорда Пальмерстона и сидел р официальных обедах, здесь царствовала скука и монотонность. Тургенев "Пальмерстон произнес длиннейшую речь весьма дюжинного сорта, так ка замечательных ораторов. После обеда Теккерей начал расспрашивать сомневаясь даже в ее существовании. Зная резкий и грубоватый характ отделывался от него шутками, но он напирал все сильнее и сильнее, гово чтобы его, Теккерея, романы были известны русской публике и что он в пер после появления в английской печати тотчас переводится на русский язык. "С ваши журналы?" - допытывался Теккерей. Услыхав, что от 7 до 10 тысяч, он сказав, что литература ценится по рублю и что подобная литература есть о при цензуре; следовательно, и замечательных писателей там не может быть я отвечал ему тоже неделикатно, что у нас есть романист-сатирик, кото уважении к таланту его, Теккерея, стоит выше его во всех отношениях. Текке спросил, как имя его, я назвал Гоголя, доказывая ему, что это великий ю комедиях. "Хорош гениальный писатель, о существовании которого Европ десять тысяч!" Вот вам и моя размолвка с Теккереем, из которой вы видит англичан к нам, русским". Тогда же, в начале 60-х годов, Тургенев познакомился с Т. Карлейле знали и любили автора "Записок охотника". Только что вышли в свет двена дней" этого английского мыслителя, в которых он смеялся над эмансипац филантропией. Наступало время, когда даже поклонники Карлейля перестал При первом знакомстве Карлейль сказал Тургеневу: "Движение мановению одной могущественной руки вносит цель и единообразие в и стране, как Великобритания, иногда бывает утомительно видеть, как вся высунуть голову наподобие лягушки из болота и квакать во все горло. Подо лишь к замешательству и беспорядку". "Это чрезвычайно курьезный факт, - говорил Тургенев Карлейлю, - ч со свободными учреждениями, восхищаются деспотическими правительства деспотизм на расстоянии. Если бы вы пожили в России месяца два в одно собственными глазами убедились бы в обратном. Тот, кто утомлен демократией, потому что она создает беспор готовящегося к самоубийству: он утомлен разнообразием жизни и мечтает о До тех пор, пока мы остаемся индивидуумами, а не однообразными п типа, жизнь будет пестрой, разнообразной и даже, пожалуй, беспорядо столкновении интересов и идей лежит главная надежда. Величайшая прелес том, что они дают широкий простор для индивидуального развития, а позволяет, да и не может позволить. Конечно, бывают обстоятельства, когда право меньшинство. Но это природе здоровье всегда преобладает над болезнью; если бы в мире возобл у человечества не хватило бы жизненных сил для продолжения существован Тургенев много сделал для знакомства России с французскими писат язык легенды Флобера и весь гонорар за эту публикацию передал своему д на помощь в самую трудную минуту: "Ни одно издание не принимало мен бросали грязью со всех сторон, и вот в это время он ввел меня в эту велику полюбили", - вспоминал Золя. Через Стасюлевича, редактора "Вестника Ев постоянным сотрудником этого журнала, взял на себя всю деловую перепис усилий, чтобы русские читатели оценили по достоинству талант Мопассана Тургенева Мопассан сказал: "Он был прост, добр, в высшей степени прям предан необыкновенно и верен своим друзьям, мертвым и живым". Нельзя не подивиться, с какой настойчивостью Тургенев пропаг Толстого. Несмотря на личные недоразумения, он по-прежнему считал е литературной братии, внимательно следил за его творчеством и через пос Толстого согласие на перевод "Двух гусаров", а потом "Казаков" и "Войны и м Переведенную "Войну и мир" он лично развозит французским кр буквально торжествует, получив от него следующее письмо: "Спасибо, ч прочесть роман Толстого. Это первоклассное произведение. Какой художник тома великолепны; третий значительно слабее. Он повторяется и философ он сам, писатель и русский человек, в то время как раньше перед н Человечество. Подчас он напоминает мне Шекспира. Во время чтения восторга... а чтение это долгое!" Тургенев добивается перевода на немецкий язык романа А. Ф Английскому литератору и другу Рольстону он с готовностью сообщает познакомить Ваших соотечественников с нашей литературой. Не говоря произведения графа Льва Толстого, Островского, Писемского и Гончарова м своей новой манере восприятий и по передаче поэтических впечатлений; не Гоголя наша литература приняла оригинальный характер". "Познакомить Европу с Вами - мне вот как хочется!" - пишет он А рекомендует Э. Дюрану перевести драму "Гроза" на французский язык, но "Мы вдвоем ее прошли тщательно - я все ошибки выправил". В своей роли миссионера и ходатая по делу русской литературы Ту обиды, которые порой наносили ему литературные собратья. Ф. М. тургеневским "Дымом", в романе "Бесы" выводит карикатурный образ Тур Кармазинова, читающего русской публике с кокетливой фразистостью св "Мерси!". "Мне сказывали, - пишет Тургенев Я. П. Полонскому, - что Досто Пускай забавляется!.. Но, боже мой, какие дрязги!" И вот спустя шесть ле Достоевскому, рекомендуя ему знакомство с французом, составителем представителях русской словесности: "Я решился написать вам это письмо, нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения пре сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого вли первоклассном таланте и о том высоком месте, которое вы по праву занимае Однако недоразумения возникали и на пути миссионерского призван показалось, что многие сюжеты западноевропейских писателей, друзей Турге с сюжетами и образами его романа "Обрыв". Сначала Гончаров увидел эти с "Дача на Рейне", вышедшем в русском переводе с предисловием Тург "Вестник Европы", непосредственно перед "Обрывом". Потом сходство обн "Госпожа Бовари", но особенно - в "Воспитании чувств". Не искл подозрительности способствовали в немалой степени и гончаровские не Европы". Зная мнительность автора "Обломова" и, вероятно, с умысло расшевелить, редакция "Вестника Европы" опубликовала фрагменты из "Во их следующим предисловием: "Не знаем, приходили ли нашим читателям н между лицами романа Флобера и лицами наших русских известных ром напомнили родное, особенно Фредерик... Off напоминает хорошо знакомого тем различием, что Флобер отнесся еще объективнее к своему герою, чем на "Чеченец бродит за рекой!" - оповещал Гончаров своих приятелей об в Петербург. От примирения между писателями у могилы Дружинина в 1864 г Их примирила только смерть Тургенева. Когда Гончарова пригла памяти Тургенева, он послал на имя распорядителя следующее письмо: "По для литературы, для всего русского общества, друзей и горячих поклон сливаю свой слабый, неслышный голос с общим хором голосов всей об глубины души восклицаю: "Мир праху твоему, великий художник!" Неизменное и бескорыстное внимание Тургенев проявлял не то Предметом его забот были молодые таланты. Он постоянно кого-то реком хлопотал, кого-то опекал, кому-то покровительствовал. Н. Ф. Щербина да эпиграмму: "Тургенева во сне видеть - предвещает получить тонкую способ там, где его вовсе нет..." Тургенев действительно часто ошибался в свои отсутствия эстетического чутья, сколько по мягкости характера и по св несколько переоценить новичка, из желания вселить в него веру в успех, а помочь ему. Временами он шел на обман: посылал произведение молодого а платил ему гонорар из своих средств, а редакторов просил не выдавать его он сообщал М. М. Ста-сюлевичу: "Умирая с голода, он один никому не прот солгать и сказать ему, что Вы приняли его статью и выслали мне за нее 1 выдавайте меня". Редактору "Русской мысли" С. А. Юрьеву о переводчике одной повест него, разумеется, ни гроша, а он горд (вообще он очень хороший человек) < деньги я ему выдам, как будто полученные за перевод, но вы, пожалуйста, меня и согласитесь разыграть роль в моей маленькой и печальной комедии". Тургенев глубоко сочувствовал русской революционной эмигра выброшенным за пределы своего отечества. В эмигрантских кругах Па потерянностью в огромном я чужом городе. В поисках средств к существова невероятной изобретательности, особенно людям семейным. Выбитые из инстинктивно тянулись друг к другу, но искреннего общения между ними не замыкались, развивалась болезненная мечтательность, строились с фантастические планы, вспыхивала взаимная подозрительность, возникали с И все эти "алчущие и страждущие" несчастные люди устремлялись к всякий; он ни у кого не спрашивал рекомендательных писем. Говорили, ч строгая дисциплина дома Виардо, у него вряд ли были бы часы для со талантов, начинающих и непризнанных, стучалось в его гостеприимную нервный, озлобленный, издерганный, с болезненной чувствительностью Желание стать писателями у этих людей возникало, как правило, не по в жестокой необходимости. Естественно, что Тургенев не мог всех удовлетво даже враждебно к нему настроенные люди. "Часто приходилось слышать: "Тургенев прочитал мою повесть - и в лестное письмо в редакцию..." Или: "Тургеневу так понравилась моя карти чтобы показать... (называлось имя знаменитости в художественном мире)". И повесть возвращалась автору, а картина не проходила на выставку, на упреки: он один оказывался во всем виноватым. Он и письмо-то дал в редакц отвязаться, и картину никому не показывал, так как никаких знакомств сре него на самом деле нет. О "неискренности" Тургенева распускались слухи, в которых он чаще отказать, боялся огорчить. А если и делал порой замечания, если и сомнев деликатной форме, что у просителя складывалось впечатление, что Тургенев Когда же ему заявляли: "Это для меня жизненный вопрос!" - Тургене соглашался, бормотал: "Тут что-то есть", - давал рекомендательные письм возвращались, а покровитель оправдывался виноватым голосом: "Уж это мо как фальшивый пачпорт (он любил так произносить это слово), всегда имею Вспоминали: "Однажды пришел к нему молодой человек, бедно о своим надменным, почти дерзким лицом. Он поздоровался с Иваном Серге два-три вопроса, уселся в кресло и стал курить. Посидев таким образом с че "Тургенев, дайте денег!" Иван Сергеевич сконфузился и поспешно увел пос притворив за собой дверь. Когда оба вернулись, у молодого человека потуплены. Тургенев любезно проводил его до лестницы, и затем долго застенчивые и робкие люди нарочно напускают на себя ухарство, чтобы выйт Для материальной поддержки русской эмиграции Тургенев провод музыкальные вечера. Он был одним из организаторов "Общества благотворительности русских художников в Париже", 30 процентов до "русскому консулу для подачи помощи русским подданным". Отличавшемуся скуповатостью А. А. Фету, не желавшему платить в Тургенев писал: "Вы... "не шутя не знаете ни одного бедного литератора". Эт вообще мало знаете. Укажу Вам на один пример. Недавно А. П. Афанасьев его литературные заслуги будут помниться тогда, когда наши с Вами, любез мраком забвения. Вот на такие-то случаи и полезен наш бедный Вами столь Бывало, что этой безграничной добротой и щедростью Тургенева по просители. Но именно он помог в трудную минуту жизни русскому учен Миклухо-Маклаю, художнику-графику В. В. Матэ, итальянскому революцио другим выдающимся людям. Он устанавливал постоянные пенсии, выда обращения к состоятельным соотечественникам - П. М. Третьякову, С. С. обращался к нему - учащаяся молодежь, политические эмигранты, ученые, х его прозвали "послом русской интеллигенции". Причем к эмигрантам "по призванию" Тургенев относился к выслушивать от него такие, например, упреки: "Будет вам шататься за гр Здесь вы только истреплетесь и изверитесь. Как ни тяжела для мыслящего там, все-таки, вы на родной почве, которая постоянно воздействует на в вашей мысли, поддерживает жизнь и энергию. Поезжайте; вы еще недос оценить разрушительное действие жизни вне родственной среды, в обязанностей, без определенной цели и деятельности... Я лучше вас б границей, да и то, в сущности, прозябаю и все чего-то жду... и не дождусь уж С годами Тургенев все яснее осознавал драматические последств Встретившись с Тургеневым в Париже на выставке 1878 года, русский л доволен ли Иван Сергеевич Парижем, не скучает ли по России. И вот что он "Русскому нельзя не скучать по России, куда бы он ни приехал. Дру не найдется. Россия - русские - это нечто совсем особенное. Потому нас н понимает; в особенности не способны на это французы. Я живу здесь в кру эта интеллигенция ничего не видит дальше своего носу. Она не понимает х наций. Гений Англии, Германии, Италии - для французов почти не существу Исключения, впрочем, изредка бывают. Жорж Санд понимала нас так, как б все понимала! Это было совершенно исключительное создание, ни на кого не И вот этот "неисправимый западник", неутомимый спорщик со славян в "Дыме" в разговорах с французскими литераторами развивает славянофил своем дневнике записи таких разговоров: "Да, вы люди латинской расы, в вас еще жив дух римлян с их пре правом; словом, вы люди закона... А мы не таковы... Как бы вам это объясн нас в России как бы стоят по кругу все старые русские , а позади них толпят говорят свое "да" или "нет", а те, что стоят позади, соглашаются с ними. И закон бессилен, он просто не существует; ибо у нас, русских, закон не к Например, воровство в России - дело не редкое, но если человек, сове признается в них и будет доказано, что на преступление его толкнул оправдают... Да, вы - люди закона и чести, а мы, хотя у нас и самовластъе , Он ищет нужное слово, и я подсказываю ему: - Более человечные! - Да, именно! - подтверждает он. - Мы менее связаны условностями, м Западник, опровергавший К. Аксакова и Герцена по всем пунктам общине, вдруг противопоставляет римскому праву "соборное" решение во существует в русском крестьянском миру. Ругая славянофилов за то, что они систематики, что они создали подгоняют всю русскую жизнь под эту идею, Тургенев довольно час противников. "Кто говорит - конечно, мы во многом отличаемся от западноев хоть то, что вы говорили об индивидуализме - я согласен с вами: русский го чем западный европеец, - внушает Тургенев А. Луканиной. - И нравственнос общественного чувства, развившегося на почве русской общины". Один из парижских знакомых Тургенева вспоминал: "Несмотря на св аксаковского пошиба и свое так называемое "западничество" (термин весьма почему-то получивший твердое право гражданства в русской печати), Турге нравственной и психической разнице между русским и западноевропе придававшей совершенно особый склад жизни, культуре и всему будущему р "Обратите главное внимание на то обстоятельство, - заметил он мне - что в русском народе продолжаются психические процессы самоопределен тогда как во Франции замечается во всех классах какая-то культ нравственная и идейная законченность, точно нация исчерпала весь запас с мы, русские, еще духовно прогрессируем, растем, ищем истины, новых форм Вот я занят теперь более серьезной вещью; мне давно хочется выразилась бы коренная разница духовных основ русского человека и фран глубину психических причин и мотивов у русского протестанта и отщепе традиционной шаблонностью французского революционера, который н установившихся рамок, идет по утоптанному руслу, верит в себя и в свои вечно копается в своей душе, вечно занят разрешением нравственных вопр знаю только, удастся ли мне довести дело до конца и справиться с сюжетом. Тургенев, считающий революционной силой культурный слой о просвещать народ, в то же время высказывает тревогу по поводу неко особенностей "русского европейца". С "легкостью в мыслях необыкнове предмета вчерашнего поклонения с тем, чтобы, спустя некоторое время, с т кумира сегодняшнего дня. Отсутствие в душе прочных культурных устоев п фанатизма: "Нам нужно не вносить новые общественные и нравственные идеал предоставить ей свободу возделывать и растить те общественные идеал зародыши которых кроются в ней самой, - говорил Тургенев. - Я не прина проповедуют необходимость учиться у народа, искать в нем идеал и правду усвоенного европейской цивилизацией, отказаться от своей культурной народного уровня. Это и нелепо и невозможно. Но и насильственно влам чуждыми ей принципами и теориями (а таковы все революционно-социал пересадить их на русскую народную почву) - нет никакого резона; лучше свободу устраиваться самому, предоставляя ему всё необходимое и огра бескорыстных набегов на его жизнь". Тургеневское недоверие к завершенным общественным доктринам, и всяческим иным системам порождалось ощущением особой опасност ищущего, духовно не защищенного русского человека. Они были тем боле освободившейся от бремени крепостной зависимости. Об этом со всею прям говорил в романе "Дым" Потугин: "Что прикажете делать?! Правительство освободило нас от крепостн но привычки рабства слишком глубоко в нас внедрились; нескоро мы от ни всюду нужен барин: барином этим бывает большею частью живой субъ называемое направление над нами власть возымеет... теперь, например, мы кабалу записались... Новый барин народился - старого долой! То был Яков, ноги Сидору!" "Посол русской интеллигенции", плохо понимаемый своими соотеч себя своим человеком и на Западе, даже в кругу семьи Виардо: "У меня есть - люди, которых я люблю и которыми любим; но не всё, что мне дорого, так ж не всё, что волнует меня, одинаково волнует и их... Отсюда понятно, что продолжительные периоды отчуждения и одиночества". "Слава - да... знаменитость - да... любимая деятельность... - задумчи разумеется, совершенно отдельное помещение в Париже... Бывают дни, ког знаменитость за то, чтобы вернуться в свои пустые комнаты и застать та заметил и спохватился, что меня нет, что я опаздываю, не возвращаюсь во день, на два, и этого не заметит никто. Подумают, что я отозван кудаПариже". "Разубедить в чем-нибудь французское общество и представителе другое предубеждение, как, например, к нашему отечеству, к России и русс порядкам, к нашей литературе, к нашим нравам и обычаям, - дело невозм труда!" И тем не менее Тургенев с завидным упорством и последовател англичанам и немцам уважение к русской литературе и добивается заметны участвует в Первом международном литературном конгрессе в Париже. Отк под председательством В. Гюго. Конгресс был созван по инициативе фра решили воспользоваться присутствием иностранцев-литераторов на Пар Собралось более трехсот писателей из Англии, Франции, Германии, Итали Бельгии, Голландии, Швеции, Австрии, Северной Америки, Швейцарии, Ро писателей обратилось к Тургеневу с просьбой назвать имена русских л желательно. По его рекомендации были официально приглашены Тол Полонский, но, к огорчению Тургенева, никто из них на конгресс не приехал. Обсуждались международные законы по охране авторского прав комиссии конгресса, занимавшейся этой проблемой, был избран Турген отстаивал интересы русских литераторов. "Мы, русские, - говорил он, - пока деньги за переводы с французского на русский язык. Вы, французы, нас вполне игнорируете; мы же переводим все ваши новинки. И кто у нас занима Бедная молодежь: курсистки и студенты, для которых эта работа часто сост к существованию". В официальной речи от лица русских литераторов Тургенев го французской культуры на русскую: "Двести лет тому назад, еще не очень по вам; сто лет назад мы были вашими учениками; теперь вы нас приним происходит факт необыкновенный в летописях России, - скромный про говорить перед вами от лица своей страны и приветствовать Париж и Франц идей и благородных стремлений". В доме на улице Дуэ по-прежнему царила артистическая атмо устраивались концерты с благотворительной целью, музыкальные "утра", участвовали русские и французские писатели, певцы, музыканты, художн литературно-музыкальном утре в пользу русской читальни в Париже чит Тургенев, Н. С. Курочкин, Г. И. Успенский. Исполняла русские романсы Пол когда она пела романс П. И. Чайковского "И больно и сладко", Тургенев Художник В. Д. Поленов рассказывал, как "Иван Сергеевич стоял в углу и п С. И. Танеев, постоянный участник "четвергов", писал своим родным в Ро получил удовольствия от этих вечеров и больше всего от пения самой Виар хорошо поет, и вряд ли услышу". В доме Виардо часто бывали Г. Флобер, И. Тен, О. Конт, Ж. Массне, р В. Д. Поленов, А. П. Боголюбов, А. К. Беггров, Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, гостями были старые друзья дома - Э. Ренан, Тома, Гуно, Сен-Сане, Ож разумно и весело под руководством неистощимой на выдумки Полины Виар в декабре 1874 года: "Сумасшедшие французы!!! Вот так веселятся: п перепробовали, начали с пенья и музыки, потом импровизировали мал отличился, сколько в нем молодости и жару!!!), фанты и кончили танцами. В глупости Сен-Сане (чуть на голове не ходил), танцы играя". По воспоминаниям В. Д. Поленова, Виардо "была очень живая драматические сцены". По воскресеньям в тесном дружеском кругу ча Превращали в сцену часть гостиной с выходом в столовую, служившую убор звуки импровизированной увертюры - и начинались шарады, "самые шутовс действующие лица - Тургенев и Сен-Сане, с ними географ Поль Жоанн, дал Они наскоро сговаривались, намечая основной сюжет шарады, - и начинал которая длилась от пяти минут до целого часа, в зависимости от вдохновени Например, соорудили на сцене анатомический театр. Вышел профе окружении студентов-медиков, среди которых бросалась в глаза молодая а Жоанна. Посреди сцены на столе лежал труп - Сен-Сане, обернутый в р начинал лекцию, в ходе которой выяснялось, что пациент скончался от "нази носа. Профессор прикасался к длинному носу Сен-Санса скальпелем - внезапно оживал. В суматохе англичанка падала в обморок и приходила Оказывалось, что влюбленный Сен-Сане специально прибегнул к хитро лампы. Начинался любовный дуэт. Над ширмой поднималась луна - огромна Вечера заканчивались чаепитием вокруг большого самовара, которы России. Тургенев старался "не мешать русских с французами", и поэтому на как правило, его соотечественники. Весело и оживленно, например, прошла 1877 года по старому стилю и на русский лад - с гаданиями, ряжеными и свят И. Е. Репин замечал, что мнения Полины Виардо были для Турген вкусы и суждения воспринимались как беспрекословные. Так, первый сеанс в марте 1874 года ознаменовался для Репина удачей, был найден очень внутреннее существо тургеневского характера. Радовался Репин, радовал поздравляя художника с успехом. Но уже на другой день Тургенев прислал огорчительную записку портрет, ей не понравилось выражение лица - наиболее удачная с точки Тургенева находка. Виардо настаивала на другом повороте фигуры, друго подход неудачным. И Тургенев отказался от своей первоначальной оце Виардо. Пришлось скрепя сердце уступить. "Каждый раз я не могу равно сверху голову, - говорил Репин, - которая была так удачна по жизни и сходст Однажды утром Тургенев "особенно восторженно-выразительно" приготовился: "Сегодня нас посетит мадам Виардо! Она обладает большим Репину, как надо поклониться, какие слова сказать. Когда прозвенел звонок, Репин не узнал Ивана Сергеевича: "О восторгом". "Как он помолодел!.. Он бросился к дверям, приветствовал, су Виардо!" Приглядываясь к богине Тургенева острым взглядом художни "очаровательная женщина", что "с нею интересно и весело". Впоследствии, бывая на музыкальных вечерах в салоне Виардо, Р именно Виардо "руководила приговором о достоинствах новых явлени обращались за разъяснениями, и даже муж её, Луи Виардо, ждал, как око супруги. Тургенев же в этом триумвирате оказывался лишь третьим лицом суждениям Полины, он в то же время дорожил и мнением Луи, всякий раз ож с нею. Так случилось, например, с художником А. А. Харламовым, написав Виардо. Оба эти портрета были выставлены в Палэ д-Индустри. Тургене художниками, серьезно заявлял, что Харламов теперь - лучший портретист во всем мире. Такая категоричность, не совсем обычная для сдержанного Т что "Харламов был уже признан госпожой Виардо: следовательно Харламов Летом Тургенев с семейством Виардо отправлялся на дачу в Бужи ("Ясени"). Уезжали с вокзала Сен-Лазар. В Аржантейле обычно пересажив плыли по Сепе. По берегам тянулись ряды тополей и лип, краснели в зел вилл. Весело свистя, пароходик проплывал под арками железнодорожных праздничными флажками лодки с отдыхающей публикой в пестрых показывался, наконец, высокий шпиль старинной церкви XII века, располо которого открывался вид на луга и ивы острова Круасси, прославленного ка Бужи вале жили французские художники-импрессионисты Ренуар, Клод Мон дачу и Николай Иванович Тургенев. К большому дому в гору вели две дороги, посыпанные крупным пе расположенных живописно, с большим вкусом, пестрели обильные цветники вились прихотливо узкие тропинки. И везде журчала, пела вода: не толь искусно набросанного камня. Струйки чистой ключевой воды выбивались из деревьев, и, журча, разбегались в разных направлениях. Около большого усадебного дома - маленький "le chalet", собственно входе в кабинет бросалась в глаза картина В. Д. Поленова "Московский дво два больших шкафа с книгами. По самой середине кабинета, перед кам письменный стол с аккуратно прибранными бумагами, книгами, номерами жу Здесь, в Буживале, Полина Виардо продолжала давать уроки пени открытых окнах. Услышав звуки музыки, на террасу часто поднимался Турге относился к успехам учениц Виардо, и, когда она просила послушать и занятий, Тургенев охотно делал это, а потом беседовал, шутил. Иначе вел себя Луи Виардо. Сгорбленный, молчаливый старик "с птицы" выходил в гостиную в халате и мягких туфлях, молча слушал п поворачивался и уходил в свою комнату. Лишь спустя некоторое время Пол мнение. В последние годы жизни Луи превратился в сварливого и капризного всегда, под башмаком у волевой и энергичной хозяйки дома. Но если Турге благо, то Луи впадал временами в угрюмое расположение духа, а пор невыносимом характере Луи Тургенев "проговорился" лишь однажды - в стих Однако неизбежные семейные неурядицы смягчались поэзией, муз Особенно нравились Тургеневу музыкальные вечера. Зажигали лампу в гост в четыре руки с одной из учениц или дочерей. Больной Тургенев садился на шаль. "Мы сидели в сумерках, - вспоминал Б. Фори, - а окна, выходивш лунным светом, были открыты. Не зная устали, великая артистка играла на "Лунную сонату" Бетховена"... Erlkonig С LoveToKnow 1911 ERLKONIG или ERL-король, мифический характер в современной немецкой литературе, представлена как гигантский бородатого человека с золотой короной и прицепного одежды, которые влечет за детьми в том, что неоткрытые страны, где он сам пребывает. Существует нет такой персонаж в древней немецкой мифологии, и зовут лингвистически не более, чем сохранение ошибка. Она впервые появилась в Гердер в Stimmen дер Фолькер (1778), где он используется в переводе датское песня "Эльф-Кинг" ы Дочь как эквивалент датского ellerkonge или ellekonge, то есть, elverkonge, царь эльфов; и верно немецкого слова были бы Elbkonig или Elbenkonig, впоследствии использоваться под измененные формы Elfenkonig по Виланд в его Оберон (1780). Гердер, вероятно, был введен в заблуждение bÿ факт, что датское слово elle означает не только эльф, но и ольхи дерево (Ger. Erle). Свою ошибку во всяком случае, была закрепляют обе Английский и французский переводчики, которые говорят о "царь alders "," снимите roi дез aunes ", и найти объяснение мифа в дереве-культовые сооружения ранних времен, или в vapoury emanations, что висят, как странные фантомов круглый ольха деревьев в ночное время. Легенда была принята Гете как предметом одного из своих лучших баллад, вынесенное знакомы Английский читателей на переводы Льюиса и сэр Вальтер Скотт, и с тех пор оно рассматривалось в качестве музыкальной темы Рейхардт и Шуберта. <<Сэр Уильям Erle Получено с "http://www.1911encyclopedia.org/Erlkonig" Категории: EPP-EST | Поэзия Просмотры Статья Обсуждение Что нового Редактировать История Персональные инструменты Пол Erman>> Создать учетную запись или войдите navigation Main Page Community Portal Recent Changes Suggestion Box Random Page Help search LoveToSearch toolbox What links here Related changes Special Pages Последнее изменение этой страницы: 04:35, 3 сентября 2006. К этой странице обращались 2204 раз. О LoveToKnow 1911 Disclaimer and Terms Я ИДУ НА УРОК Майя КУЧЕРСКАЯ Иван Сергеевич Тургенев Глава из нового учебника Начало пути. Формирование взглядов. Германия и Гегель Ксвоему подлинному призванию в литературе Тургенев пробивался как бы на ощупь. Он начинал как поэт, имел на этом поприще некоторый успех и не подозревал в себе прозаика. Первый рассказ Тургенев опубликовал почти случайно, поддавшись уговорам знакомых. Но именно этот рассказ принёс ему известность и указал верное направление пути. Вместе с Толстым и Достоевским Тургенев вошёл в тройку русских писателейтитанов, впервые заговоривших о тайной жизни души человеческой. Но если для Толстого и Достоевского изображение психологии было важнее всего, то в вещах Тургенева сквозь события и лица неизменно проступал аромат времени. Он стал летописцем уходящей дворянской эпохи в России, её быта и пристрастий, её увлечений и заблуждений. Детство будущего писателя прошло в родительском имении Спасском-Лутовинове, или просто Спасском, расположенном неподалеку от города Мценска в Орловской губернии. О его матери, женщине нрава деспотического и жестокого, легко составить себе представление по известному рассказу Тургенева “Муму”. Образ барыни во многом списан с Варвары Петровны, да и сама история почти в точности воспроизводит реальные события. Отец писателя, отставной кавалерийский офицер, выходец из старинного дворянского рода, тоже оставил след в тургеневской прозе, послужив прототипом отца главного героя в повести “Первая любовь”. В 1833 году Тургенев поступил в Московский университет, затем перевёлся в Петербургский, а в 1838 году, после окончания словесного отделения философского факультета, отправился, по собственным его словам, “доучиваться в Берлин”. В Берлине юноша слушал лекции по философии, классической филологии и истории. Но едва ли не важнее полученных знаний для юноши оказалось знакомство с другими русскими студентами, подобно ему приехавшими в Германию искать “учёности плоды”. Тесное общение с ними, “русскими мальчиками”, взыскующими истины, превратило три года за границей в целую эпоху. Эпоху, до конца оформившую его взгляды, философские и человеческие пристрастия. В Германии Тургенев сблизился с будущим историком Т.Н. Грановским, Михаилом Бакуниным, позднее известным революционером, с Николаем Станкевичем, ещё в России ставшим основателем философского кружка. Приезд русских студентов именно в Берлин не был случайностью. Немецкая философия — как и немецкий романтизм, тесно с ней связанный, — давно стала для них предметом изучения, источником интеллектуального обновления и даже руководством к действию. Ещё до приезда в Германию Станкевич и его единомышленники, среди которых были не только Грановский, Бакунин, но и Белинский, и Константин Аксаков (один из основателей движения славянофилов), читали работы немецких философов — Шеллинга, Канта, Фихте. Теперь ориентиры несколько поменялись. Началось бурное увлечение диалектикой Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831), его всеобъемлющей наукой о развитии. Берлинский университет, в котором Гегель преподавал последние тринадцать лет жизни, стал центром изучения его философии. Русские поклонники Гегеля пытались применить его систему к российской ситуации, извлечь из неё и нравственный, и практический смысл. А потому обсуждение гегелевских идей легко переходило в обсуждение обычных русских “вечных” вопросов: “Что делать?”, “Кто виноват?”, “Быть или не быть?”. Нередко споры об этом длились за полночь, слова, как позднее будет сказано в романе “Рудин”, “лились рекой”. Тургенев эти слова впитал, запомнил и в 1841 году вернулся в Россию. Он надеялся и на родине посвятить себя философии, но кафедра философии в Московском университете, где он хотел преподавать, закрылась. К тому времени в печати уже стали появляться его первые стихотворения. Куда и зачем отправился Тургенев после окончания Петербургского университета? Кто стал властителем дум молодежи конца 1830-х — начала 1840-х годов? Тургенев-поэт В зрелые годы Тургенев стеснялся своих ранних поэтических опытов и никогда не включал их в собрания сочинений. Между тем стихи молодого Тургенева вовсе не были откровенно плохи. Они были заурядны. Так или почти так мог написать стихи любой грамотный, образованный, начитанный и владеющий словом молодой человек. Останься Тургенев лишь поэтом, его стихи были бы забыты. Но появившиеся позднее прозаические вещи писателя придают его лирике дополнительный смысл. Стихи дают нам уникальную возможность рассмотреть механизм превращения поэта в прозаика, обнажить рельеф его восхождения к прозе. Традиционные романтические мотивы — разочарованность, одиночество лирического героя, “погибшая” любовь, таинственность бытия, — на которых построены самые первые стихи Тургенева, постепенно вытесняются из его поэзии совсем другими образами. Стихи начинают тяготеть к чётко прорисованной предметной детали, жанровой сценке, портрету. Размеренное дыхание прозы всё настойчивей остужает романтический пыл тургеневской поэзии и заметно улучшает её качество. Но чем “прозаичнее”, тем ярче оказываются стихи Тургенева! Это особенно заметно по циклу “Деревня” (1846), где даже строки стихотворений удлиняются, а в стихотворении “Первый снег” исчезает рифма. Юношеское увлечение поэзией не прошло для Тургенева даром, навсегда обогатив его прозу музыкальностью и внутренним ритмом. По-видимому, есть своя логика и в том, что в конце жизни Тургенев снова обратился к поэзии (правда, уже на новом уровне и написал целый цикл “Стихотворений в прозе”. Прочитайте поэму Пушкина “Домик в Коломне” и поэму Тургенева “Параша”. Сравните их. Что, кроме имени главной героини, их объединяет? Обратите внимание на язык и интонации Пушкина и Тургенева. В чём принципиальное различие задач, которые ставят перед собой авторы? “Записки охотника” В 1846 году журнал “Современник” перешёл в руки Н.А. Некрасова и В.Г. Белинского и превратился в один из самых ярких журналов эпохи. Иван Панаев, редактор преобразованного журнала, обратился к Тургеневу с просьбой дать что-нибудь для раздела “Смесь”. Тургенев отдал очерк “Хорь и Калиныч”. С этого дня началось сотрудничество Тургенева с журналом, продолжавшееся ещё долгие годы — до тех пор, пока в 1860 году Тургенев не порвал с редакцией журнала из-за идеологических расхождений. Пока же Панаев снабжает очерк молодого писателя подзаголовком “Из записок охотника”, в первом номере “Современника” за 1847 год “Хорь и Калиныч” выходит и принимается читателями с восторгом. Читательский успех “Хоря и Калиныча” подтолкнул Тургенева к созданию новых рассказов, которые позднее были изданы отдельной книгой (1852). Тургенев вступил наконец на твёрдую тропу прозы, которая и вывела его к новым художественным открытиям, к новому, необыкновенно пластичному художественному языку. “Записки охотника” — цикл охотничьих рассказов. Рассказчик, страстный охотник, бродит по российским губерниям, стреляет дичь, а заодно встречается с окрестными крестьянами, беседует с ними, наблюдает их жизнь, слушает их разговоры. Как будто ничего особенного. Почему же современники ждали выхода каждого очередного рассказа “Записок” с таким нетерпением? Да потому, что им было интересно. “Записки” — бесконечная портретная галерея, только смотрят с этих портретов не блестящие генералы, не разочарованные юноши, не задумчивые барышни, не помещики, не чиновники — простые крестьяне. Мужички, бабы, дети. Весёлые, хитрые, угрюмые, великодушные, плачущие, тоскующие, убогие, ласковые, жестокие, отчаянные головы и смиренники — очень разные. И очень настоящие. Это было читателю внове, таких героев в литературе он никогда ещё не встречал. Среди просвещённой русской публики давно уже ощущалась усталость от причудливых романтических фантазий, да и вообще от любого вымысла, от беллетристики — публика взалкала правды. Не той художественной и жизненной правды, которая и так присутствует в любом хорошем литературном произведении, а правды документа, правды о том, о чём говорить и писать было до сих пор не принято. Ответом на эту потребность и стало возникновение “натуральной школы”, главным жанром которой был физиологический очерк. В нём описывался быт и образ жизни людей низшего слоя общества — дворника, уличного шарманщика, женщины, торгующей своим телом, нищего, торговца, мелкого служащего. “Записки охотника” во многом отвечали требованиям “натуральной школы”, Тургенев совпал с литературной модой времени. В этом тоже причина его успеха. Он заговорил с публикой на темы, по которым она давно соскучилась. Вместе с тем его взгляд на своего главного героя — на крестьянство, на народ — оказался намного шире “физиологического”. Спустя десять лет после выхода первого рассказа “Записок” в романе Гончарова Илья Ильич Обломов обратится к литератору “натуральной школы” с гневной речью: “Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? <...> Любите его, помните в нём самого себя и обращайтесь с ним, как с собой, — тогда я стану читать вас и склоню перед вами голову...” Именно это и удалось Тургеневу — изобразить крестьянина не как голую социальную функцию, а как человека. Народ, о благе которого с таким жаром толковала мыслящая часть общества, тем не менее оставался для неё неразгаданным сфинксом. Дистанция между крестьянством и дворянами была огромная. Разумеется, попытки преодолеть или хотя бы сократить её уже предпринимались. Примеры тому хорошо известны. “Путешествие из Петербурга в Москву” А.Н. Радищева указывало на то, что крестьянство страждет, что оно раздавлено несвободой и произволом помещиков. Но “Путешествие” скорее было описанием крестьянских тягот и бед, чем облика, лица самого крестьянина. “Бедная Лиза” Н.М. Карамзина напоминала читателю о равенстве всех людей перед чувством, о том, что глубоко и сильно чувствовать могут и простые крестьянки. В своё время это было открытием, к середине ХIХ века превратилось в очевидность. Ещё один шаг по преодолению бездны между дворянами и простым людом сделали романтики. Именно они начали записывать народные песни, сказки, обычаи. Но, во- первых, песни и сказки обнажали лишь одну, в общем парадную сторону крестьянского бытия, во-вторых, романтики смотрели на народную культуру как на любопытный объект изучения, как на экзотику, а это неизбежно вело к искажениям. В крестьянине желали видеть образец для подражания. “Естественный человек”, дитя природы, обладал в романтической системе ценностей гораздо более гармоничным и цельным мировоззрением, чем измученный рефлексией “человек цивилизации”. К середине XIX века крестьянский мир по-прежнему оставался областью закрытой. Тургенев открывал перед взором читателя целую неведомую страну — со своими законами, языком, идеалами; но что ещё удивительнее — страну, населённую людьми. Не крестьяне “тоже люди”, как это было у Радищева и Карамзина, не крестьяне “лучше нас”, как это было у романтиков, а ещё проще, ещё человечнее: крестьяне — люди. Крестьянин — человек. Судя по успеху рассказов, эта в общем-то тривиальная истина оглушила современников Тургенева. В первом рассказе цикла, “Хорь и Калиныч”, дано два крестьянских портрета — приземистого, плечистого Хоря и длинного, худого Калиныча. В отличие от Хоря, скопившего капитал, отца большого и послушного ему семейства, Калиныч безбытен, бездетен, хозяйства у него нет. Хорь крепко стоит на ногах, хорошо ориентируется в действительности, ладит с барином, жадно интересуется жизнью за границей. Последняя деталь — укол Тургенева славянофилам; в пику своим идеологическим противникам писатель желал подчеркнуть: русский человек “мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперёд”. Калиныча трогают только описания заграничной природы, он мечтателен, восторжен, боготворит своего чудаковатого и прижимистого барина (Хорь по его поводу иллюзий не питает), хорошо разбирается в травах, умеет заговаривать кровь, испуг, бешенство, разводит пчёл, “рука у него лёгкая”. Различие характеров не мешает крестьянам приятельствовать и не препятствует внутреннему, духовному родству — оба они поют одни песни. В одной из последних сцен рассказа Калиныч играет на балалайке, а Хорь напевает свою любимую песню “Доля ты моя, доля!”. Общая песня вдруг объединяет их, таких непохожих, а жалобный смысл её вносит в портрет Хоря новую краску: и он, несмотря на свою практичность, оказывается не чужд мечтательности и, возможно, не так безоблачно благополучен, как могло показаться читателю вначале. Сверхзадача этого вроде бы незатейливого описания двух крестьян ясна: и в том и в другом — неведомые глубины, в которые стоит заглянуть, которым стоит изумиться. Вместе с тем тургеневские герои — люди, а не боги. Писатель замечает и их слабости. Прочитайте один из лучших рассказов цикла — “Певцы”. Его герой, Яков-Турка, обладает удивительным даром — поёт так, что всем становится “и сладко, и жутко”. “Я, признаться, — замечает рассказчик, — редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; но в нём была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь <...> Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль”. В устроенном мужиками певческом состязании Яшка легко перепевает своего соперника, поющего мастерски, но без души. Заканчивается соревнование всеобщим разгулом, Яков шумно отмечает свою победу и вскоре становится мертвецки пьян. “С обнажённой грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом”. Тургенев сознательно даёт параллель к сцене дневного пения Яшки. Ничего не осталось от былой пронзительности и глубины. Не великий певец перед нами — жалкий, пьяный мужичок. Впрочем, в “Записках охотника” мелькает и другая мысль — мужик пьёт с горя (см. рассказ “Однодворец Овсянников”). Горе, невинные мучения — неотъемлемая составляющая крестьянской жизни в тургеневских рассказах. Его герои поют, шутят, смеются, но гораздо чаще плачут, их жизнь очень трудна, они вынуждены не жить — выживать. Их притесняют, обижают, не дают любить любимых, отдают в солдаты за случайно пролитый шоколад, секут. Постоянное, невидимое страдание разлито во всём их существовании, хотя большинство из них не понимает причины своих несчастий. Сами герои никого не винят. Но виноватый есть, и Тургенев хорошо знает его имя — крепостное право. О страшных, искажающих крестьянскую жизнь последствиях писатель знал не понаслышке, ещё в юности он не раз пытался смягчить своенравное сердце собственной матери, чувствовавшей себя полноправной хозяйкой своих крепостных, и облегчить крестьянскую участь. По собственным его словам, писатель дал “Аннибалову клятву” (то есть клятву Ганнибала, карфагенского полководца, поклявшегося воевать с Римом до последней капли крови) до конца бороться с этим своим заклятым врагом. И всё же сводить “Записки охотника” к антикрепостническому памфлету не стоит; мы уже убедились, что смысл этих рассказов намного глубже, антикрепостнический пафос растворяется здесь в общечеловеческом, социальные проблемы — в вечных. К тому же писатель неоднократно подчёркивает: насколько невытравимо в жизни помещиков растворилось барство — настолько и рабство вошло в плоть и кровь крестьянина. Многие крестьяне с благоговейным трепетом и ностальгией вспоминают времена, когда барин был по-настоящему своеволен и строг, и всякое наказание, принятое из его рук, считают заслуженным и справедливым (“Малиновая вода”, “Два помещика”). “Записки охотника” послужили Тургеневу замечательной писательской школой. Описывая крестьян, их отношения и собственные охотничьи путешествия, Тургенев оттачивает два главных своих писательских таланта — психолога и пейзажиста. Уже здесь он учится изображать тонкую игру чувств, прямо не называя их, угадывая их во внешних действиях и жестах (замечательной психологической миниатюрой является, например, рассказ “Свидание”). В “Записках охотника” появляются и чисто тургеневские пейзажи, прописанные с удивительной зоркостью. “Река катила тёмно-синие волны; воздух густел, отягчённый ночной влагой...” (“Ермолай и мельничиха”). “Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звёзды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса...” (“Бежин луг”). Описания Тургенева предельно конкретны, мы легко определим по ним не только время года, месяц, но и время дня. При этом мир природы здесь густо населён, он звучит, звенит, свистит, он полон движения и красок: “Ястреба, кобчики, пустельги со свистом носились над неподвижными верхушками, пёстрые дятлы крепко стучали по толстой коре; звучный напев чёрного дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за переливчатым криком иволги; внизу, в кустах, чирикали и пели малиновки, чижи и пеночки; зяблики проворно бегали по дорожкам; беляк прокрадывался вдоль опушки, осторожно “костыляя”; краснобурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявши хвост над головой” (“Смерть”). Столь внимательное отношение к природе понятно, рассказчик “Записок” — охотник, природа — первый помощник и советчик ему в его деле, да и жизнь главных героев Тургенева, крестьян, тоже полностью зависит от природного цикла. В дальнейшим ни одно крупное произведение Тургенева не обойдётся без пейзажных зарисовок, природа навсегда превратится в незримого участника вершащихся событий, создавая необходимый эмоциональный фон, нередко преподнося героям безмолвные, но наглядные уроки. Самостоятельно прочитайте рассказ “Бирюк”. Как природные явления (ливень, гроза) соотносятся с образом главного героя и сюжетом рассказа? Роман “Рудин” — роман о слове В 1855 году Тургенев закончил свой первый роман. Он назвал его в соответствии с существующей литературной традицией именем главного героя. Это был ясный сигнал для читателя: именно в герое и в его судьбе заключалось средоточие смысла романа. Для критики привычным стало сопоставление Дмитрия Николаевича Рудина с “лишними людьми” русской литературы, героями, чьи таланты оказались не востребованы Россией, в первую очередь с Онегиным и Печориным. Но, пожалуй, невостребованностью героев их сходство и исчерпывается. В остальном Рудин совсем другой. В отличие от Онегина и Печорина, он не так знатен, он из захудалого дворянского рода, он беден, почти нищ, и вынужден жить за чужой счёт, главное же — вовсе не беспричинная скука снедает его, ему не знаком ни “английский сплин”, ни “русская хандра”. Напротив, Рудин жаждет деятельности, по крайней мере постоянно о ней говорит, пишет планы, создаёт прожекты, мечтает, увлекает молодые сердца. Рудин — воспитанник немецких университетов, поклонник Гегеля, он неплохо, хотя и несколько поверхностно, образован. Дмитрий Николаевич — одно из главных лиц в философском кружке Покорского (героя, в котором, по собственному признанию Тургенева, отразились многие черты Н.Станкевича). Он человек эпохи 1840-х годов, эпохи осмысления мира, его законов и устройства – устройства, но не переустройства. Вполне естественно, что основной дар Рудина — красноречие. Дар, в 1840-е годы вполне современный. И до тех пор, пока Рудин молод, пока он посещает студенческий кружок, состоящий из восторженных мальчиков, его владение словом осмысленно и необходимо. Вдохновенные речи Рудина создают неповторимую атмосферу всеобщего горения и жажды истины, о которой с таким теплом вспоминал потом другой герой романа, в прошлом близкий приятель Рудина, Лежнёв: “Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подаётся прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьётся, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии — говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за беда!” Но мальчики вырастают, наступает время переходить от “восторженного наслаждения” к делу. Однако преодолеть преграду, отделяющую слово от действия, Рудину не по силам — дар красноречия играет с ним дурную шутку и забирает его в плен. “Рудин” — это не только роман о Дмитрии Рудине, это роман о невероятной силе и слабости слова. Не случайно в “Рудине” почти отсутствует действие, его место заменяют дискуссии и разговоры. Речь о слове заходит в романе, как только Рудин появляется на сцене. Он почти случайно попадает в дом знатной петербургской дамы Дарьи Михайловны Ласунской, на лето приехавшей в деревню, и немедленно поражает всех своим умом и блеском. Пигасов, местный острослов и циник, потеснённый и пристыженный Рудиным, крайне метко называет рудинскую болезнь. В ответ на пространные рассуждения Рудина о вере в науку Пигасов бормочет: “Это всё слова!” Пигасов абсолютно прав: именно слова, устная речь, мир собственных и чужих высказываний на любые отвлечённые темы — родная стихия Рудина, ничего весомее и понятнее слова для него не существует: “Он не искал слов: они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово, казалось, так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения”. Слово — самый сильный аргумент для него. Наталья Ласунская, девушка, влюблённая в Рудина, говорит ему, что он должен “стараться быть полезным”. “Ваше одно слово напомнило мне мой долг, указало мне мою дорогу...” — откликается Рудин. “Да, я должен действовать, — продолжает герой. — Я не должен скрывать свой талант, если он у меня есть; я не должен растрачивать свои силы на одну болтовню, пустую, бесполезную болтовню, на одни слова...” Но тут Тургенев обрывает жаркую речь героя ироничным замечанием: “И слова его полились рекою”. Рудин готов говорить о чём угодно, в том числе и о необходимости не говорить, не тратить сил на пустую болтовню. В этом и комичность героя, и его несчастье. Слово, способное зажечь сердце слушателя, слабеет, мертвеет, если оно не подтверждено действием. Красноречивый оратор превращается в бесполезного болтуна. Но не только поэтому судьба Рудина складывается печально. Слово Рудина противостоит не одному делу, оно противостоит жизни, её свободному движению и проявлениям. Страсть героя договаривать всё до конца, объяснять то, о чём лучше молчать, рушит однажды отношения между Лежнёвым и его возлюбленной, в которые Рудин довольно бестактно вмешивается. Желание всему дать имя, каждое событие обернуть в пышную вату слов толкает Рудина и на другой сомнительный с этической точки зрения поступок. Рудин считает необходимым объясниться со своим менее удачливым соперником Волынцевым и торжественно объявляет, что любит Наталью и пользуется её взаимностью. Волынцев приходит в бешенство и не может взять в толк, зачем Рудин сообщает ему об этом. Чтобы посмеяться над ним? Чтобы отметить своё торжество? Волынцев не может понять, как важно Рудину запечатлеть всё, что с ним происходит, в слове, именно слово подтверждает для героя подлинность свершившегося. Во всём же, что не касается словесной области, Рудин проявляет наивность, граничащую с инфантилизмом; особенно ярко это проявляется в отношениях с Натальей. До последнего момента Рудин не видит, что Наталья без памяти влюблена в него, и только когда героиня почти открывает свою тайну (опять же выражает чувство словом), он и сам договаривается до признания в любви. Однако и накануне свидания он не в состоянии “сказать наверное, любит ли он Наталью, страдает ли он, будет ли страдать, расставшись с нею”. Наталья же любит “не шутя”, для неё слова Рудина о самопожертвовании — толчок к самоотверженным поступкам, она рада идти за ним куда угодно, несмотря на протест матери, которая не желает выдавать дочь за разночинца. Рудин призывает Наталью покориться обстоятельствам, конечно же, не из почтения к её матери, а потому, что не способен взвалить на себя бремя ответственности. Наталья ему просто не нужна. Слова о жертве и “самой преданной любви” пока что вовсе не означают для героя необходимости приносить эту жертву и любить преданно. Но время идёт, и Рудин меняется. В эпилоге, отстоящем от основного действия романа на несколько лет, Тургенев описывает встречу Рудина и Лежнёва. Постаревший и сильно потрезвевший Рудин рассказывает другу о своих скитаниях. Он уже хорошо понимает свой главный изъян (“Слова, всё слова! дел не было!” — говорит он Лежнёву) и изо всех сил старается не “жить даром”, приносить пользу. Герой сменяет несколько видов деятельности — совершенствует хозяйство знакомого помещика, пытается сделать одну из рек судоходной, преподаёт в гимназии. Но все его начинания оканчиваются ничем. И здесь Тургенев уже не иронизирует над своим героем, он бесконечно сочувствует ему. Слова о жертве оказываются оплачены дорогой ценой. В итоге же — оплачены жизнью. Рудин гибнет во время французской революции 1848 года. Он появляется на вершине баррикады с красным знаменем в одной руке, с “кривой и тупой саблей” в другой и кричит “что-то напряжённым, тонким голосом, карабкаясь кверху”. Его никто не слышит. За ним никто не идёт, потому что ситуация безнадёжна. В него тут же стреляют, и он валится замертво, “как мешок”, “лицом вниз”. Защитники баррикады спасаются бегством и на ходу обмениваются репликами по поводу его гибели, они думают, что Рудин — поляк. Вся жизнь Рудина сжимается вдруг в одну точку и внезапно обретает смысл. Несмотря на то, что и на баррикадах Рудин так же неловок, бесполезен, смешон, как и в России, сабля его “крива и тупа”, он кричит в пустоту, а его участие в революции – скорее акт отчаянья, последняя попытка преодолеть бездну, разделяющую слово и дело, — эта попытка впервые удачна. Впервые слово подтверждено делом. Но вот что, оказывается, разделяло их, высокопарное слово о жертве и саму жертву, — жизнь. Рудин гибнет на чужбине, неведомый даже тем, за кого гибнет. И это тоже показательная деталь. В России ему погибнуть пока что не за что, его жертвенность просто не нашла там себе применения, а значит, упрекать героя в бездействии несправедливо — действовать на родине ему невозможно. Вспомните, где умер Печорин. В чём сходство и различие смерти Печорина и гибели Рудина? Сопоставьте поведение Рудина и Чацкого в обществе. Повесть “Ася”. Русский человек на rendez-vous Повесть “Ася” тематически примыкает к роману “Рудин”. Её герой, двадцатипятилетний юноша, без особых дел и занятий путешествующий по Германии, тоже не в состоянии совершить решительное действие — сделать предложение влюблённой в него девушке. И, по большому счёту, происходит это потому, что, подобно Рудину, собственным представлениям Н.Н. верит больше, чем живой жизни. Когда Ася, главная героиня повести, требует от него решительного слова, он не произнёс его. Спустя всего несколько часов герой вдруг осознаёт, что означает для него эта девушка, и готов сделать ей предложение, но Аси и её сводного брата, молодого человека по фамилии Гагин, уже нет в городе. Н.Н. кажется, что он опоздал всего на несколько часов, он бросается в погоню, однако догнать девушку ему уже не суждено. Но дело не в опоздании, не в цепи случайностей — печальная развязка предопределена с самого начала. И герой сам даёт нам ключ к разгадке. Повесть имеет форму воспоминаний, которыми делится Н.Н. спустя двадцать лет после встречи с Асей. Временная дистанция необходима Тургеневу для того, чтобы дать постаревшему герою возможность взглянуть на себя со стороны, вынести самому себе приговор. Сначала Н.Н. говорит о своей полупридуманной влюблённости в одну молодую вдову, которая предпочла его “краснощёкому баварскому лейтенанту”. Несколько раз Н.Н. повторяет, что мечтал о “жестокой красавице” “не без некоторого напряжения”, и в его вздохах о ней есть что-то “официальное”. Он буквально заставлял себя страдать о ней, так как находился под влиянием власти представлений о том, как должен чувствовать себя безответно влюблённый молодой человек. Но его чувства не совпадают с его представлениями. “Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел перед собою крестьянскую девочку лет пяти, с круглым личиком, с невинно выпученными глазёнками. Она так детски-простодушно смотрела на меня... Мне стало стыдно её чистого взора, я не хотел лгать в её присутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним предметом”. Его отношения с вдовой — обратное отражение его отношений с Асей. В первом случае он не захотел увидеть, понять, что не любит, во втором — что любит. Но причина его слепоты одна и та же — власть представлений. Ася ведёт себя не так, как принято, она дурачится, но при этом она лишена кокетства, она искренна до конца и, влюбившись, не может скрыть своих чувств. Ася назначает Н.Н. свидания и требует от него немедленного ответа. Так поступать не принято ни в жизни, ни в романах. Герой просто не узнаёт знакомых ему культурных примет, не узнаёт и теряется, оказывается не готов откликнуться на призыв жизни. Если в лжи с вдовой его обличает крестьянская девочка, то теперь его обличает сама Ася, в определённом смысле та же крестьянская девочка: Ася дочь крестьянки и дворянина, и до десяти лет она жила с матерью в крестьянской избе. Посмотрите, в каких случаях героиня повести называется своим полным именем — Анна Николаевна? Как её “официальное имя” соотносится с именем Ася? Как вы думаете, почему Гагин и Н.Н. так быстро подружились? Что общего в их судьбах? Вспомните любовные интриги других произведений Тургенева — подтверждают ли они мнение Чернышевского о том, что русский человек всегда проявляет слабость на любовном свидании? Тургенев-романист За исключением “Рудина”, в начале всех своих романов Тургенев указывает, в каком году протекает его действие. Для художественного повествования подобное внимание к дате кажется почти излишним. Но для Тургенева это было принципиально. Точная временная координата придавала всему происходящему в романе неповторимый аромат конкретной исторической эпохи. Деление истории на отдельные эпохи не самое благодарное занятие, эпохи — это не войны, у них нет чётко определённого начала и конца, они рождаются и проходят незаметно, иногда накладываются друг на друга, иногда сосуществуют параллельно, иногда, завершившись, вдруг ненадолго оживают снова. Смена эпох обычно зависит от событий исторических и хорошо заметных — воцарения нового императора, военной победы, реформы, революции. Но иногда состав воздуха, а вместе с ним и эпоха меняется просто от выхода в свет новой книги, от распространения новой философии, от научных открытий. Об этих колебаниях воздуха, о том, как эпохи и поколения незаметно сменяют друг друга, и писал свои романы Тургенев. Он улавливал такую неуловимую и летучую вещь, как веяние времени. В каждом из его романов запечатлён конкретный момент исторического бытия России. Именно поэтому романы Тургенева вызвали столь бурную реакцию читателей и критиков — писатель говорил о том, что волновало всех, что наблюдали все, его произведения становились поводом для обсуждения современных проблем. Роман “Рудин” описывает облик человека 1840-х годов, его реальный вклад в историю. Роман “Дворянское гнездо” (1858), основное действие которого приходится на 1842 год, посвящён судьбам русского дворянства, постепенно сходящего с исторической сцены. События романа “Накануне”, законченного в 1859 году, приурочены к 1853 году. Главным героям романа, Елене Стаховой и Дмитрию Инсарову, чужды сомнения в их призвании на земле, полезное дело, которое так искал Рудин, наконец нашлось. Правда, тоже на чужбине. Смысл жизни болгарина Инсарова — в освобождении Болгарии от власти турок. Борьба за свободу болгар становится и делом Елены, вышедшей за Инсарова замуж. То, чего так ждала от Рудина Наталья Ласунская, реализовалось в жизни Елены Стаховой: Инсаров согласился принять её жертву (родители Елены так же, как и мать Натальи, были против её брака с Инсаровым) и повёл её к святой, а главное, конкретной цели. Главный герой следующего романа Тургенева, “Отцы и дети” (1861), тоже разночинец. Но здесь уже нет несколько плакатной ясности романа “Накануне”, в “Отцах и детях” смена одного поколения другим, прежних ценностей новыми показана как процесс болезненный и непростой. Вопрос — за Базаровыми ли будущее России? — остаётся в романе открытым. Основное действие романа “Дым” (1867) происходит за границей, в Баден-Бадене, и судьбы России, которые бесконечно обсуждаются русской политической эмиграцией, оказываются здесь фоном для других проблем. “Дым” — самый не “исторический” роман Тургенева, хотя точная дата действия дана и здесь — 1862 год. На первый план романа выдвигается любовная интрига. Внезапное ослепление, порабощение главного героя, Литвинова, Ириной, женщиной, полной неотразимого, но какого-то зловещего очарования, на время заставляют его забыть и о любимой невесте, и о сельскохозяйственных преобразованиях, которые он мечтает провести у себя в имении. Литвинову удаётся выскользнуть из недоброго плена, он возвращается в Россию и по дороге на родину, в поезде, вдруг прозревает. Его прозрение — ключ к смыслу романа. ““Дым, дым”, — повторил он несколько раз; и всё вдруг показалось ему дымом, всё, собственная жизнь, русская жизнь — всё людское, особенно всё русское. Всё дым и пар, думал он; всё как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности всё то же да то же; всё торопится, спешит куда-то — и всё исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул — и бросилось всё в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и — ненужная игра”. Можно увидеть здесь и характеристику основного предмета изображения Тургенева. Ведь именно “явления”, бегущие друг за другом, он и показывал в своих романах — но тут эти явления, эти образы названы “ненужной игрой”. Казалось бы, после такого озарения Тургенев должен был или вовсе порвать с литературным творчеством, или, по крайней мере, перестать быть летописцем общественного движения в России и обратиться к проблемам вечным. Как мы знаем, ни того, ни другого не произошло. Его последний роман “Новь” (1876) посвящён народническому движению, ставшему популярным в России в 1870-е годы. Главный герой романа, двадцатитрёхлетний юноша Алексей Нежданов, постепенно понимает, что его романтическая жажда служить ближнему совсем не обязательно должна иметь политизированные формы, он чувствует трагическое несовпадение своих ощущений, желаний и того, что требует от него “дело”. Нежданов теряет веру в “дело”, но в его глазах это компрометирует не святость “дела”, а его самого. Он кончает жизнь самоубийством. Герой-самоубийца — персонаж для Тургенева неслыханный; изменения, вершащиеся в русской жизни, и тут оказали на писателя влияние. На смену Рудину и Лаврецкому, Инсарову и Базарову пришли народники, а что ещё важнее — прежние общественные болезни сменились новыми, неведомыми прежде. Неспокойный, мятущийся, нервный молодой человек — герой, Тургеневу не слишком близкий и не совсем понятный, — тем не менее стал и его героем. Писатель вновь не смог противиться звучанию исторической правды, чей голос различал так ясно. Как вы понимаете название романа “Накануне”? Почему Елена не вернулась в Россию после смерти Инсарова? Чем разрыв Литвинова и Ирины в Москве отличается от их разрыва в конце романа “Дым”? Кто из героев изменился больше — Литвинов или Ирина? Анализ произведений Роман “Дворянское гнездо” (1858) Замысел и смысл романа Мы уже говорили с вами, что важнейшая единица измерения художественного состава романов Тургенева — веяние времени, то или иное общественное явление. Это справедливо и для “Дворянского гнезда”. Работая над романом, Тургенев писал своей близкой знакомой о главной героине (правда, сначала Тургенев думал, что будет писать повесть): “Я теперь занят... большою повестью, главное лицо которой — девушка, существо религиозное. Я был приведён к тому лицу наблюдениями над русской жизнью”. Эти слова вполне применимы и к роману в целом. “Дворянское гнездо” — это “наблюдения над русской жизнью”, над её лицами, тайными и явными переменами в ней. Сюжет и композиция романа Роман открывается пространной экспозицией. Тургенев знакомит читателя с основными действующими лицами и подробно описывает обитателей и гостей дома Марьи Дмитриевны Калитиной, вдовы губернского прокурора, живущей в городе О... с двумя дочерьми, старшей из которых, Лизе, девятнадцать лет. Чаще других у Марьи Дмитриевны бывает петербургский чиновник Владимир Николаевич Паншин, попавший в провинциальный город по казённой надобности. Паншин молод, ловок, с невероятной быстротой движется по служебной лестнице, при этом он неплохо поёт, рисует и ухаживает за Лизой Калитиной. Появление главного героя романа Фёдора Ивановича Лаврецкого, состоящего с Марьей Дмитриевной в дальнем родстве, предваряется краткой предысторией. Лаврецкий — обманутый муж, он вынужден разъехаться с женой из-за её безнравственного поведения. Жена остаётся в Париже, Лаврецкий возвращается в Россию, попадает в дом Калитиных и незаметно влюбляется в Лизу. Из французской газеты он узнаёт о смерти своей жены, это даёт ему надежду на счастье. Наступает первая кульминация — Лаврецкий в ночном саду признаётся Лизе в любви и узнаёт, что любим. Однако на следующий день после признания к Лаврецкому возвращается из Парижа его жена, Варвара Павловна. Известие о её смерти оказалось ложным. Эта вторая кульминация романа как бы противостоит первой: первая дарит героям надежду, вторая отнимает её. Наступает развязка — Варвара Павловна поселяется в родовой усадьбе Лаврецкого, Лиза уходит в монастырь, Лаврецкий остается ни с чем. Сюжет в “Дворянском гнезде”, как и в “Рудине”, скуден внешними событиями и активным действием. Сама простота его точно бы указывает нам: разгадку романа следует искать не столько в сюжете, сколько в элементах, его тормозящих, — в описании состояний, чувств героев, в их предысториях и родословных. Тургенев даёт нам краткую историю рода Калитиных, однако самой длинной родословной снабжён главный герой романа, Лаврецкий. Идея “дворянского гнезда”. Лаврецкие Фёдор Иванович Лаврецкий происходит “от старинного дворянского племени”. Тургенев упоминает о родоначальнике Лаврецких, выходце из Пруссии, приехавшем в Россию при Василии Тёмном, а затем приводит биографии прадеда, деда и отца Лаврецкого. “Богаче и замечательнее всех Лаврецких” прадед Фёдора Ивановича, Андрей. Все качества Андрея Лаврецкого точно нарочно выпячены, преувеличены. “До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой”. Его характеру вполне отвечает и внешность: “Он был очень толст и высок ростом, из лица смугл и безбород, картавил и казался сонливым; но чем тише он говорил, тем больше трепетали все вокруг него”. Каждая деталь здесь значима. Тургенев не случайно даёт нам точную дату времени действия и сообщает о возрасте своих героев — в итоге мы легко можем посчитать, когда они жили. Попробуйте сами проделать эту работу и вычислить год рождения Лаврецкого и его родных. Расцвет жизни прадеда Фёдора Лаврецкого пришёлся на екатерининское время, на 1760— 70-е годы. В итоге Андрей Лаврецкий точно бы впитал в себя воздух блестящей и противоречивой екатерининской эпохи, эпохи мегаломании, фантастических прожектов, эпохи великанов. Во многом можно упрекнуть Андрея Лаврецкого, только не в отсутствии масштаба. Недаром его любимая поговорка: “Мелко плаваешь”. Личность прадеда во всяком случае крупна, на ней печать несомненного величия, даже слабости его (“бешеный нрав”, “безумная щедрость”, “неутолимая алчность”) возведены в превосходную степень и свидетельствуют об огромной внутренней силе героя. Таковы были и самые яркие люди его времени, вспомним хотя бы приближённых Екатерины — светлейшего князя Григория Александровича Потёмкина, братьев Орловых. Вот почему именно об этом, самом “настоящем”, барине с таким уважением вспоминает восьмидесятилетний старик, дворовый Лаврецких Антон: “Барин был, что и говорить, — и старшого над собой не знал”. Сын Андрея, Пётр Андреевич, тоже застаёт времена Екатерины, но по крайней мере половина его жизни связана с другой эпохой. И Пётр Андреевич не похож на своего отца: “...это был простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и копотун, грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник”. И снова это не только характеристика отдельного человека, но во многом и характеристика эпохи, сильно изменившейся с приходом к власти “взбалмошного”, но не злого императора Павла. Пётр Андреевич — “степной барин”, “хлебосольный хозяин” — постепенно спускает имение отца. Он по-своему дик, тёмен, новые веяния коснулись его только с появлением в его доме сына Ивана, отца Лаврецкого. Иван Петрович отдан на воспитание в Петербург, в дом своей тётки, богатой княжны, его воспитывает отставной аббат и энциклопедист, и в молодости Иван Петрович может позволить себе роскошь поступать в духе своих учителей — Руссо, Дидерота и Вольтера. Отчасти из молодого задора, отчасти из желания отстоять свою независимость и насолить отцу он сначала соблазняет горничную своей матери, девушку Маланью, а потом женится на ней. Но, исполнив свой долг, “пустив в ход” идею равенства, Иван Петрович с лёгким сердцем оставляет жену, едет в Петербург, а затем за границу, где и узнаёт о рождении сына Феди. Он возвращается на родину лишь тогда, когда жена давно в могиле, а сыну исполняется двенадцать лет. Несмотря на “современное” воспитание, на французскую “Декларацию прав человека”, следы барства в Иване Петровиче, как в его отце и деде, неискоренимы. “Известно, какие были времена: что барин восхотел, то и творил”, — замечает всё тот же старый слуга Лаврецких Антон. Ивану Петровичу дела нет до своей жены, которая угасла, как “выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное” деревце. Он не понимает, что не осчастливил, а сделал её несчастной. Точно так же душевно слеп он и в отношении сына, мечтая воспитать в нём “un homme”, человека по системе Жан-Жака Руссо, то есть абстрактное совершенство, и не желает видеть в Феде живого, задавленного властной тёткой мальчика. Отец учит Федю естественным наукам и столярному ремеслу, верховой езде и стрельбе из арбалета — то есть даёт сыну образование в духе идей XVIII века. Воспитание приносит весьма скудные плоды, только здоровье Феди заметно улучшается. Сам же Иван Петрович начинает болеть, с приходом немощи напрочь забывает своё вольнодумство, англоманство, чахнет, слепнет и вскоре превращается в плаксивого, бранчливого барина, мученье для своих домашних. Он умирает, когда сыну исполняется двадцать три года. Фёдор Иванович — последний из рода Лаврецких. Но как мало похож он на собственного отца! Разве что слабость характера он наследует от родителя. Эта слабость бросает его к ногам Варвары Павловны, которая управляет мужем по своему усмотрению до тех пор, пока случайность не открывает Лаврецкому её истинное лицо. Та же самая слабость во многом объясняет и влюблённость Лаврецкого в Лизу. Лиза, несмотря на свою молодость, человек цельный и волевой, и Лаврецкий подсознательно чувствует это, понимает, что и здесь у него будет возможность опереться, облокотиться, плыть по течению. В нём нет и следа от бешеного нрава прадеда, от рассеянного барства деда, от капризного своенравия отца. Он вообще другой. Ведь история “дворянского гнезда” Лаврецких заканчивается, и на судьбу его ложится печать этой абсолютной исчерпанности и конца. Система персонажей романа. Роль музыки в романе Герои “Дворянского гнезда” тяготеют к двум противоположным полюсам. Один полюс притягивает всё подлинное, глубокое, искреннее. На этой стороне оказываются Фёдор Иванович Лаврецкий, Лиза Калитина, учитель музыки старик Лемм, тетка Лизы и дальняя родственница Лаврецкого — независимая и открытая старушка Марфа Тимофеевна. На другой стороне, стороне фальши, позы, дилетантизма — жена Лаврецкого Варвара Павловна, Паншин, отчасти мать Лизы, Марья Дмитриевна, и Сергей Петрович Гедеоновский, местный сплетник и лгун. По разным полюсам героев разводит разное отношение к любви, детям, семье. Но совершенно особую роль в расстановке героев по романному полотну играет музыка. Восприятие музыки в “Дворянском гнезде” — своеобразный эквивалент восприятия жизни. Отношение к музыке не только разводит героев, как уже было сказано, на две основные группы, но и делит их на пары. Первая пара — Лаврецкий и Лемм. Старик Лемм недаром по национальности немец, в этом кроется отсылка к немецкой романтической культуре. Лемм — состарившийся романтик, его судьба воспроизводит вехи пути романтического героя, однако оправа, в которую она помещена, — невесёлая русская действительность точно бы выворачивает всё наизнанку. Одинокий странник, невольный изгнанник, всю жизнь мечтающий о возвращении на родину, попав в неромантическое пространство “ненавистной” России, превращается в неудачника и горемыку. Единственная нить, связывающая его с миром возвышенного, — музыка. Музыка становится и почвой для сближения Лемма с Лаврецким. Лаврецкий проявляет интерес к Лемму, его творчеству, и Лемм раскрывается перед ним, как бы оркеструя душевную жизнь Лаврецкого, переводя её на язык музыки. Всё, что происходит с Лаврецким, Лемму понятно, так как и сам он тайно влюблён в Лизу. Лемм сочиняет для Лизы кантату, пишет романс о “любви и звёздах” и, наконец, создаёт вдохновенную композицию, которую играет Лаврецкому в ночь его свидания с Лизой. “Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного: сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце; она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою, она росла и таяла; она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого...” Звуки новой музыки Лемма дышат любовью — Лемма к Лизе, Лаврецкого к Лизе, Лизы к Лаврецкому, всех ко всем. Волшебную мелодию обрывает приезд жены Лаврецкого. Варвара Павловна тоже прекрасно играет на фортепьяно, но совсем иную музыку и с другими целями. “Наши голоса должны идти друг к другу”, — обращается она к Паншину с символической фразой, и герои поют несколько песен дуэтом. Вторая “музыкальная пара”, Варвара Павловна — Паншин, тоже вполне единодушна в своём отношении к музыке. Для них это приятное развлечение, способ провести время, удачный козырь в любовной игре. В начале романа, в пору ухаживаний Паншина за Лизой, Паншин и Лиза пытаются вместе разыграть сонату, но Паншин всё время сбивается, доиграть сонату им так и не удаётся. Эта неудача предсказывает ход дальнейших отношений Лизы и Паншина: Лиза отклоняет его предложение выйти за него замуж. Их разладу отчётливо противостоит удивительно слаженное пение Паншина и Варвары Павловны. Эти герои сразу и навсегда находят друг друга, Паншин быстро превращается в раба Варвары Павловны. На некотором удалении от музыкальной темы в романе стоит Лиза. Тургенев крайне скупо говорит о манере её игры, отмечая лишь, что она делает это хорошо и “отчётливо”. Мы ничего не знаем и о её собственной реакции на музыку. Даже играя на фортепьяно и участвуя в общих музыкальных развлечениях, внутренне Лиза остаётся от них в стороне. И это знак её будущего отхода от всего земного и страстного, всего того, что выражает в романе музыка. Лиза будет искать в жизни иное измерение, бесконечно далёкое от восторгов и страданий земной любви. Фёдор Иванович Лаврецкий и Лиза Калитина. Распад круга, разорение “гнезда” В Лизином облике явлен особый тип русской религиозности, воспитанный в ней няней, простой крестьянкой. Это “покаянный” извод христианства, сторонники его убеждены в том, что путь ко Христу лежит через покаяние, через плач о собственных грехах, через жёсткий отказ от земных радостей. Суровый дух старообрядчества незримо веет здесь. Недаром про Агафью, наставницу Лизы, говорили, будто она удалилась в раскольничий скит. Лиза идёт по её стопам, уходит в монастырь. Влюбившись в Лаврецкого, она боится поверить в собственное счастье. “Я вас люблю, — говорит Лаврецкий Лизе, — я готов отдать вам всю жизнь мою”. Как реагирует Лиза? “Она опять вздрогнула, как будто её что-то ужалило, и подняла взоры к небу. — Это всё в Божьей власти, — промолвила она. — Но вы меня любите, Лиза? Мы будем счастливы? Она опустила глаза; он тихо привлёк её к себе, и голова её упала к нему на плечо...” Опущенные глаза, голова на плече — это и ответ, и сомнения. Разговор так и завершается вопросительным знаком, Лиза не может этого счастья Лаврецкому обещать, потому что сама не до конца верит в его возможность. Приезд жены Лаврецкого — катастрофа, но и облегчение для Лизы. Жизнь снова входит в понятные Лизе пределы, помещается в рамки религиозных аксиом. И Лиза воспринимает возвращение Варвары Павловны как заслуженное наказание за собственное легкомыслие, за то, что её прежняя самая большая любовь, любовь к Богу (она любила Его “восторженно, робко, нежно”) стала вытесняться любовью к Лаврецкому. Лиза возвращается в свою “келейку”, “чистую, светлую” комнатку “с белой кроваткой”, возвращается туда, откуда она ненадолго вышла. Последний раз в романе мы видим Лизу именно здесь, в этом замкнутом, хотя и светлом пространстве. Следующее появление героини вынесено за пределы романного действия, в эпилоге Тургенев сообщает о том, что Лаврецкий навестил её в монастыре, но это уже не Лиза, а только тень её: “Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой монахини — и не взглянула на него; только ресницы обращённого к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только ещё ниже наклонила она своё исхудалое лицо...” Похожий перелом происходит и в жизни Лаврецкого. После расставания с Лизой он перестаёт думать о собственном счастье, становится хорошим хозяином и посвящает свои силы улучшению быта крестьян. Он последний из рода Лаврецких, и его “гнездо” пустеет. “Дворянское гнездо” Калитиных, напротив, не разорено благодаря двум другим детям Марьи Дмитриевны — её старшему сыну и Леночке. Но ни то, ни другое не принципиально, мир всё равно становится другим, и в этом изменившемся мире “дворянское гнездо” уже не обладает исключительной ценностью, своим прежним, почти сакральным статусом. И Лиза, и Лаврецкий поступают не так, как люди их “гнезда”, их круга. Круг распался. Лиза ушла в монастырь, Лаврецкий научился пахать землю. Девушки дворянского звания уходили в монастырь в исключительных случаях, монастыри пополнялись за счёт низших сословий, равно как и барин не должен был пахать землю и трудиться “не для одного себя”. Невозможно представить себе за плугом ни отца, ни деда, ни прадеда Лаврецкого — но Фёдор Иванович живёт в другую эпоху. Наступает время личной ответственности, ответственности за одного себя, время жизни, не укоренённой в традиции и истории собственного рода, время, когда нужно “делать дело”. Лаврецкий в сорок пять лет чувствует себя глубоким стариком не только из-за того, что в XIX веке были другие представления о возрасте, но и потому, что Лаврецкие должны навсегда уйти с исторической сцены. Действие романа “Дворянское гнездо” происходит в 1842 году, в эпилоге — в 1850-м. Лишённый корней, прошлого, тем более родового имения герой Достоевского ещё не вошёл в русскую действительность и литературу. С чуткостью большого художника Тургенев в “Дворянском гнезде” предугадал его появление. “Отцы и дети” (1862) Основной конфликт романа Роман “Отцы и дети” был опубликован в 1862 году в журнале “Русский вестник” и сразу же привлёк к себе внимание читателей. В печати появилось огромное число критических откликов на роман — следовательно, “Отцы и дети” были злободневны, Тургенев задел “больную” для общества тему. Проблема “отцов и детей”, поставленная в центр романа, — проблема вечная. Смена поколений, сопровождающаяся обновлением вкусов и взглядов, неизбежно вызывает споры между родителями и детьми. Представитель старшего поколения в романе Николай Петрович Кирсанов очень хорошо описывает это естественное противостояние. Он вспоминает, как однажды поссорился с собственной матушкой: “...она кричала, не хотела меня слушать... Я, наконец, сказал ей, что вы, мол, меня понять не можете; мы, мол, принадлежим к двум различным поколениям. Она ужасно обиделась, а я подумал: что делать? Пилюля горька — а проглотить её нужно. Вот теперь настала наша очередь, и наши наследники могут сказать нам: вы, мол, не нашего поколения, глотайте пилюлю”. Николай Петрович и в самом деле далеко не во всём беспрекословно повиновался родительской воле, напротив, жизнь его складывалась вопреки родительскому сценарию. Сын боевого генерала, Николай Петрович тем не менее не отличался храбростью и, к большому разочарованию отца, пошёл на штатскую службу (он сломал ногу прямо в день своего определения на службу и остался “хроменьким” на всю жизнь), а затем, несмотря на недовольство родителей, влюбился в дочку чиновника и женился на ней. Однако подобные размолвки между родителями и детьми повторялись из поколения в поколение и не носили характера катастрофы. В 1860-е годы столкновение “отцов и детей” выбилось за рамки бытового, семейного конфликта и невероятно обострилось. Этот переломный момент в жизни русского общества Тургенев и запечатлел в своём романе. “Отцы и дети” посвящены памяти В.Г. Белинского, представителя демократического движения 1840-х годов и — разночинца. Вынося имя Белинского на титульную страницу романа, Тургенев точно бы предупреждает читателя: главным героем его будет лицо нового сословия, такой же разночинец, до сих пор гость в русской литературе редкий. В романе сталкиваются не просто отцы и дети, но дворяне и разночинцы, либералы и демократы. Конфликт обретает социальный и идеологический смысл. Представителями первых (“отцов”) выступают Павел Петрович Кирсанов, аристократ, англоман, в прошлом блестящий гвардеец, и отчасти его брат, Николай Петрович; представителем вторых (“детей”) — будущий медик, сын военного лекаря Евгений Васильевич Базаров. Павел Петрович и Базаров чувствуют друг в друге противников с первой же встречи. Обоих раздражает внешний вид другого. “Этот волосатый?” — говорит Павел Петрович о Базарове. “Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!” — отзывается Базаров о холёном виде Павла Петровича (у самого Базарова руки “красные”, руки естествоиспытателя и рабочего человека). Но различная манера одеваться и держать себя — только зерно будущего конфликта. Знаменитый спор в десятой главе романа обнажает суть идеологических расхождений героев. Павел Петрович — сторонник “принсипов”, то есть определённых убеждений, он верит в необходимость общественных установлений, в благородство аристократии, в прогресс, цивилизацию, в патриархальность русского народа. Базаров называет себя нигилистом, то есть поклонником тотального отрицания существующего государственного и общественного устройства, традиционной семьи, искусства, поэзии, веры. Разрушение для него — залог обновления. “Сперва нужно место расчистить”, — замечает герой. По словам Базарова, обличение перестало оправдывать себя: “...мы увидели, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители, никуда не годятся”. О ком это он? О людях предыдущего поколения, описанного Тургеневым в “Рудине” и “Дворянском гнезде”. Русские люди 40-х годов, поклонники немецкой философии и романтизма, “обличители”, подобные Рудину, уже сыграли свою роль в истории, а вместе с ними уходила и “целая эпоха европейского культурного развития, эпоха, характеризующаяся преимущественным стремлением “объяснить” мир” (Л.В. Пумпянский). Павел Петрович проводит свои дни в бездействии, Николай Петрович, хотя и пытается действовать — переводит крестьян на оброк, заводит ферму, нанимает рабочих, — не добивается результатов, его хозяйство скрипит, “как несмазанное колесо”. Братьям Кирсановым не дано идти в ногу со временем, потому что их время кончилось. Новое поколение, поколение 1860-х, испытывало глубокую усталость от атмосферы всеобщего говорения, обсуждения, споров. Оно не хотело более “объяснять мир”, оно желало изучать и переделывать его. В 1860-х годах началось повальное увлечение молодёжи “положительным” знанием, то есть естественными науками, биологией, химией, медициной. Интерес к естествознанию усиливался и благодаря научным открытиям, сделанным в те же 60-е годы известными русскими учёными — А.М. Бутлеровым, И.М. Сеченовым, Д.И. Менделеевым. Естественные науки позволяли осязать, видеть объект изучения, и что не менее важно — из этого научного знания гораздо проще было извлечь реальную пользу, применить плоды изысканий на практике. Итак, столкновение Базарова и Павла Петровича — это не только столкновение разночинца и аристократа, демократической и либеральной интеллигенции, это ещё и столкновение разных эпох, эпохи 1840-х и 1860-х годов. Однако замысел автора не исчерпывается изображением этого многоступенчатого конфликта. За внешним противостоянием Павла Петровича и Базарова скрывается их глубинное сходство. Базаров и Павел Петрович Бездна, разделяющая Базарова и Павла Петровича, как будто неодолима. Вместе с тем Павел Петрович — самый близкий Базарову персонаж. Базаров пытается подогнать себя, свои чувства и естество под собственную идею, он не может поверить в то, что влюблён, потому что, по его мнению, любовь — это “романтизм, чепуха, гниль, художество”. Павел Петрович не менее крепко держится за свои “принсипы” (пусть совсем другие), также подгоняя под них собственное поведение и жизнь. Он преклоняется перед английской аристократией и потому устраивает свою жизнь на английский манер, его англомания типологически сходна с нигилизмом, и то и другое — своеобразная умственная игра. Недаром оба так не восприимчивы к красоте природы, то есть к сфере стихийного, неподвластного разуму. Павел Петрович вызывает Базарова на дуэль, потому что это соответствует “принсипам” того общества, в котором он когда-то вращался, но и Базаров из самолюбия принимает вызов Павла Петровича. Павел Петрович говорит о любви к народу, но, беседуя с крестьянами, “нюхает одеколон”; однако и Евгений Васильевич, который кичится своим умением обращаться с простым народом, в глазах мужиков оказывается чем-то “вроде шута горохового”. Оба героя обречены на одиночество, и та стена, которая отделяет их от человечества, — их идеология. У Базарова это нигилизм, у Павла Петровича — “принсипы”, но за ними оба героя упускают жизнь, оказываются духовными мертвецами. Образ Базарова в романе В центре романа “Отцы и дети” нигилист, искренне верящий в правильность своих убеждений. По своим взглядам Базаров атеист и материалист. Он отказывается от причастия перед смертью, для него не существует церкви, в человеке Базаров отрицает индивидуальность (“люди что деревья в лесу”), он отвергает и возможность духовных отношений в любви (“И что это за таинственные отношения между мужчиной и женщиной? Мы, физиологи, знаем, какие это отношения. Ты проштудируй-ка анатомию глаза — откуда там взяться загадочному взгляду?”). Герой проповедует утилитаризм; всё, что не приносит реальной, осязаемой пользы — музыка, поэзия, живопись, — для него бессмысленно. Такова вкратце система взглядов Базарова, его идеология. Сам герой называет себя “самоломанным”, ему приходится ломать себя, чтобы встроить себя в жёсткую систему собственных взглядов. Базарову очень хочется, чтобы его внутренний мир был ясен и прозрачен, как рисунок в учебнике анатомии, но собственная душа преподносит ему сюрпризы. Сквозь призму жизненного пути своего героя Тургенев не только рассматривает “нового человека” в действии, проверяет, насколько жизнеспособен столь идеологизированный человек. Базаров хочет стать медиком, и его выбор, конечно же, глубоко продуман, медицина — одна из самых полезных профессий на земле, врач приносит людям конкретную помощь и пользу. Несколько раз в романе оказываются востребованы именно профессиональные навыки Базарова — он помогает ребёнку Фенечки избавиться от судорог, оказывает первую помощь раненному на дуэли Павлу Петровичу, лечит мужиков. Всё в его облике подчинено одной цели— он не заботится о внешности, одежде, даже на каникулах он продолжает заниматься исследованиями. Такова его постулируемая позиция в жизни — приносить пользу, “не болтать”. Казалось бы, можно и успокоиться на этом. Но в том-то и дело, что Базарова не удовлетворяет роль уездного лекаря, роль человека пользы. “Как посмотришь этак сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь “отцы”, кажется: чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. Ан нет; тоска одолеет”, — говорит Базаров Аркадию (глава XXI). Он и сам хорошо чувствует: знать, что поступаешь “самым разумным манером”, мало, сознание того, что приносишь людям пользу, не оправдывает твоего существования, не оправдывает жизни. В том же разговоре Базаров признаётся Аркадию, что ненавидит “этого последнего мужика, Филиппа или Сидора”, ради блага которых он должен “из кожи лезть”: “Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?” И “белая изба” мужика, и “счастие народное”, о котором столько писал Некрасов, близкий знакомый Тургенева, для Базарова цель недостаточная. В письме К.К. Случевскому (14 апреля 1862 года) Тургенев недаром называет Базарова “лицом трагическим”. Базаров и сам не понимает, что могло бы удовлетворить его. Эта безысходность — косвенная причина смерти героя. Базаров и Одинцова Внезапная любовь Базарова к Одинцовой наносит его идеологии серьёзный удар. Базаров открывает, что не в состоянии полностью подчинить себя “нигилизму” и цинизму. Слишком быстро он начинает видеть в Одинцовой не только “богатое тело”, не только “госпожу — ойой-ой” и “бабу с мозгом”, но “молодую, прекрасную женщину”. “В разговорах с Анной Сергеевной он ещё больше прежнего высказывал своё равнодушное презрение ко всему романтическому; а оставшись наедине, он с негодованием сознавал романтика в самом себе”. За что Базаров полюбил Одинцову? За обаяние, за красоту и за холод, за равнодушие. “Вишь, как она себя заморозила!” — говорит о ней Базаров. Сам Тургенев говорит о своей героине так: “Она потянулась, улыбнулась <...> — и заснула, вся чистая и холодная, в чистом и душистом белье”; “Её ум был пытлив и равнодушен в одно и то же время”. Ей “жилось легко, хотя она и скучала подчас, и она продолжала провожать день за днём, не спеша и лишь изредка волнуясь”. Быт её предельно упорядочен, всё в доме “в течение дня совершалось в известную пору”. Она и к себе, и к Базарову относится как к объекту исследования: “Она как будто хотела и его испытать и себя изведать”. Хотя Одинцова радуется появлению Базарова, в его отсутствие она тоже не скучает и его не ждёт. Всё в ней прозрачно, умеренно, прохладно. Да ведь это и есть идеал Базарова! Идти по жизни твёрдо, но легко, ничем не быть глубоко задетым, сохранять самообладание в критических ситуациях. Евгений Васильевич может сохранить мужество и перед лицом неразделённой любви, и под дулом пистолета Павла Петровича, и перед лицом смертельной болезни — мужество, но не спокойствие. Любовь к Одинцовой становится переломным этапом его жизни, после отъезда из усадьбы Анны Сергеевны он начинает говорить с Аркадием на необычные для себя темы — о смерти, о благе народа, о смысле жизни. Базаров в кругу своих учеников Базаровские ученики в романе — Аркадий, Ситников и отчасти Кукшина — оттеняют масштаб и исключительность своего учителя. Аркадий лишь ненадолго увлекается идеями Базарова, в мыслях, чувствах, поступках он остаётся сыном своего отца. Он мягок, лиричен, склонен к мечтательности и, как только расходится с Базаровым, он влюбляется в Катю. Жизнь одиночки, борца за дело не для него; “мякенький, либеральный барич”, — аттестует Аркадия Базаров. Образы Ситникова и Кукшиной обрисованы в романе с карикатурной резкостью. С их помощью Тургенев открывает ещё один аспект существования идеи в обществе. Независимо от того, какова эта идея, хороша она или дурна, истинна или ложна, становясь достоянием масс, она неизбежно опошляется, снижается, мельчает. Для Ситникова и Кукшиной нигилизм, эмансипация — только маски, в отличие от Базарова они отрицают не “в силу ощущения”, а потому, что это модно. В итоге же доминантной чертой их портретов становится ненатуральность, фальшь, напыщенность. Но реакция “учителя” на присутствие “Ситниковых” крайне интересна. “Ситниковы нам необходимы, — объясняет Базаров Аркадию. — Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. Не богам же в самом деле горшки обжигать!” Ситниковы нужны Базарову для наращивания массы, для “грязной работы” — распространения нигилистических идей в широких слоях общества. Себе Базаров отводит роль “бога”, человека, стоящего на высших ступенях иерархии власти, и это ещё одна важная, довольно зловещая черта в обрисовке существования идеологии в обществе. “Отцы и дети” в русской критике “Отцы и дети” вызвали целую бурю в мире литературной критики. После выхода романа появилось огромное число совершенно противоположных по своему заряду критических откликов и статей, что косвенно свидетельствовало о простодушии и невинности русской читающей публики. Критика отнеслась к художественному произведению как к публицистической статье, к политическому памфлету, не желая реконструировать точку зрения автора. М.А. Антонович, публицист журнала “Современник”, воспринял роман Тургенева в свете недавней ссоры писателя с журналом. В статье “Асмодей нашего времени” (“Современник”, 1862, № 3) Антонович отказывал роману в художественности, упрекал Тургенева в пристрастности, а в Базарове увидел карикатуру на поколение детей. По мнению Антоновича, Тургенев написал “панегирик отцам и обличение детям”. Критик противоположного лагеря М.Н. Катков, напротив, упрекал Тургенева в том, что писатель “спустил флаг перед радикалами”, так как его главный герой “нигде не встречает себе никакого дельного отпора”. Для Д.Н. Писарева “Отцы и дети” также становятся поводом к размышлениям о новом поколении, о современной русской действительности. В статье “Базаров” (“Русское слово”, 1862, № 2) и “Реалисты” (“Русское слово”, 1864, № 9–11) Писарев даёт подробный и достаточно адекватный анализ романа, однако “базаровщина” (то есть общественное явление) оказывается для него интереснее самого Базарова и замысла Тургенева. Ближе всех к раскрытию тургеневского замысла оказался Н.Н. Страхов, автор замечательной статьи “”Отцы и дети” И.С. Тургенева” (1862). Страхов уловил вневременной смысл романа, сумев подняться над идеологическими спорами своего времени. “Написать роман с прогрессивным и ретроградным направлением — ещё вещь не трудная. Тургенев же имел притязания и дерзость создать роман, имеющий всевозможные направления; поклонник вечной истины, вечной красоты, он имел гордую цель во временном указать на вечное и написал роман не прогрессивный и не ретроградный, а, так сказать, всегдашний”, — писал критик. Смена поколений, по мнению Страхова, лишь “наружная тема” романа. Но у Тургенева есть и сверхзадача — изобразить некую высшую силу, царящую над делами людей, силу жизни. “Читатель романа чувствует, что за миражом внешних действий и сцен льётся такой глубокий, такой неистощимый поток жизни, что все эти действия и сцены, все лица и события ничтожны перед этим потоком”. Оценка Страхова совпадает и с взглядом на “Отцов и детей” самого автора. Авторская позиция Сам Тургенев был настолько изумлён всеобщим непониманием его романа, обвинениями в тенденциозности, пристрастности, что счёл нужным объясниться со своими читателями и написал статью “По поводу “Отцов и детей””. В ответ на вопрос, почему он изобразил Базарова именно таким, Тургенев пишет: “Это жизнь так складывалась”, указывая на главного своего советчика — жизнь, на основное своё правило — верность ей. Мы не всегда должны доверять авторским интерпретациям собственных произведений, но в данном случае слова Тургенева подтверждают и текст, и построение романа. В XXXI главе романа он пишет о Кате: “Окружённая свежестью и тенью, она читала, работала или предавалась тому ощущению полной тишины, которое, вероятно, знакомо каждому и прелесть которого состоит в едва сознательном, немотствующем подкарауливанье широкой жизненной волны, непрерывно катящейся и кругом нас и в нас самих”. Подкараулить эту волну удаётся далеко не всем тургеневским героям, но те, кому удаётся, обретают в его романе покой и счастье. Лучше всего это получается у любящих — Аркадия и Кати, Фенечки и Николая Петровича. Любовь помогает героям прикоснуться к току подлинной жизни. Есть в романе и видимая проекция этой жизненной волны — природа. Сам Тургенев никогда не судит своих главных героев, их судит природа, перед лицом её вся выдуманность, неестественность их поступков обнажается яснее. Не случайно, например, сцена дуэли Павла Петровича и Базарова дана на фоне летнего, ясного утра, его весёлый свет представляет события в их истинном виде. Но природа в “Отцах и детях” — это не только напоминание о потоке видимой жизни. Цветы на могиле Базарова говорят “о вечном примирении и о жизни бесконечной”, то есть о невидимом присутствии высшего начала в мире. Рекомендуемая литература 1. Манн Ю.В. В кружке Станкевича. Историко-литературный очерк. М., 1983. 2. Написанная просто и внятно книга посвящена Николаю Станкевичу и философскому кружку, который он возглавил в 1830-е годы. Книга весьма точно передаёт атмосферу кружка, характер царивших там отношений, раскрывает наиболее обсуждаемые на заседаниях темы и в итоге даёт объёмную картину интеллектуальных исканий молодых людей эпохи 1830-х годов. 3. Пумпянский Л.В. Романы Тургенева и роман “Накануне”. Классическая традиция // Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 381–402. 4. В этой статье Тургенев назван создателем культурно-героического романа, то есть романа, в котором действия героя обусловлены типом культуры, к которой он принадлежит. Тургенев назван прямым наследником Пушкина, так как развивает традиции пушкинского “романа в стихах”. 5. Тургенев И.С. Отцы и дети. СПб., 2000 / Подготовка текста, статья и комментарии А.И. Батюто. 6. Книга содержит полный и на сегодняшний день самый “свежий” комментарий к тексту романа, а также включает статьи Писарева, Антоновича и Тургенева (“По поводу “Отцов и детей””). 7. Роман И.С. Тургенева “Отцы и дети” в русской критике. Л., 1986. 8. Сборник критических статей XIX и начала XX века, посвящённых роману Тургенева. Хостинг от HOST PROM - это надежное место для Ваших проектов ! ? ????? Женские образы в романах Тургенева Отцы идети Женские образы в романах Тургенева "Отцы идети" и Гончарова "Обломов" И.С. Тургенев и И.А. Гончаров стремились показать в своих романах разные образы русских женщин своего времени. В романе "Отцы и дети" Тургенев показал нам три основных женских образа: образ Анны Сергеевны Одинцовой, образ Катерины Сергеевны Локтевой и образ Фенечки. Тургенев описывает Анну Сергеевну и Катерину Сергеевну совсем противоположными. Анна Сергеевна кокетлива, очень опытна в отношениях с мужчинами, разговорчива. А Катерина Сергеевна робка, молчалива, "беспрестанно краснеет и быстро переводит дух". Она больше любит читать, размышлять о жизни, о книгах, о людях, чем танцевать на балах и кокетничать с мужчинами. Даже во внешнем облике автор показывает их противоположность, непохожесть друг на друга. Анна Сергеевна очень красива, стройна, у нее достойная осанка. "Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана; красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий; спокойно и умно, именно спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба, и губы улыбались едва заметною улыбкою. Какою-то ласковой и мягкой силой веяло от ее лица." Нельзя сказать, что Катя была красавицей, но "она очень много улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно-сурово, снизу вверх. Все в ней было еще молодо-зелено: и голос, и пушок на всем лице, и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи..." Анна Сергеевна никого не любила. И хотя Базаров нравился ей своей непохожестью на других, она не могла отдаться во власть своему чувству. Она прекрасно знала, что Базаров влюбился в нее вопреки своим убеждениям, видела, как он избегает ее, понимала, что признание в любви неизбежно, и ждала его, довольная собой. А для Базарова, наверное, существовала не любовь, а только страсть и роскошное тело Анны Сергеевны. Хотя Аркадий сначала был влюблен в Анну Сергеевну, скорее, даже не в нее, а в ее красоту, он выбрал Катю. Я думаю, что это случилось потому, что Катерина более близка к природе, естественна, добра, нежна, проста. С ней легко и приятно общаться. А Анна Сергеевна ведет себя гордо, даже высокомерно и заставляет всех, общающихся с ней чувствовать себя не очень уютно. В своем романе Тургенев также рисует образ Фенечки. Она была "беленькая и мягкая, с темными волосами и глазами, с красными, детски пухленькими губками и нежными ручками". Фенечка могла дать Николаю Петровичу любовь, доброту, заботу, уважение, которых он, несомненно, заслуживал, будучи человеком добрым и порядочным. В свою очередь, Николай Петрович дал Фенечке надежную защиту, уважение, любовь. В романе И.А.Гончарова "Обломов" показаны только два основных женских образа, тоже противоположных друг другу. Это образ Ольги Ильинской и образ Агафьи Пшеницыной. Их внешность так же противоположна, как и облики Анны Сергеевны и Катерины Сергеевны в романе И.С.Тургенева "Отцы и дети". Ольга Сергеевна "не была красавицей, то есть не было ни белизны в ней, ни яркого колорита щек и губ, и глаза не горели лучами внутреннего огня... Но если б ее обратить в статую, она была бы статуя грации и гармонии. Несколько высокому росту строго отвечала величина головы, величине головы - овал и размеры лица; все это, в свою очередь, гармонировало с плечами, плечи - с станом". Агафья Пшеницына "была очень бела и полна в лице, так что румянец, кажется, не мог пробиться сквозь щеки. Бровей у нее почти совсем не было, а были на их местах две немного будто припухшие, лоснящиеся полосы, с редкими светлыми волосами. Глаза серовато-простодушные, как и выражение лица; руки белые, но жесткие, с выступившими наружу крупными узлами синих жил. Платье сидело на ней в обтяжку: видно, что она не прибегала ни к какому искусству, даже к лишней юбке, чтоб увеличить объем бедер и уменьшить талию". Ольга Ильинская пыталась разбудить Обломова, сделать его деятельным, как Штольц. Но душа Обломова не лежала к той жизни, которую ему предлагала Ольга. И Ольга поняла это: "Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтоб было в тебе, что указал мне Штольц, что мы выдумали с ним. Я любила будущего Обломова! Ты кроток, честен, Илья; ты нежен... как голубь; ты спрячешь голову под крыло - и ничего не хочешь больше; ты готов всю жизнь проворковать под кровлей... да я не такая: мне мало этого, мне нужно чего-то еще, а чего - не знаю!" Поэтому она бросила Обломова и нашла свое счастье в Штольце. Обломов тоже нашел свое тихое, спокойное счастье в Агафье Пшеницыной. Только она способна дать ему спокойствие, любовь, понимание. Агафья Пшеницына уважает в Обломове ленивого, изнеженного барина, от чего в свое время пытались избавиться Ольга и Штольц. Мне кажется, что у Агафьи Пшеницыной, Фенечки, Катерины Сергеевны много общего. Они не стремятся к любви, как к сверхцели, не добиваются ее любыми способами, а ждут, когда она придет сама. Когда к ним наконец-то приходит любовь, они выходят замуж и становятся прекрасными женами и матерями. Ольга Ильинская стремится к любви, ищет ее. Сначала она ошибается в своем выборе, но все же находит человека, который подходит ей. Я считаю, что И.А.Гончаров и И.С.Тургенев очень удачно показывают нам разные женские образы, разные характеры. И хотя у каждой женщины своя жизнь, свои переживания, их объединяет любовь и желание быть счастливыми. Введите условия поиска поиска Отправить форму ????? На главную Авиация и космонавтика Административн ое право Арбитражный процесс Архитектура Астрология Астрономия Банковское дело Безопасность жизнедеятельнос ти Биографии Биология Биология и химия Ботаника и сельское Бухгалтерский хозяйство учет и аудит Валютные отношения Ветеринария Военная кафедра География Геодезия Геология Геополитика Государство и право Гражданское право и процесс Делопроизводств о Деньги и кредит Естествознание Журналистика Зоология Издательское дело и полиграфия Инвестиции Иностранный язык Информатика, программирован ие Исторические личности История История техники Кибернетика Коммуникации и связь Косметология Краткое содержание произведений Криминалистика Криптология Кулинария Культура и искусство Культурология Литература и русский язык Литература зарубежная Логика Логистика Маркетинг Математика Медицина, здоровье Международное публичное право Частное право Отношения Менеджмент Металлургия Москвоведение Музыка Муниципальное право Налоги Наука и техника Новейшая история Разное Педагогика Политология Право Предпринимательст Промышленност во ь Психология Психология, педагогика Радиоэлектроник Реклама а Религия и мифология Риторика Сексология Социология Статистика Страхование Строительство Схемотехника Таможенная система Теория государства и права Теория организации Теплотехника Технология Транспорт Трудовое право Туризм Уголовное право Управление и процесс Физика Физкультура и спорт Философия Финансы Химия Хозяйственное право Цифровые устройства Экологическое право Экология Экономика Экономикоматематическое моделирование Экономическая география Экономическая теория Этика Юриспруденция Языковедение Языкознание, филология design by BINAR Design ВСЕВОЛОД САХАРОВ И.С.ТУРГЕНЕВ: ИСКУССТВО ФИНАЛА О финалах тургеневских романов сказано и написано много. Но только Антону Павловичу Чехову пришла счастливая мысль их объединить и сопоставить, увидев в них некое, разумеется, относительное, художественное целое, разъясняющее особенности дарования Тургенева-романиста. В известнейшем, много раз цитировавшемся чеховском письме к А.С.Суворину от 13 февраля 1898 г. говорится, что финалы «Дворянского гнезда» и «Отцов и детей» похожи на чудо. Но самое интересное замечание сделано относительно конца романа «Накануне»: «Финал этот полон трагизма» 1. Чехов — рассказчик и автор лирических пьес всегда придавал огромное значение завершению художественного произведения и был особо чуток к работе других писателей над концовками — достаточно вспомнить его краткую, но точную оценку финала «Воскресения» Льва Толстого. Так что к чеховским мыслям следует прислушаться, и тем более потому, что говорит это прямой наследник Тургенева, развивший и переосмысливший многие его мысли и образы. В проницательном чеховском отзыве поражают неожиданные слова о трагизме финала романа «Накануне». Они не удивили бы нас, если бы речь шла о «Довольно», «Поездке в Полесье», «Первой любви» или «Вешних водах», то есть о повестях Тургенева, где этого элегического трагизма более чем достаточно. Относительно же романа «Накануне» у читателей и критики давно сложилось совсем другое мнение: мы знаем, что это роман ожидания и надежды, весь обращенный в будущее России и прозорливо предсказывающий появление в ней новых, деятельных героев, способных изменить ее облик и исторические судьбы. Все мы помним название знаменитой статьи Добролюбова о тургеневском романе — «Когда же придет настоящий день?». Статья эта представляет собой именно революционную программу, призыв к решительным действиям, и роман Тургенева давал для такой трактовки все основания. Какой же тут может быть трагизм? Но, обратившись к финалу романа «Накануне», мы убеждаемся в правоте Чехова. Здесь царят смерть, глубочайший ужас смерти, страх человека перед всеобщим исчезновением. И эта мрачная дымка постепенно сгущается вокруг Елены и Инсарова. Гибнущая, лишенная будущего Венеция, умирающая от туберкулеза Виолетта в финале трагической оперы Верди «Травиата», страшный сон Елены, ее постоянное чувство вины и греховности своего счастья, выразительно описанная смерть чахоточного Инсарова, его жуткий черный гроб — все это весьма далеко от оптимизма, от веры в будущее и вполне соответствует высказанной здесь скорбной авторской мысли: «Уже кончилась маленькая игра жизни, кончилось ее легкое брожение, и настала очередь смерти». И когда немецкий переводчик «Накануне» самовольно дал роману «счастливую» развязку (Инсаров отказывается от борьбы и поступает на русскую государственную службу), Тургенев был возмущен: «Каково это моему авторскому сердцу!» 2. Он добивался совсем другого — ощущения скоротечности жизни, чувства трагизма, долгого прощания с молодостью, ее простодушными радостями и огорчениями. Эту-то ноту безысходной и глубокой печали и уловил в финале тургеневского романа Чехов , особо чуткий к такого рода сюжетам и сам не раз писавший о болезни и смерти. Да, финал романа «Накануне» полон трагизма, однако это совсем не отменяет главной авторской мысли, лежавшей в основе книги и послужившей поводом для оптимистической статьи Добролюбова. Ясно, что мысль эта — утверждающая и даже пророческая, ибо в 60-е годы приходит этот «настоящий день», появляются русские Инсаровы — Базаровы, а в 70-е годы они, как бы возвращают долг своему предшественнику-революционеру, отправляются освобождать его родину — Болгарию. Так что автор «Накануне» опять оказался пророком. Трагизм финала его книги не отбрасывает мрачную тень на весь роман, не убивает высказанную в нем веру и надежду на великое и светлое будущее новой России, на деятельное молодое поколение. Следственно, у грустного финала «Накануне», как и у финалов других романов Тургенева, имеется своя творческая «сверхзадача», свое место в тургеневской прозе: он явственно перекликается и с повестями и с позднейшими стихотворениями в прозе. А это, в свою очередь, указывает на характерные особенности построения тургеневского романа, существенно отличающегося от романов Льва Толстого, Достоевского и Гончарова. На эти особенности неоднократно указывал сам Тургенев. По воспоминаниям Мопассана хорошо известно пренебрежение русского писателя ко «всем старым формам романа, построенного на интриге, с драматическими и искусными комбинациями», и его желание, чтобы романисты «давали «жизнь», только жизнь — «куски жизни», без интриги и без грубых приключений» 3. Очевидно, что в таком новом романе роль финала меняется коренным образом. В тургеневских романах мы встречаемся с новыми принципами организации художественного целого. Сам Тургенев указал на это, начал свою работу над романом «Отцы и дети» с финала — смерти Базарова. Характерен настойчивый интерес Тургенева к концовкам своих романов: вспомним его долгие поиски финальной сцены романа «Рудин», написанной только в 1860 г. и существенно уточнившей авторскую трактовку главного персонажа, споры с Герценом и молодыми передовыми деятелями о завершающей роман «Отцы и дети» трагической смерти Базарова, полемику с Писаревым по поводу финала романа «Дым». Ясно, что для писателя это не просто полемика о литературной технике, о приемах, а разговор о главном — о судьбах русского классического романа. Споры эти помогали Тургеневу-романисту четко обозначить свой путь в литературе. Объясняя свой взгляд на жанр романа вообще и на форму собственных романов в частности, автор «Отцов и детей» писал в 1859 г. И.А.Гончарову: «Кому нужен роман в эпическом значении этого слова, тому я не нужен» 4. Эта особенность дарования Тургенева-романиста была всем известна. Уже Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?» заговорил о лиризме и субъективности тургеневской прозы, которые отнюдь не отменяли ее общественного звучания. Некрасов писал Тургеневу: «Ты поэт более, чем все русские писатели после Пушкина, взятые вместе» 5. О том же говорил автору «Дворянского гнезда» Гончаров: «Вам дан нежный, верный рисунок и звуки... Лира и лира — вот Ваш инструмент» 6. Салтыков-Щедрин увидел особенность тургеневских романов именно в их музыкальном строе, лирической оркестровке: «Герои Тургенева не кончают своего дела: они исчезают в воздухе... Я давно не был так потрясен, но чем именно — не могу дать себе отчета. Думаю, что ни тем, ни другим, ни третьим, а общим строем романа» 7. Очевидна важная роль финала в музыкальном «общем строе» романов Тургенева. В тургеневских романах элегичность, поэзия и музыка чувств неизменно торжествовали над объективностью и эпичностью, и потому романы эти по своему художественному построению скорее напоминали симфонии в прозе, где тщательно разработанная эмоциональная оркестровка преобладала и требовала особой организации повествования. Современники видели эту особенность Тургенева, но давали ей разные толкования. Критику-демократу Д.И.Писареву такая элегичность не была близка, и потому он усматривал в ней сознательную недоговоренность, отсутствие в романе завязки, развязки и строго обдуманного плана, чему отчасти способствовал сам Тургенев, трактовавший свои романы как ряд эскизов. И все же именно Писарев указал на главную особенность тургеневских романов — их мощный, всюду проникающий лиризм: «Чувство это прорывается помимо воли и сознания самого автора и согревает объективный рассказ, вместо того, чтобы выражаться в лирических отступлениях» 8. Действительно, музыкальный лиризм пронизывает художественную ткань романов писателя и особым образом ее организует, достигая вершины звучания в финале. Такое построение, помимо всего прочего, повышает степень читательского внимания и сопереживания. Эта-то особенность и стала главной причиной успеха тургеневских романов. Об их персонажах говорили и писали как о живых и близких людях. Друг писателя А.Д.Галахов так вспоминал о публичных чтениях глав романа «Дворянское гнездо»: «Некоторые места его так сильно действовали на чувства, что приходилось иногда на некоторое время прерывать чтение» 9. Финалы тургеневских романов стали кульминацией сопереживания читателей. В романах Тургенева финал обретал особую роль и значение именно вследствие их музыкальной организации, преобладания в этой эпической форме элегического лиризма. Финал здесь был, в первую очередь, связан не с внешним сюжетом, а со сложнейшей внутренней оркестровкой чувств и образов и потому получал значение мощного завершающего аккорда, подобного финалам бетховенских симфоний. Тургеневская проза в своем последовательном развитии и завершении главных лейтмотивов вполне учитывает искусство контрапункта. Сам Тургенев прямо указывает на связь концовок своих романов с музыкой: в финале «Дворянского гнезда» Лаврецкий возвращается в опустевший дом Калитиных, находит там старое фортепьяно, касается его клавишей и сразу вспоминает вдохновенную мелодию несчастного старика Лемма, свою любовь, ее скромный и трагический конец, печальный облик ушедшей в монастырь Лизы Калитиной. Это характерный «открытый» финал, вполне музыкально завершающий авторскую идею, но оставляющий неизвестной дальнейшую судьбу главных действующих лиц романа. То же мы встречаем и в других тургеневских романах. Даже чисто памфлетная концовка «Дыма» не зачеркивает чувства отрезвления и обретения новой веры и нового жизненного дела, которое возникает после всех разочарований в мнимых истинах и трагедий и выражено в счастливом завершении истории любви Литвинова и Татьяны, за которыми стоит сама жизнь с ее подлинной правдой. Ведь и смерть Рудина, Инсарова, Базарова и Нежданова не становится стандартной концовкой, она лишь добавляет к «открытым» финалам «Рудина», «Накануне», «Отцов и детей» и «Нови» ноту элегического трагизма и в то же время показывает, что жизнь продолжается, что в ней кипят молодые новые силы, полные веры и надежды. Недаром Добролюбов и Писарев сетовали, что смерть Инсарова обрывает роман «Накануне» на самом интересном месте, а Герцен считал, что автор попросту отделывается с помощью этих смертей от своих героев. Сегодня мы понимаем, что это не так. Но критикам-демократам, конечно, хотелось тогда, чтобы авторитетнейший, всеми читаемый русский писатель Иван Тургенев показал передовое молодое поколение в «живой гражданской деятельности» (Добролюбов), и это желание было понятным. Но Тургенев-романист ставил перед собой иные творческие задачи. Он хорошо знал о претензиях к его финалам не только из критических статей, но и из писем к нему Герцена и Писарева, из споров с друзьями, которым он читал главы романов по мере их написания. Более того, писатель ответил своим критикам именно в финале «Дворянского гнезда», где есть следующий любопытный диалог с воображаемым читателем: «И конец? — спросит, может быть, неудовлетворенный читатель. — А что же сталось потом с Лаврецким? С Лизой?». Но что сказать о людях, еще живых, но уже сошедших с земного поприща, зачем возвращаться к ним?». Именно здесь ясно видно, что в своих исканиях в сфере романной формы Тургенев следует пушкинской «онегинской» формуле «свободного романа». И он понимает, как и Пушкин, что проза и стихи — большая разница. Его романы, как и «Евгений Онегин», свободны, лишены стандартных закругленных концовок, их «открытые» финалы подчеркивают эту сознательную незавершенность, позволяют увидеть «даль свободного романа», который, однако, при всей своей свободе имеет внутреннюю логику и, следовательно, закономерное завершение. И потому Тургенев отвечает своим критикам точно так же, как отвечал Пушкин всем тем, кто наперебой советовал ему продолжать «Евгения Онегина». Пушкинский иронический ответ простодушным советчикам, как и его роман «Евгений Онегин», написан в стихах: Вы за «Онегина» советуете, други, Опять приняться мне в осенние досуги. Вы говорите мне: он жив и не женат. Итак, еще роман не кончен — это клад: Вставляй в просторную вместительную раму Картины новые — открой нам диораму... Диалог Тургенева с «неудовлетворенным читателем» в финале «Дворянского гнезда» писан прозою, но очевидна его связь с пушкинской поэтической мыслью. Вслед за автором «Евгения Онегина» Тургенев подчеркивает здесь, что внешняя сюжетная незавершенность отнюдь не означает недосказанности авторской творческой мысли. Все его романы завершены, автор высказал все, что имел сообщить читателям, и поставил точку там, где хотел ее поставить. Этими «точками» и являются финалы тургеневских романов. При всей их «открытости» и обращенности в будущее это именно продуманные концовки, мощные завершающие аккорды, соединяющие романы Тургенева в целостный художественный организм, на что указывал автор в предисловии к изданию своих романов 1880 г., и сами являющиеся существенной частью этого романного цикла. Здесь стоит вспомнить и творческую историю «Нови». Сам автор говорил о своем романе: «Новь» ведь у меня не кончена. Я удивляюсь, как этого не заметили. Так прямо оборваны нити, и как бы мне хотелось, если только буду в состоянии, написать продолжение или что-нибудь подобное на ту же тему» 10. И даже принялся писать это «продолжение». Однако, работая над темой и наблюдая жизнь и типы, убедился, что никакое «продолжение» не нужно, «Новь» его завершена именно «обрывом нитей», указывая тем самым на переходную эпоху и едва намеченные черты новых людей нового, грядущего времени. Этот финальный образ оборванной струны емок и поэтичен. Опять трагическая элегия разочарования и смерти сменяется темой надежды и веры. Все эти факты конкретной поэтики романов Тургенева разъясняют, помимо всего прочего, и внешне парадоксальную мысль Чехова о трагизме финалов этих романов. Ибо через поэтику мы видим и постигаем мировоззрение автора, внутреннюю логику его творчества, соотнесенные с общим развитием русской жизни и тогдашней литературы. Трагизм, отмеченный Чеховым, несомненно, присущ Тургеневу, и в особенности позднему, это одна из главных черт его личного мировосприятия, которую отмечали многие, и в том числе Лев Толстой, относившийся к такому постоянному ощущению трагичности бытия с иронией. Эту черту признавал за собой сам Тургенев, писавший Толстому: «В литературное произведение все-таки входит больше той части души, которую не совсем удобно показывать» 11. Действительно, в произведениях Тургенева очень много личного, автобиографического: здесь высказаны самые сокровенные его мысли и чувства. И с этой особенностью миросозерцания неразрывно связан элегический лиризм тургеневской прозы, и прежде всего его повестей и прозаических стихотворений. Оттуда этот трагический лиризм проникает в романы и в их финалы. Давно замечено, что внутри тургеневских романов существуют некие автономные художественные пространства, вставные новеллы, где лирическое мировосприятие автора высказывается вполне. Вспомним преисполненные трагизма, мыслей о смерти и бренности всего земного истории роковой, разрушительной, похожей на духовное затмение любви-«амока» Литвинова и Ирины в «Дыме» и Павла Петровича в «Отцах и детях». Ведь это именно повести, стоящие рядом с «Первой любовью» и «Вешними водами». Лирическое «я» писателя здесь выражено с исчерпывающей полнотой. Но Тургенев на этих повестях не останавливается, он пишет именно романы, форму объективную и эпическую, внутри которой эти вставные новеллы обретают иное значение и смысл. Конечно, писателю эти грустные истории и неразрывно связанные с ними трагические финалы гораздо ближе, нежели сами романы, к которым автор относился скорее как к общественному долгу, исполнению некоего поручения. Ведь писал же Тургенев об «Отцах и детях»: «Мне иногда сдается, что я тут — сторона, а всю эту штуку выкинул какой-то другой, которому это было нужно и которому я с моим романом попался под руку» 12. О своих повестях он бы так никогда не сказал, ибо они полны мыслей и чувств глубоко личных, выстраданных. В романах же отразилось не столько то, что Тургенев с самого начала хотел сказать, «сколько то, что сказалось им, хотя бы и ненамеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни» 13, по классической формуле Добролюбова. Поэтому-то полные элегического трагизма вставные новеллы и финалы тургеневских романов отнюдь не превращают эти романы в трагедии, а, наоборот, связывают их с вечным движением жизни, обращены в будущее, полны надежды и веры в доброе будущее России, ее лучших людей и общественных сил, ее народа. И даже теоретик международного авангардизма Вирджиния Вулф признает самобытность и художественную правоту тургеневского искусства композиции и завершения романа все объясняющим аккордом: «Тургенев свои книги видел не чередой событий, а как развитие переживания, сосредоточенного в главном характере... Здесь связь не событий, а чувств... И мы... испытываем в конце книги ощущение полноты» 14. Какой уж там трагизм! Кстати, финалы эти, помимо всего прочего, учили и учат читателей тургеневских романов тому, что никакое чтение нравоучительных книг и следование умозрительным теориям изменить человека и преобразить его душу и деяния не могут. Главным учителем человека была и остается жизнь, и прежде всего жизнь общественная. Потому-то автор этих романов при всей его общепризнанной поэтичности и стал реалистичнейшим художником жизни, социальным романистом, создавшим глубоко художественную историю общественного движения в России XIX столетия. Постижение этой истины стало хорошей школой и для самого писателя. В своих романах и в их финалах Тургенев-художник поднимается прежде всего над самим собою, над своими личными мнениями и пристрастиями, здесь он в конце концов творчески одолевает любой трагизм, в том числе и свой собственный. Это и сделало его романы классикой, вершиной русского классического реализма XIX в., определило их непреходящее, мировое значение. Это и было главным открытием Тургенева-романиста. Очевидна важность этого капитального открытия для всей последующей русской литературы 15. Уже называлось имя Чехова, чьи знаменитые «открытые» финалы пьес ведут свою родословную от элегических концовок тургеневских романов и в свою очередь оказывают воздействие на советскую драматургию, и прежде всего на театр Александра Вампилова. На этом же принципе основана и бунинская элегия в прозе «Жизнь Арсеньева», один из самых «тургеневских» романов XX в. Влияние тургеневских романных концовок прослеживается и в советской прозе, — всюду, где в романах наших лучших писателей рождается мощное лирическое начало, органично соединяющееся с элегическим трагизмом воспоминаний об ушедшем быте и канувших в прошлое поколениях. В таких случаях возникает необходимость в завершающем аккорде финала, как бы подводящего итоги и в то же время открытого для будущего. И тогда романисты неизменно вспоминают тургеневские романы, их открытые финалы. Здесь можно упомянуть не только о лирическом романе Михаила Булгакова «Белая гвардия» с его взволнованновопросительной, умело оборванной концовкой, но и о трагическом финале шолоховской эпопеи «Тихий Дон», где Григорий Мелехов совсем по-тургеневски подводит черту под своей прежней трудной судьбой и идет навстречу новой жизни. Используют это открытие великого прозаика и современные романисты. Таким образом искания Тургенева-романиста в сфере поэтики, его многосмысленные открытые финалы и сегодня сохраняют значение живой классической традиции и потому многое определяют в движении русского романа, всей литературы XX века. 1. Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. M., 1976. Письма. T.4. C. 174. 2. И.С.Тургенев в воспоминаниях современников. M., 1983. T.2. C.79. 3. Мопассан Г. Полн. собр. соч. M., 1958. T.9. C.177. 4. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.-Л., Письма. 1961. T.3. С.290. 5. Переписка И.С.Тургенева. M., 1986. T.1. C.129. 6. Там же. T.2. C.165, 166. 7. Тургенев в русской критике. M., 1953. C.517. 8. Там же. C.275. 9. Галахов А.Д. Сороковые годы // Исторический вестник. 1892. № 1. C.140. 10. И.С.Тургенев в воспоминаниях современников. T.1. C.420. 11. Тургенев И.С. Полн. Собр .соч. и писем. Письма. T.12. C. 383. 12. Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем. Письма. T.5. C. 26. 13. Тургенев в русской критике. C.147. 14. Вопросы литературы. 1983. № 11. C.205. 15. См.: Назарова Л.Н. Тургенев и русская литература конца XIX — начала ХХ в. Л., 1979; Голованова Т.П. Тургенев и советская литература // Русская литература. 1968. № 4; Магд-Соэп К. Традиции Тургенева в современной русской прозе // Slavica Gandensia. 1983. № 10. © 1999 Vsevolod Sakharov: hlupino@mail.ru | guestbook | homepage Edited by Alexej Nagel: alexej.ostrovok.de Published in 1999 by Ostrovok: www.ostrovok.de | Информация | Литература | Русский язык | Тестирование | Карта сайта | Поиск по сайту | Нашли ошибку? Выделите и нажмите CTRL+ENTER Бялый Г. Первый роман Тургенева: Рудин Источник: Тургенев И.С. Рудин: Роман. - М.: Дет. лит., 1990 - 159 с. «Рудин» - первый роман Тургенева. Это известно всем, но, как ни странно для современного читателя, этого не знал Тургенев, когда писал и печатал «Рудина». В 1856 году в журнале «Современник», где «Рудин» впервые был опубликован, он назывался повестью. Только в 1880 году, выпуская в свет новое издание своих сочинений, Тургенев возвел «Рудина» в высокий ранг романа. Может показаться, что, назвать ли произведение повестью, назвать ли его романом, разница невелика. Читатели иной раз полагают, что роман - это большая повесть, а повесть - это маленький роман. Но не так обстояло дело для Тургенева. В самом деле, «Вешние воды» крупнее «Рудина» по объему, но это повесть, а не роман. Дело, значит, не в объеме, а в чем-то более важном. В предисловии к своим романам Тургенев сказал: «...Я стремился, насколько хватало сил и умения, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет «the bogi and pressure of time» («самый образ и давление времени)», и ту быстро изменявшуюся физиономию русских людей культурного слоя, который преимущественно служил предметом моих наблюдений». Конечно, и в повестях Тургенева были типические образы, и там были изображены люди своей страны и своего времени, но в центре внимания там была частная жизнь людей, волнения и тревоги их личного существования. В отличие от повестей каждый роман Тургенева представлял собою какой-либо существенный эпизод умственной жизни русского общества, и в сумме своей романы Тургенева отражают историю идейных исканий образованных русских людей от сороковых до семидесятых годов прошлого столетия. За героем первого романа Тургенева Дмитрием Рудиным давно закрепилось прозвище «лишний человек», хотя этим именем он в романе не назван. Происходит этот термин от повести Тургенева «Дневник лишнего человека» (1850). Впрочем, герой этой повести очень мало напоминает Рудина. Лишним он назван только из-за своей неудачливости, из-за того, что, погруженный в себя, изъеденный болезненной мнительностью и раздражительностью, он проглядел свою жизнь и счастье. Он - лишний в прямом смысле слова, а это совсем не то, что имели в виду современники Тургенева, когда, переосмыслив его название, заговорили о «лишних людях» как о характерном и значительном явлении русской жизни. Гораздо ближе к Рудину герой рассказа «Гамлет Щигровского уезда» (1850) из «Записок охотника». Это человек глубокий и серьезный, он думает о судьбах своей страны и о том, какую роль он сам может сыграть в русской жизни. Он философски образован и умен, но он оторван от жизни родной страны, не знает ее потребностей и нужд, горько страдает из-за своей ненужности и желчно смеется над своей беспочвенностью. Однако самое стремление найти себе место в русской жизни представляется Тургеневу проявлением живой силы. Унижающий себя, герой не унижен поэтому автором. Это один из тех образованных молодых дворян, которые не могут найти себе места ни среди практических помещиков, поглощенных своим хозяйством, ни среди чиновников, ни на военной службе. Для этого они слишком умны, слишком высоки. Но они не могут найти и другого занятия, которое было бы достойно их, и обречены поэтому на бездействие. Положение их мучительно, ко они постепенно привыкают к нему и в своих страданиях, в недовольстве собой начинают видеть признак исключительности натуры, а в постоянном самоунижении, в умении придирчиво и сурово анализировать свою личность и находить в себе недостатки и пороки, порожденые вынужденной праздностью, они приучаются, наконец, находить горькую отраду. Как появилось такое удивительное и странное явление в жизни русского общества, как возник и сформировался этот тип человека, точно сотканного из противоречий, одновременно и обаятельного и подражающего, сильного умом и слабого волен, свободно разбирающегося в отвлеченных тонкостях современной философии и беспомощного, как ребенок, в вопросах практической жизни? Что сделало его таким и как следует к нему относиться? В ряде повестей, предшествовавших «Рудину» («Два приятеля», «Затишье», «Яков Пасынков», «Переписка»), Тургенев тщательно вырисовывал этот тип человека, пристально всматривался в него и старался беспристрастно взвесить его достоинства и недостатки. Он брал разных людей этого рода, ставил в разные жизненные положения, чтобы выяснить, в чем их главные особенности и как, в зависимости от обстоятельств, складывается их судьба. Это длительное художественное изучение приводило Тургенева к заключению, что в большинстве своем это люди добрые и благородные, но при всем том бессознательно эгоистичные и чрезвычайно неустойчивые. Их чувства искренни, но не прочны, и печальна бывает участь молодых девушек, связывающих с ними свою жизнь. В критике и публицистике 50-х годов раздавались «трезвые» голоса, укорявшие «лишних людей» в том, что они не умеют, не могут, не хотят жить в гармонии со своим окружением, и видели в этом их вину. Тургенева это не убеждало. Если образованные, талантливые, незаурядные люди становятся лишними, ненужными, бесприютными, значит, должна же быть какая-нибудь причина, помимо их личных недостатков и пороков. Разобраться в этом и ответить на этот трудный вопрос Тургенев «поручил» одному из «лишних» людей: недаром ведь они были люди размышления и анализа, вовсе к тому же не склонные оправдывать себя; напротив, они гораздо охотнее предавались желчному самообвинению. Именно таков Алексей Петрович, герой повести «Переписка» (1856). Он выступает своим собственным судьей и пытается понять, чем вызваны его жизненные ошибки и нравственные падения. Без всякого снисхождения к себе и себе подобным говорит Алексей Петрович о своем «дрянном самолюбии», о склонности к эффектной позе и красивым словам, о легкой изменчивости и непостоянстве. Много передумавший о себе и людях своего круга, он постепенно от обвинения переходит если не к оправданно «лишних людей», то, во всяком случае, к объяснению причин, сделавших их людьми без молодости и без будущего. Он начинает понимать, что дело не только в их личной вине, а в обстоятельствах исторической жизни, сформировавших особый тип русских людей. Алексей Петрович не отрицает многоразличных вин «лишних людей», но думает, что никто не бывает виноват в чемнибудь один. У этих людей была чистота помыслов, благородные надежды и высокие стремления, но обстоятельства сложились так, что у них не было иной жизненной задачи, кроме «разработки собственной личности». В условиях того времени, когда писались повести Тургенева, это значило, что социально-политический строй России, крепостной застой, гнет самодержавия не открывали перед личностью возможностей выхода на простор общественной жизни, и мыслящие, образованные люди вынуждены были сосредоточиться на себе самих. В этом причина их одностороннего развития: они были не подготовлены или, лучше сказать, волею обстоятельств они не были допущены к живому историческому делу. Вот почему, по мысли героя, эти люди виноваты без вины. Впрочем, дело для Тургенева было не только в том, виновны эти люди или невиновны, а еще и в том, нужны ли они были для России, принесли ли они пользу своей стране. Когда Тургенев писал свою летопись идейной жизни России, этот вопрос интересовал его прежде всего. Поставив его в «Переписке», он ответил на него утвердительно. Эти люди только думали и говорили, не более того; но мысль - это сила, и слово - это дело. Своим словом, своею мыслью «лишние люди» становились вольными или невольными просветителями: они приучали к размышлению окружающую их среду, до этого пребывавшую в состоянии жалкого покоя, они будили в этой среде всё, способное к пробуждению. Добролюбов сказал о «лишних людях»: «Они были вносители новых идей и в известный круг, просветители, пропагандисты, - хоть для одной женской души, да пропагандисты». Русская девушка, «уездная барышня» с тревогой и надеждой ждет появления такого человека, который мог бы вывести ее из узкого круга домашней жизни с ее повседневными заботами. Он явился, и ей кажется, что его устами говорит сама истина, она увлечена и готова следовать за ним, как бы труден ни был его путь. «Все - и счастье, и любовь, и мысль - все вместе с ним нахлынуло разом...» Любовь и мысль вот характерное для Тургенева сочетание, объясняющее душевный строй его героини. Для тургеневской девушки слово «любовь» много значит - это для нее пробуждение ума и сердца; ее образ наполняется у Тургенева широким смыслом и становится как бы воплощением молодой России, ожидающей своего избранника. Оправдает ли он ее надежды, станет ли он тем человеком, который нужен родной стране, - таков был главный вопрос. В «Переписке» он был поставлен, ответ был дан в «Рудине». «Переписка» стоит в преддверии тургеневского романа. Здесь уже многое было разъяснено, следовало подвести художественные итоги. «Рудин», опубликованный в одном году с «Перепиской», явился итогом целой серии рассказов и повестей Тургенева о «лишнем человеке». Современники сразу обратили на это внимание, они почувствовали обобщающий характер произведения и даже раньше, чем сам Тургенев, стали называть его романом. Главный герой, Дмитрий Николаевич Рудин, не просто отнесен к числу умных и образованных людей дворянского круга, как это было в прежних повестях, - в романе точно указана его культурная родословная. Он не так давно принадлежал к философскому кружку Покорского, в котором играл немалую роль. Там сформировались его взгляды и понятия, его отношение к действительности, его манера думать и рассуждать. Современники без труда узнали в кружке Покорского кружок Н. В. Станкевича, возникший в Москве в начале 30-х годов и сыгравший большую роль в истории русской общественной мысли. После краха декабристского движения, когда передовая политическая идеология преследовалась и подавлялась, появление философских интересов среди образованной молодежи имело особенно важное значение. Какой бы отвлеченной ни была философская мысль, все равно в конечном итоге она объясняет жизнь, стремится найти ее общие законы, указать идеал человека и пути его достижения; она говорит о прекрасном в жизни и в искусстве, о месте человека в природе и в обществе. Молодые люди, объединившиеся вокруг Станкевича, от общих философских вопросов прокладывали пути к пониманию современных задач, от объяснения жизни они переходили к мысли о необходимости ее изменения. В этот кружок входили замечательные юноши; среди них, кроме главы кружка Станкевича, были Виссарион Белинский, Михаил Бакунин, Константин Аксаков и некоторые другие молодые люди, не столь даровитые, но, во всяком случае, незаурядные. Обаятельный и чистый сердцем Станкевич, человек необыкновенно и разнообразно одаренный, философ и поэт, объединял всех. Станкевич ушел из жизни раньше других (он прожил неполных 27 лет), опубликовал около тридцати стихотворений и трагедию в стихах «Василий Шуйский», но друзья после его смерти рассказали о его личности и о его идеях, была опубликована его переписка, не менее значительная по содержанию, чем иные философские трактаты. Что значил Белинский для русской литературы и общественной мысли - известно всем. Константин Аксаков, разойдясь во взглядах со своими друзьями, стал одним из самых крупных деятелей славянофильского направления. Михаил Бакунин справедливо слыл в кружке Станкевича глубоким знатоком философии. Уехав в 1840 году за границу, он стал участником международного революционного движения и теоретиком русского народничества и анархизма. Интересная и сложная личность Бакунина имеет для нас особый интерес, так как, по свидетельству современников и самого Тургенева, некоторые черты характера молодого Бакунина отразились в образе Рудина. Разумеется, художественный образ у великих писателей никогда не бывает точной копией того человека, который послужил толчком к его созданию. Облик реального человека видоизменяется в духе художественного замысла всего произведения, дополняется чертами других людей, близких по характеру, привычкам, взглядам, общественному положению, и превращается в обобщенный художественный тип. Так было и в романе Тургенева. Покорский живо и близко напоминал Станкевича, но это был не только Станкевич, в нем просвечивал и облик Белинского. Рудин напоминал Бакунина, но это был не только Бакунин, хотя черты психологического сходства героя с прототипом бросались в глаза. У Бакунина было стремление играть первые роли, была любовь к позе, к фразе, была рисовка, граничившая иной раз с самолюбованием. Друзья жаловались порой на его бесцеремонность, на склонность, правда из самых добрых побуждений, вмешиваться в личную жизнь своих приятелей. Говорили о нем, что это человек с чудесной головой, но без сердца. Как видим позже, все это так или иначе нашло отражение в образе Дмитрия Рудина, и в то же время это были черты не одного только Бакунина, но и других людей его круга и воспитания. Словом, Рудин - не портрет одного лица, а образ собирательный, обобщенный, типический. Завязка романа относится к началу 40-х годов, финал точно датирован - 26 июня 1848 года, когда Рудин погибает на революционной баррикаде в Париже. Роман Тургенева (и это характерно не только для «Рудина») построен необыкновенно просто и строго. Несмотря на то что события в романе совершаются на протяжении нескольких лет, действие в нем сжато до нескольких дней. Показан день приезда Рудина в усадьбу Ласунской и следующее утро, потом после двухмесячного перерыва - объяснение Рудина с Натальей, на другое утро - свидание у Авдюхина пруда, и в тот же день Рудин уезжает. Главное действие романа на этом, в сущности, заканчивается, далее уже подводятся итоги. Все немногочисленные второстепенные персонажи романа прямо или косвенно соотносятся с Рудиным: одни воплощают ту бытовую среду, в условиях которой приходится жить Рудину, другие обсуждают его личность, его поступки, его ум и натуру и тем самым освещают его образ с разных сторон, с разных точек зрения. Все действие романа, последовательность эпизодов, сюжетные перипетии, - все подчинено задаче оценки исторической роли Рудина и людей его типа. Появление главного героя тщательно подготовлено краткой, но исчерпывающе точной обрисовкой социально-бытовой среды, в условиях которой он живет и с которой находится в сложных, чаще всего враждебных, отношениях. Среду Тургенев понимает очень широко - это вся Россия в ее тогдашнем состоянии: крепостное право, лютая бедность деревни, нищета, почти что вымирание. В первой же главке романа помещица Липина, остановившись на краю деревеньки у ветхой и низкой избы, справляется о здоровье хозяйки, которая «жива еще», но вряд ли поправится. В избе тесно, душно и дымно, сердобольная помещица принесла чаю и сахару, но в хозяйстве нет самовара, присмотреть за больной некому, в больницу везти уже поздно. Это крестьянская Русь. А рядом в лице Липиной, Волынцева, Лежнева - помещики, добрые, либерально настроенные, стремящиеся помочь крестьянам (у Липиной - больница). Тут же, в ближайшем соседстве, - помещики иного склада, представленные Ласунской. О ней мы узнаем сначала со слов Лежнева. По понятиям Ласунской, больницы и училища в деревне - это все пустые выдумки: нужна только личная благотворительность, ради собственной души, не более того. Так рассуждает, впрочем, не она одна. Умный Лежнев понимает, что Ласунская не одинока, что она поет с чужого голоса. Есть, значит, учителя и идеологи дворянского консерватизма; с их голоса поют все Ласунские во всех губерниях и уездах Российской империи. Наряду с этими главными силами сразу же появляются фигуры, представляющие их бытовое окружение: с одной стороны - это нахлебник и фаворит богатой помещицы и с другой - разночинец-учитель, живущий в той же среде, но чужой, даже во многом враждебный ей, пока еще инстинктивно. Чувствуется, что нужен только повод, чтобы его отталкивание от косной среды стало сознательным убеждением. Так на протяжении нескольких страниц, в одной только главке, воссоздается расстановка общественных сил, возникает социальный фон, на котором выделяются в последующем повествовании индивидуальности, личности, характеры. Прежде всего появляется Дарья Михайловна Ласунская: ее появление подготовлено, как мы помним, суждением Лежнева о ней, теперь читатель знакомится с этой знатной и богатой барыней подробно и обстоятельно. Он узнает важные факты жизни и главные свойства характера светской львицы прежних времен и былой красавицы, о которой некогда «бряцали лиры». Автор рассказывает о ней скупыми словами и с легким оттенком презрительной иронии - верный признак того, что она существует для автора и для читателей не сама по себе, не как самодовлеющий персонаж, а только как деталь социально-бытового фона, как олицетворение среды, враждебной повествователю и главному герою, появление которого ожидает читатель. Фигуры такого назначения не пользуются большими правами в повествовании: им не дано сложного внутреннего мира, их не окружает лирическая атмосфера, автор их не анализирует, не заставляет их постепенно раскрывать свою личность перед читателем, он сам рассказывает о них все, что нужно, притом рассказывает кратко и точно, без элегических размышлений и поэтических недомолвок. Примерно таков же метод обрисовки и другого персонажа - Африкана Семеновича Пигасова, хотя фигура эта не лишена серьезного значения и имеет свою историю в творчестве Тургенева. Тип раздраженного неудачника, озлобленного против всего и всех, ни во что не верящего, желчного умника и краснобая интересовал Тургенева едва ли не с самого начала его творческого пути. Такие люди на первый взгляд противостоят среде и возвышаются над нею, на самом же деле эти доморощенные Мефистофели нисколько не выше тех людей, над которыми насмехаются, они плоть от плоти и кость от кости этой же среды. Больше того, они часто выступают в незавидной роли шутов и нахлебников, пусть даже высшего разбора, и в этом нет ничего удивительного: бесплодный скептицизм по самой природе своей находится в опасном родстве с шутовством. В прежних произведениях Тургенева ближе всего к Пигасову по общему характеру и по роли в повествовании был Лупихин из «Гамлета Щигровского уезда». Умный и злой, с беглой и едкой улыбкой на искривленных губах, с дерзкими прищуренными глазками и подвижными чертами лица, он приковывает к себе вначале внимание ядовитыми и смелыми насмешками над уездным мирком. Однако, как и в «Рудине», его истинная роль выясняется очень скоро. Это не больше чем озлобленный неудачник, это посредственность с явственно проступающими чертами приживальщика. К тому же в обоих произведениях истинная цена такого персонажа сразу выясняется при сопоставлении с подлинным героем повествования, который действительно, а не только внешне выделяется из окружающей среды и в чьей судьбе есть подлинный трагизм, а не те черты комической неудачливости, которыми Тургенев без сожаления метит людей лупихинско-пигасовского типа. Итак, выводя на сцену Пигасова, Тургенев готовит фон, на котором должен выделиться Рудин. Скептику будет противопоставлен энтузиаст, смешному неудачнику - трагический герой, уездному говоруну - талантливый оратор, изумительно владеющий музыкой красноречия. Вслед за этим в романе возникают другой антагонист главного героя, его соперник в любви, и героиня романа. Ее суд и должен будет решить вопрос об исторической значительности человека рудинского типа. С появлением этих персонажей перо Тургенева заметно меняется. Он не спешит рассказывать о них, точно не интересуется ими вовсе. Но это у Тургенева всегда признак глубокой личной заинтересованности. К своему любимому герою он всегда присматривается медленным, пристальным взглядом и заставляет читателя внимательно обдумывать каждое слово героя, каждый его жест, его малейшее движение. В особенности это относится к тургеневским героиням, в данном случае к Наталье. О ней мы сначала не знаем решительно ничего, кроме ее возраста, да кроме того еще, что она сидит у окна за пяльцами. Но первый же штрих, отмеченный автором, незаметно располагает нас в ее пользу. Пандалевский, фаворит Ласунской, играет на рояле, Наталья слушает его со вниманием, но потом, не дослушав, опять принимается за работу. Мы догадываемся по этому короткому замечанию, что она любит и чувствует музыку, но игра такого человека, как Пандалевский, не может взволновать и увлечь ее. О Волынцеве, как и о Наталье, Тургенев ведет повествование в тоне сердечной заинтересованности, но метод обрисовки Волынцева все же существенно иной: в его изображение Тургенев вносит некий снижающий оттенок снисходительного участия. Едва Волынцев появляется рядом с Натальей, как читатель сразу же по скупым, но много говорящим замечаниям романиста узнает, что этот красивый человек с ласковыми глазами и прекрасными темно-русыми усами, быть может, и хорош сам по себе, и добр, и честен, и способен к преданной любви, но явно отмечен печатью какойто внутренней ущербности: он понимает свою ограниченность и хотя несет ее с полным достоинством, но не может подавить неуверенность в себе; он заранее ревнует Наталью к знатному гостю, которого ожидают у Ласунской, и эта ревность не от сознания собственных прав, а от чувства своего бесправия. Внешне Волынцев похож на свою миловидную и добрую сестру, Липину, которая глядела и смеялась, как ребенок, но Тургенев не случайно замечает, что в чертах его лица было меньше игры и жизни и глаза его глядели как-то грустно. Если прибавить к этому, что Наталья с ним ровна, ласкова и глядит на него дружелюбно, но не больше того, то характер любовной истории, которая должна разыграться в дальнейшем развитии романа, тем самым уже определен. С появлением настоящего героя, которого ждет читатель, неустойчивое равновесие в отношениях Натальи и Волынцева неизбежно должно будет нарушиться. Теперь подготовлено движение сюжета, намечена среда, обрисован фон, силы расставлены, свет и тени, падающие на персонажей, распределены обдуманно и точно, все подготовлено к появлению главного героя, именем которого назван роман, - и в финале главы лакей может возвестить наконец, точно в театре: «Дмитрий Николаевич Рудин!» Появление Рудина в романе автор обставляет такими деталями, которые сразу должны показать соединение в этом человеке разнородных свойств. На протяжении первых же фраз мы узнаем, что Рудин высок ростом, но несколько сутуловат, у него быстрые темно-синие глаза, но они блестят «жидким блеском», у него широкая грудь, но тонкий звук голоса Рудина не соответствует его росту и его широкой груди. Самый момент появления этого высокого интересного человека, курчавого и смуглого, с неправильным, но выразительным и умным лицом, появления, так тщательно подготовленного, вызывает ощущение эффектности и яркости. И опять-таки ощущение какого-то внешнего несоответствия производит такая мелочь: платье на нем было не ново и узко, словно он из него вырос. Впечатление, произведенное на читателя этими мелкими подробностями, в дальнейшем если не сглаживается, то, во всяком случае, перевешивается настоящим апофеозом умственной мощи Рудина. В споре с Пигасовым он одерживает быструю и блестящую победу, и эта победа не только Рудина лично, но тех передовых сил русской мысли, своеобразным адвокатом которых Рудин в этой сцене выступает. Рудин, воспитанник философских кружков 30-х годов, прежде всего отстаивает самую необходимость и законность философских обобщений. Преклонению перед фактами он противопоставляет значение «общих начал», то есть теоретического фундамента всех наших знаний, всей нашей образованности. Спор Рудина с Пигасовым приобретает особую знаменательность: русские мыслители создавали свои философские системы в борьбе с «практическими людьми» (практическим человеком называет себя Пигасов), в спорах со скептиками (скептиком называет Пигасова Рудин). И тем и другим интерес к философии казался ненужной и даже опасной претензией. Здесь Рудин выступает как верный ученик Станкевича и Белинского, отстаивавших глубочайшую важность философских основ науки, и не только науки, но и практики, «Общие начала» нужны были Рудину и его друзьям для решения коренных вопросов русской жизни, русского народного развития. Теоретические Построения, как мы помним, связывались у них с исторической практикой и вели к обоснованию деятельности. «Если у человека нет крепкого начала, в которое он верит, нет почвы, на которой он стоит твердо, как может он дать себе отчет в потребностях, в значении, в будущности своего народа?» спрашивал Рудин. Дальнейшее развитие его мысли было прервано злобной выходкой Пигасова, но несколько слов, которые Рудин успел сказать, ясно показывают, куда направлялась его мысль: «...как может он знать, что он должен сам делать, если...» Речь, следовательно, идет о деятельности, основанной на понимании потребностей, значения и будущности своего народа. Вот о чем заботились Рудины, вот ради чего они отстаивали необходимость общих философских «начал». Для Рудина и ему подобных развитие личности, индивидуальности с ее «самолюбием» и «эгоизмом», говоря словами самого Рудина, было подготовительной ступенью и предварительным условием для деятельного стремления к общественным ценностям и целям. Личность в процессе своего развития приходит к самоотречению ради общего блага - в это твердо верили люди 30-40-х годов. Об этом не раз писали Белинский и Станкевич. Об этом же говорит в романе Рудин, доказывая, что «человек без самолюбия ничтожен, что самолюбие - архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть, но что в то же время тот только заслуживает название человека, кто умеет овладеть своим самолюбием, как всадник конем, кто свою личность приносит в жертву общему благу». К афоризмам Рудина можно привести немало параллелей из статей и писем людей круга Станкевича - Белинского. В сознании культурных читателей тургеневского времени такие параллели возникали сами собой, и образ Рудина связывался с лучшими деятелями русской культуры недавнего прошлого. Все это поднимало Рудина на пьедестал, совершенно недосягаемый для скептических острот какого-нибудь Пигасова. При всем том Тургенев не забывает и о человеческих слабостях Рудина - о его самолюбовании, о некотором даже актерстве, рисовке, любви к красивой фразе. Все это выяснится впоследствии. Чтобы заранее подготовить читателя к восприятию этой грани личности Рудина, Тургенев, верный своему принципу многозначительных подробностей, вводит такой небольшой эпизод: тотчас после глубоких и волнующих слов о самолюбии и общем благе, об эгоизме и его преодолении Рудин подходит к Наталье. Она в замешательстве встает: видимо, Рудин в ее глазах уже и сейчас - человек необыкновенный. Волынцев, сидевший подле нее, тоже поднимается с места. Перед этим Басистов с жаром отклонил очередную враждебную Рудину остроту Пигасова. Совершенно очевидно: Рудин имел явный успех у своей аудитории; это даже больше, чем успех, это почти потрясение. Заметил ли все это Рудин, важно ли ему это, или, быть может, увлеченный высоким смыслом своих слов, он совершенно забыл о себе, о своем самолюбии? От того или иного поведения Рудина в этот момент будет многое зависеть в оценке его натуры. Едва заметный штрих в тургеневском повествовании помогает читателю сделать нужный вывод. «- Я вижу фортепьяно, - начал Рудин мягко и ласково, как путешествующий принц, - не вы ли играете на нем?» Здесь все значительно: и мягкая ласковость интонаций Рудина, который знает свою силу и теперь, любуясь собой, точно боится подавить собеседницу своим величием, и прямая авторская оценка позы, жеста и самочувствия Рудина - как «путешествующий принц». Это важный, едва ли не переломный момент повествования: главного героя впервые коснулось жало авторской иронии. Но это, разумеется, не последнее и не решающее впечатление. Следует рассказ Рудина о его заграничном путешествии, его общие рассуждения о просвещении и науке, его блестящая импровизация, его поэтическая легенда, заканчивающаяся философским афоризмом о вечном значении временной жизни человека. Большими словами характеризует автор едва ли не высшую тайну, которой владел Рудин, - тайну красноречия, и в авторском тоне сквозит восхищение. Затем передается впечатление, произведенное Рудиным на каждого из его слушателей, - в тоне суховатого отчета, который, однако, говорит сам за себя: Пигасов в злобе уходит раньше всех, Липина удивляется необыкновенному уму Рудина, Волынцев соглашается с ней, и лицо его становится еще более грустным. Басистов всю ночь напролет пишет письмо другу, Наталья лежит в постели и, не смыкая глаз, пристально глядит в темноту... Но вместе с тем «путешествующий принц» не забыт, впечатление какой-то разорванности внешнего портрета Рудина тоже осталось, как и впечатление необычности авторского тона, вбирающего в себя разнообразные оттенки - от восхищения до насмешки. Так утверждается двойственность героя и возможность, даже неизбежность двойственного к нему отношения. Это было сделано автором на протяжении одной - третьей - главы, в ней предсказан дальнейший ход событий, и последующее изложение воспринимается уже как естественное развитие всего заложенного здесь. В самом деле, в дальнейшем повествовании продолжаются эти две темы: и тема личных недостатков Рудина, и тема исторической значительности самого факта его появления в русской жизни. В последующих главах мы узнаем очень много, почти все, о недостатках Рудина - со слов его бывшего друга Лежнева, которому читатель должен верить: Лежнев правдив и честен, к тому же он человек рудинского круга. И все-таки читатель не может не заметить, что Лежнев хотя как будто и прав, но он имеет личные причины дурно говорить о Рудине: ему жаль Волынцева, и он боится опасного влияния Рудина на Александру Павловну. Но задача оценки Рудина еще не кончена. Главное испытание впереди. Это испытание любовью. А для Рудина, романтика и мечтателя, любовь не просто земное чувство, пусть даже возвышенное, это особое состояние души, налагающее важные обязательства, это драгоценный дар, который дается избранным. Вспомним, что в свое время, узнав о юношеской любви Лежнева, Рудин пришел в восторг неописанный, поздравил, обнял друга и принялся толковать ему всю важность его нового положения. Теперь же, узнав о любви Натальи и признавшись в любви сам, Рудин оказывается, однако, в положении, близком к комическому. Он говорит о своем счастье, точно стремится убедить себя самого. В сознании важности своего нового положения он совершает тяжелые эгоистические бестактности, которые в его собственных глазах принимают вид возвышенной прямоты и благородства. Он приезжает, например, к Волынцеву, чтобы рассказать ему о своей любви к Наталье... И все это очень быстро, в течение каких-нибудь двух дней, завершается катастрофой у Авдюхина пруда, когда Наталья рассказывает, что мать проникла в их тайну, решительно не согласна на их брак и намерена отказать Рудину от дома, а Рудин на вопрос, как им следует поступить, произносит роковое «покориться!». Теперь «разоблачение» Рудина, казалось бы, завершено окончательно, но в последней главе и в эпилоге с коротким добавлением к нему о гибели Рудина все становится на свои места. Прошли годы, забылись старые обиды, настало время для спокойного и справедливого суда. К тому же, не выдержав одного испытания - испытания счастьем, Рудин выдержал другое - испытание бедой. Он так и остался нищим, он гоним властями; в эпилоге романа прежний обвинитель Рудина Лежнев горячо защищает своего друга от его самообвинений. «Не червь в тебе живет, не дух праздного беспокойства: огонь любви к истине в тебе горит...» В эпилоге снимается с Рудина все смешное, все мелкое, и образ его предстает наконец в своем историческом значении. Лежнев преклоняется перед Рудиным как перед «бесприютным сеятелем», «энтузиастом», Рудины, по его мнению, нужны... Решению главного вопроса - о роли героя в жизни русского общества - подчинен в романе Тургенева и метод изображения внутренней жизни персонажей. Тургенев вскрывает только такие черты внутреннего мира героев, которые необходимы и достаточны для их понимания как социальных типов и характеров. Поэтому романист не интересуется резко индивидуальными чертами внутренней жизни своих героев и не прибегает к детальному психологическому анализу. В «Современнике» вслед за «Рудиным» появилась рецензия Чернышевского на «Детство и отрочество» и военные рассказы Л. Толстого. Как известно, Чернышевский в ней дал глубокое определение психологизма Толстого как «диалектики души»: Толстой «не ограничивается изображением результата психического процесса, - его интересует самый процесс...» Психологический метод Тургенева совсем иной, у него другая задача. Его сфера - это как раз то, о чем говорит Чернышевский, перечисляя писателей, не похожих на Толстого, - именно «очертания характеров», понятых как результат «общественных отношений и житейских столкновений». Тургенев не рассказывает о «таинственнейших движениях» человеческой души, он большей частью показывает лишь выразительные приметы внутренней жизни. Возьмем для примера наиболее психологически насыщенный эпизод «Рудина» свидание у Авдюхина пруда, потрясшее Наталью и перевернувшее ее жизнь. Эту психологическую катастрофу Тургенев рисует простейшими средствами - изображением мимики, жеста, тона. Когда Рудин приближается к Наталье, он с изумлением видит новое выражение ее лица: брови ее были сдвинуты, губы сжаты, глаза глядели прямо и строго. Тургеневу вполне достаточно этого для передачи душевного состояния Натальи. Его не интересуют зыбкие переходы и переливы чувств, ему не нужны авторские комментарии к внутреннему миру героини в данный момент. Его занимают лишь те главнейшие проявления ее чувств и мыслей, которые соответствуют твердым очертаниям ее характера. То же и в дальнейшем, на всем протяжении этой сцены. Рассказ о том, что произошло накануне этой встречи (наушничество Пандалевского, разговор с матерью), Наталья произносит каким-то ровным, почти беззвучным голосом - признак высшего напряжения: она ждет решающего слова Рудина, которое должно определить ее судьбу. Рудин произносит «покориться», и отчаяние Натальи достигает высшей точки. Внешне это выражено только тем, что она медленно повторила это страшное для нее слово, и губы ее побледнели. После слов Рудина о том, что им не суждено жить вместе, Наталья вдруг закрыла лицо руками и заплакала, то есть сделала то самое, что сделала бы каждая девушка на ее месте. Но это единственная во всей сцене дань женской слабости. Далее начинается перелом, следует почти что одна за другой верные приметы сильного, решительного характера, и Наталья покидает Рудина. Он пытается удержать ее. Минута колебания... «- Нет, - промолвила она наконец...» Слово «наконец» обозначает здесь большую психологическую паузу, которую с прозорливостью, граничащей с ясновидением, заполнил бы Лев Толстой, но этого не будет делать Тургенев: ему важен самый факт психологической паузы, обозначающей внутреннюю борьбу, ему важно завершение этой борьбы - она закончилась в полном соответствии с характером Натальи. В романе Тургенева даже изображение природы помогает уяснить характер человека, проникнуть в самое существо его натуры. Наталья, накануне любовного объяснения с Рудиным, сходит в сад. Она чувствует странное волнение, и Тургенев вводит пейзажный аккомпанемент ее чувству, как бы переводит это чувство на язык пейзажа. Стоит жаркий, светлый, лучезарный день: не закрывая солнца, несутся дымчатые тучи, которые по временам роняют обильные потоки внезапного и мгновенного ливня. Возникает сверкающий алмазами дождевых капель радостный и в то же время тревожный пейзаж, но тревога в конце концов сменяется свежестью и тишиной. Это как бы «пейзаж» души Натальи, не переводимый на язык понятий, но по своей прозрачной ясности и не нуждающийся в таком переводе. В сцене у Авдюхина пруда мы видим пейзаж противоположного характера, но того же смысла и назначения. Заброшенный пруд, переставший уже быть прудом, расположен возле дубового леса, давно вымершего и засохшего. Жутко смотреть на редкие серые остовы громадных деревьев. Небо покрыто сплошными тучами молочного цвета, ветер гонит их, свистя и взвизгивая. Плотина, по которой взад и вперед ходит Рудин, поросла цепким лопушником и почернелой крапивой. Это рудинский пейзаж, и он так же принимает участие в оценке характера и натуры героя, как осенний ветер - в эпилоге - в оценке его судьбы. Какова же в конечном итоге оценка рудинского типа? Тургенев думал назвать свой роман «Гениальная натура», и в этом названии, по замыслу Тургенева, одинаково важны были обе его части. В середине прошлого века, когда писался роман, слово «гениальный» обозначало не совсем то, что в наши дни. Под «гениальностью» разумели тогда вообще умственную одаренность, широту взгляда, высокие запросы духа, бескорыстное стремление к истине. Это все было у Рудина, и даже Лежнев, ясно видевший недостатки своего бывшего друга, эти его качества признавал. Зато «натуры», то есть твердости воли, умения преодолевать препятствия, понимания обстановки, - этого у Рудина не было. Он умел зажигать людей, но не мог вести их за собой: он был просветитель, но не был преобразователь. В нем была «гениальность», но не было «натуры». В 1860 году Тургенев включил роман в собрание своих сочинений и дописал его финальный эпизод. «Бесприютный скиталец», не нашедший себе дела в России, кончил жизнь на парижской баррикаде во время июньского восстания 1848 года. Человек, который испугался запрета Дарьи Михайловны Ласунской, не побоялся пушек, громивших баррикады, и ружей венсенских стрелков. Это не значит, что он стал революционным борцом, но он оказался способен к героическому порыву. Еще до того как был дописан эпилог, читателю стало ясно, что Рудин прожил свою жизнь не напрасно, что он был нужен России, что его проповедь будила потребность в новой жизни. Недаром Некрасов сразу после появления романа в журнале сказал важные слова о Рудине как о личности «могучей при всех слабостях, увлекательной при всех своих недостатках». В романе Рудина признал своим учителем разночинец Басистов, честный и прямой человек, принадлежащий к тому кругу и к тому поколению, которому суждено было сменить Рудиных в дальнейшем развитии русской общественной мысли и освободительного движения. Эта смена сопровождалась идейной борьбой «отцов и детей». В изменившихся условиях конца 50-х - начала 60-х годов, в пору общественного подъема на смену «лишним» выдвинулись «новые люди», суровые демократы-разночинцы, отрицатели и борцы. Когда они утвердились в жизни и литературе, образ Рудина потускнел и отодвинулся в тень. Но прошли годы, и Рудина вновь вспомнили молодые революционеры 70-х годов. В голосе тургеневского героя один из них услышал «звон колокола, который звал нас проснуться от глубокого сна», другой - в письме, перехваченном полицией, вспомнил о спорах, которые велись о Рудине в революционном кружке, и закончил восклицанием: «Дайте-ка нам теперь Рудина, и мы бы много сделали!..» Снова прошли годы, многое вновь изменилось в русской жизни, и в 1909 году о Рудине сказал свое веское слово М. Горький, поставивший мечтательного и непрактичного тургеневского героя неизмеримо выше трезвых и положительных либеральнодворянских практиков его времени. «Мечтатель - он является пропагандистом идей революционных, он был критиком действительности, он, так сказать, пахал целину, - а что, по тому времени, мог сделать практик? Нет, Рудин лицо не жалкое, как принято к нему относиться, это несчастный человек, но - своевременный и сделавший немало доброго». Каждое поколение читает «Рудина» по-своему. Так всегда бывает с великими произведениями, в которых жизнь изображена многосторонне и показана в ее историческом значении. Такие произведения будят мысль и становятся для нас не памятником старины, а нашим неумирающим прошедшим. Сканирование и распознавание Studio KF, при использовании ссылка на сайт www.russofile.ru обязательна! Copyright © 2004, Русофил - Русская филология Все права защищены o БиографииЕГЭРефератыСочиненияПоэзияПроза o Поэты, писателиЗолотой векСеребряный век Администрация сайта: admin@russofile.ru Авторский проект Феськова Кузьмы #|А|Б|В|Г|Д|Е|Ж|З|И|К|Л|М|Н|О|П|Р|С|Т|У|Ф|Х|Ц|Ч|Ш|Э|Ю|Я| Психологизм романа "Дворянское гнездо" огромен и очень своеобразен. Тургенев не развертывает психологического анализа переживаний своих героев, как это делают его современники Достоевский и Л. Толстой. Он ограничивается самым необходимым, сосредоточивая внимание читателя не на самом процессе переживаний, а на его внутренне же подготовленных результатах: нам ясно, как постепенно возникает в Лизе любовь к Лаврецкому. Тургенев заботливо отмечает отдельные этапы этого процесса в их внешнем проявлении, но о том, что делалось в душе Лизы, мы только догадываемся. Не углубляясь в диалектику души своих героев, Тургенев тем не менее передает всю полноту их внутренней жизни. Этой полноты писатель Достигает при помощи внутреннего монолога (у Лаврецкого) и тем, что скупое изображение каждого момента в переживаниях Лаврецкого и особенно Лизы дополняется полными значения намеками на то, что делается в их душах. Чувства героев романа, их настроения передаются иногда через паузы, иногда просто через взгляды, выражение лица или интонации голоса. В нарастающем сближении Лизы и Лаврецкого Тургенев выделяет трагический мотив, как будто надвигалось что-то сложное, важное, жуткое. Это придает особенную значительность изображению их чувств. "Лаврецкий посмотрел на нее, она на него посмотрела — и обоим стало почти жутко". Образуется как бы внутреннее, невидимое, но все время ощущаемое читателем движение — развитие их любви друг к другу. Это ощущение усиливается тем, что иногда Тургенев прибегает к лирическим комментариям, к восклицаниям и афоризмам, поясняющим, что происходит в душах его героев ("что-то веселое и чудное", "что-то таинственно приятное"). Тургенев — великий мастер в передаче интимных переживаний человека. Никогда не употребляя резких романтических красок, он достигает подлинно романтического настроения в поэтическом изображении тайн любви. Тургенев часто использует недомолвки, показывая отношения Лизы и Лаврецкого. Их любовь почти молчалива. Оставаясь наедине в гостиной, в саду, у пруда при встречах, Лаврецкий и Лиза мало разговаривали друг с другом, молчаливо переживая то, что развивалось в их сердцах. Лирические умолчания часто сопровождаются лирическими вопросами самого автора, подчеркивающими силу и глубину чувств его героев. "Да и к чему было говорить, о чем расспрашивать? Она и так все понимала, она и так сочувствовала всему, чем переполнялось его сердце". Ощущение трагичности судьбы Лизы и Лаврецкого усиливается и неожиданно возникающими воспоминаниями и образами прошедшего, деталями и предметами, связанными с дорогим прошлым. Так, все до мелочей вспоминается Лаврецкому при посещении им через восемь лет усадьбы, где он пережил короткое счастье, неожиданно сменившееся горечью и тоской. Там, где Тургенев обращается к отношениям Лаврецкого и Лизы, преобладающим тоном его повествования является элегический тон. Настроения Лаврецкого писатель часто передает такими определениями: "печально становится на душе", "грустно стало ему на сердце", "грусть о ней была томительна и не легка". Даже радость переплетается в переживаниях Лаврецкого и Лизы с чувством горечи и с невеселыми думами: "Душу его охватило то чувство, которому нет равного и в сладости и в горести"; "Сердце в Лаврецком дрогнуло от жалости и любви". Картины природы в "Дворянском гнезде" получают значительное развитие. По возвращении Лаврецкого в родные места "давно им невиданная русская картина навевала на его душу сладкие и в то же время скорбные чувства". В произведении такого трагического звучания, как роман "Дворянское гнездо", картины пейзажа играют роль оркестровки основного лирико-трагического мотива. Смена светлых и темных красок природы попеременно происходит в романе, в соответствии с переменами в судьбе Лизы и Лаврецкого. В тихую и светлую летнюю ночь прозвучал их единственный поцелуй. Но в целом атмосфера романа проникнута настроением увядания, исполнена поэзии заката. Повторяющиеся обращения к прошлому, частые воспоминания, особенно печальные воспоминания Лаврецкого о днях его мимолетного счастья, усиливают в целом ощущение увядания, грустную картину уходящей в прошлое жизни, впечатление заката "дворянских гнезд". Даже пейзаж "Дворянского гнезда" по преимуществу вечерний, закатный или ночной, освещенный лунным сиянием и мерцающими звездами. Тургенев часто показывает и дорогу, убегающую вдаль, по которой едет Лаврецкий, возвращаясь к себе домой. Увядающая осень и затем холод зимы разлучают героев. Холод увядающей жизни не раз охватывает стареющего Лаврецкого. Но жизнь идет вперед. Прошло восемь лет. "Опять повеяло с неба сияющим счастьем весны: опять улыбнулась она земле и людям; опять под ее лаской все зацвело, полюбило и запело". В изображении переживаний Лизы и Лаврецкого в момент зарождения и развития их любви Тургенев часто использует мотив тишины, на-сышая ею и окружающую их природу и их настроения: "ночь была тиха и светла", "все было тихо кругом", Лиза "тихонько подошла к столу...", "была безмолвная, ласковая ночь", "красноватый высокий камыш тихо шелестел вокруг них, впереди тихо сияла неподвижная вода, и разговор у них шел тихий". Так сливаются в одну "тихую" сюиту настроения людей и картины природы. Но в это безмолвие вдруг врывается величественная симфония Лемма. Музыкой усиливается и оттеняется эмоциональность произведения. В романе звучит музыка Бетховена, Вебера, Доницетти, Штрауса, Алябьева. Музыку сочиняют сами герои, она отражает их душевное состояние в отдельные моменты, передает окружающую их бытовую атмосферу, дополняя красоту природы, усиливая лиризм и общий поэтический колорит романа. Чудесно сливаются в романе Тургенева любовь, вдохновение, искусство, красота природы. Нужно перенестись в помещичью усадьбу, в крепостнические нравы того времени, чтобы понять и представить себе все высокое и возвышающее душу моральное и эстетическое значение для тогдашних читателей таких сцен и картин "Дворянского гнезда", как торжественно-страстная музыка Лемма, вдохновленная не только его романтически идеальной любовью, но вдруг вспыхнувшим глубоким и чистым чувством Лизы. Лиризм Тургенева достигает здесь такой же высоты, такой же задушевности, какие присущи лирическим шедеврам Пушкина "На холмах Грузии", "Я вас любил" или стихотворению "Выхожу один я на дорогу" Лермонтова. К работе над «Рудиным» Тургенев приступил в 1855 году, сразу же после неудач Крымской-войны, в обстановке назревавшего общественного подъема. Главный герой романа во многом автобиографичен: это человек тургеневского поколения, который получил хорошее философское образование за границей, в Берлинском университете. Тургенева волновал вопрос, что может сделать культурный дворянин в новых условиях, когда перед обществом встали конкретные практические вопросы. Сначала роман назывался «Гениальная натура». Под «гениальностью» Тургенев понимал способность убеждать и просвещать людей, разносторонний ум и широкую образованность, а под «натурой» — твердость воли, острое чутье к насущным потребностям общественной жизни и способность претворять слово в дело. По мере работы над р^м-а*га1Г°°зттгтгезвание перестало удовлетворять писателя. Оказалось, что применительно к Рудину оно зазвучало иронически: «гениальность» в нем была, но «натуры» вышло мало, был талант будить умы и сердца людей, но не хватало силы воли, вкуса к практическому делу. Есть скрытая ирония в том, что ожидаемого в салоне богатой помещицы Ласунской барона Муфеля «подменяет» Рудин. Впечатление диссонанса углубляет и внешность его: «высокий рост», но «некоторая сутуловатость», «тонкий голос», не соответствующий «широкой груди», и «жидкий блеск его глаз». Характер Рудина раскрывается в слове. Он покоряет общество в салоне Ласунской блеском своего ума и красноречия. Это гениальный оратор. В философских импровизациях о смысле жизни, о высоком назначении человека Рудин неотразим. Молодой учитель Басистов и юная дочь Ласунской Наталья очарованы музыкой рудинской речи о «вечном значении временной жизни человека». Его речи вдохновляют и зовут к обновлению жизни, к необыкновенным, героическим свершениям. Молодые люди не замечают, что и в красноречии героя есть изъян:-4эн говорит вдохновенно, но «не совсем ясно», не вполне «определенно и точно»; он плохо чувствует окружающих, увлекаясь «потоком собственных ощущений». Превосходно владея отвлеченным философским языком, он беспомощен в обычных описаниях, не умеет смешить и не умеет смеяться: «когда он смеялся, лицо его принимало странное, почти старческое выражение, глаза ежились, нос морщился». Противоречивый характер своего героя Тургенев подвергает главному испытанию — любви. Полные энтузиазма речи Рудина юная Наталья принимает за его дела. В ее глазах Рудин — чело-век подвига, за которым она готова идти безоглядно на любые жертвы. Но Наталья ошибается: годы отвлеченной философской работы иссушили в Рудине живые источники сердца и души. Еще не отзвучали удаляющиеся шаги Натальи, объяснившейся в любви к Рудину, как герой предается размышлениям: «...я счастлив,— произнес он вполголоса.— Да, я счастлив,— повторил он, как бы желая убедить самого себя». Перевес головы над сердцем ощутим уже в сцене первого любовного признания. Есть в романе глубокий контраст между утром в жизни юной Натальи и рудинским безотрадным утром у пересохшего Авдюхина пруда. Молодому, светлому чувству Натальи отвечает в романе жизнеутверждающая природа: «По ясному небу плавно неслись, не закрывая солнца, низкие дымчатые тучи и по временам роняли на поля обильные потоки внезапного и мгновенного ливня». Совсем другое, невеселое утро переживает Рудин в период решительного объяснения с Натальей: «Сплошные тучи молочного цвета покрывали все небо; ветер быстро гнал их, свистя и взвизгивая». Первое возникшее на его пути препятствие — отказ Дарьи Михайловны Ласунской выдать дочь за бедного человека — приводит Рудина в полное замешательство. В ответ на любовные порывы Натальи он говорит упавшим голосом: «Надо покориться». Герой не выдерживает испытания любовью, обнаруживая свою человеческую неполноценность. В русской жизни суждено ему остаться странником. Спустя несколько лет мы встречаем его в тряской телеге, едущим неизвестно откуда и неведомо куда. «Запыленный плащ», «высокий рост» и «серебряные нити» в волосах Рудина заставляют вспомнить о другом вечном страннике-правдоискателе, бессмертном Дон Кихоте. Его скитальческой судьбе вторит в романе скорбный и бесприютный пейзаж: «А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок... И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам!» Финал романа героичен и трагичен одновременно. Рудин гибнет на парижских баррикадах 1848 года. Верный своей «гениальности» без «натуры», он появляется здесь тогда, когда восстание национальных мастерских уже подавлено. Русский Дон Кихот поднимается на баррикаду с красным знаменем в одной руке и с кривой и тупой саблей в другой. Сраженный пулей, он падает замертво, а отступающие рабочие принимают его за поляка. Вспоминаются слова из рудинского письма к Наталье: «Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор, в который даже верить не буду...» Один из героев романа говорит: «Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится! Космополитизм — чепуха, космополит — нуль, хуже нуля; вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет». И все же судьба Рудина трагична, но не безнадежна. Его восторженные речи жадно ловит молодой разночинец Басистов из будущих «новых людей», Добролюбовых, Чернышевских. Да и гибелью своей, несмотря на видимую ее бессмысленность, Рудин отстаивает ценность вечного поиска истины, высоту героического порыва. Библиотека | Учебная литература | Русская литература | Зару Об институте Труды института Большая энциклопедия русского народа Библиотека православнонациональной литературы | Алфавитный указатель | Темы | Поиск Рекомендуем посетить Все темы » Русская литература ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ (28.10[9. 11].1818—22.08[3.09]. 1883), ПИСАТЕЛЬ, ПРОЗАИК, ПОЭТ, ДРАМАТУРГ, КРИТИК, ПУБЛИЦИСТ, МЕМУАРИСТ, ПЕРЕВОДЧИК. ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (28.10[9. 11].1818—22.08[3.09]. 1883), писатель, прозаик, поэт, драматург, критик, публицист, мемуарист, переводчик. Родился в Орле в богатой дворянской семье, детские годы провел в материнской усадьбе Спасское-Лутовиново Мценского у. Орловской губ. По матери — Варваре Петровне — Тургенев принадлежал к старинному дворянскому роду Лутовиновых, которые жили в Орловской губ. домоседами. Родовая историческая память удержала имя двоюродного деда Тургенева И. И. Лутовинова, который окончил Пажеский корпус вместе с А. Н. Радищевым, но рано вышел в отставку и занялся хозяйственной деятельностью. Он был основателем Спасской усадьбы, огромного сада при ней и собирателем богатейшей библиотеки из сочинений русских, французских и немецких классиков XVIII в. Все Лутовиновы жили широко и размашисто, ни в чем себе не отказывали, ничем себя не ограничивали. Эти черты характера унаследовала и мать писателя. Отец Тургенева, Сергей Николаевич, принадлежал к известному роду Тургеневых. В 1440 из Золотой Орды к вел. кн. Василию Васильевичу выехал на службу татарский мурза Лев Турген, принял русское подданство, а при крещении в христианскую веру и русское имя Иван. От Ивана Тургенева и пошла на Руси фамилия Тургеневых. В царствование Иоанна Грозного, в период борьбы Московского государства с Казанским ханством, послом к ногайским мурзам был отправлен Петр Тургенев, склонивший астраханского царя Дервиша мирно принять русское подданство. С особой гордостью вспоминал Тургенев о подвиге своего пращура П. Н. Тургенева: в эпоху смуты и польского нашествия, в 1606, в Кремле, он бесстрашно обличил Лжедмитрия I, всенародно бросив ему в лицо обвинение в самозванстве и отказавшись присягать ему, за что был подвергнут жестоким пыткам и казни. К н. XIX в. Тургеневых постигла участь многих родовитых дворянских фамилий: они разорились и обнищали, а потому для своего спасения вынуждены были искать богатых невест. Отец Тургенева участвовал в Бородинском сражении, где был ранен и за храбрость награжден Георгиевским крестом. Вернувшись в 1815 из заграничного похода в Орел, он женился на В. П. Лутовиновой, осиротевшей и засидевшейся в девицах богатой невесте, у которой в одной лишь Орловской губ. было 5 тыс. душ крепостных крестьян. Благодаря родительским заботам, Тургенев получил блестящее образование. Он с детских лет читал и говорил свободно на трех европейских языках — немецком, французском и английском — и приобщался к книжным сокровищам Спасской библиотеки. В Спасском саду, окружавшем дворянский усадебный дом, мальчик познакомился со знатоками и ценителями птичьего пения, людьми с доброй и вольной душой. Отсюда вынес он страстную любовь к среднерусской природе, к охотничьим странствиям. Доморощенный актер и поэт, дворовый Леонтий Серебряков, стал для мальчика настоящим учителем родного языка и литературы. О нем, под именем Пунина, Тургенев писал в рассказе «Пунин и Бабурин» (1874). В н. 1827 Тургеневы приобрели дом в Москве, на Самотеке: пришла пора готовить детей к поступлению в высшие учебные заведения. Тургенев учился в частном пансионе Вейденгаммера, а в 1829, в связи с введением нового университетского устава, в пансионе Краузе, дававшем более глубокие знания древних языков. Летом 1831 Тургенев вышел из пансиона и стал готовиться к поступлению в Московский университет на дому с помощью известных московских педагогов П. Н. Погорельского, Д. Н. Дубенского, И. П. Клюшникова, начинающего поэта, члена философского кружка Н. В. Станкевича. Годы учебы Тургенева на словесном отделении Московского (1833—34), а затем на историко-филологическом отделении философского факультета Петербургского университетов (1834—37) совпали с пробудившимся интересом русской молодежи к немецкой классической философии и «поэзии мысли». Тургенев-студент пробует свои силы на поэтическом поприще: наряду с лирическими стихотворениями, он создает романтическую поэму «Стено», в которой, по позднейшему признанию, «рабски подражает байроновскому “Манфреду”». Среди петербургской профессуры выделяется П.А. Плетнев, друг Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя. Ему он и отдает на суд свою поэму, за которую Плетнев пожурил, но, как вспоминал Тургенев, «заметил, что во мне что-то есть! Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений...». Плетнев не только одобрил первые опыты Тургенева, но и стал приглашать его к себе на литературные вечера, где начинающий поэт встретил однажды Пушкина, общался с А. В. Кольцовым и др. русскими писателями. Смерть Пушкина потрясла Тургенева: он стоял у его гроба и, вероятно с помощью А. И. Тургенева, приятеля отца и дальнего родственника, упросил Никиту Козлова срезать локон волос с головы поэта. Этот локон, помещенный в специальный медальон, Тургенев хранил как священную реликвию всю жизнь. В 1838, после окончания университета со степенью кандидата, Тургенев, по примеру многих юношей своего времени, решил продолжить философское образование в Берлинском университете, где дружески сошелся с Н. В. Станкевичем, Т. Н. Грановским, Н. Г. Фроловым, Я. М. Неверовым, М. А. Бакуниным — и слушал лекции по философии из уст ученика Гегеля, молодого профессора К. Вердера, влюбленного в своих русских учеников и часто общавшегося с ними в непринужденной обстановке на квартире у Н. Г. Фролова. «Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии...», — так передал Тургенев атмосферу студенческих вечеров в романе «Рудин». Шеллинг и Гегель дали русской молодежи к. 1830 — н. 1840-х целостное воззрение на жизнь природы и общества, вселили веру в разумную целесообразность исторического процесса, устремленного к конечному торжеству правды, добра и красоты. Вселенная воспринималась Шеллингом как живое и одухотворенное существо, которое развивается и растет по целесообразным законам. Как в зерне уже содержится будущее растение, так и в мировой душе заключен идеальный «проект» будущего гармонического мироустройства. Грядущее торжество этой гармонии предвосхищается в произведениях гениальных людей, являющихся, как правило, художниками или философами. Поэтому искусство (а у Гегеля философия) — форма проявления высших творческих сил. Философско-романтическая школа, через которую прошел Тургенев в юности, во многом определила характерные черты художественного мироощущения писателя: вершинный принцип композиции его романов, схватывающих жизнь в высших моментах, в максимальном напряжении присущих ей сил; особая роль любовной темы в его творчестве; культ искусства как универсальной формы общественного сознания; неизменное присутствие философской тематики, во многом организующей диалектику преходящего и вечного в художественном мире его повестей и романов; стремление обнять жизнь во всей ее полноте, порождающее пафос максимальной художественной объективности. Острее, чем кто-либо другой из его современников, Тургенев чувствовал трагизм бытия, кратковременность и непрочность пребывания человека на этой земле, неумолимость и необратимость стремительного бега исторического времени. Но именно потому Тургенев обладал удивительным даром бескорыстного, ничем относительным и преходящим не ограниченного художнического созерцания. Необычайно чуткий ко всему злободневному и сиюминутному, умеющий схватывать жизнь в ее прекрасных мгновениях, Тургенев владел одновременно редчайшим чувством свободы от всего временного, конечного, личного и эгоистического, от всего субъективно-пристрастного, замутняющего остроту зрения, широту взгляда, полноту художественного восприятия. Его влюбленность в жизнь, в ее капризы и случайности, в ее мимолетную красоту была благоговейной и самоотверженной, совершенно свободной от всякой примеси самолюбивого авторского «я», что давало возможность Тургеневу видеть дальше и зорче многих его современников. «Наше время, — говорил он, — требует уловить современность в ее преходящих образах; слишком запаздывать нельзя». И он не запаздывал. Все его произведения не только попадали в настоящий момент общественной жизни России, но одновременно его опережали. Тургенев был особенно восприимчив к тому, что стоит «накануне», что еще только носится в воздухе. Острое художественное чутье позволяет ему по неясным, смутным еще штрихам настоящего уловить грядущее и воссоздать его, опережая время, в неожиданной конкретности, в живой полноте. Этот дар был для Тургенева-писателя тяжким крестом, который он нес всю жизнь. Его дальнозоркость не могла не раздражать современников, не желавших жить, зная наперед свою судьбу. И в Тургенева часто летели каменья. Но таков уж удел любого художника, наделенного даром предвидений и предчувствий, пророка в своем отечестве. И когда затихала борьба, наступало затишье, те же гонители часто шли к Тургеневу с повинной головой. Забегая вперед, Тургенев определял пути, перспективы развития русской литературы 2-й пол. XIX столетия. В «Записках охотника» и «Дворянском гнезде» уже предчувствуется эпос «Войны и мира» Л. Н. Толстого, «мысль народная»; духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова пунктиром намечались в судьбе Лаврецкого; в «Отцах и детях» предвосхищалась мысль Достоевского, характеры будущих его героев от Раскольникова до Ивана Карамазова. В отличие от писателей-эпиков Тургенев предпочитал изображать жизнь не в повседневном и растянутом во времени течении, а в острых, кульминационных ее ситуациях. Это вносило драматическую ноту в романы и повести писателя: их отличает стремительная завязка, яркая, огненная кульминация и резкий, неожиданный спад с трагическим, как правило, финалом. Они захватывают небольшой отрезок исторического времени, а потому точная хронология играет в них существенную роль. Жизнь героя у Тургенева крайне ограничена в пространстве и времени: если в характерах Онегина и Печорина «отразился век», то в Рудине, Лаврецком, Инсарове, Базарове — духовные устремления десятилетия. Жизнь героев подобна ярко вспыхивающей и быстро угасающей искре в океане времени. История отмеряет им напряженную, но слишком короткую судьбу. Романы Тургенева включены в жесткие ритмы годового природного круга: действие в них завязывается весной, достигает кульминации в знойные дни лета, а завершается под свист осеннего ветра или «в безоблачной тишине январских морозов». Тургенев показывает своих героев в счастливые минуты максимального развития и расцвета их жизненных сил, но именно здесь с катастрофической силой обнаруживаются свойственные им противоречия. Потому и минуты эти оказываются трагическими: гибнет на парижских баррикадах Рудин, на героическом взлете, неожиданно обрывается жизнь Инсарова, а потом Базарова и Нежданова. Однако трагические финалы в романах Тургенева не являются следствием разочарования писателя в смысле жизни, в ходе истории. Скорее наоборот: они свидетельствуют о такой любви к жизни, которая доходит до веры в бессмертие, до дерзкого желания, чтобы человеческая индивидуальность не угасала, чтобы красота явления, достигнув полноты, превращалась в вечно пребывающую в мире красоту. В его романах сквозь злободневные события, за спиною героев времени, всегда ощутимо дыхание вечности. Судьбы героев его романов свидетельствуют о вечном поиске, вечном вызове, который бросает дерзкая человеческая личность слепым и равнодушным законам несовершенной природы. Внезапно заболевает Инсаров в романе «Накануне», не успев осуществить великое дело освобождения Болгарии. Любящая его русская девушка Елена никак не может смириться с тем, что это конец, что эта болезнь неизлечима. «О Боже! — думала Елена, — зачем смерть, зачем разлука, болезнь и слезы? или зачем эта красота, это сладостное чувство надежды, зачем успокоительное сознание прочного убежища, неизменной защиты, бессмертного покровительства?» В отличие от Толстого и Достоевского Тургенев не дает прямого ответа на этот вопрос: он лишь приоткрывает тайну, склонив колени перед обнимающей мир красотою: «О, как тиха и ласкова была ночь, какой голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть перед этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами!». Тургенев не сформулирует крылатую мысль Достоевского: «красота спасет мир», но все его романы утверждают веру в преобразующую мир силу красоты, в творчески созидательную силу искусства, рождают надежду на неуклонное освобождение человека от власти слепого материального процесса, великую надежду человечества на превращение смертного в бессмертное, временного в вечное. С Тургеневым не только в литературу, в жизнь вошел поэтический образ спутницы русского героя, «тургеневской девушки» — Натальи Ласунской, Лизы Калитиной, Елены Стаховой, Марианны. Писатель избирает цветущий период в женской судьбе, когда в ожидании избранника встрепенется девичья душа, проснутся к временному торжеству все дремлющие ее возможности. В эти мгновения женское существо прекрасно тем, что оно превосходит свою смертную природу. Излучается такой переизбыток жизненных сил, какой не может получить земного воплощения, но остается заманчивым обещанием чего-то бесконечного, более высокого и совершенного, чем материальный мир, залогом вечности. «Человек на земле — существо переходное, находящееся в состоянии общегенетического роста», — утверждает Достоевский. Тургенев молчит, но напряженным вниманием к необыкновенным взлетам человеческой души он подтверждает истину этой мысли. Вместе с образом «тургеневской девушки» входит в произведения писателя образ «тургеневской любви». Как правило, это первая любовь, одухотворенная и целомудренно чистая. Она решительно разрушает будни повседневного существования. Все герои Тургенева проходят испытание любовью — своего рода проверку на жизнеспособность не только в интимно-личных, но и в общественных своих возможностях и убеждениях. В любящем человеке отчетливо выявляются сильные и слабые стороны всей полноты его человеческого существа. Любящий герой прекрасен, духовно окрылен, но чем выше он взлетает на крыльях любви, тем ближе оказывается у Тургенева трагическая развязка и — падение. Любовь неизменно трагична, потому что перед ее стихийной властью беззащитен любой человек. Своенравная, роковая, неуправляемая, любовь прихотливо распоряжается человеческой судьбой. Никому не дано предугадать, когда она, как вихрь, налетит и подхватит человека на своих могучих крыльях и когда она эти крылья сложит. Любовь трагична еще и потому, что идеальная мечта, окрыляющая душу влюбленного человека, не осуществима в пределах земного, природного круга. Тургеневу более, чем кому-либо из его современников, был открыт идеальный смысл любви, усвоенный в юности, и практически испытанный писателем в личной судьбе — в платонической любви с 1843 и до конца дней к прославленной французской певице Полине Виардо. Любовь — яркое подтверждение богатых и еще не реализованных возможностей человека на пути духовного совершенствования. Свет любви для Тургенева никогда не ограничивался желанием физического обладания. Он был для него путеводной звездой к торжеству красоты и бессмертия. Потому Тургенев так чутко присматривается к духовному существу первой любви, чистой, огненно-целомудренной, обещающей человеку торжество над смертью, сливающей временное с вечным в высшем синтезе, невозможном в супружеской жизни и семейной любви. Статья «Гамлет и Дон Кихот» (1859) является ключом к пониманию всех героев Тургенева. Характеризуя в ней тип Гамлета, Тургенев думает о «лишних людях», дворянских героях, под Дон Кихотами же он подразумевает новое поколение общественных деятелей — революционеров-нигилистов. Тургенев хочет быть арбитром в споре этих двух общественных сил. Он видит слабые стороны и в Гамлетах, и в Дон Кихотах. Тургенев мечтает о герое, снимающем в своем характере крайности гамлетизма и донкихотства. Он стремится встать над схваткой, примирить враждующие между собою партии, обуздать противоположности. Человек, терпимый в своих общественных убеждениях, Тургенев решительно отказывается от любых завершенных и самодовольных систем. «Системами дорожат только те, которым вся правда в руки не дается, которые хотят ее за хвост поймать; система — точно хвост правды, но правда, как ящерица: оставит хвост в руке — а сама убежит...» Тургеневское недоверие к завершенным общественным доктринам любого толка порождалось ощущением особой опасности такого рода доктрин и систем для ищущего, духовно не укорененного русского интеллигента. Считая культурную прослойку движущей силой общества, Тургенев питал тревогу по поводу некоторых особенностей русского интеллигента. С «легкостью в мыслях необыкновенной» он мог отрекаться от предмета вчерашнего поклонения с тем, чтобы спустя некоторое время с такой же легкостью отречься от кумира сегодняшнего дня. Отсутствие в просвещенном сословии прочных культурно-национальных устоев, по мнению Тургенева, постоянно угрожало обществу опасностью идейного фанатизма и шараханья из одной крайности в другую. В тургеневском призыве к терпимости, в его стремлении «снять» противоречия и крайности непримиримых общественных течений 1860—70-х проявилась обоснованная тревога писателя за судьбы отечественной культуры. Тургенев не уставал убеждать ревнителей российского радикализма, что новый водворяющийся порядок должен быть не только силой отрицающей, но и силой охранительной, что, нанося удар старому миру, он должен спасти в нем все, достойное спасения. Тургенева тревожила беспочвенность, пугала безоглядность некоторых слоев русской интеллигенции, готовых рабски следовать за каждой новомодной мыслью, легкомысленно отворачиваясь от нажитого исторического опыта, от вековых традиций. «...И отрицаем-то мы не так, как свободный человек, разящий шпагой, — писал Тургенев в романе «Дым», — а как лакей, лупящий кулаком, да еще, пожалуй, и лупит-то он по господскому приказу». Эту холопскую готовность русской общественности не уважать своих традиций, легко отказываться от предмета вчерашнего поклонения Тургенев заклеймил меткой фразой: «Новый барин народился — старого долой!.. В ухо Якова, в ноги Сидору!» Вернувшись в 1841 из Берлина, Тургенев некоторое время находился на распутье. С одной стороны, он попытался занять кафедру философии в одном из столичных университетов, успешно выдержал магистерский экзамен, но к написанию диссертации так и не приступил. Перед ним открылась перспектива государственной службы в Министерстве внутренних дел, занятом в те годы составлением проектов грядущей отмены крепостного права. В 1843 Тургенев написал записку «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине», в которой изложил свои взгляды на крестьянский вопрос, был принят на службу в канцелярию В. И. Даля, но вскоре в ней глубоко разочаровался. В личной жизни Тургенев пережил в этот период целый ряд драматических испытаний: увлечение Авдотьей Ивановой, белошвейкой по вольному найму в доме матери, закончившееся ссорой с Варварой Петровной и рождением дочери Пелагеи (Полины), «философский роман» с Т. А. Бакуниной, завершившийся разочарованием и разрывом, наконец, роковое увлечение в 1843 Полиной Виардо, выступавшей в составе труппы итальянской оперы в Петербурге. 1841—47 — время столкновения молодого романтика с реалиями русской жизни, заставившими его во многом пересмотреть нажитый в Германии умозрительный опыт, романтический идеализм. Высокая оценка критикой его поэмы «Параша» (1843) окончательно определила жизненный путь Тургенева, выбор им писательской стези. Тургенев публикует драматическую поэму «Разговор» (1844), повесть в стихах «Андрей» (1845), сатирическую поэму «Помещик» (1845), пробует свои силы в драме («Неосторожность», 1843; «Безденежье», 1846), создает первые прозаические повести: «Андрей Колосов» (1843), «Три портрета» (1845), «Бретер» (1846), «Петушков» (1847). Тургенев начинает развенчивать в них романтиков, героев фразы, рассчитанной на эффект, скучающих эгоистов, противопоставляя им людей иного склада — простых, естественных, цельных душой. Намечается путь к «Запискам охотника»: поэтический цикл «Деревня» (1846) — первый подход к народной теме. Летние месяцы Тургенев проводит в деревне, а в 1846 обходит с ружьем за плечами Орловскую, Калужскую и Курскую губернии вместе с охотником из крестьян, своим другом Афанасием Алифановым. Охотники, в отличие от дворовых людей и крестьян-хлеборобов, в силу страннического образа жизни в меньшей степени подвергались развращающему влиянию помещичьей власти, сохраняя вольный и независимый ум, чуткость к жизни природы, чувство собственного достоинства. Наблюдая за жизнью крестьянства, Тургенев приходил к выводу, что крепостное право не уничтожило живых народных сил, что «в русском человеке таится и зреет зародыш будущих великих дел, великого народного развития». Но чтобы рассмотреть это, писатель должен войти в доверие к русскому мужику «родственным к нему расположением, наивной и добродушной наблюдательностью». Охоту Тургенев считал занятием, свойственным любому русскому человеку: «Дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить, в одних лаптишках, по болотам да по лесам, с утра до вечера». На общей для барина и мужика национальной основе возникал в процессе охотничьих странствий открытый характер общения между ними, немыслимый в повседневном крепостническом быту. Охота превращалась для Тургенева в удобный способ изучения всего строя народной жизни, внутреннего склада народной души, не всегда доступной стороннему наблюдателю. Тургенев замечал, что мужики, с которыми он встречался в своих охотничьих странствиях, вели себя с ним необычно: были щедро откровенны, доверчиво сообщали свои тайны. Он был для них своим человеком, охотником, а не барином. В янв. 1847 в культурной жизни России и творческой судьбе Тургенева произошло значительное событие. В обновленном журнале «Современник», перешедшем в руки И. И. Панаева и Н. А. Некрасова, был опубликован очерк Тургенева «Хорь и Калиныч», успех которого превзошел все ожидания и побудил к созданию целой книги под названием «Записки охотника». В «Хоре и Калиныче» Тургенев совершил своего рода переворот в художественном решении темы народа. В двух крестьянских характерах, представляющих собою колоритные и яркие народные индивидуальности, он уловил коренные силы нации, определяющие ее жизнеспособность, перспективы ее дальнейшего роста и становления. Перед лицом практичного Хоря и поэтичного Калиныча потускнел образ их господина, помещика Полутыкина. В тургеневском повествовании это герой сноски, ему отводится место под строкой. Крестьяне — крепостные, зависимые люди, но рабство не превратило их в рабов: духовно они богаче и свободнее полутыкиных. Именно в крестьянстве нашел Тургенев «почву, хранящую жизненные соки всякого развития», а значимость личности государственного человека он поставил в прямую связь с этой почвой: «...Из наших разговоров с Хорем я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, — убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях». От Хоря и Калиныча мысль писателя устремляется к русскому человеку, к русской государственности. Общение с простым мужиком привело рассказчика к выводу: «Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и нравится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет, — ему все равно». А затем Тургенев выводит своих героев к природе, сливает их с нею, устраняя резкие границы между отдельными характерами. Этот замысел ощутим в сопоставлении обрамляющих книгу очерков: от «Хоря и Калиныча» в начале — к «Лесу и степи» в конце. Хорь погружен в атмосферу лесной обособленности: его усадьба располагалась посреди леса на расчищенной поляне. А Калиныч своей бездомностью и душевной напевностью сродни степным просторам, мягким очертаниям пологих холмов, кроткому и ясному вечернему небу. Вдохновленный успехом, Тургенев пишет др. рассказы, внутренне реализуя замысел единой книги, поэтическим ядром которой является первый из них. Все последующие произведения, которые сам Тургенев называет «отрывками», углубляют, развивают, обогащают с разных сторон ту широкую поэтическую мысль, которая, как в зерне, была заключена здесь. Вслед за «Хорем и Калинычем» они печатаются в «Современнике» за 1847—51, а в 1852 «Записки охотника» впервые выходят отдельным изданием. В этой книге Тургенев впервые ощутил Россию как единство, как живое художественное целое. Его книга открывает 60-е годы в истории русской литературы, предвосхищает их. Прямые дороги от «Записок охотника» идут не только к «Запискам из Мертвого дома» Достоевского, «Губернским очеркам» Салтыкова-Щедрина, но и к эпосу «Войны и мира» Толстого. В «Записках охотника» Тургенев понял и пережил то, что славянофилы считали первой и последней святыней народной души. Одно сомнение затронуло Тургенева как раз в период работы над «Записками охотника»: он оказался свидетелем трагических июньских дней на улицах Парижа, когда взявшая власть буржуазия потопила в крови народное недовольство. События французской революции 1848 привели Тургенева к грустному итогу. Он убедился, что революцией управляла злая сила в лице богатых буржуа и финансистов, народ же служил игрушкой в политической борьбе. Возникли серьезные сомнения в том, что народ вообще является творческой силой истории. Трагический опыт революции 1848 все более склонял Тургенева к мысли о том, что этой творческой силой является интеллигенция, тот верхний слой общества, который создает науку и культуру, который является проводником этих ценностей в народную среду. Пережитое во Франции уводило Тургенева в сторону от того писательского пути, который был намечен им в «Записках охотника». Внимание его все более и более привлекала историческая судьба русской интеллигенции. В повести «Муму» (1852) раскрывается трагическое несоответствие между богатырской мощью и трогательной беззащитностью Герасима, символический смысл приобретает его немота. В повести «Постоялый двор» (1852) умный, рассудительный мужик Аким в одночасье лишается всего состояния по капризной прихоти барыни. Подобно Герасиму, он уходит со двора, берет в руки посох странника, «божьего человека». А на смену ему приходит цепкий деревенский хищник Наум. В ответ на восхищение славянофилов характерами Акима и Герасима Тургенев сказал: «...Я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму там, где вы находите успокоение и прибежище эпоса...». Эти повести Тургенев создавал в драматических обстоятельствах. Вернувшись в 1850 на родину, он активно сотрудничает в редакции «Современника», пишет ряд критических очерков о творчестве В. И. Даля, А. Н. Островского, Евг. Тур, Ф. И. Тютчева. В 1852 он был арестован по обвинению в нарушении цензурных правил при публикации статьи, посвященной памяти Н. В. Гоголя. Это обвинение было использовано как удачный предлог. Истинной же причиной ареста были «Записки охотника» и связи писателя с семьей Виардо и А. И. Герценом. Месяц Тургенев провел на съезжей адмиралтейской части в Петербурге, а потом был сослан в Спасское под строгий надзор полиции без права выезда за пределы Орловской губ. В период Спасской ссылки (до к. 1853) Тургенев продолжает работу над циклом повестей («Дневник лишнего человека», 1850; «Два приятеля», «Затишье», «Переписка» — все три 1854, «Яков Пасынков», 1855), в котором с разных сторон исследует психологию своего современника, культурного человека, идеалиста 1840-х. Его перестает удовлетворять старая манера художественного письма с его эскизностью, фрагментарностью, очерковостью. Он стремится теперь к «простоте, спокойствию, ясности линий», пытается овладеть крупной эпической формой (задумывает роман «Два поколения», но не доводит замысел до конца и уничтожает рукопись). Немаловажную роль на пути к роману сыграли давние увлечения Тургенева драматургией. Еще параллельно с «Записками охотника» он создает целый ряд пьес: «Где тонко — там и рвется» (1847), «Нахлебник» (1848), «Холостяк» (1849), «Завтрак у предводителя» (1849), «Месяц в деревне» (1850), «Провинциалка» (1850), «Вечер в Сорренто» (1852). Но только на рубеже XIX—XX вв. эти произведения обрели настоящую сценическую жизнь. Тургенев прокладывал в них пути к «новой драме» чеховского типа. Свой первый роман «Рудин» Тургенев написал в 1855, в период поражения России в Крымской войне, на пороге эпохи «великих реформ». Новое время ставило перед людьми тургеневского поколения решительные и прямые вопросы, требуя от них столь же решительных и прямых ответов. Разговоры и споры в кругу единомышленников, некогда определявшие смысл существования культурной дворянской прослойки общества, теперь никого не могли удовлетворить. Время «слова» уходило в прошлое, сменялось новой эпохой, звавшей человека на «дело», на практическое участие в политической жизни страны. В романе много автобиографического. Рудин — один из лучших представителей культурного дворянства, идеалист 1830 — н. 1840-х. Он получил философское образование сперва в кружке Покорского (прототип Н. В. Станкевич), потом в Берлинском университете. В облике Рудина современники видели сходство с другом студенческих лет Тургенева М. А. Бакуниным. Сначала роман назывался «Гениальная натура»: под «гениальностью» Тургенев понимал дар слова, талант просветителя, а под «натурой» — твердость воли, острое чувство насущных потребностей в жизни страны, умение претворять слово в дело. По мере работы над романом Тургенев понял, что применительно к Рудину такое заглавие звучит иронически: в нем есть «гениальность», но нет «натуры», есть талант пробуждать умы и сердца людей, но нет сил и способностей вести их за собой. «Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас может обойтись, но никто из нас без нее не может обойтись». Рудин сам сознает свои слабости и понимает, что во всех действиях и поступках его, «как китайского болванчика, постоянно перевешивает голова». Потому осуждение Рудина соседствует с авторским его оправданием. В любви он способен быстро увлекаться и гаснуть, удовлетворяясь прекрасными мгновениями первой влюбленности — черта, характерная для всех идеалистов эпохи 1840-х, и для Тургенева в том числе. В письме, адресованном Наталье, Рудин подвергает себя беспощадному самоанализу: отчетливо звучат самоосуждающие интонации лермонтовской «Думы», отголоски пушкинских размышлений в «Евгении Онегине» о потерянной молодости души, о довременной утрате «лучших желаний» и «свежих мечтаний». К концу романа в характере Рудина начинают проступать черты русского странника-правдоискателя, вечного Дон-Кихота. Мотивы «дороги», «странствия», «скитальчества» приобретают национальный колорит, возникают ассоциации с пушкинскими стихами «Телега жизни», даже в стиле рудинской фразы появляются народные интонации. Мы узнаем, что после любовной катастрофы Рудин пытается найти достойное применение для своих жизненных сил. Но романтик-энтузиаст во всех практических начинаниях действует как максималист, не желающий считаться с реальными сложностями жизни. У Рудина в романе есть антипод — друг его студенческой юности Лежнев: если Рудин парит в облаках, то Лежнев стелется по земле и сам чувствует свою ограниченность, отдавая в конце романа дань уважения Рудину: «В нем есть энтузиазм, а это... самое драгоценное качество в наше время». Страннической судьбе героя вторит скорбный русский пейзаж: «А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завываньем, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок... И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам!» Рудин гибнет на парижских баррикадах в революцию 1848. В «Рудине» определилась своеобразная форма тургеневского романа: на сюжет типичной повести с любовной кульминацией наслаивается несколько «внесюжетных» новелл (рассказ о кружке Покорского, вторая развязка романа — встреча Лежнева с Рудиным в провинциальной гостинице, эпилог — гибель героя на баррикадах). Характер Рудина изображается в процессе сцепления эпизодов, относящихся к разным временам его жизни и с разных сторон освещающих его личность. К цельному представлению о герое читатель приближается в процессе взаимоотражения разных его характеристик, придающих герою объемное освещение, но все же не исчерпывающих до конца всей глубины рудинского типа. Эта стереоскопичность изображения усиливается тем, что Тургенев окружает Рудина «двойниками» (Лежнев, Пандалевский, Пигасов, Муффель и др.), в которых, как в системе зеркал, умножаются сильные и слабые стороны центрального героя. За проблемами социальными в «Рудине» отчетливо звучат философские: мотивы трагизма человеческого существования, мимолетности молодых лет, роковой несовместимости людей разных возрастов. Жизнь человека, по Тургеневу, определяется не только общественными отношениями данного исторического момента, не только всей совокупностью национального опыта, она находится еще во власти неумолимых законов безучастной к нему природы. После «Рудина» эти мотивы в творчестве Тургенева усиливаются в повестях «Поездка в Полесье» (1853—57), «Фауст» (1856), «Ася» и «Первая любовь» (обе — 1860). «Поездка в Полесье» открывается размышлениями рассказчика о ничтожности человека перед лицом всемогущих природных стихий. Сталкиваясь с их властью, герой остро переживает свое одиночество, свою обреченность. «Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, — трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды...». В «Фаусте», «Асе» и «Первой любви» Тургенев развивает тему трагического смысла любви. Это чувство приоткрывает человеку высшие тайны и загадки жизни, превосходящие любые попытки их природных объяснений. Любовь сильнее смерти, потому что выводит влюбленного человека за пределы слепых законов «равнодушной природы», обещает больше, чем природа может ему дать. Но потому любовь может надломить в человеке его хрупкий природный состав. Это чувство торжествует над слабой и смертной стороною человеческого существа. Так сгорает в любви героиня «Фауста» Вера Николаевна Ельцова. В «Асе» любовь — своенравная стихия, перед властью которой беззащитен любой человек. Любовь напоминает о силах, стоящих над ним, и предостерегает от чрезмерной самоуверенности: она учит человека готовности к самоотречению. В погоне за ускользающим призраком земного счастья человек не должен упускать из виду требований нравственного долга, забвение которого уводит личность в пучины индивидуализма и влечет за собою неминуемое возмездие. «...Жизнь не шутка и не забава, жизнь даже не наслаждение, — говорит Тургенев в «Фаусте», — жизнь — тяжелый труд. Отречение, отречение постоянное — вот ее тайный смысл, ее разгадка: не исполнение любимых мыслей и мечтаний, как бы возвышенны они ни были, — исполнение долга, вот о чем следует заботиться человеку; не наложив на себя цепей, железных цепей долга, не может он дойти, не падая, до конца своего поприща...» В годы работы над романом «Дворянское гнездо» (1847—58) Тургенев вплотную подходит к великой правде православно-христианских истин, носительницей которых окажется Лиза Калитина. Тургенев пишет Е. Е. Ламберт: «...Да, земное все прах и тлен — и блажен тот, кто бросил якорь не в эти бездонные волны! Имеющий веру — имеет все и ничего потерять не может; а кто ее не имеет — тот ничего не имеет, — и это я чувствую тем глубже, что сам принадлежу к неимущим! Но я еще не теряю надежды». В «Дворянском гнезде» впервые воплотился идеальный образ тургеневской России, отрицающий крайности либерального западничества и революционного максимализма. Под стать русской величавой и неспешной жизни, текущей неслышно, «как вода по болотным травам», — лучшие люди из дворян и крестьян, выросшие на ее почве. Живым олицетворением родины, народной России является центральная героиня романа — Лиза Калитина. Как пушкинская Татьяна, она впитала в себя лучшие соки русского Православия, народной культуры, народной религиозности. Книгами ее детства были жития святых. Лизу покоряла самоотверженность отшельников, угодников, святых мучениц, их готовность пострадать и умереть за правду, «за други своя». Ее привлекает в Православии пронзительная совестливость, терпеливость и готовность безоговорочно склониться перед требованиями сурового нравственного долга. Возрождающийся к новой жизни Лаврецкий вместе с заново обретаемым чувством родины переживает и новое чувство чистой, одухотворенной любви. Лиза является перед ним как продолжение глубоко пережитого, сыновнего слияния с животворящей тишиной деревенской Руси. «Тишина обнимет его со всех сторон, солнце катится тихо по спокойному небу, и облака тихо плывут по нём». Ту же самую исцеляющую, святую тишину ловит Лаврецкий в «тихом движении Лизиных глаз». Любовь Лизы и Лаврецкого глубоко поэтична. С нею заодно и свет лучистых звезд в ласковой тишине майской ночи, и божественные звуки кантаты, сочиненной старым музыкантом Леммом. Но что-то постоянно настораживает в этом любовном романе, какие-то роковые предчувствия омрачают его. В самые счастливые минуты Лаврецкий и Лиза не могут освободиться от тайного чувства стыда, от ощущения роковой расплаты за свое непростительное счастье. Как верующая девушка, истинная христианка, Лиза считает, что всякое стремление к личному счастью, всякая погоня за ним греховна в своей основе. Чувство личной вины обостряет в романе народная беда. Укором влюбленному Лаврецкому является жизнь крепостного мужика: «Оглянись, кто вокруг тебя блаженствует, кто наслаждается? Вон мужик едет на косьбу; может быть, он доволен своей судьбою... Что ж? захотел ли бы ты поменяться с ним?» Грядет суровое возмездие за пренебрежение общественным долгом, за жизнь отцов, дедов и прадедов, за прошлое самого Лаврецкого, за жизнь всего «дворянского гнезда». Уходя в монастырь, Лиза говорит, обращаясь к герою романа: «Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо... отзывает меня что-то; тошно мне, хочется мне запереться навек». Но уход Лизы в монастырь еще раз утвердил то качество русской святости, которое вызывало у Лаврецкого и стоящего за ним автора некоторую тревогу, отразившуюся в спорах Лаврецкого и Лизы. Настораживал тот мироотречный уклон, который Тургенев подметил в народе, относившемся подчас ко всей земной жизни как к царству греха. Лаврецкий отдает всего себя честному, строгому труду ради прекрасной цели — изменить и «упрочить быт своих крестьян», научиться «пахать землю и как можно глубже ее пахать». Лаврецкий призван исполнить в романе другую заповедь христианина — «в поте лица добывай хлеб свой». В эпилоге романа — знакомый мотив скоротечности жизни, стремительного бега времени. Восемь лет ушло на то, чтоб Лаврецкий, перестав думать о собственном счастье, сделался хорошим хозяином, выучился «пахать землю», упрочил быт своих крестьян. Но вместе с тем как песок сквозь пальцы утекла лучшая часть его жизни. Поседевший герой приветствует молодое поколение в доме Калитиных: «Играйте, веселитесь, растите молодые силы...». В эпоху 1860-х такой финал воспринимался как прощание с «дворянским периодом» русской истории. Но речь у Тургенева все же шла о другом, о судьбе поколения, к которому принадлежал он сам, об идеалистах 40-х, которые должны были, по неумолимой логике жизни, уступить место новым, молодым силам, растущим под кровом тех же самых «дворянских гнезд». Что будет отличать эти молодые силы от поколения Рудиных и Лаврецких? Какую программу обновления России они примут и как приступят к освобождению народа от крепостнических пут? Время требовало «сознательно-героических натур», о которых и повел речь Тургенев в следующем романе «Накануне» (1860), сознательно выбрав в качестве прототипа болгарина Николая Катранова (среди русских такого героя, по признанию Тургенева, еще не было). Рядом с сюжетом социальным, отчасти вырастая из него, отчасти возвышаясь над ним, развертывается в романе сюжет философский. В самом начале романа возникает спор Шубина и Берсенева о счастье и долге. «Счастье» — не то слово, которое способно объединить людей. Соединяют их другие слова: «родина, наука, справедливость». И любовь, если она не «любовь-наслаждение», а «любовь-жертва». Инсарову и Елене хочется, чтоб в их любви личное сливалось с общим. Однако героям суждено осознать, что в их чувствах счастье близости с любимым человеком преобладает порой над любовью к общему делу и препятствует его осуществлению. «Кто знает, может быть, я его убила», — думает Елена у постели больного Инсарова, который, в свою очередь, задает Елене аналогичный вопрос: «Скажи мне, не приходило ли тебе в голову, что эта болезнь послана нам в наказание?» Многих современников Тургенева, особенно из круга нигилистов, крайне смущал финал романа. В ответ на вопрос Шубина, будут ли у нас в России люди, подобные Инсарову, Увар Иванович, олицетворяющий русскую «черноземную силу», «поиграл перстами и устремил в отдаление свой загадочный взор». Очевидно, что Тургенев отказывал в праве на роль героев своим современникам, как революционерам-нигилистам, так и космополитически настроенным представителям русского либерализма. В 1862 Тургенев выпускает роман «Отцы и дети». Образ главного героя Базарова первоначально раскрывается автором так: «Нигилист. Самоуверен, говорит отрывисто и немного — работящ. (Смесь Добролюбова, Павлова и Преображенского.) Живет малым; доктором не хочет быть, ждет случая. Умеет говорить с народом, хотя в душе его презирает. Художественного элемента не имеет и не признает... В сущности, бесплоднейший субъект — антипод Рудина — ибо без всякого энтузиазма и веры». Автор отказывает герою в душевной глубине и скрытом «художественном элементе». В процессе работы над романом Тургенев ведет дневник от лица Базарова и смягчает первоначальную его характеристику. К июлю 1861 роман был завершен и передан в редакцию «Русского вестника». После писем М. Н. Каткова и П. В. Анненкова, полученных Тургеневым в Париже и сходившихся во мнении, что автор «возвел Базарова в апофеозу», писатель положил несколько резких штрихов на образ главного героя. Тургенев показывает в романе, что никакие социальные, политические, государственные формы человеческого общежития не поглощают содержания семейной жизни. Отношения сыновей к отцам не замыкаются только на родственных чувствах, а распространяются далее на сыновнее приятие прошлого и настоящего своего Отечества. Отцовство в широком смысле слова тоже предполагает любовь старшего поколения к идущим ему на смену детям. Трагическая глубина центральной коллизии романа как раз и проясняется нарушением семейственности в связях между поколениями, между противоположными общественными течениями русского общества. Противоречия между ними заходят так далеко, что касаются коренных, «божеских и человеческих» основ бытия, угрожая национальному организму разложением и распадом. И «отцы» и «дети» явно еще не доросли до того, чтобы «отцы» сознательно сообразовались с высочайше первообразным для всякого отчества Отцом, все благоволение Которого — в Сыне, а «дети» с верховно первообразным для всякого сыновства Сыном, в Котором вполне успокаивается дух Отеческий (архим. Феодор (Бухарев)). В «Отцах и детях» единство живых сил национальной жизни взорвано непримиримым конфликтом. Базаров не хочет признать, что мягкосердечие и голубиная кротость «барчуков проклятых» — следствие художественной одаренности их натур, поэтических, мечтательных, чутких к музыке и поэзии. В способности русского человека легко «поломать себя» Тургенев увидел теперь не столько великое наше преимущество, сколько неуемный радикализм, способный подрубить на корню живой национальный организм, разорвать удерживающую его жизнеспособность «связь времен». Поэтому социальной борьбе революционеров-нигилистов с либералами Тургенев придал широкое национально-историческое освещение: речь шла о культурной преемственности в ходе исторической смены одного поколения другим. В споре либерала Павла Петровича с нигилистом Базаровым истина не рождается потому, что антагонисты впадают в противоположные общие места: на каждое «да» одного — решительное «нет» другого. Такой «спор» разрушителен не только по отношению к истине: он обостряет противоречия внутри самих героев, надламывает их, загоняя одного в космополитический либерализм, а другого в крайности нигилизма. В действительности Павел Петрович далеко не такой самоуверенный аристократ, какого он разыгрывает из себя перед Базаровым. И уже первое знакомство с Базаровым убеждает: в его душе есть чувства, которые герой скрывает и от окружающих и от самого себя. Крайняя резкость его нападок на поэзию, на любовь, на философию заставляет усомниться в полной искренности отрицания. В Базарове предчувствуются герои Ф. М. Достоевского с их типичными комплексами: злоба и ожесточение как форма проявления скрытой любви, как полемика с добром, подспудно живущим в душе отрицателя. К финалу романа становится ясно, что в Базарове потенциально присутствует многое из того, что он отрицает: и «романтизм», и способность любить, и народное начало, и семейное чувство, и умение ценить красоту и поэзию. Не случайно Достоевский высоко оценил роман Тургенева и трагическую фигуру «беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм». Искупая смертью односторонность своей жизненной программы, герой оставляет миру позитивное, творческое, исторически-ценное как в самих его отрицаниях, так и в том, что скрывалось за ними. Потому-то в конце романа и воскрешается вновь тема народной, крестьянской России, перекликающаяся с его началом. Сходство их очевидно, но и различие тоже: среди российского запустения, среди расшатанных крестов и разоренных могил появляется одна, «которую не топчет животное: одни птицы садятся на нее и поют на заре». По смерти Базарова над могилой его веет дыхание любви — родительской и народной. А «цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии “равнодушной” природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...». В 1860-е углубляется философский пессимизм писателя, возникают сомнения в самой возможности устранения зла на земле, в историческом прогрессе. История человечества представлялась трагикомической борьбой с «неизменяемым» и «неизбежным». Эти настроения отчетливо прозвучали в двух повестях — «Призраки» (1864) и «Довольно» (1865). Духовная бесприютность, особенно усилившаяся после краха либеральных надежд, еще сильнее привязывала писателя к чужой семье и чужой стране. В России же он видел теперь лишь брожение, отсутствие чего-либо твердого и определившегося. В таком настроении Тургенев начал работу над романом «Дым» (1867). Это роман глубоких сомнений и слабо теплящихся надежд. В нем изображается особое состояние мира, в котором люди потеряли освещающую их жизнь цель. Герои романа живут и действуют, как впотьмах, спорят, ссорятся, суетятся, бросаются в крайности. Тургенев наносит удары и по космополитическому либерализму, и по нигилистам. В жизни, охваченной «газообразным» клублением идей и мнений, трудно человеку сохранить уверенность в себе. Главный герой Литвинов, казалось бы определивший для себя скромную жизненную цель сельского хозяина и семьянина, попадая в круг соотечественников в Баден-Бадене, начинает задыхаться в хаосе бесконечных и назойливых словопрений, выпадает из намеченной жизненной колеи и оказывается во власти неожиданно вспыхнувшей в нем страсти к женщине из аристократического круга, которая в юные годы была его первой любовью. Эта страсть налетает как вихрь и берет в плен всего человека. Для Литвинова и Ирины в ней открывается единственный исход и спасение от «духоты» окружающей жизни. Но Ирина развращена светским обществом, слишком привязана к его благам, и в решительный момент она отказывается бежать с Литвиновым. «Дым» не принес Тургеневу успеха: нигилисты не могли простить писателю карикатурного изображения революционной эмиграции в кружке Губарева, либералы и консерваторы — сатирического изображения верхов в сцене пикника генералов в Баден-Бадене. У литераторов славянофильского и почвеннического направления резкое недовольство вызвал Потугин. Достоевский не только порвал тогда приятельские отношения с Тургеневым, но в романе «Бесы» вывел его в неприглядном образе «русского европейца», писателя Кармазинова, читающего публике свой прощальный рассказ «Мерси!» — пародию на тургеневскую повесть «Довольно». Итоговым произведением 1870-х является роман «Новь» (1876). Предпосланный ему эпиграф «из записок хозяина-агронома» («Поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, а глубоко забирающим плугом») является прямым упреком «нетерпеливцам»: это они пытаются своей революционной пропагандой в народе поднять новь поверхностно скользящей сохой. Глубоко забирающим плугом поднимает новь в романе Тургенева «постепеновец» Соломин. Он сочувствует нигилистам и уважает их. Но путь, который они избрали, Соломин считает заблуждением, в революцию он не верит. Представитель «третьей силы», он, как и революционные народники, находится на подозрении у правительственных консерваторов (Калломейцев) и примыкающих к ним дворян-либералов (Сипягин). Эти герои изображаются сатирически, никаких надежд на правительственные верхи и старую либеральную интеллигенцию Тургенев теперь не питает. В Соломине проявляются характерные черты великоросса, подмеченные Тургеневым еще в образах Хоря и однодворца Овсянникова из «Записок охотника»: т. н. «сметка», «себе на уме», способность и любовь ко всему прикладному, техническому, практический смысл и своеобразный «деловой идеализм». В отличие от революционеров — Нежданова, Маркелова, Марианны — Соломин не «бунтует» народ «с детской неумелостью», а занимается практической деятельностью: организует фабрику на артельных началах, строит школу и библиотеку. Именно такая негромкая, но основательная работа способна, по Тургеневу, обновить лицо родной земли. Итогом творчества Тургенева стал оригинальный цикл «Стихотворения в прозе». В поэтически отточенной форме здесь отразились ведущие мотивы его творчества. Цикл открывается стихотворением «Деревня», а завершается гимном русскому языку с крылатым афоризмом: «Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». Последние годы жизни Тургенева были озарены радостным сознанием того, что Россия высоко ценит его литературные заслуги. Приезды писателя на родину в 1879 и 1880 превратились в шумные чествования его таланта. Но с янв. 1882 начались испытания. Мучительная болезнь приковала Тургенева к постели. 30 мая 1882 Тургенев писал отъезжавшему в его гостеприимное Спасское поэту Я. П. Полонскому: «Когда Вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу». За несколько дней до рокового исхода Тургенев завещал похоронить себя на Волковом кладбище в Петербурге. Последние его слова — «прощайте, мои милые, мои белесоватые». Соч.: Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960—68; Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1978—99. Лит.: Страхов Н. Н. И. С. Тургенев. «Отцы и дети» // Страхов Н. Литературная критика. М., 1984; Петров С. М. И. С. Тургенев. Творческий путь. 2-е изд. М., 1979; И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд. М., 1983; Чалмаев В. Иван Тургенев. М., 1986; Лебедев Ю. В. Тургенев. М., 1990 (ЖЗЛ). Лебедев Ю. © Институт Русской Цивилизации. E-mail: info@rusinst.ru Изготовление cайта - Wilmark Design. Об институте | Труды института | Энциклопедия | Библиотек В оформлении проекта использован фрагмент картины И.С. Глазунова "Вечная Россия" 2004-2008г. Главное меню > Поиск биографии > Тургенев Иван Сергеевич Образ Базарова в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» С образом главного героя «Отцов и детей» Евгения Базарова связано вошедшее во всеобщий обиход понятие «нигилист». Нигилист — это отрицатель. Что же отрицает Базаров? Отвечая на вопрос Павла Петровича Кирсанова, он горделиво заявляет: «Все». Но на следующий резонный вопрос Павла Петровича кто же и что будет строить, Базаров отвечает уклончиво: мол, сначала надо разрушить, а там видно будет. Можно согласиться с Базаровым в части отрица ния пороков феодально-крепостнической системы, ставше тому времени в России тормозом на пути общественного прогресса. Но ведь герой И.С. Тургенева, как мож судить по его высказываниям и действиям, отрицает не только социальный уклад российской жизни, но и вс достижения ее культуры, например. Отрицает красоту природы, придавая ей только утилитарное значение. Достаточно вспомнить его афоризм: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». И.С. Тургенев показывает опасность нигилизма, заключающуюся в том, что наряду с отжившим и вредным отрицает те ценности, которые принято называть «вечными». Тургеневский герой посмеивается над Николаем Петровичем Кирсановым: молодому нигилисту кажется нелепой увлеченность отца Аркадия музыкой, поэзией Пушкина. Базаров снисходительно относится к своим родителям. Он вроде бы и любит и но при этом избирает пренебрежительную манеру обращения с ними. Мастерство И.С. Тургенева проявляется в том, что он не пытается опровергать мнения Базарова умозрительными доводами, а сталкивает его с жизненными обстоятельствами, которые показывают читателю за блуждения героя. Как ни бравирует Евгений своим отрицанием любви между мужчиной и женщиной, сводя ее к удовлетворению голой физиологической потребности, сам он оказываетс бессилен перед охватившим его чувством к Анне Сергеевне Одинцовой. И.С. Тургенев дает понять читателю, что стержень натуры Базарова (и это, наконец, постигает даже не слишком далекий Аркадий) — непомерном самолю бии. Его ведущая потребность — самоутверждаться за счет других. О людях, подобных Базарову, писал А.С. Пушкин в «Евгении Онегине»: Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы — Для нас орудие одно... Карикатурно-пародийными образами подражателей Базарова стали второстепенные фигуры его «соратников» — Ситникова и Кукшиной. В типе последней И.С. Тургенев высмеивает крайности женского движения за эмансипацию, то есть за свое равенство с мужчинами во всех сферах жизни. Представляя Кукшину читателю, И.С. Тургенев делает акцент на смешных чертах ее в целом жалко облика и образа жизни. «В маленькой невзрачной фигурке эмансипированной женщины не было ничего безобразного, но выражение лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней: «Что ты, голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Что ты пружишься?»... Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко...». Во время разговора с гостями Евдоксия курит папиросу за папиросой и засыпает собеседников вопросами, на которые сама же и торопится ответить. Тургеневская ирония видна и характеристике речевой манеры Евдоксии: «Госпожа Кукшина роняла свои вопросы один за другим с изнеженной небрежностию, не дожидаясь ответов; избалованные дети так говорят со своими няньками». Став достоянием читателей и критики, роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» вызвал бурные споры. И главным предметом этих споров был образ главного героя. Причем любопытно, что прежние единомышленники писателя, то есть литераторы, примыкающие к редакц «Современника», увидели в образе Базарова злую пародию на молодое поколение демократов-разночинцев. А представители консервативного общественного направления, отстаивающего старые ценности, напротив, обвинили писателя в том, что он поставил «нигилистов» на пьедестал, которого те не заслужили. В результате в И.С. Тургенева полетели критические стрелы с двух сторон: и о бывших соратников по литературной борьбе, ставших теперь противниками, и от нынешних «союзников». Почему так произошло? Дел было в том, что принадлежность или близость писателя к какой-либо общественной партии требует от него выражения общепартийны интересов. Зрению же истинного художника любое явление всегда представляется объемным и многогранным. Он воссоздает полнокровную картину мира, которая всегда оказывается шире мировоззренческих рамок какой угодно партийной идеологии. Из современных И.С. Тургеневу критиков лучше всех это понял Д.И. Писарев. Задаваясь вопросом, как же сам И.С. Тургенев относится к своему герою, на чьей стороне он в споре «отцов» и «детей», критик демократического лагеря Д.И. Писарев отвечал на этот вопрос так: «Тургенев не сочувствует вполне ни одному из своих действующих лиц; от его анализа не ускользает ни одна слабая или смешная сторона; мы видим, как Базаров завирается в своем отрицании... как Павел Петрович рисуется и злится, зачем на него не любуется Базаров, единственный человек, которого он уважает в самой ненавис своей». Таким образом, Д.И. Писарев подчеркивал непредвзятость и объективность автора в изображении героя-нигилиста. Официальный сайт Группы по подготовке Академического полного собрания сочинений и писем И. А. Гончарова Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук группа Гончарова [ Полное собрание сочинений ] [ Произведения ] [ О творчестве ] [ Биография ] [ Галерея ] [ Библиография ] [ Новости ] [ Ссылки ] История русской литературы в 4-х т. История русского романа Пруцков Н. И. "Обыкновенная история" Главная > О творчестве > Из историй > История русского романа > Пруцков Н. И. Обрыв Пруцков Н. И. Обрыв Малахов С. А. Пруцков Н. И. Последние романы Тургенева и Гончарова Пруцков Н. И. "Обломов" Пруцков Н. И. Обрыв История русской критики [ История русской литературы в 4-х т. ] [ Малахов С. А., Пруцков Н. И. Последние романы Тургенева и Гончарова // История русского романа: В 2 т. М.; Л.: «Наука», 1964. Т. 2. С. 149— История русского романа ] [ --Пруцков Н. И. &quotОбыкновенная история" ] [ -Пруцков Н. И. &quotОбломов" ] [ -Пруцков Н. И. Обрыв ] [ История русской критики ] Опубликована книга "И.А.Гончаров в воспоминаниях современников". Л., 1969.Читать >> 192. ГЛАВА V ПОСЛЕДНИЕ РОМАНЫ ТУРГЕНЕВА И ГОНЧАРОВА «ДЫМ» 1 ВПЕРВЫЕ В СЕТИ!!! Все иллюстрации к роману "Обломов". Смотреть >> Фрагменты телеспектакля ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ Смотреть >> Опубликован очерк "От Мыса Доброй Надежды до острова Явы" (Фрегат "Паллада").Читать далее >> В статье 1861 года «Полемические красоты» Н. Г. Чернышевский, объясняя разрыв Тургенева с «Современником», писал: «Наш образ мыслей прояснился для г. Тургенева настолько, что он перестал одобрять его. Нам стало казаться, что последние повести г. Тургенева не так близко соответствуют нашему взгляду на вещи, как прежде, когда и его направление не было так ясно для нас, да и наши взгляды не были так ясны для него. Мы разошлись. Так ли? Ссылаемся на самого г. Тургенева».1 Как бы отвечая на обращенный к нему вопрос, Тургенев 4/16 декабря 1861 года писал из Парижа редактору «Русского вестника» Каткову: «Вы, развернувши первую попавшуюся книжку „Современника”, прочтя даже его программу, можете убедиться, что я не боюсь разрыва с людьми, которых перестал уважать».2 В то время, когда вождь русской «мужицкой демократии» призывал крестьян «к топору», когда Герцен и Огарев приветствовали первые зарницы польской национально-освободительной революции, Тургенев в письме от 16/28 февраля 1861 года с ужасом писал своей приятельнице, графине Е. Е. Ламберт: «...в Париже распространился слух, будто в Варшаве вспыхнул бунт. Сохрани нас бог от эдакой беды! — Бунт в Царстве может только жестоко повредить и Польше и России, как всякий бунт и всякий заговор. Не такими путями должны мы идти вперед».3 Напуганный петербургскими пожарами 1862 года, ответственность за которые реакционная печать демагогически возложила на русских и польских революционеров, Тургенев 8 июня того же года писал из Спасского П. В. Анненкову: «Эти безумия, эти злодеяния, весь этот хаос — что же тут можно выразить в письме! Остается желать, чтобы царь — единственный наш оплот в эту минуту — остался тверд и спокоен среди ярых волн, бьющих и справа, и слева. — Страшно подумать, до чего может дойти реакция, и нельзя не сознаться, что она будет до некоторой степени оправдана. Государственная безопасность прежде всего».4 9/21 апреля 1866 года, узнав о покушении Каракозова на Александра II, Тургенев писал из Баден-Бадена своему немецкому другу Людвигу Пичу: «Что Вы скажете о петербургской истории? Там теперь все вверх дном. Спасение царя (крестьянином) —большое счастье для нашей страны».5 149 Такова одна группа фактов, говорящих о политический позициях Тургенева 60-х годов. Но в эпистолярном наследии романиста, так же как и в свидетельствах его современников, имеется немало и таких фактов, которые находятся в прямом противоречии с приведенными выше. П. В. Анненков, комментируя свою переписку с Тургеневым за 1856—1862 годы, обратил внимание читателя на то, как часто Тургенев восклицает в письмах «evviva Garibaldi!».6 Письма Тургенева действительно подтверждают, с каким сочувственным вниманием следил он за всеми перипетиями национальноосвободительной борьбы итальянского народа, уподобляя ее вождя Гарибальди древнеримскому республиканцу Бруту. 15/27 августа 1862 года Тургенев писал Герцену из Баден-Бадена: «А каков Гарибальди? С невольным трепетом следишь за каждым движением этого последнего из героев. Неужели Брут, который не только в истории всегда, но даже и у Шекспира гибнет — восторжествует? Не верится — а душа замирает».7 Если в приведенном выше февральском письме к графине Е. Е. Ламберт Тургенев осудил революционные методы польских патриотов в их борьбе за независимость Польши, то в письме к ней же от 15/27 июня 1861 года он решительно оправдывает как конечную цель, так и самую тактику польского национальноосвободительного движения. «Чем больше я живу, — писал Тургенев, — тем более я убеждаюсь, что главное дело чт?, а не как — хотя к?к — гораздо легче узнать, чем что. — Поляки имеют право, как всякий народ, на отдельное существование; это — их чт?, а к?к они этого добиваются — это уже второстепенный вопрос».8 Однако А. И. Герцен был безусловно прав, когда в журнальной статье «Новая фаза русской литературы» (1864), определяя отрицательный характер воздействия пореформенной реакции на русскую литературу, писал: «Самые выдающиеся люди предшествующего периода растерялись подобно другим. Возьмите, например, Ивана Тургенева».9 Эти противоречия в мировоззрении Тургенева не могли не сказаться и на характере романа «Дым», который был задуман еще в конце 1862 года, а создавался, с длительным перерывом в работе, с ноября 1865 года по январь 1867 года в Баден-Бадене. Мнения наиболее выдающихся современников Тургенева о «Дыме» разделились. С разных позиций, но одинаково отрицательно высказались о тургеневском романе Л. Н. Толстой и А. И. Герцен. Толстой в письме к Фету от 28 июня 1867 года писал: «В Дыме нет ни к чему почти любви и нет почти поэзии. Есть любовь только к прелюбодеянию легкому и игривому, и потому поэзия этой повести противна».10 Герцен в любовном сюжете романа усмотрел лишь эротическую пошлость и едко высмеял тургеневского героя: «... поврежденный малый, без живота от любви беспрестанно мечется в траву».11 Н. А. Некрасов, «находя художественную... часть безусловно прелестною», настороженно воспринял «полемическую, или, так сказать, политическую» часть «Дыма», хотя и признал, что «тронутые в ней вопросы так важны для русского человека, и тронуты они так решительно».12 Д. И. Писарева роман не удовлетворил. В 150 частности, по его мнению, «сцены у Губарева составляют эпизод, пришитый к повести на живую нитку».13 Еще более противоречивые оценки вызвал роман Тургенева в работах советских исследователей. Л. В. Пумпянский, автор вступительной статьи к IX тому «Сочинений» И. С. Тургенева, считал, что «С „Дыма” начинается падение романного творчества Тургенева... распад самого жанра тургеневского романа».14 Совершенно иную оценку дал роману в 1947 году Г. А. Бялый в статье «„Дым” в ряду романов Тургенева»: «В истории русского романа, — писал он, — „Дым” является важнейшей вехой на пути к „Анне Карениной”» прямым предвестником 15 толстовского романа». Чтобы обосновать структурное единство произведения, в котором Л. В. Пумпянский находил явление распада жанра тургеневского романа, Г. А. Бялый выдвинул тезис, что в «Дыме» Тургенев произвел свой «суд» исключительно «над старой Россией»; для этого исследователь оказался вынужденным отнести членов губаревского кружка к числу «мнимых единомышленников Герцена», включив их, наряду с баденскими генералами, непосредственно в лагерь политической реакции». Идейное единство романа было, таким образом, найдено; оставалось отыскать в романе Тургенева и его художественное единство, которое обосновывается так: «...это роман не о герое, а о героине: Ирина выступает в романе как жертва той среды, которая дает автору материал для политической сатиры».16 Отсюда исследователь делает закономерный при такой посылке вывод о том, что художественно-структурное единство этого тургеневского романа определяет «неразрывная связь любовной темы с темой политической».17 Уязвимая сторона этой наиболее стройной концепции «Дыма» заключается в том, что достаточно лишь опровергнуть правомерность отнесения участников губаревского кружка к реакционному лагерю, представленному в романе баденскими генералами, чтобы все достигнутое этой ценой идейнохудожественное единство произведения немедленно распалось. Сторонники идеи художественнополитического единства «Дыма» вынуждены, естественно, сосредоточить свои доказательства на утверждений той мысли, что члены губаревского кружка в романе не имеют будто бы ничего общего с вождями лондонской революционной эмиграции и являются лишь «мнимыми единомышленниками Герцена». Для этого делаются ссылки либо на отрицательный отзыв К. Маркса о некоторых русских эмигрантах, либо на использование В. И. Лениным в его борьбе с политическими врагами большевистской партии образа Ворошилова из «Дыма» и таких тургеневских словечек, как «губаревщина» или «матреновцы». С. М. Петров в своей работе «Роман Тургенева „Дым”» утверждает: «То, что представил Тургенев в „Дыме”, было не памфлетом, а отражением реальных фактов в русском демократическом движении пореформенной эпохи».18 Однако именно реальные факты, на которые ссылается исследователь, дают совершенно иную картину демократического движения в России пореформенной эпохи, чем та, которая представлена в «Дыме». Тургенев сам называл сцены, связанные с изображением участников губаревского кружка, «гейдельбергскими арабесками», хотя б?льшая 151 часть этих сцен происходит в БаденБадене. Романист имел большие возможности хорошо изучить членов русской гейдельбергской колонии, получая письменные сведения о ней от Марко Вовчка, бывая иногда в Гейдельберге и встречаясь с наезжавшими в Баден гейдельбержцами. С. Сватиков, автор статьи «И. С. Тургенев и русская молодежь в Гейдельберге», приводит письменное свидетельство одного из гейдельбержцев: «Известно, что огромное большинство молодых людей в начале 60-х г[одов] были „красные”; мы, гейдельбергские студенты... не составляли из этого исключения: мы, почти поголовно были социалистами и даже коммунистами, мечтали об обращении крестьянской общины в фаланстер, ненавидели всей душой русское правительство, зачитывались „Колоколом”, „Полярной звездой”, боготворили Герцена и т. д.».19 С. Сватиков передает также и не менее знаменательное показание Д. И. Воейкова: «В 1861 году Гейдельберг был набит яркими приверженцами лондонских эмигрантов. Гейдельбергская колония пользовалась особым благоволением лондонских вождей... В Гейдельберг был командирован сын Герцена, которому был устроен торжественный обед человек на сто».20 В Гейдельберге в 60-х годах завершали свое образование такие выдающиеся представителе русской науки, как Менделеев, Сеченов, Бутлеров, Боткин, Бородин и др. Вместе с тем в гейдельбергской русской колонии 60-х годов было немало и других лиц, подтверждавших негативную характеристику, данную некоторым русским эмигрантам-дворянам К. Марксом. Об одном из таких гейдельбергских эмигрантов говорит в своей работе и С. Сватиков: «Этот студент был Ник. А. Нехлюдов, руководитель беспорядков в Петербурге. Впоследствии он умер товарищем министра вн. дел и — ирония судьбы! — тело его вынесено было из здания департамента полиции».21 Таким образом, как бы ни были шаржированы в «Дыме» Губарев, Ворошилов, Бамбаев, Биндасов и другие участники губаревского кружка, все они имеют за собой реальные жизненные прототипы из числа некоторых гейдельбергских эмигрантов. Политическая и художественная слабость тургеневского романа заключалась, однако, в том, что, правдиво отразив частные явления гейдельбергской русской колонии, Тургенев обобщил их как типические черты, свойственные будто бы всей русской политической эмиграции во главе с Герценом и Огаревым. Не случайно современники увидели в Губареве шаржированный портрет Н. П. Огарева, как не случайно и то, что косноязычный, поогаревски, Губарев в своем наиболее связном и развернутом высказывании повторяет почти дословно содержание известной герценовской статьи, характеризующей наступление реакции в России 60-х годов: «Община... понимаете ли вы? Это великое слово! Потом, что значат эти пожары... эти... эти правительственные меры против воскресных школ, читален, журналов? А несогласие крестьян подписывать уставные грамоты? И, наконец, что происходит в Польше? Разве вы не видите, к чему все это ведет?».22 Не только фразеология, но и революционное содержание боевой герценовской публицистики сознательно 152 было вложено Тургеневым в речи Губарева, чтобы развенчать революционную идеологию знаменитых издателей «Колокола» и «Полярной звезды», художественными средствами решить в свою пользу тот спор, который автор «Дыма» вел перед этим в своей переписке с А. И. Герценом. С. М. Петров, определяя политическую направленность «Дыма», писал: «Тургенев не нарушил правды в угоду своим либеральным симпатиям. Не либералов выставляет он в качестве главной общественной силы, противостоящей крепостнической реакций, а демократию».23 Исследователь напрасно пытается убедить читателя, что демократия, противостоящая генеральской реакции, представлена будто бы в романе Тургенева такими разночинцами, как Литвинов и Потугин. Литвинова, наследника помещичьего имения, которое было «многоземельно, с разными угодьями, лесами и озером» (IV, 12), вряд ли можно считать «демократом и чуть ли не нигилистом», только на том основании, что в студенческие годы он «благоговел перед Робеспьером», как неправомерно было бы называть демократом или нигилистом самого Тургенева, писавшего Флоберу в 1874 году о том же Робеспьере: «...все-таки в нем были и хорошие стороны, в этом молодчике!».24 Еще меньше оснований принимать за демократа Потугина — только потому, что последний был «выходцем из священнического сословия». Мнимый демократизм Потугина никак не вяжется с его озлобленными выходками против социализма, с его проповедью «малых дел» и культурных реформ в рамках существующего строя. 2 Устанавливая место «Дыма» в кругу остальных тургеневских романов, Л. В. Пумпянский и Г. А. Бялый отмечают изменение самой романической манеры Тургенева, по-разному определяя и объясняя этот несомненный факт. Изменение действительно произошло, только не такое значительное, как это думал Пумпянский, утверждавший, что с «Дыма» начинается «распад самого жанра тургеневского романа... падение централизующей роли героя». Литвинов, а не Ирина, вопреки мнению Г. А. Бялого, является для создателя «Дыма» главным героем произведения, и его централизующая роль в романе несомненна. Все остальные персонажи романа, включая Ирину, далеко не всегда встречаются между собой, но Литвинов встречается с любым из них, он непрестанно находится в самом центре событий, начиная со второй главы, на страницах которой появляется впервые. Эта централизующая роль героя даже композиционно подчеркнута Тургеневым в «Дыме» отчетливее, чем в любом другом романе. Подавляющее большинство глав (15 из 28) начинается либо фамилией героя, либо относящимся к нему местоимением «он» («они», если Литвинов выступает вместе с другим персонажем). Исключения, только подчеркивающие этот преобладающий в «Дыме» характер зачина глав, немногочисленны, да и сами эти главы по своему содержанию так же тесно связаны с личностью героя. Главы VII и VIII «Дыма» являются лишь авторской интерпретацией воспоминаний Литвинова о его юношеском романе с Ириной; глава XXIII открывается письмом Григория к Ирине; в главе XXVI Литвинов «вступает в действие» после короткого лирического введения, занимающего всего два предложения в шесть строк. Из всего романа лишь одна первая глава, посвященная описанию курортного 153 баденского общества, отличается отсутствием в ней самого Литвинова, появляющегося, однако, в самом начале второй главы. Можно ли после этого говорить о падении централизующей роли героя в «Дыме» или утверждать, что не Литвинов является главным героем этого романа? Моральный критерий всегда был решающим при постановке Тургеневымроманистом проблемы общественной. Литвинов в «Дыме» не просто геройлюбовник. Он поставлен Тургеневым не только между Ириной и Татьяной, но и между двумя политическими лагерями — крепостнически-монархической реакцией, в лице баденских генералов, с одной стороны, и революционнодемократической эмиграцией — с другой. Представители этих групп очерчены в романе с сатирическим сарказмом, превращающим их в «бесовские маски» тех «адских кругов», которые в сопровождении Потугина проходит Литвинов, чтобы только в конце романа, искупив трагическую вину перед Татьяной, обрести с ней свое счастье. Тургенев в «Дыме» шаржированно изобразил не только баденских и гейдельбергских представителей революционной эмиграции. В лице взбалмошной госпожи Суханчиковой (с ее призывом: «...надо всем, всем женщинам запастись швейными машинами и составлять общества; этак они все будут хлеб себе зарабатывать и вдруг независимы станут», — IV, 22) он пародировал героиню романа Чернышевского «Что делать?», а кличкой «матреновцы» иронически наделил эмигрантов коммуны Чайковского. Саркастический рассказ Потугина о посрамленном им «вьюноше»- естественнике завершается характерной тирадой: «В том-то и штука, что нынешняя молодежь ошиблась в расчете. Она вообразила, что время прежней, темной, подземной работы прошло, что хорошо было старичкам-отцам рыться наподобие кротов, а для нас-де эта роль унизительна, мы на открытом воздухе действовать будем, мы будем действовать... Голубчики! и ваши детки еще действовать не будут; а вам не угодно ли в норку, в норку опять по следам старичков?» (IV, 97). Не напоминает ли этот потугинский пересказ политической программы «детей» знаменитую отповедь Базарова Аркадию Кирсанову: «Вы, например, не деретесь — и уже воображаете себя молодцами, а мы драться хотим»? Политическая растерянность пореформенного Тургенева отрицательно сказалась и на художественном качестве его романа. Прежде всего пострадал в художественном отношении образ центрального героя, утратившего ту общественную и интеллектуальную значительность, которая отличала героев предшествующих тургеневских романов. Герценовская характеристика Литвинова как «поврежденного малого, без живота от любви», молчаливо внимающего сентенциям, которые читает ему Потугин, при всей своей резкости во многом справедлива. И уже совершенно бесспорно подметил Герцен тенденциозную функцию Потугина в романе, определив последнего как «куклу, постоянно говорящую не о том, о чем с ней говорят». Присутствие Потугина в «Дыме», оправданное его ролью посредника в любовной трагедии героев, перестает быть художественно закономерным там, где он начинает излагать перед Литвиновым свои политические убеждения или давать свои тенденциозные характеристики представителям враждебного ему революционно-демократического лагеря в романе. Так же немотивированы художественно в «Дыме» и эпизоды, связанные с участниками губаревского кружка. При полной политической аморфности Литвинова пребывание героя среди губаревцев кажется совершенно случайным и не имеет никакого активного отношения к главной сюжетной коллизии романа. Но все это не дает еще основания считать справедливым суждение Л. В. Пумпянского: «В основе сюжета „Дыма” лежит любовная новелла; она опоясана и перевита двумя политическими памфлетами и одной 154 политической апологией». Следовательно, с точки зрения жанровой „Дым” не есть роман».25 Любовная коллизия в «Дыме», как и во всех других романах Тургенева, значительна не сама по себе, а по той роли, которую она играет в раскрытии общественно-политического замысла романа. Героиня его, старшая дочь в разорившейся княжеской семье, сталкиваясь с оскорбительными для нее проявлениями окружающей ее бедности, «даже бровью не пошевельнет и сидит неподвижно, со злою улыбкою на сумрачном лице». Родители, чувствуя вину перед дочерью, предоставляют ей «почти неограниченную свободу в родительском доме». Так вырастает девушка «с характером непостоянным, властолюбивым и с бедовою головой»; даже «отцу и матери она внушала чувство невольного уважения» и смутную, но твердую уверенность: «Аринка-то нас еще вывезет». Эта властолюбивая и гордая натура героини сказывается и в ее девическом романе с Литвиновым, когда «Ирина вполне завладела своим будущим женихом». Характерно ее горькое восклицание: «Ох, эта бедность, бедность, темнота! Как избавиться от этой бедности! Как выйти, выйти из темноты!». Тургенев, рассказывая о первом выезде своей героини в свет, раскрывает драматическую борьбу между ее любовью к Григорию и соблазном светской карьеры. «„Не нужно, не поеду”, — отвечала она на все родительские доводы». И только тогда, когда по их просьбе в дело вмешался Литвинов, у нее вырывают согласие: «Ну, хорошо, я поеду... Только помните, вы сами этого желали». Приведенное место может служить образцом той «тайной психологии», мастером которой был Тургенев. Не легко дается Ирине не высказанное вслух и все же принятое ею решение («накануне бала она чувствовала себя нездоровою, не могла усидеть на месте, всплакнула раза два в одиночку»). За разговором, который перед балом ведется между героями, читателю слышится то, что Тургенев сам называет их «внутренней речью». Ирина, хотя и приняла решение, продолжает бороться с собой. «Хочешь? скажи только слово, и я сорву все это и останусь дома», — спрашивает она Литвинова, «внезапно ухватив конец ветки, украшавшей ее голову». И снова он не понимает внутреннего смысла ее вопроса («Нет, нет, зачем же...»), и снова за незначительной фразой, сказанной ею вслух («Ну, так не подходите, платье изомнете...»), звучит ее роковое: «вы сами этого желали!». Этот внутренний и внешний диалог героев Тургенев окружает «характеристическими деталями», которые углубляют драматический смысл происходящей сцены. Ирина ведет свой разговор с женихом в убогом княжеском особняке и в то же время, «точно сказочная царевна», глядит «решительно, почти смело, не на него, а куда-то вдаль, прямо перед собою», — туда, где мысленным взором видит она великолепный триумф своего «первого торжества», уже как бы готовая улететь от того, кто еще говорит в это мгновение с нею, но уже потерял ее по своей вине навсегда. «Литвинов рассыпался в восторженных похвалах. Но Ирина уже не слушала его и, поднеся букет к лицу, опять глядела куда-то вдаль своими странными, словно потемневшими и расширенными глазами, а поколебленные легким движением воздуха концы тонких лент слегка приподымались у ней за плечами словно крылья» (IV, 51). Психологическая коллизия молодой любви Григория и Ирины, насыщенная таким драматизмом содержания, занимает три небольших вводных главы (VII, VIII, IX) и служит всего лишь экспозицией главного романического сюжета, действие которого писателем переносится из Москвы в Баден-Баден, где герои «Дыма» встречаются вторично, через 155 несколько лет после своего разрыва. Букет свежих гелиотропов, подаренный Литвиновым Ирине перед балом, является в романе той художественной деталью, которая композиционно связывает обе драмы, пережитые героями. «Неотступный, неотвязный, сладкий, тяжелый» запах цветов, оставленных Литвинову у швейцара баденской гостиницы неизвестной русской дамой, «все настойчивее напоминал ему что-то, чего он никак уловить не мог», пока не очнулся от ночного лихорадочного полузабытья с неожиданным возгласом: «Неужели она, не может быть!». Именно после этого восклицания героя, заключающего VI главу «Дыма», идут три вводных главы, сообщающие читателю предысторию последующего романа Литвинова с Ириной. Последняя из этих глав (IX) возвращает прерванное на время действие к тому же моменту, с которого началось отступление: «Теперь читателю, вероятно, понятно стало, что именно вспомнилось Литвинову, когда он воскликнул: „Неужели”, — а потому мы снова вернемся в Баден и снова примемся за нить прерванного нами рассказа» (IV, 58). Так же художественно совершенны в «Дыме» и все его главы, непосредственно или косвенно связанные с развитием нового романа Литвинова и Ирины, — даже эпизоды, изображающие общество баденских генералов. Если сцены с участием губаревского кружка и политические сентенции, которые произносит в «Дыме» Потугин, никак органически не связаны с главной сюжетной линией романа, то генерал Ратмиров и окружающая его среда раскрывают социальное содержание того мира, ради пребывания в котором Ирина уже пожертвовала своей любовью к Литвинову и пожертвует ею еще раз. Какой бы политической остроты ни достигали тургеневские сарказмы в адрес петербургского высшего света, они еще не дают права оценивать «Дым» как роман тенденциозно-публицистический, не нарушают его художественного единства. Эту внутреннюю связь политических и сатирических и эпизодов в романе с трагической судьбой его главных героев особенно отчетливо раскрывает глава XV, в которой Ирина как бы демонстрирует Литвинову пошлое ничтожество окружающей ее светской среды: «Ну что? каковы? Особенно ясно слышался Литвинову этот безмолвный вопрос, как только кто-нибудь из присутствовавших произносил или совершал пошлость, а это случалось не однажды во время вечера. Раз даже она не выдержала и громко засмеялась» (IV, 104). «Великосветская» тема настойчивым лейтмотивом проходит по страницам всего романа. Уже в первой главе, в описании русских завсегдатаев баден-баденского курорта, Тургеневым показана «почти вся „fine fleur” нашего общества, „вся знать и люди-образцы”». И уже это первое в романе описание высшего света, при всей объективной точности его, пронизано чувством отвращения и презрения к тем «существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования», которые, «сойдясь и усевшись, решительно не знали, что сказать друг другу, и пробавлялись... дрянненьким переливанием из пустого в порожнее». Этот способ характеристики высшего круга русской придворной знати с помощью иронически уничижительного восхваления Тургенев сохраняет в своих портретных зарисовках отдельных его представителей. Граф X, «глубокая музыкальная натура», «в сущности двух нот разобрать не может». Барон Z — «и литератор, и администратор, и оратор, и шулер». Князь Y, «друг религии и народа», составил себе «в блаженную эпоху откупа громадное состояние продажей сивухи, подмешанной дурманом». P. P., который считает себя очень больным и очень умным человеком, «здоров как бык и глуп как пень». «Государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума» воображают, что 156 «английский „poor tax” (налог в пользу бедных, — Ред.) есть налог на «бедных» и т. д. и т. п. Гневный грибоедовский сарказм, гоголевская лукавая ирония и пушкинская объективная точность определений вошли в этот сплав тургеневских сатирических характеристик. Такой же насмешливой иронией окрашен и портрет графа Розенбаха, который приезжает к князю Осинину с предложением взять Ирину с собой в Петербург. Вся первая встреча Литвинова с Ириной за границей проходит на фоне сатирической зарисовки компании сослуживцев, знакомых и друзей ее мужа генерала Ратмирова. Характеристика «особ высшего общества», данная в первой главе суммарно, детализируется и углубляется в диалогах и поведении этих представителей, доводится Тургеневым до полной политической ясности. Потрясающая пошлость «дрянненького переливания из пустого в порожнее» сочетается здесь со звериной ненавистью генеральского круга к революционно-демократической интеллигенции, к социальному прогрессу, к народу, юридически раскрепощенному реформой. Даже Литвинов, молчаливо внимавший самым вздорным выходкам участников губаревского кружка, не выдерживает на этот раз и подает свою возмущенную реплику: « — Попытайтесь... попытайтесь отнять у него эту волю». Органическая связь политических сцен главы X с драматической коллизией всего романа хорошо раскрывает последующий мысленный монолог героя: «И в этот-то мир попала Ирина, его бывшая Ирина! В нем она вращалась, жила, царствовала, для него она пожертвовала собственным достоинством, лучшими чувствами сердца» (IV, 70). Духовную нищету и политическое мракобесие этого мира настойчиво живописует Тургенев и во многих последующих главах романа, где Ирина в разговоре с Литвиновым указывает на ничтожество окружающих ее людей, демонстрируя герою представителей своего великосветского «зверинца», и где Ратмиров, как человек «без нравственности», саморазоблачается в своей семейной жизни. Так любовная коллизия в «Дыме» тесно сливается с политической. В частной переписке Тургенев совершенно открыто называл в качестве прототипа своей героини имя действительной любовницы Александра II. Нанося в «Дыме» главный удар по лагерю реакции, Тургенев не пощадил самого царя, причастного к трагедии Ирины. Тургеневская героиня в прощальном письме к Литвинову сама признается:: «...видно, мне нет спасения; видно, яд слишком глубоко проник в меня; видно, нельзя безнаказанно в течение многих лет дышать этим воздухом!» (IV, 167). Трагизм положения Ирины заключается прежде всего в неустойчивом равновесии между добром и злом, между богатыми задатками натуры и психологией, порожденной социальной средой. Ни Наталья Ласунская, ни Лиза Калитина, ни Елена Стахова по самому свойству своих характеров не могли бы оказаться в положении Ирины. Варвара Павловна из «Дворянского гнезда» приняла бы такую судьбу как самое высшее для нее счастье, не колеблясь, не раскаиваясь, не терзаясь. Ирина же на всем протяжении романа мучительно тяготится своим положением, постоянно находится во власти безудержного желания решительно изменить его, но так и не решается на это. Это состояние душевной раздвоенности характеризует тургеневскую героиню и в сцене ее последнего прощания с Литвиновым: «Он вскочил в вагон и, обернувшись, указал Ирине на место возле себя. Она поняла его. Время еще не ушло. Один только шаг, одно движение, и умчались бы в неведомую даль две навсегда соединенные жизни... Пока она колебалась, раздался громкий свист, и поезд двинулся» (IV, 173). Не случайно и художественные детали, связанные в романе с образом Ирины, оттеняют противоречивое непостоянство, свойственное ее 157 характеру. Тургенев, например, почти текстуально повторяет в «Дыме» и жест, и слова Лизы Калитиной в сцене ее последнего прощания с Лаврецким. Для Лизы, с ее мировоззрением и характером, отказ Лаврецкому в просьбе «дать ему руку» вытекал из ее непоколебимого убеждения, что «это все надо забыть». Тот же отказ в сцене Ирины с Литвиновым Тургенев прямо объясняет тем, что «она боялась». Таким образом, один и тот же жест, сопровождаемый почти одинаковыми словами, говорит в «Дворянском гнезде» о моральной устойчивости Лизиного характера, а в «Дыме» о противоположных качествах героини. Непрестанно меняются в романе даже интонации в голосе героини, в зависимости от того, в каком состоянии или с кем она говорит: с мужем, с любовником, с Потугиным, с герцогиней и т. д. Духовный облик ее не случайно связан у Тургенева то с «неотвязным, сладким, тяжелым» запахом свежих гелиотропов, то с образом птицы, ежесекундно готовой улететь. Двойственность свободной, порывистой силы, запутавшейся в тенётах светских условностей, романист раскрывает и в прямой потугинской характеристике Ирины: «Испорчена до мозгу костей... но горда как бес!», и косвенно, с помощью образа, взятого из жизни природы: «залетевшая бабочка трепетала крыльями и билась между занавесом и окном». Из всех других женских характеров, созданных Тургеневым, Ирина Ратмирова имеет только одну родственную себе натуру — в лице той княжны Р. из «Отцов и детей», после смерти которой Павел Петрович Кирсанов получил подаренное им когда-то ей «кольцо с вырезанным на камне сфинксом». «Она провела по сфинксу крестообразную черту и велела ему сказать, что крест — вот разгадка» (III, 195). «Что гнездилось в этой душе — бог весть!», — писал Тургенев в «Отцах и детях», а в «Дыме» он ответил на этот вопрос, показав живую и страстную натуру, превращенную великосветской средой в сухой и «озлобленный ум». 3 Как и в других романах Тургенева, образ героини в «Дыме» помогает писателю осветить жизненную судьбу главного героя и дать ему оценку. Из дворянских персонажей Тургенева, играющих ведущую роль в его романах, Литвинов наделен наиболее устойчивым характером. Он, правда, колеблется в своем выборе между Ириной и Татьяной, но не нерешительность, а сила страсти заставляет его изменить невесте, несмотря на мучительное чувство своей тяжелой вины перед ней. Решающим испытанием для героя становится «тот роковой выбор», который предлагает ему сделать Ирина в своем последнем письме: «Оставить этот свет я не в силах, но и жить в нем без тебя не могу. Мы скоро вернемся в Петербург, приезжай туда, живи там, мы найдем тебе занятия, твои прошедшие труды не пропадут, мы найдем для них полезное применение... только живи в моей близости, только люби меня, какова я есть, со всеми моими слабостями и пороками, и знай, ничье сердце никогда не будет так нежно тебе предано, как сердце твоей Ирины» (IV, 167). Художник «Искры» выпустил в 1869 году в Петербурге иллюстрированный памфлет на роман «Дым», где Литвинов, получив приведенное выше письмо Ирины, рассуждает как завзятый альфонс: « — А что, черт возьми! — сказал он. — Ведь она правду пишет. Протекция сильная, хорошая протекция! Можно сначала пристроиться где-нибудь смотрителем гошпиталя или экономом, или там кастеляншею, что ли, потом поступить в какую-нибудь комиссию собрания или какой-нибудь комитет загребания. Чины, это, пойдут своим порядком, ордена, награды, аренды... 158 «И картины, одна другой привлекательнее стали рисоваться в его воображении».26 Но в том-то и дело, что Литвинов в романе Тургенева рассуждает совсем не так и памфлет своей карикатурной интерпретацией его мыслей лишь подчеркивает то действительное решение, которое принимает тургеневский герой по поводу предложенного ему любимой женщиной «рокового выбора». «Ты мне даешь пить из золотой чаши, — воскликнул он, но яд в твоем питье, и грязью осквернены твои белые крылья... Прочь! Оставаться здесь с тобой после того как я... прогнал, прогнал мою невесту... бесчестное, бесчестное дело!» (IV, 169). Чего стоило Литвинову это решение, Тургенев показывает в начале главы XXVI, где, сравнивая состояние своего героя с состоянием крестьянки, «потерявшей единственного, горячо любимого сына», говорит: «И Литвинов так же „закостенел”». Мертвящему миру аристократической верхушки Тургенев в лице своего героя противопоставил в романе «плебея» (сына «отставного служаки-чиновника из купеческого рода» и матери-дворянки). Не случайно, разлучив Литвинова с генеральшей Ратмировой, урожденной княжной Осининой, бывшей любовницей императора, романист приводит своего героя к отвергнутой им ради Ирины Тане Шестовой. Татьяна повторяет любимый тургеневский образ идеальной девушки из среднепоместного «дворянского гнезда», вроде Лизы Калитиной, только без ее религиозно-аскетической одержимости. Немного страниц отведено характеристике этого образа, и все же он оставляет впечатление удивительной духовной чистоты и той героической силы характера, которая сказывается в мужественном поведении Тани в горькие для нее минуты, когда она накануне предстоящей свадьбы с любимым человеком узнает, что оставлена им ради другой — замужней светской дамы. Внутренний смысл покаянного возвращения Литвинова к невесте раскрывает реплика Капитолины Марковны в заключительной главе романа: «Не мешай ему, Таня... видишь: повинную голову принес». Тургеневская характеристика этой воспитательницы Татьяны бросает свой косвенный отсвет и на духовный облик последней. «Капитолина Марковна Шестова, старая девица, пятидесяти пяти лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования и самоотвержения, esprit fort... и демократка, заклятая противница большого света и аристократии», не могла, разумеется, не передать воспитаннице и какую-то часть своих «вольнодумных» убеждений. Образ Потугина, которому автор в переписке с Писаревым и Герценом придавал исключительно важное значение, играет в общей композиции романа чрезвычайно противоречивую роль. Перипетии отношений Потугина с Ириной органически входят в художественное целое. «Страшная, темная история» Элизы Вельской, в которой принимает участие Потугин, усиливает сатирический намек Тургенева на аморальность царя и вместе с тем дополнительно раскрывает противоречивый духовный облик Ирины, которая, спасая свою предшественницу, самовластно распоряжается судьбой полюбившего ее чиновника. Потугин не разрывает художественную ткань произведения и там, где он выступает посредником Ирины в ее романе с Литвиновым. Но роль этого персонажа в качестве литвиновского Вергилия, проводящего героя через «адский круг», занимаемый в «Дыме» бесовским скопищем губаревского кружка, и назойливые политические поучения Потугина, обращенные к тому же Литвинову, не входят в художественную концепцию романа так же органически, 159 как входят в нее «великосветские» эпизоды произведения: они, употребляя выражение Д. И. Писарева, «пришиты к повести на живую нитку». «Дым» оказался художественно наиболее слабым именно там, где Тургенев революционно-демократической программе русского экономического развития противопоставил либеральнопотугинский идеал «цивилизации» европейского типа, осуществляемый в его предпоследнем романе реформистской практикой Григория Литвинова. Это не может, однако, зачеркнуть общего прогрессивного значения «Дыма», как произведения, в котором, по верному определению Д. И. Писарева, главная сила политического удара, нанесенного Тургеневым, «действительно падает направо, а не налево».27 «НОВЬ» 1 Замысел последнего романа Тургенева отделен от окончания «Дыма» тремя годами. Парижские рукописи И. С. Тургенева датируют замысел «Нови» 1870 годом; февралем 1872 года датированы еще две записи — «Формулярный список лиц новой повести» и «Краткий рассказ новой повести» («концепт»). Уже эти предварительные материалы, начиная с заметки 1870 года, раскрывают концепцию последнего тургеневского романа, законченного писателем в 1876 году и опубликованного в первых двух номерах «Вестника Европы» за 1877 год. Работа Тургенева над окончательным оформлением «Нови» не внесла существенных изменений в ее первоначальный замысел, дополнив последний лишь исторической конкретизацией в романе событий русской общественной жизни последующих лет. Приурочив действие романа к 1868 году, Тургенев внес в него и материалы нечаевского процесса 1871 года, и эпизоды «хождения в народ», принявшего массовый характер лишь с 1874 года. Так, характеризуя Маркелова, Тургенев записывает: «Совершенно удобная и готовая почва для Нечаевых и К°...»;28 в отношении же Машуриной он прямо замечает: «Нечаев делает из нее своего агента».29 Сам Нечаев, хотя он и не появляется лично среди действующих лиц «Нови», угадывается в ней в образе загадочного Василия Николаевича. Социальный состав народнических персонажей, действующих в романе, соответствует демократической природе революционных народников 70-х годов. Плебейское происхождение семинариста Остродумова и «повивальной бабки» Машуриной отчетливо сказывается в самом облике и манерах обоих. «Медленно покачивая грузное, неуклюжее тело», Остродумов при первом же своем появлении в романе «ввалился» в комнату Нежданова, «сплюнул в сторону», «пробурчал». У Машуриной «довольно грубоватый... голос», волосы, «небрежно скрученные сзади в небольшую косу» и «широкая красная рука». «В этих неряшливых фигурах, с крупными губами, зубами, носами (Остродумов к тому же еще был ряб), сказывалось, — как подчеркивает сам Тургенев, — что-то честное и стойкое, и трудолюбивое» (IV, 191—193). Тургеневские характеристики народников раскрывают и вторую существенную их особенность: горячую веру в ближайшую победу их 160 социалистических идеалов. Маркелов «объяснил Нежданову, что Остродумов и Машурина присланы по „общему делу”, которое теперь скоро должно осуществиться». «Сверкая глазами, кусая усы, он начал говорить взволнованным, глухим, но отчетливым голосом о совершаемых безобразиях, о необходимости безотлагательного действия, о том, что в сущности все готово» (IV, 258). Таким же убеждением в «безотлагательной» неизбежности революции проникнута и Машурина: «Но как приступить, к чему — да еще безотлагательно? У Машуриной нечего было спрашивать: она не ведала колебаний» (IV, 262). Не ведает, подобно ей, колебаний и Остродумов, а Кисляков в присланном им товарищам письме «сам удивляется тому, как это он, двадцатидвухлетний юноша, уже решил все вопросы жизни и науки — и что он перевернет Россию, даже „встряхнет” ее!» (IV, 296). Даже Марианна, молодая девушка, едва прикоснувшаяся через посредство Нежданова к идее народной революции, тоже «не ведала колебаний»: «Жажда деятельности, жертвы, жертвы немедленной — вот чем она томилась» (IV, 286). Маркелов «ждет только известия от Василья Николаевича, — и тогда останется одно: немедленно „приступить”...» (IV, 265). Даже выданный тем самым Еремеем, который для него «был как бы олицетворением русского народа», Маркелов винит в неудаче восстания не крестьян, а только самого себя: «Нет! нет! — шептал он про себя... то все правда, все... а это я виноват, я не сумел; не то я сказал, не так принялся!» (IV, 448). Не ведает, подобно Маркелову, сомнения в осуществимости и правоте своего дела также и Машурина, продолжающая это дело после гибели и ареста всех остальных. Тургенев не верил в возможность победы буржуазно-демократической революции в России, он сам разъяснял, что в эпиграфе к роману «Новь» под плугом, глубоко поднимающим новь, имел в виду не «революцию, а просвещение».30 Но в отличие от романистов из лагеря реакционера Каткова, изображавших революционно-демократическую молодежь «в образе зверином» (Б. Маркевич), Тургенев, по его собственному признанию, создавая «Новь», хотел «взять молодых людей, большей частью хороших и честных».31 Уже в «Формулярном списке» он выделял именно те черты, которые определяют его героев как людей «хороших и честных». Так, Маркелов «глубоко оскорблен» не только за себя, но и за всех угнетенных, а потому постоянно готов на дело; Марианну характеризуют «энергия, упорство, трудолюбие... бесповоротность и способность увлекаться страстно»; Остродумов — «усердный и честный»; Машурина «способна на всякое самоотвержение».32 Тургенев сумел подняться в «Нови» и до верного понимания того факта, что вовсе не диктаторская воля Нечаева или Бакунина определяла деятельность русской народнической молодежи, а глубокая и страстная любовь к трудовым народным массам, толкавшая на революционную борьбу этих «хороших и честных» людей, «постоянно оскорбляемых за себя, за всех угнетенных». Великолепным свидетельством этого понимания является завершающий весь роман диалог Машуриной и Паклина. Отвечая на вопрос последнего: «вы все по приказанию Василия Николаевича действуете... или вами распоряжается безымянный какой?» — Машурина говорит: « — А может быть, и безымянный! «Она захлопнула дверь. «Паклин долго стоял неподвижный перед этой закрытой дверью. « — „Безымянная Русь!”— сказал он, наконец» (IV, 477). 161 Этой «безымянной Русью» был тот угнетенный народ, о котором с такою горечью говорит во второй главе романа Нежданов: «Пол-России с голода помирает... везде шпионство, притеснения, доносы, ложь и фальшь — шагу нам ступить некуда...» (IV, 199). Народник С. Н. Кривенко в своих литературных воспоминаниях 1890 года писал: «Я... ни на одну минуту не ставил „Нови” на одну доску с „Бесами” Достоевского, как некоторые делали. Там я видел озлобление, прежде всего и больше всего озлобление, а тут находил нечто примиряющее, нечто происходящее совсем из иного источника: порою недоразумение и недостаточное знакомство с молодежью (а не предумышленность), порою скорбь и досаду (а не нетерпимость и злобу), а порою несомненно и добрые стремления и желания, словом нечто от доброты. Все это как-то само собой чувствовалось между строк».33 Можно, разумеется, отвести положительное свидетельство С. Н. Кривенко в пользу «Нови» ссылкой на тот факт, что такие современники Тургенева, как М. Е. Салтыков-Щедрин или Г. А. Лопатин, резко осудили писателя именно за изображение в романе деятельности революционных народников. Существует, однако, и такой коллективный документ, как прокламация «Народной воли», выпущенная 27 сентября 1883 года в связи со смертью И. С. Тургенева. В этой прокламации образы Нежданова и Маркелова из романа «Новь» поставлены в один ряд с лучшими образами всей тургеневской романистики, как «выхваченные из жизни... типы, которым подражала молодежь и которые сами создавали жизнь».34 Тот же самый Г. А. Лопатин, который так резко критиковал «Новь» при первом ее появлении, позже, в беседе, записанной С. П. ПетрашкевичСтрумилиной, говорил о Тургеневе так: «Он был в лучшем смысле этого слова либерал. Ну, радикал. Он приветствовал каждую попытку выступления против старого строя».35 Какие бы негативные черты ни вносил Тургенев в образы революционных народников в своем последнем романе и как бы ни утверждал в авторском комментарии к нему, что «самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фиаско»,36 «Новью», говоря словами Лопатина, он приветствовал их «попытку выступления против старого строя». 2 П. В. Анненков, М. М. Стасюлевич, С. Н. Кривенко, П. Лавров, П. Кропоткин и Якубович-Мельшин, будучи представителями различных политических лагерей, тем не менее одинаково высоко оценили художественные достоинства последнего тургеневского романа, поставив созданные писателем образы Нежданова, Марианны и Маркелова в ряд с героическими характерами предыдущих романов Тургенева. П. В. Анненков 7/19 марта 1877 года писал из Баден-Бадена М. М. Стасюлевичу, имея в виду только что опубликованную «Новь»: «Читаем мы здесь процесс наших пропагандистов и не можем не изумляться тому, что Тургенев угадал заранее их ходы и приемы. Вот уж подлинно vates — так, кажется, звали пророков по-латыни».37 Однако М. Е. Салтыков-Щедрин, А. А. Фет, Л. Н. Толстой и Г. А.Лопатин, т. е. люди также различных политических убеждений, отрицательно 162 отозвались о последнем романе Тургенева. 17 февраля 1877 года Щедрин писал о «Нови» П. В. Анненкову: «Никакого признака тургеневской кисти тут нет, т. е. даже в архитектуре романа... с внутренней стороны это вещь еще более слабая. Лица консервативной партии (Сипягин, Калломейцев) описаны с язвительностью, напоминающей куаферское остроумие... Что же касается до так называемых „новых людей”, то описание их таково, что хочется сказать автору: старый болтунище! ужели даже седые волосы не могут обуздать твоего лганья!».38 Л. Н.Толстой 11—12 марта того же года писал А. А. Фету: «„Новь” я прочел первую часть и вторую перелистывал. Не мог прочесть от скуки. В конце он заставляет говорить Паклина, что несчастье России в особенности в том, что все здоровые люди дурны, а хорошие люди нездоровы. В этом и мое и его собственное суждение о романе. Автор нездоров и его сочувствия с нездоровыми людьми, и здоровым он не сочувствует...».39 Так же разноречиво в оценке «Нови» и советское литературоведение. М. Клеман в своей монографии «И. С. Тургенев» (1936) пришел к выводу, что народническое движение в последнем романе писателя полностью искажено. Г. Макогоненко, наоборот, увидел в романе чуть ли не марксистское освещение политической ситуации в России 70-х годов,40 а Л. В. Пумпянский в историколитературном очерке о романе «Новь» писал, что «для понимания революционного движения 60-х г[одов] она дает гораздо меньше, чем „Бесы”».41 В отличие от Щедрина, который, отрицая преемственность «Нови» по отношению к предшествующим романам Тургенева, объяснял художественную, по его мнению, слабость этого романа искажением в нем истинного характера революционного движения в России тех лет, Л. В. Пумпянский объясняет это искажение исторической правды тем, что, создавая «Новь», «Тургенев был связан им же когда-то созданным типом романа о герое». Г. А. Бялый в статье «От „Дыма” к „Нови”» дает третье решение того же вопроса: «„Новь” ближе к старому типу романа Тургенева, чем „Дым”», она «как бы возвращается к истокам, к „Рудину”, который тоже был романом о неудачнике, о „ненастоящем” герое, о деятеле, лишенном исторической перспективы».42 Однако в отличие от Пумпянского Г. А. Бялый не считает роман «Новь» ни слабым в художественном отношении, ни искажающим реальную картину современной писателю политической эпохи. Особую трактовку художественной архитектоники «Нови» предложил А. Г. Цейтлин. Называя Тургенева «убежденным приверженцем романа с одноплановым сюжетом», он, однако, заявляет: «По своей композиции „Новь” не столько продолжение старых тургеневских традиций, но и поиски новой формы уже не только общественно-психологического, но и социально-политического романа».43 Именно поиски новой формы в «Дыме» и «Нови», по мнению А. Г. Цейтлина, привели к ослаблению их художественной цельности и силы. «Сильно развитые в этих романах 163 сатирические элементы, — пишет он, вступают в борьбу с лиризмом и оттесняют его на задний план. Потому-то оба эти последних романа слабее его 44 предшествующих созданий». Любая из приведенных выше характеристик «Нови» содержит в себе известную долю истины, однако ни одна из них не соответствует подлинным особенностям последнего тургеневского романа в целом, сложная противоречивость которого не укладывается ни в одну из предложенных концепций. А. Г. Цейтлин, например, противопоставляет «Новь» «Рудину», утверждая, что «жизненная драма... Нежданова и Марианны не так глубока, в ней почти нет элементов трагичности, присущих жизненной драме Рудина».45 Неправомерность подобного утверждения подтверждается не только всей судьбой Нежданова в романе, но и прямой записью самого Тургенева в «Формулярном списке лиц новой повести», датированной февралем 1872 года: «Натура трагическая — и трагическая судьба». Причиной, предопределяющей неизбежность сближения Марианны с Неждановым, автор «Формулярного списка» считал именно «привлекательность всего трагического, а с Неждановым она пережила страшно трагические дни». Раскрывая уже в цервой относящейся к «Нови» записи, датированной 17/29 июля 1870 года, замысел своего будущего романа, И. С. Тургенев писал: «Мелькнула мысль нового романа. Вот она: есть романтики реализма. Они тоскуют о реальном и стремятся к нему, как прежние романтики к идеалу... Они несчастные, исковерканные — и мучатся сами этой исковерканностью — как вещью, совсем к их делу не подходящей... Между тем их явление, возможное в одной России, что все еще носит характер пропедевтический, воспитательный, — полезно и необходимо: они своего рода пророки, проповедники... Пророчество—болезнь—голод, жажда; здоровый человек не может быть пророком и даже проповедником. Оттого я и в Базарова внес частицу этого 46 романтизма...». Замысел этот, действительно, нашел свое художественное воплощение в «Нови», которая, как и все другие романы Тургенева, носит характер монографический, являясь «романом о герое» (Л. В. Пумпянский). Сюжетная коллизия и этого последнего романа определяется характером его главного героя. Уже внешний портрет Нежданова, эскизно нарисованный автором во второй главе первой части романа, выделяет героя из общего круга других народников. В отличие от их неприглядных лиц, неряшливых фигур и плебейских манер у него красивое белое лицо, изобличающее аристократическую «породу». «Благородный» гонор Нежданова раскрывается уже в манере, с которой герой бросает кассиру три рублевых ассигнации (последние деньги, которые были при нем), чтобы не уступить театральный билет первого ряда «господину офицеру» (IV, 205). С другой стороны, плебейское самолюбие этого незаконного сына родовитого князя сказывается, в «писаревской» ненависти героя к «эстетике», в его стихотворных подражаниях мотивам гражданской лирики Добролюбова, в озлобленном презрении к барскому тону, царящему в семействе Сипягиных, в яростной ненависти к реакционным убеждениям Калломейцева. Такое противоречивое смешение плебейских и аристократических черт в характере Нежданова дает Паклину основание назвать его «Гамлетом российским». Этим объясняется и его трагическая судьба. В ряды революционных борцов, судя по всему, Нежданова привело не столько сочувствие угнетенным народным массам, сколько личная обида за свою 164 неудачную судьбу. По характерному признанию самого автора, у его героя «темперамент уединеннореволюционный». Недаром и выглядит Нежданов чужеродной фигурой как среди своих товарищей по революционной организации, так и в кругу аристократов Сипягиных. Этим отсутствием под ногами Нежданова устойчивой социальной почвы, породившей «убежденнейших» и бесстрашных революционных борцов, вроде Остродумова и Машуриной, объясняется в последнем романе Тургенева и то внутреннее сомнение героя в реальности революционного «дела», которое приводит в конце концов Нежданова к самоубийству. Это внутреннее сомнение обнаружилось при первом же появлении героя на страницах романа, когда автор подмечает, что лицо Нежданова, заставшего у себя в комнате товарищей по революционному кружку, «выражало неудовольствие и досаду» (IV, 198). Сообщив Паклину, что он едет к Сипягину «на кондицию», Нежданов говорит: «...чтобы зубов не положить на полку... „И чтоб от вас всех на время удалиться”, — прибавил он про себя» (IV, 213). В письме же, отправленном уже из поместья Сипягиных, Нежданов недвусмысленно сообщает своему интимному другу Силину: «...сплю крепко, гуляю всласть по прекрасным окрестностям — а главное: вышел на время из-под опеки петербургских друзей» (IV, 244). «Как же это вы так!» —говорит Маркелов, упрекая Нежданова в бездеятельности в «общем деле», «которое теперь скоро должно осуществиться» (IV, 258). Слушая речь Маркелова «о необходимости безотлагательного действия», Нежданов «сперва... пытался возражать», но потом, взвинтивши себя, «он с каким-то отчаянием, чуть не со слезами ярости на глазах, с прорывавшимся криком в голосе принялся говорить в том же духе, как и Маркелов, пошел даже дальше, чем тот» (IV, 259). А позже, написав полное пессимизма стихотворение, Нежданов с недоумением спрашивает сам себя: «Этот скептицизм, это равнодушие, это легкомысленное безверие — как согласовалось все это с его принципами? с тем, что он говорил у Маркелова?» (IV, 267). Так, определяя общее звучание «Нош», лейтмотивом проходит через весь роман тема мучительных колебаний Нежданова: то отчаянная потребность «безотлагательных действий», то такое же отчаянное безверие, усталое равнодушие и скептицизм. А ведь это трагическое противоречие, составляющее жизненную драму Нежданова и главную особенность его характера, было свойственно также и Рудину, герою первого тургеневского романа. Даже интимные отношения Нежданова с Марианной напоминают отношения Рудина с Натальей Ласунской: оба они, завоевав сначала любовь этих героинь, наделенных потребностью «деятельного добра», теряют их доверие, когда те убеждаются, что «прекраснодушные слава» героев находятся в непримиримом противоречии с их неспособностью к активному действию. Использует Тургенев в «Нови» и многие другие составные компоненты художественной структуры того типа романа, который был им создан еще в «Рудине». Известно, например, какую исключительную роль играл в поэтике уже первого тургеневского романа пейзаж, являющийся художественным средством раскрытия автором определенного психологического состояния его героев. В «Дворянском гнезде» пейзаж как бы «аккомпанирует» малейшим оттенкам в переживаниях Лаврецкого, постепенному развитию его чувства к Лизе. В «Накануне» Тургенев устами Шубина прямо мотивирует нерасторжимую связь явлений природы с миром человеческих эмоций. Даже Базаров, иронически обрывающий в «Отцах и детях» риторические рассуждения Аркадия о красоте среднерусского пейзажа, сам в сцене ночного объяснения с Одинцовой испытывает неодолимое воздействие волнующей летней ночи. Дыхание природы проникает даже в настроения героев «Дыма», действие 165 которого протекает преимущественно в номерах баден-баденских отелей. Большое значение имеет пейзаж и в художественной системе «Нови». Подавленное состояние Нежданова перед его отъездом из Петербурга в деревню оттеняет эскизная зарисовка одного из дворовых уголков северной столицы: «Нежданов остался один... Он продолжал глядеть через стекло окна на сумрачный узкий двор, куда не западали лучи даже летнего солнца, и сумрачно было и его лицо» (IV, 214). Сцене, в которой возникает чувство первой симпатии между Неждановым и Марианной, непосредственно предшествует описание сипягинского сада, своею «красою весеннего расцветания» просветляющего сумрачные настроения Нежданова. Поэзия любви, воедино слитая с поэзией природы, насыщает лучшие страницы первой части романа, которая и завершается гармоническим аккордом: «Они пошли вместе домой, задумчивые, счастливые; молодая трава ластилась под их ногами, молодая листва шумела кругом; пятна света и тени побежали, проворно скользя по их одежде, — и оба они улыбались и тревожной их игре, и веселым ударам ветра, и свежему блистанью листьев, и собственной молодости, и друг другу» (IV, 343). Мрачный пейзаж чахлого фабричного дворика выразительно оттеняет драматическую сцену самоубийства Нежданова, над которым в эту минуту нависло «низкое, серое, безучастно-слепое и мокрое небо», да обнаженные сучья старой яблони «искривленно поднимались кверху, наподобие старческих, умоляющих, в локтях согбенных рук» (IV, 462). Даже Л. Н. Толстой, отрицательно оценивший «Новь» после ее появления в печати, именно по поводу этого романа писал о Тургеневе: «...в чем он мастер такой, что руки отнимаются после него касаться этого предмета, — это природа. Две, три черты и пахнет»;47 «ничего лучшего ни в одной литературе не знаю».48 Значительно меньшее вместо по сравнению с предыдущими романами Тургенева занимает в «Нови» музыка. Она играет здесь иную роль, являясь средством косвенной характеристики душевного состояния героев. Сцена игры Марианны на фортепиано в присутствии Сипягиных, Калломейцева и Нежданова явно демонстрирует отношение главных героев романа к музыке как забаве: «Марианна села за фортепиано и сыграла, ни хорошо ни худо, несколько „песен без слов” Мендельсона... да и Нежданов, несмотря на надежду, выраженную Сипягиным, никакого пристрастия к музыке не имел» (IV, 237). Зато не менее широко, чем в ранних романах, пользуется Тургенев в «Нови» «характеристической деталью», значение которой он так убедительно обосновал в своей переписке с друзьями и которую так широко применял еще в своих первых романах. Роль подобной детали играет в шестой главе «Нови» ручной попугайчик, который с такой любовью тянется к Марианне и с такой антипатией относится к Сипягиной. Деталью, раскрывающей скрытый от посторонних подлинный характер взаимоотношений Марианны с Сипягиной, являются в восьмой главе романа брови героини, которые «нервически подергиваются, когда она говорит с своей патроншей» (IV, 245). Подобно «светлой и сладкой» улыбке Паншина («Дворянское гнездо»), лицемерно-доброжелательный характер Сипягиной хорошо раскрывает в «Нови» та «особенная, ласковая светлость взгляда, которая словно по команде приливала к ее чудесным глазам» (IV, 248). Социальную чуждость этой светской барыни деревенским мужикам выразительно демонстрирует такая художественная 166 деталь: Сипягина «в церкви, во время обедни, молилась по крошечной книжечке, переплетенной в малиновый бархат; книжечка эта смущала иных стариков; один из них не воздержался и спросил у своего соседа: „Что это она, прости господи, колдует, что ли?”» (IV, 241). С другой стороны, для характеристики Марианны Тургенев привлекает художественную деталь, солнечно озарившую образ его самоотверженной героини: «Солнечный свет, перехваченный частой сеткой ветвей, лежал у ней на лбу золотым косым пятном — и этот огненный язык шел к возбужденному выражению всего ее лица, к широко раскрытым, неподвижным и блестящим глазам, к горячему звуку ее голоса» (IV, 275). Можно было бы привести из «Нови» также большое количество примеров той «тайной психологии», мастером которой показал себя Тургенев еще в «Рудине». Ограничимся одним: «Нежданов продолжал сидеть на стуле; Марианна стояла перед ним. Его руки лежали вокруг ее стана; ее руки опирались об его плечи. „Да; нет, — думал Нежданов, — а между тем, бывало, прежде — когда мне случалось держать ее в своих объятьях — вот так, как теперь, — ее тело оставалось по крайней мере неподвижным; а теперь я чувствую: оно тихо и — быть может против ее воли — бежит от меня прочь!”. «Он разжал свои руки... И точно: Марианна чуть заметно отодвинулась назад» (IV, 430—431). В приведенной сцене Тургенев изобразил только внешний факт, но какое глубокое психологическое содержание скрывает за собою этот факт: Марианна, разгадавшая разочарование своего избранника в революции, бежит от него прочь! Не меньшую, чем в других романах Тургенева, роль играет в «Нови» и «лирический комментарий» автора. Так, описав воздействие на Нежданова окружающего его пейзажа сипягинской усадьбы, Тургенев замечает: «...он отдавался весь тому особенному весеннему ощущению, к которому — и в молодом и в старом сердце — всегда примешивается грусть... взволнованная грусть ожидания — в молодом, неподвижная грусть сожаления — в старом» (IV, 246—247). Иногда подобный авторский лиризм проявляется в «Нови» в форме косвенной речи, передающей переживания героев: «Его окружало какое-то облако; полутусклой завесой стояло оно между ним и остальным миром — и, странное дело! — сквозь эту завесу виднелись ему только три лица — и все три женских — и все три упорно устремляли на него свои глаза. Это были: Сипягина, Машурина и Марианна. Что это значило? И почему именно эти три лица? Что между ними общего? И что хотят они от него?» (IV, 266). Применяет Тургенев в «Нови» и обычную для него форму самохарактеристики героя (сравни, например, предсмертное письмо Нежданова с прощальным письмом Рудина к Наталье Ласунской). Немало общего с предшествующими романами можно обнаружить в «Нови» и в отношении тургеневского метода построения диалогов и монологов, так же как и в характере их композиционной связи с повествовательными, эпистолярными и лирическими частями произведения. Анализ «Нови» показывает, таким образом, что этот последний роман Тургенева в его основных компонентах не расходится с тем тургеневским типом романа, который был создан писателем еще в 50-х годах. 3 Было бы, однако, ошибкой утверждать, что «архитектура» тургеневской романистики оставалась в «Нови» совершенно той же самой, что и в первом романе Тургенева. В «Рудине» монографический принцип, прокламированный уже самым названием произведения, выдержан был 167 с такою последовательностью, какая не встретится ни в одном из последующих романов Тургенева. Рудин, действительно, единственный и бесспорный герой первого тургеневского романа. Там, где Рудин не выступает и не действует сам, о нем говорят, спорят, рассказывают другие персонажи романа. Даже Наталья Ласунская интересует Тургенева только в связи с ее отношением к Рудину: говоря о ее судьбе после разрыва с последним, автор ограничивается лишь беглым замечанием о свадьбе героини с Волынцевым, так же как он это делает в отношении Лежнева и Липиной. Обстановка сюжетного действия в «Рудине» ограничена двумя помещичьими усадьбами (Ласунской и Лежнева) с небольшим числом их обитателей и гостей (Ласунские, Лежнев, Волынцев, Липина, Пигасов, Пандалевский, Басистов и m-lle Boncourt). Можно подумать, что вся дворня богатой помещицы Ласунской состоит лишь из того лакея, который докладывает барыне о приезде Рудина. Экономическая основа социальных взаимоотношений в тогдашней русской деревне вообще не раскрыта в первом романе Тургенева. Читатель лишь узнает из него, что Ласунская, несмотря на наличие в ее усадьбе расторопного управляющего, сама распоряжается делами своего поместья, что Лежнев — хороший хозяин, а Пигасов — кулак и ростовщик. Крепостное крестьянство представлено в романе стариком с его больной старухой, которую навещает сердобольная помещица Липина, да деревенской девкой, с которой неудачно заигрывает Пандалевский. Совершенно отсутствует крестьянская тема и в тех разговорах, которые ведут между собою персонажи романа, написанного автором «Записок охотника», прекрасно знавшим положение крепостного крестьянства в тогдашней России. Даже общественная среда, сформировавшая духовный мир самого Рудина, представлена в первом романе Тургенева лишь в беглых характеристиках Лежнева, рассказывающего Липиной о студенческой молодости героя. Избранный Тургеневым объект художественного воспроизведения предопределял и самую архитектонику его первого романа, сосредоточенного на изображении идеалиста, погруженного в абстрактный мир философских идей и вступающего в неразрешимый драматический конфликт с окружающей его реальной действительностью. Где-то рядом, за границами романа, своей трудной человеческой жизнью живут закабаленные крепостническим строем крестьяне Ласунской, Лежнева, Волынцева, Липиной и Пигасова, но в самом романе почти нет и признака этой жизни, в нем царят лишь ученая атмосфера возвышенных философских споров, светлая поэзия музыки, поэзия любви, да красота окружающей дворянскую усадьбу облагороженной благоухающей летней природы. В «Дворянском гнезде» Тургенев, наряду с экономической и моральной деградацией целых дворянских родов (Лаврецких, Пестовых, Калитиных, Коробьиных, Кубенских), раскрывает трагическую судьбу двух крепостных крестьянок — Маланьи и Агафьи, выводит образы ряда других крестьян, провинциальных и столичных чиновников (Гедеоновский и Паншин), разночинцев (Михалевич), иностранцев (Лемм, Эрнест, m-r Courtin и Луиза). Романист широко использует политический диалог (между Лаврецким и Паншиным, Лаврецким и Михалевичем, отцом и дедом героя), элементы социально-политической сатиры (образы Гедеоновского, Паншина, княжны Кубенской, французского аббата, генерала Коробьина, Варвары Павловны, ее любовника-француза) и многое другое. Не ограничиваясь политической и любовной сферой, Тургенев в «Накануне» сумел дать глубокий социальный анализ жизни московской дворянской семьи, семьи «отставного гвардии поручика Стахова», ввел в роман университетского ученого Берсенева, скульптора Шубина, 168 обер-секретаря сената Курнатовского, «русскую немочку» Зою Николаевну Мюллер, содержанку Николая Артемьевича — вдову немецкого происхождения Августину Христиановну, компанию московских немцев, отставного прокурора, доктора, портного, нищих, дворню, болгар. Место действия, ограниченное в «Рудине» смежными усадьбами Ласунской и Лежнева да гостиницей города С..., охватывает в «Накануне» Кунцево, Царицыно, московский дом Стаховых, московскую квартиру Инсарова и Венецию. Самое же главное изменение архитектоники третьего тургеневского романа заключалось в том, что образ героя не играет в нем такой организующей роли, как в «Рудине» и «Дворянском гнезде», уступая зачастую свое центральное место героине. На страницах «Отцов и детей» читатель встречается с разночинцем Евгением Базаровым, с «мягеньким баричем» Аркадием Кирсановым, с его отцом, «красным» помещиком, Николаем Петровичем, с аристократическим Павлом Петровичем, с мачехой Аркадия Феничкой, дочерью простой экономки, с состоятельной барыней, помещицей Одинцовой, с мелкопоместной дворянкой Ариной Власьевной и ее мужем отставным штаб-лекарем Базаровым, с нигилистом — сыном откупщика Ситниковым, с помещицей-ростовщицей Кукшиной, с чиновным кругом губернского города, с дворовыми людьми в имении Кирсановых, с мужиками Арины Власьевны. Еще богаче и шире охват русской социальной среды в «Дыме». Здесь и обедневшая семья родовитых московских князей Осининых, и придворная знать во главе с самим Александром II, и компания русских реакционных генералов, друзей «либерального» генерала Ратмирова, и «плебействующий» помещик Литвинов, и идеолог крайнего западничества, отставной петербургский чиновник из семинаристов Потугин, и пестрая толпа иностранных гостей баден-баденского курорта, и гейдельбергские политические эмигранты герценовского направления, и многие другие. Сохраняя в основном поэтику, сложившуюся еще в «Рудине», Тургенев постепенно эволюционировал от жанра социально-психологического романа к роману политическому («Дым» и «Новь»). Однако параллельно этому процессу происходило ослабление социальнополитической значимости главного героя, в силу чего последний роман Тургенева приобретает значительно менее монографический характер, нежели первый. 4 Раскрывая идейно-политический замысел своего последнего романа, И. С. Тургенев сделал в разное время несколько многозначительных признаний. В письме к А. П. Философовой от 11 сентября 1874 года он заметил: «Времена переменились; теперь Базаровы не нужны... нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже низменной работы... Мы вступаем в эпоху только полезных людей... и это будут лучшие люди. Их, вероятно, будет много; красивых, пленительных — очень мало» (XII, 465—466). 3 января 1877 года автор «Нови» разъяснял М. М. Стасюлевичу, что хотел в своем последнем романе «взять молодых людей, большей частью хороших и честных — и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фиаско».49 А за 7 лет до этого, формулируя первую «мысль нового романа», Тургенев писал: «В противуположность этому («романтику реализма» Нежданову, — Ред.)... надо поставить настоящего практика на американский лад... У него своя религия — 169 торжество низшего класса, в котором он хочет участвовать.— Русский 50 революционер». Несмотря на существенную оговорку о «ненужности» героических натур «теперь», т: е. в 70-х годах, Тургенев, согласно его собственному признанию, заключенному в письме к М. М. Стасюлевичу от 2 января 1880 года, «всегда был... „постепеновцем”, либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, — принципиальным противником 51 революций». И это политическое убеждение сказывалось так или иначе во всех его романах. Но вместе с реформистским взглядом на характер общественного процесса Тургеневу были свойственны постоянный интерес и сочувствие к натурам, проявляющим высокую общественную активность, хотя он и желал видеть в них реформаторовпросветителей, а не революционеров. Взгляды Тургенева на современный ему русский общественный процесс и на роль деятельных натур нашли свое преломление в отношении романиста к его трагическим героям, выраженном зачастую устами его «процветающих» персонажей. Не кто иной, как благоразумный и прозаический Лежнев, говорит в первом романе писателя о Рудине: «В нем есть энтузиазм... мы заснули, мы застыли, и спасибо тому, кто хоть на миг нас расшевелит и согреет! Пора!» (II, 117— 118). Легкомысленный Шубин с неожиданной для него серьезностью, восхищением и скрытою завистью замечает в разговоре с Уваром Ивановичем по поводу Инсарова и Елены: «Да, молодое, славное, смелое дело. Смерть, жизнь, борьба, падение, торжество, любовь, свобода, родина... Хорошо, хорошо. Дай бог всякому! Это не то, что сидеть по горло в болоте да стараться показывать вид, что тебе все равно, когда тебе действительно в сущности все равно. А там — натянуты струны, звени на весь мир или порвись!» (III, 138). Именно либеральный «барич» Аркадий говорит Василию Ивановичу Базарову: «Ваш сын — один из самых замечательных людей, с которыми я когдалибо встречался» (III, 288). Тургенев был искренним как в своем органическом неверии в самую возможность победы русской буржуазно-демократической революции, так и в своем преклонении перед героическими характерами конкретных носителей этой революционности — от Елены Стаховой и Евгения Базарова до Марианны, Маркелова, Остродумова и Машуриной. Приведя большую часть своих героев к неизбежной, как ему казалось, гибели, писатель тем не менее оправдал их перед судом истории именно как героев. Даже Нежданова автор «Нови», объективно говоря, осудил и покарал в романе не столько за его революционную деятельность, сколько за то, что он «двух станов не боец», а следовательно, и не нужен людям. В «Нови» Тургенев взял актуальную для 70-х годов общественно-политическую проблему и, несмотря на идеализацию соломинской реформистской программы экономического развития России, отдал революционным народникам искреннюю дань уважения за бескорыстную их любовь к трудовому народу. Общественное, а вместе с тем и художественное значение тургеневских романов. было прямо пропорционально большей или меньшей типичности их героев для русской общественной жизни второй половины XIX столетия. Рудин, например, явился типическим обобщением характера передовой дворянской интеллигенции 40-х годов, художественным образом, созданным писателем в ту эпоху, когда эти люди уже исчерпали свое прогрессивное значение в русском освободительном движении и 170 сходили с исторической арены, чтобы уступить на ней ведущую роль разночинцам Басистовым. Характер Федора Лаврецкого, героя «Дворянского гнезда», был достаточно типичным для представителя той поместно-дворянской культуры, лучшие носители которой в 50-х годах не умели устроить сколько-нибудь удовлетворительно ни своей личной судьбы, ни судьбы зависимых от них масс крепостного крестьянства. Инсаров и Елена Стахова стали типическими выразителями той потребности передовых общественных сил в «сознательно-героических натурах», которая возникла в русском обществе «накануне» новой пореформенной эпохи. Базаров при всех сказавшихся отрицательно на его образе следах полемики Тургенева с «Современником» был и остается до сих пор одним из наиболее ярких художественных воплощений характера демократаразночинца 60-х годов. Иначе обстоит дело с «Новью». Образ Нежданова типичен сам по себе, как определенный социальный характер русской общественной жизни, но в освободительном движении 70-х годов он не являлся и не мог являться центральной фигурой, определяющей политическое содержание революционного народничества. Н. Утин, организатор Русской секции Международного общества рабочих, в одной из статей «Народного дела» нарисовал обобщенный портрет представителя Русской секции Альянса социалистической демократии, — портрет, очень напоминающий главными чертами своего характера тургеневского героя. «Хочу быть революционером, — говорит о себе в статье Утина сторонник бакунинсконечаевской политической программы, — но не теоретиком, не доктринером, а практиком! Давайте мне дела, дела! Скорее, а то жар остынет! Скажите: что делать? но делать сейчас, и нельзя ли без приготовлений, без труда!».52 Пламенные речи Нежданова, пронизанные тем же бакунинским призывом к «безотлагательному действию», с последующим ощущением «духовной усталости», вызванной чувством разочарования в реальных возможностях немедленной победы русской революции, — все это показывает, что Тургенев был довольно близок к верному пониманию сторонников нечаевской политической программы в России на рубеже 60— 70-х годов. Не противоречат этому толкованию и другие обстоятельства в последнем романе Тургенева, перечисленные в монографии М. К. Клемана: «...обрисованные в романе пропагандисты либо не верят в успех и целесообразность своей деятельности (Нежданов), либо весьма ограничены и являются послушными пешками в руках таинственного, оставленного за кулисами „Василия Николаевича” (Остродумов, Машурина, Маркелов), либо уж ничего общего с народническим движением не имеют и примкнули к нему по совершенно случайным обстоятельствам (Кисляков, Голушкин, Паклин).53 В нечаевском «Катехизисе революционера» имеется специальный параграф, рекомендующий революционной организации в России привлечение и использование в своих интересах именно людей, которые «ничего общего с народническим движением не имеют», вроде купца Голушкина в тургеневском романе. Тургенев, однако, не собирался превратить свой последний роман в «художественную историю» нечаевской заговорщицкой организации. Перед писателем-реалистом стояла более широкая задача: охарактеризовать революционный процесс первой половины 70-х годов в целом. Нечаев, представленный в «Нови» под именем Василия Николаевича, не случайно оставлен романистом «за кулисами»: обманутая им, по словам К. Маркса, русская революционная молодежь, убедившись на 171 практике в результатах этого обмана, не переставала верить в свои социалистические идеалы, как это и происходит в романе Тургенева с Маркеловым. Причины трагической судьбы своего последнего героя романист непосредственно выводил из его характера. Характер же Нежданова Тургенев объяснял его социальным происхождением. Об этом свидетельствует выразительный диалог Паклина и Нежданова: «— Ну, брат, — промолвил Паклин, — я вижу: ты хоть и революционер, а не демократ! «— Скажи прямо, что я аристократ! «— Да ты и точно аристократ... до некоторой степени. «Нежданов принужденно засмеялся» (IV, 202). И автор «Нови» недвусмысленно солидаризуется с отзывом своего персонажа: «Паклин недаром обзывал его аристократом; все в нем изобличало породу». Романист прямо отмечает, что «фальшивым положением Нежданова объяснялись и противоречия, которые сталкивались в его существе». Ни у Остродумова, ни у Машуриной не было этих неждановских противоречий, а потому и той трагической судьбы, которая определяется его положением «ни павы ни вороны» по отношению к обоим социально-политическим лагерям. Характер Нежданова в «Нови» оказался не типичным, для того чтобы представлять революционно-демократический лагерь 60—70-х годов, что и обусловило в конечном счете слабую сторону последнего тургеневского романа. М. Драгоманов вспоминает о своей беседе с великим русским романистом: «Разговор пошел главным образом о „Нови”, причем Тургенев рассказал, что смысл романа пострадал много от выпуска цензурою двух сцен: одной, где изложен разговор Меркулова с губернатором после ареста, а другой (целая глава), в которой описано „хождение в народ” Марианны. Эта Марианна, как женщина, оказалась более способною подойти к будничной жизни крестьян, чем переодетые студенты, — и возбудила к себе более симпатии и доверия мужиков. Правда, они сразу догадались, что эта барышня, однако толковали с нею по душе, — и один старик сказал ей: „это все правда, барышня, что ты говоришь о том, как нас обижают баре; мы это и сами знаем, — да ты научи, как нам избавиться от всего этого”».54 Ни тургеневская героиня, ни революционные народники 70-х годов не смогли «этому» научить русского мужика. Тургенев попытался предложить в своем последнем романе вместо революционной народнической «сохи» реформистский «плуг» соломинской программы народного «просвещения». Ни та, ни другая программа не нашли, однако, сочувственного отклика в мужицком сердце. История доказала, что учителем и революционным вождем крестьянства, способным привести трудовые массы к свержению эксплуататорского строя, мог быть только русский рабочий класс, сливший свою экономическую борьбу против капиталистов с социалистической сознательностью и политической борьбой революционно-марксистской интеллигенции. В письме И. С. Тургенева к К. Д. Кавелину от 17/29 декабря 1876 года имеется знаменательное в этом отношении признание автора «Нови»: «Быть может, мне бы следовало резче обозначить фигуру Павла, соломинского фактотума, будущего народного революционера, но это слишком крупный тип, — он станет со временем (не под моим, конечно, пером — я для этого слишком стар и слишком долго живу вне России) центральной фигурой нового романа. Пока — я едва назначил его контуры» (XII, 498). 172 В знаменитой речи, прочитанной Тургеневым 7 июня 1880 года по поводу открытия памятника А. С. Пушкину в Москве, русский романист, говоря о своем великом учителе, отметил, что «прошедшее жило в нем такою же жизнью, как и настоящее, как и предсознанное им будущее» (XI, 218). Этим чувством исторической перспективы обладал и сам Тургенев. Еще в «Рудине» рядом со сходящим с исторической арены представителем дворянского идеализма 40х годов романист показал фигуру «будущего деятеля» в лице разночинца Басистова, хотя в первом своем романе он «едва назначил его контуры». В эпилоге «Дворянского гнезда» Федор Лаврецкий, сходя со сцены, пушкинскими словами приветствует будущее в лице молодого поколения Калитиных и их юных друзей. В «Накануне», нарисовав во весь рост энергичную фигуру болгарского революционера Инсарова, на вопрос Шубина: «Когда же наша придет пора? Когда у нас народятся люди?» — автор, устами Увара Ивановича, уверенно ответил: «Дай срок... будут». Базарова Тургенев сам называл «провозвестником», «фигурой, стоящей в преддверии будущего». В приведенном выше письме к Кавелину автор «Нови» объявил «крупным типом» «будущего народного революционера» не народника и не культуртрегера Соломина, а сознательного фабричного рабочего Павла, назвав его «центральной фигурой нового романа». Историческое чутье «предсознанного будущего» не изменило Тургеневу и в этой его догадке. Прошло 30 лет с тех пор, как были сказаны вещие тургеневские слова, и другой русский писатель — А. М. Горький действительно сделал фигуру фабричного рабочего Павла «центральной фигурой нового романа» — пролетарского социалистического романа XX века. «ОБРЫВ» 1 «Обрыв», задуманный в конце 40-х годов, органически связан с предшествующими частями гончаровской «трилогии», особенно с романом «Обломов». Гончаров усматривал черты обломовщины не только в бытии помещика Ильи Ильича, но и в других сферах жизни. В романе «Обрыв» он показал ту же обломовщину, но более утонченную, в столичных аристократических кругах, в особенности в артистической натуре Райского. Учитель Козлов, товарищ Райского, олицетворяет судьбу науки в обломовском обществе, глубоко равнодушном к ней. И Малиновка, имение Бережковой, должно было явиться той же Обломовкой, но в другую эпоху жизни, в момент наступления кризиса, пробуждения. Вместе с тем «Обрыв» связан и с «Обыкновенной историей». Борис Райский не только, как говорил Гончаров, сын Ильи Обломова, он находится в не менее тесном родстве и с романтиком Александром Адуевым. Исследователи Гончарова установили, что в статье В. Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года» высказаны идеи, которые романист развивал не только в «Обыкновенной истории» (о характере романтика) и в «Обломове» (возможное опошление романтика), но и в «Обрыве». Великий критик с огромной проницательностью обрисовал в своем обзоре психологический тип художника-романтика и дилетанта, который был позже изображен Гончаровым в Борисе Райском. Им присуща «нервическая чувствительность», они «богато одарены от природы душевными способностями», «много понимают, но ни один не способен что-нибудь делать» — так характеризует Белинский художников-романтиков. Продолжая эту характеристику художникаромантика, критик пишет: «Он немножко музыкант, немножко живописец, немножко 173 поэт, даже при нужде немножко критик и литератор, но все эти таланты у него таковы, что он не может ими приобрести не только славы или известности, но даже вырабатывать посредственное содержание». Художники-романтики, говорит Белинский, «обнаруживают тонкое понимание неопределенных ощущений и чувств, любят следить за ними, наблюдать их»; из «всех умственных способностей в них сильно развиваются воображение и фантазия, но не та фантазия, посредством которой поэт творит, а та фантазия, которая заставляет человека наслаждение мечтами о благах жизни предпочитать наслаждению действительными благами жизни»; «от природы они очень добры, симпатичны, способны к великодушным движениям»; «фантазия в них преобладает над рассудком и сердцем»; «сердце их... скоро скудеет любовью, и они делаются ужасными эгоистами и деспотами»; «они были захвалены с ранних лет и сами о себе возымели высокое понятие»; «легкие и мало заслуженные блестящие успехи усиливают у них самолюбие до невероятной степени»; но это самолюбие «в них бывает всегда так замаскировано, что они добросовестно не подозревают его в себе»; «они долго бывают помешаны на трех заветных идеях: это — слава, дружба и любовь».55 В этих проницательных характеристиках предвосхищена целая программа возможного поэтического воплощения образа художника-романтика и дилетанта. Белинский воспроизвел определенный психологический тип. Он дал не отдельные, разрозненные черты романтика-дилетанта, а целую их систему, законченно рисующую психологический тип в его индивидуальном выражении. Критик поставил этот тип в характерные для него ситуации, как бы предвосхищая или подсказывая сюжет возможного романа о художнике-романтике. Первоначально Гончаров думал посвятить свой роман исключительно раскрытию своеобразия артистической натуры и предполагал назвать его «Художник» (или: «Райский», «Художник Райский»). Однако было бы ошибочным полагать, что образ Бориса Райского возник лишь под влиянием статьи В. Г. Белинского. Факты говорят о том, что замысел романа о художнике-дилетанте сложился на основе широких жизненных наблюдений. Романист указывал на его конкретные прототипы. В одном из писем к Е. П. Майковой писатель так комментирует образ Райского: «В Райском угнездились многие мои сверстники (вроде, например, В. П. Боткина, самого Т.)». Некоторые исследователи считают, что Гончаров, указывая на «Т.», имел в виду Ф. Тютчева. Но следует предположить, что речь здесь должна идти об И. С. Тургеневе.56 Очевидно это так и было, если принять во внимание характер отношений Гончарова и Тургенева. Но автор «Обрыва» говорит в статье «Лучше поздно, чем никогда» о жизненной основе образа Райского и в более широком плане. «В Райского входили, — пишет он, — сначала бессознательно для меня самого, и многие типические черты моих знакомых и товарищей». Образом Райского автор указал на судьбу искусства, попавшего в руки дилетанта и барина. В качестве примеров дилетантского отношения к искусству Гончаров называет графа Виельгорского, от которого в музыке ждали чего-то серьезного, а он сочинил «один хорошенький романс». Вспоминает романист и Тютчева, обладающего необыкновенной силой лирического пафоса, но написавшего «всего десятка два прекрасных стихотворений». Говорит Гончаров и о князе Одоевском, человеке 174 с многосторонним образованием, но создавшим несколько «легких рассказов».57 Итак, несомненна широкая жизненная основа образа Бориса Райского. Гончаров признавался также и в том, что в образе художника он запечатлел свои собственные черты. Следует иметь в виду, что приведенная выше характеристика Белинским художника-романтика и дилетанта основывалась не только на личных наблюдениях критика, но прежде всего на анализе психологии литературного героя Александра Адуева. Следовательно, романист независимо от Белинского и раньше его (в романе «Обыкновенная история») проник в тайну натуры художника-романтика. И очень важно отметить объективное совпадение взглядов писателя и критика. Можно с уверенностью сказать, что, обратившись к созданию романа о художнике в 1849 году, Гончаров вновь вернулся к образу Александра Адуева и к статье Белинского о нем. Но указанное совпадение взглядов Белинского и Гончарова не было абсолютным уже в эпоху «Обыкновенной истории». Тем более оно было относительным в эпоху создания «Обрыва», замысел которого хотя и возник в 40-е годы (образ Райского, в частности, явился в сознании романиста в 1849 году), но осуществлялся значительно позже, в разгар общественной и идеологической борьбы 60-х годов. К концу 1861 года И. А. Гончаров закончил вчерне первые три части «0брыва». Затем наступил период выработки новой программы романа, — осмысление заново драмы Веры. К сентябрю 1867 года весь роман был закончен в черновой редакции, а в апреле 1869 года он был завершен окончательно и появился в том же году на страницах «Вестника Европы» (№ 1—5). В 1870 году «Обрыв» вышел отдельным изданием с предисловием Стасюлевича. Творческая история «Обрыва», воссозданная Н. К. Пиксановым и А. Г. Цейтлиным, а в последнее время О. Чеменой, убеждает, что идейнохудожественная концепция романа менялась в ходе длительной и крайне мучительной для автора работы над ним именно под влиянием принципиальных сдвигов в общественной и идеологической жизни России начала 60-х годов. К этому моменту вполне определилась общественная позиция Гончарова,58 сформировался его нравственноэстетический идеал. То и другое не было лишено глубокий и острых противоречий. Демократизм, гуманистический пафос видны и в романе «Обрыв». Иначе невозможно было бы создать замечательный образ Веры, критически изобразить всероссийский застой, развенчать провинциальный консерватизм, показать барскую природу дилетантскиартистической натуры Райского, бесплодность его метаний, легковесность его либеральной фразы, выразить глубокую симпатию к рядовым разночинцамтруженикам, подметить много верных черт крепостного быта, сформулировать, наконец, реалистическую программу романического искусства. Но если роман брать как нечто единое, видеть в нем целостную картину всего процесса жизни, то становится очевидным, что идеалы автора, оценка изображенной им в пятой части романа драмы Веры оказались ограниченными и противоречивыми. Известно, что общественная позиция Гончарова 60-х годов отличалась политической умеренностью, ограниченным буржуазным либерализмом, в ней обнаружилась консервативная тенденция. Опубликованный им роман 175 «Обрыв» вызвал бурю гнева и протеста в кругах демократической России. Она отвернулась от Гончарова. Вся его творческая деятельность и его личность стали рассматриваться и оцениваться под углом зрения этого романа и даже ?же — с точки зрения того, как в романе дан образ нигилиста Марка Волохова. Революционно-демократическая Россия увидела в этом образе злую клевету на русского революционера, жалкую карикатуру на философию и мораль «новых людей», а в его создателе — человека, похоронившего себя навсегда для дела прогресса. Критика демократического лагеря не заметила сильных сторон романа «Обрыв». Все это явилось источником большой драмы в отношениях художника с современной ему действительностью. Но последующий ход русской жизни внес в эти драматические отношения серьезнейшие поправки, отбросив и заставив забыть то, что диктовалось временем, обстоятельствами идейнообщественной борьбы 60-х годов. Да, автор «Обрыва» находился в значительной зависимости от «философии» уличной толпы, во власти ее примитивных, вульгарных суждений о русском нигилисте. И он, действительно, внес в образ Марка Волохова нечто от представлений этой толпы. Но Гончаров был великим реалистом, правдивым художником, страстным искателем истины. И поэтому в образе Волохова заключалась и известная историческая правда. Из романа становится ясно, почему страстную в исканиях, пытливую и проницательную, самобытную и героическую Веру мог серьезно увлечь Марк Волохов. Это увлечение вполне понятно, оно естественно оправдано. Вера видит односторонность Марка, она не принимает его пренебрежения к человеческому началу в отношениях между людьми, его безусловного отрицания старой правды. Но в идеях Волохова она чувствует и какую-то привлекательную правду, а в личности молодого проповедника — силу. Рисуя Волохова, Гончаров все же невольно передал обаяние сильной, честной, прямой, цельной и смелой личности, личности принципиальной в решении вопросов жизни. Марк в своих отношениях с Верой добивается победы не только над ее сердцем, но и над ее идеями, над ее разумом и совестью. И она со своей стороны не считает себя вправе отдаться любимому человеку без обращения его в свою веру. В этом вопросе оба героя поставлены мудрым романистом очень высоко, и они вполне достойны друг друга. И попробуйте после всего этого поставить рядом с бездомным нигилистом Марком художника-барина Бориса Райского, посмотрите на его отношения с женщиной. Он тоже просветитель женщин, но для себя, а не во имя идей. И соблазнителем в романе оказывается не «ужасный реалист» Волохов, а именно романтик Райский. Последний высказывает очень смелые мысли о крепостном праве и паразитизме аристократов, о деспотизме помещиков и необходимости свободы личности, человеческих отношений. Герой Гончарова независим от дворянских традиций и предрассудков, ему известны идеи социализма и коммунизма. С негодованием он говорит о спящей, косной России, мечтает о ее пробуждении, мечтает посвятить свои силы борьбе за обновление родины. Но в своем высоком полете идей и мечтаний Борис Райский остается тем же дилетантом, каким он был и в искусстве. Его смелое и насмешливое слово никогда не ведет хотя бы к попытке какого-нибудь дела, практического общественного дела. Он весь ушел в «поэзию страстей», над которой смеется Марк Волохов. Гончаров показал, в какое индифферентное, эгоистическое и беспочвенное существо превратился «лишний человек», герой 40-х годов. Автор «Обрыва» более суров, чем Тургенев (в романе «Рудин») и Герцен (в романе «Кто виноват?»), в своем ироническом отношении к дворянскому герою. И здесь он приблизился к той концепции «лишнего человека», которую развивал Добролюбов в статье «Что такое обломовщина?». Неудивительно, что Райский 176 не может увлечь Веру, не может указать ей на конкретное дело. Симптоматично, что героиня Гончарова (как и Тургенева), одухотворенная поисками новых путей жизни и идеала счастья, тянется к революционеру, у него пытается найти ответы на запросы жизни. Трагически завершившаяся история любви Веры — знамение времени, а не нелепая драма, как думал Скабичевский. Понятна и внутренняя целомудренность последнего романа Гончарова, неизменно пользующегося, вопреки опасениям Шелгунова, большой и заслуженной популярностью у юной, учащейся молодежи. Сказанное не должно вести, однако, к игнорированию и глубоких просчетов Гончарова в изображении нового, той молодой России, которая несла действительное отрицание старому миру, обломовщине. Эти просчеты отразились в мировоззрении и в мастерстве писателя. Просчет сказался прежде всего в том, что романист задался целью во что бы то ни стало развенчать все революционнодемократическое движение. И ослепленный своим стремлением, он приписал этому движению такую философию и такую этику, которые не являлись определяющими, ведущими в этом движении. Сложилась тенденциозная, односторонняя характеристика названного движения. Кроме того, ограниченность Гончарова 60-х годов обнаружилась и в том, что он отказался от «сибирского» варианта своего последнего романа, в котором Вера порывает с родной помещичьей средой и идет за революционером Марком Волоховым. Только в таком смелом сюжете, подсказанном романисту героическим подвигом декабристок, можно было бы воспроизвести подлинную драму героической эпохи 60—70-х годов. Однако Гончаров не пошел по этому пути. Нарушая логику образа, а следовательно, и правду жизни, он заставил Веру отказаться от исканий. По воле автора она изменяет своей гордой независимости и гордой воле, приходит к невозможному для ее натуры добровольному смирению и послушанию, ищет спасение от «обрывов» в лоне «бабушкиной морали». Крушением завершилась и пропаганда «новой веры» Марком Волоховым. Торжествует старая, но вечно живая в своих здоровых началах «бабушкина мораль». Почти апофеозом Тушину звучат заключительные главы романа. И даже беспочвенный романтик и дилетант Райский в последней части романа получает известное оправдание и вырастает в какого-то значительного героя, нужного России. Но даже и такой насильственный поворот в развитии сюжета, продиктованный общественной позицией автора, отвергающего революционера и противопоставляющего ему опоэтизированный и идеализированный образ помещицы Бережковой и помещикапредпринимателя Тушина, не дает оснований для вывода о реакционности романа «Обрыв». В романе этом есть и такой глубинный смысл, который говорит о торжестве реализма, о прогрессивной общественной позиции автора. Совершив в угоду своему идеалу поворот в сюжете, в судьбе Веры, Гончаров как художник проницательно воздержался от благополучного завершения сюжета. В романе нет того счастливого конца, к которому романисту хотелось бы привести свою Веру, нет спасительного от всяких «обрывов» союза Веры и Тушина. Как бы ломая оптимистическую установку автора, несколько омрачая его идеал, трагическискорбный образ Веры вносит в роман пессимистический мотив. Свободолюбивый, энергичный и волевой облик Веры, ее критический и насмешливый ум, нравственная бескомпромиссность заставляют не верить (вопреки желанию романиста) в способность к смирению ее гордой воли, ставят под сомнение возможность ее действительно полного счастья с помещиком-предпринимателем Тушиным. Художник-реалист все это почувствовал сердцем. Субъективно ему очень хотелось бы подтолкнуть Веру под венец с Тушиным, но, верный 177 правде, он мудро воздержался от подобного фальшивого апофеоза семейного счастья. И получилось, что Вере, как и Ольге Ильинской, тоже некуда идти, если она останется в замкнутом кругу того умирающего мира, в который она по воле автора вернулась со дна своего трагического «обрыва». 2 Гончаров, воспроизводя жизнь в мелочных подробностях, мыслил о ней в больших масштабах. По его мнению, в художественных типах выражаются коллективные черты целых слоев или сословий общества. В рисуемых картинах художник воспроизводит черты, образующие господствующий фон жизни, выражающие русскую коренную жизнь. Гончаров говорит и об «общечеловеческих образцах психологических черт и состояний». И самые задачи русского романа он трактует в широком плане. В статье «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв”» он говорит, что роман призван «осветить все глубины жизни, обнажить ее скрытые основы и весь механизм» (VIII, 212). В «Литературном вечере» Гончарова речь идет о романе как «руководствующем кодексе к изучению взаимных отношений, страстей, симпатий и антипатий» (VII, 110). Писатель стремится осознать общий смысл целого, воспроизвести «совершившийся цикл» жизни. Автора «Обломова» следует назвать живописателем целого уклада жизни, порожденных им типов и типических конфликтов. Любопытно, что Гончаров первоначально смотрел на свой роман с точки зрения его общего смысла — произведение было названо им «Обломовщина». Но затем он отказался от этого названия, поняв, что главное в художественном произведении — личная драма Обломова. Каждый из своих романов он соотносит с целой эпохой и определенным укладом жизни. И, как бы желая еще более подчеркнуть цельность, единство и всеобщность того, что он разъединил в трех романах, писатель в своем сознании объединяет их в «трилогию», хотя объективно они и не образуют подобного художественного целого. Но идеологическое единство всей гончаровской «трилогии» бесспорно. Это определяется осознаваемой автором законченностью воспроизведенного в ней типа русской жизни. Как же представлялось Гончарову целое, как он понимал тот «круг жизни» или «цикл жизни», который должен быть, по его представлению, предметом романа? Он постоянно говорит о совершающейся борьбе нового со старым. И свои романы он посвящает изображению именно этой борьбы. Новое и старое у него имеют очень четкий, обобщающий социальнопсихологический и философсконравственный смысл. Старое — патриархальный помещичьекрепостнический уклад жизни, сложившиеся в ее недрах строй психики и формы мышления, быт и философия жизни. Новое — нарождающийся мир деловых людей, активных буржуазных практиков с их новыми представлениями о жизни, об обязанностях людей, их отношениях и т. п. Гончаров-художник мыслит о жизни именно этими противоположными, уже вполне сложившимися образами старого и нового, он собственно не прослеживает динамику развития характеров и ситуаций в ходе борьбы нового и старого. Он поворачивает эти характеры и ситуации до бесконечности разными сторонами. Добролюбов отметил эту «изумительную способность» Гончарова «во всякий данный момент остановить летучее явление жизни» и посмотреть на него со всех возможных сторон. Такой принцип изображения движения служил задачам типизации. Гончаров-художник мыслит о процессах человеческой жизни по аналогии с объективно совершающимся годовым кругооборотом в природе или с более длительными геологическими изменениями. Он уподобляет 178 законы развития и возрасты любви смене времен года. Невозмутимое течение жизни в Обломовке представляется Гончарову покойной рекой. Подводя итоги жизни героев в начале четвертой части «Обломова», автор характеризует их изменившиеся судьбы с помощью образов, почерпнутых из геологической жизни планеты: «Но гора осыпалась понемногу, море отступало от берега или приливало к нему, и Обломов мало-помалу входил в прежнюю нормальную свою жизнь» (IV, 386); «Постепенная осадка или выступление дна морского и осыпка горы совершались над всем и, между прочим, над Анисьей: взаимное влеченье Анисьи и хозяйки превратилось в неразрывную связь, в одно существование» (IV, 338). Разнообразное включение человеческих судеб в общий процесс жизни природы служило средством эпического, объективного воспроизведения действительности, являлось приемом, подчеркивающим органичность (по аналогии с природой) изображаемых романистом характеров и всего процесса жизни. Гончаров был противником патриархально-крепостнического уклада жизни, он с радостной надеждой изображал рождение нового. Но как он понимал это возникновение и развитие нового? Писатель осознавал все это в привычных формах отживающего типа жизни. С ними у творца «Обломова» была кровная, нерасторжимая связь, они характеризовали одну из особенностей его поэтического миросозерцания. Гончаров пропел отходную старому и приветствовал зарю пробуждения, но с каким покоряющим поэтическим обаянием он воспроизвел уходящий тип жизни! Выработанная Гончаровым романическая система в своих основах сохранилась и в его последнем романе «Обрыв». Но она подверглась под воздействием нового предмета изображения и новых задач, поставленных романистом, существенным изменениям. В эпоху создания «Обрыва» вполне сложившаяся общественная позиция писателя в существе своем была ограниченной и противоречивой. В обстановке 60-х годов противоречия эти обострились. И это не могло пройти бесследно для романа «Обрыв». Его содержание, конечно, нельзя отождествлять с мировоззрением художника, видеть в нем лишь выражение субъективной позиции Гончарова. Подобное превращение романа в иллюстрацию позиции его автора часто встречалось в антинигилистической беллетристике. Но этого не могло случиться с Гончаровым, необыкновенным художником-реалистом, знатоком жизни, которая властно просилась в его роман, расширяла горизонты писательского видения и порой побеждала предрассудки, заблуждения автора. Однако все более крепнущая идейная тенденция, особенно сильно проявившаяся к концу романа, направлялась социально-идеологической позицией его творца. Последняя увлекла автора на путь, лежащий за пределами возможностей его таланта. Раньше он преимущественно творил как поэтхудожник и одерживал блестящие победы, когда живописал человеческие характеры, подобные обломовскому. В «Обрыве» же Гончаров не сумел отказаться от соблазна оставить родной мир поэтических образов и непосредственно включиться в идеологическую борьбу своего времени, дать уроки нравственности своим героям и своим читателям. На этом пути романист, руководствуясь своими ограниченными симпатиями и антипатиями, своими консервативными убеждениями, впал в последних двух частях романа в одностороннее, ложное изображение некоторых сторон жизни и характеров. Необходимо иметь в виду и еще одно обстоятельство. Оно также осложнило творческую работу Гончарова над романом «Обрыв». Автор его заинтересовался такими сторонами действительности, художественное воспроизведение которых оказалось не в полной мере и не во всем доступно его таланту. Гончаров обратился к изображению энергичных 179 исканий пробужденного самосознания, драматической борьбы старого с новым. Эпоха пробуждения, ломки и борьбы была полна непрерывного и сложного движения, хаоса и разложения, развития, взлетов и падений, драматических и трагических коллизий. Но в изображении всего этого Гончаров был значительно ограничен возможностями своего таланта, своими эстетическими воззрениями, понятиями о типическом. Писатель великолепно воспроизводил сложившиеся, цельные характеры, устоявшийся, коренной уклад жизни. Поэтому в историю русской и мировой литературы Гончаров вошел прежде всего как гениальный творец Обломова. В романе «Обрыв» перед автором возникла новая и для его таланта в высшей степени трудная задача. Необходимо было художественно воспроизвести процессы духовного пробуждения и ломки сознания, исканий «новой правды», откликнуться на злобу дня, на актуальные общественные и идейные вопросы, поставленные эпохой 60-х годов. Но для художественного и литературно-критического мышления Гончарова было характерно ощущение и осознание органичности происхождения лиц и явлений изображаемого процесса жизни. Это означало, что романист видел и воспроизводил жизнь как длительный, но неуклонно и в определенных границах развивающийся естественный процесс. В нем нет ничего случайного, лишнего и необъяснимого, все звенья его связаны между собой, поставлены в причинную зависимость друг от друга, подготавливаются предшествующим. С наибольшей силой, полнотой и художественным совершенством эта особенность мышления Гончарова проявилась в изображении человеческих характеров и обстоятельств. У него органически сливаются, составляют нерасторжимое единство все составные компоненты персонажа. Такая же органичность осуществляется и в изображении составных элементов обстоятельств, среды. Наконец, органически раскрыта художником и связь человеческого характера с обстоятельствами. В соответствии с этим сложившимся представлением о жизни и способом ее художественного изображения Гончарову, как автору «Обрыва», необходимо было вполне осознать и признать естественную необходимость, органичность бурных процессов, новых героев и новых идей эпохи пробуждения и ломки. Этому мешали мировоззрение и особенности таланта Гончарова, его художественное мышление и эстетические представления. В одном из писем к Никитенко автор «Обрыва» провозглашал несовместимость искусства и общественных бурь: «Пиши, — говорят, — когда нельзя писать, когда на носу бури и пожары, от которых искусство робко прячется».59 Не исключено, что подобная декларация была вызвана конкретной ситуацией, сложившейся в России 1862 года.60 И, конечно, эта обстановка влияла на ход творческой работы над романом «Обрыв», заставляла идейно и художественно переосмысливать давно созревший замысел. И все же Гончаров не отрицал необходимости и возможности художественного изображения жизненных бурь, «геологических катастроф», «порогов». Об этом свидетельствует его роман «Обрыв». Но как автор этого романа понимал ломку жизни и человеческих характеров? Бури и катастрофы в жизни природы, в жизни общества и человека, по его представлению, возникают и исчезают, а жизнь вновь входит в свои законные берега: «Проходили дни, и с ними опять тишина повисла над Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, как река порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше, ровнее» (VI, 347). Пронесшаяся и захватившая всех героев «Обрыва» буря в жизни Веры 180 воспринималась Гончаровым не как что-то органически присущее действительности, возникающее из нее, а как нарушение ее обычного хода, как отклонение от устойчивых и коренных ее форм. Катастрофа пронеслась, а жизнь вновь вошла в свои «успокоившиеся формы». Так художник представлял себе круговорот жизни. В нем могут быть бури, после которых обновляются, нравственно совершенствуются люди. Именно такой полный, завершившийся цикл жизни и воспроизводил Гончаров в своих романах. В романе «Обрыв» жизненные бури он перенес в нравственную плоскость и видел в них выражение такой ломки старого, которая не затрагивает коренных, неизменных основ и форм жизни, а лишь совершенствует их, очищает от отжившего и ведет к возникновению нового из лучших материалов прошлого. Тем самым романист стремился убедить в прочности, жизненности и необходимости коренных основ жизни, созданных дворянством. Такого угла зрения не было в романе «Обломов», хотя любовное снисхождение к его герою проявилось и в нем. Это и дает исследователям право говорить о значительных сдвигах в мировоззрении Гончарова эпохи «Обрыва». Идея незыблемости коренных основ национальной жизни характеризует художественное мышление романиста, его романическую систему и эстетику, руководит и его мастерством. Предметом романа и должно быть, по его мнению, коренное, устоявшееся, прочно вошедшее в жизнь многих поколений, приобретшее определенность форм своего выражения, вполне развившее все свои свойства и возможности. Устоявшееся и коренное составляют норму жизни, ее идеальное выражение. Писатель резко высказывается против новой литературной школы «крайнего реализма», подчинившей искусство служению «злобе дня». Чутье художника, рассуждает Гончаров, конечно, открывает ему возможность уловить и воспроизвести нарождающееся и дать в общих чертах «намек на мотив, который только начал разыгрываться». Так Тургенев «уловил» тип Базарова, Но это, считает романист, не основная, не коренная задача истинного художника, ее решение не может привести к созданию полнокровного, типического, а следовательно, и подлинно художественного образа. Для создания монументального жанра с типическими характерами необходима верность писателя неизменным основам жизни. На этой основе Гончаров и строил свою известную теорию типического. Восприятие жизни в незыблемых и вполне сложившихся формах как ее идеальной нормы явилось благодатной почвой для широкого проникновения в систему гончаровского романа рационалистической тенденции. Появилась потребность уложить жизнь в какие-то определенные формы, свести многообразие ее проявлений к единым коренным началам. Это подсказывало и соответствующую поэтику, в которой большую роль играли применяемые одни и те же способы и приемы изображения жизни, позволяющие воспроизвести в ней постоянное, уложившееся, вошедшее в плоть и в кровь рисуемых героев. Гончаров-художник мыслит и воспроизводит жизнь как многообразную градацию, как последовательные и постепенные переходы от одной формы ее выражения к другой, от низшего к высшему, от примитивного к сложному и т. п. У художника заметно неудержимое желание все изображаемое «раскладывать по полочкам», всему придавать законченную определенность, строго отграничивающую одно явление от другого. Гончаров мыслит о жизни в форме ее сложившихся укладов и типов. Особенно он любит мыслить о жизни в форме контрастов, крайних противоположностей. Уже в его ранних повестях определился этот способ изображения действительности. В «Лихой болести» даны две крайности — зоологизм Тяжеленко и идеализм Зуровых. В «Обыкновенной истории» принцип контраста лежит в основе обрисовки персонажей и композиционного построения всего 181 романа. В «Обломове» этот принцип, не столь наглядно выражен, но и в этом романе, изображающем судьбу двух противоположных героев, он является руководящим. Воспроизведение контрастов дано и в романе «Обрыв». Гончаров замечает, что изображаемые им контрасты и крайности сходятся. Это как бы вносит некоторые элементы диалектики в его художественное мышление и в способы изображения жизни. Романист улавливает нечто общее между Марком Волоховым и Борисом Райским. В его представлении сходятся Обломов и Штольц. Александр Адуев даже превратился в копию своего антипода. Но и эта диалектика противоположностей идет у Гончарова от рационалистического стремления свести все многообразие жизни к единому, исходному началу. И такое стремление диктовалось пониманием художником «механизма» изображаемой им действительности. Марк Волохов, Борис Райский и Обломов вышли из недр российской Обломовки и поэтому неизбежна их перекличка. Рационалистична не только гончаровская художественная концепция жизни. И более конкретные способы и приемы изображения у романиста рационалистичны. Разработав определенные приемы изображения, Гончаров делает их универсальными, постоянно действующими, проходящими через весь роман. Тургеневу очень не нравилось, что Толстой намеренно и систематически повторяет в образе княжны Болконской один и тот же штрих — усики на ее верхней губе. Но у Толстого такой прием не был универсальным. Гончаров же в романе «Обыкновенная история» разработал целую систему приемов, с помощью которых он преднамеренно, систематически и несколько однообразно обыграл многочисленные детали с целью раскрытия существа рисуемых характеров и сложившихся ситуаций. Такой поэтике обыгрывания одних и тех же деталей он остался верен и в романе «Обломов», отчасти и в романе «Обрыв». Преднамеренность, рассудочность заметны и в обращении писателя к форме вопросов как повествовательному средству в романе «Обломов». Приемы сведения частного к общему систематически осуществляются романистом по ходу повествования. Столь же обдуманно строятся Гончаровым и композиции его романов. В них художник точно соотносит друг с другом отдельные части, добивается полноты и гармонии, устанавливает закономерно чередующиеся «приливы» и «отливы» в развитии сюжета, сквозные ситуации и т. п. В организме всего романа «Обломов» художник добился закругленности минувшего цикла жизни: сон—пробуждение—сон—смерть. И вся архитектоника романа в целом отличается строгой стройностью. Каждый из романов Гончарова открывается прелюдией, мотивы которой проходят через все последующие главы, они перекликаются, а затем сливаются в единый центр, составляющий сердцевину романа. В работе по упорядочению своей поэтической системы Гончаров руководствовался обязательным для искусства романа «законом симметрии и равновесия масс».61 Романист достиг значительных результатов, создав одну из классических форм русского социальнопсихологического реалистического романа. Романы Гончарова отличаются гармоничностью своей структуры, органичностью развития заключенных в них характеров, пластичностью в воспроизведении жизни. Творец «Обломова» — наследник пушкинских гармонических поэтических форм. Его романы дают богатейший материал для выводов о законах и критериях художественности. Однако в гончаровской художественной системе развивалась и другая тенденция. Писатель не только незримо руководствуется «законом симметрии и равновесия масс», но и находит конкретные и наглядные 182 формы для его выражения в самой ткани своих романов. И это он делает несколько рассудочно. Вся романическая система Гончарова характеризуется оригинальным слиянием удивительной поэтичности в пластическом воспроизведении художником характеров и ситуаций с рационалистичностью в способах, приемах и формах их изображения и оценок. Создается впечатление, что он творил по вдохновению, но «укладывал» результаты своих вдохновений в рационалистические поэтические формы. 3 Охарактеризованные выше особенности художественного мышления, таланта и эстетических представлений Гончарова стесняли его в овладении «переворотившейся и укладывающейся» пореформенной действительностью. Так возникло известное противоречие между возможностями художника и тем предметом изображения, который перед ним возник в последнем его романе. Это противоречие поставило Гончарова в крайне тяжелое положение. Работа над «Обрывом» шла очень медленно (она длилась двадцать лет!), автора охватывало отчаяние, желание прекратить ее. Указанное противоречие повлекло за собой всякого рода отступления и новшества в гончаровском типе романа. В связи с «Обрывом» следует говорить о новых тенденциях в художественной системе автора этого романа. Конечно, и в «Обрыве» решительно во всем видна огромная сила Гончарова как художника, обладающего артистическим талантом в пластическом живописании характеров, обстановки, жизненных укладов. Но теперь реализм писателя ослабляется к концу романа обнаженной идейной тенденцией, властно диктующей судьбы героев. И так как эта субъективная тенденция была ограниченной, вступала в противоречие с поступательным ходом развития жизни, то вполне естественно, что она в какой-то мере мешала художественному чутью романиста и отрицательно влияла на всю поэтическую систему нового романа. «Обрыв» уже нельзя назвать строго органическим романом. В четвертой и особенно в пятой частях романа заметен произвол (в угоду тенденции) романиста в обращении с судьбами героев. Изображенная в этих частях романа жизнь вступает в противоречие с тем, как она воспроизведена в предшествующих главах, в которых писатель высоко поднялся в своем понимании живых потребностей и стремлений, выраженных в образе Веры. В «Обрыве» воспроизводится дореформенная жизнь. Но художник осовременивает ее. Нигилист Марк, содержание его дискуссий с Верой, многое в убеждениях самой Веры, возникшая между этими героями ситуация — все это взято из эпохи 60-х годов. Такое слияние дореформенной жизни с новым временем не получилось органическим. Оно было продиктовано желанием автора откликнуться на современность, включиться в идеологическую борьбу ее основных общественных сил. Поэтому нет целостности и в образе Марка Волохова. В нем произвольно соединены автором как бы два лица. Они не слились вполне, органически. Волохов высказывает и популяризирует новые идеи о любви и браке, о религии. Но в его облике и поведении, в образе жизни и привычках многое сохранилось от раннего замысла автора. Гончаров первоначально думал изобразить либерала, который за грубость, неповиновение начальству, за фрондерство был удален со службы (или исключен из школы), сослан под надзор полиции. Привнесение сильного нигилистического оттенка в образ неблагонадежного либерала старого времени лишило Марка Волохова внутреннего единства. И это объясняется не только 183 затянувшейся творческой историей романа, но и тенденцией автора, его плохим знанием и пониманием «новых людей», отрицательным отношением к их «философии жизни». Поэтому он и решился на соединение озорного фрондералиберала с нигилистом. На эту «несуразность» образа Марка Волохова справедливо обратил внимание Н. Щедрин в статье «Уличная философия».62 Внутренняя целостность и единство нарушаются и в других персонажах романа. Про них не скажешь, что они всегда и во всех обстоятельствах жизни верны себе. Посмотрите, как меняются по воле автора облик старой Бережковой и отношение к ней Бориса Райского на протяжении всего романа! Помещицакрепостница, провинциальная барыня вырастает в величественную и мудрую, прекрасную и глубокую натуру, в лицо трагическое и символическое. Гончаров постепенно, но настойчиво смягчает изображение крепостнического хозяйства Бережковой уже в черновых вариантах романа. В окончательном тексте романа он в ходе развития сюжета сводит на нет полемику Райского с бабушкой. С наибольшей силой и наглядностью отсутствие верности собственной натуре обнаружилось в последних главах романа и в образе Веры. Очевидны некая умозрительность, художественное несовершенство образа Тушина. В изображении его повторилось то же самое, что случилось при создании образа Штольца. С точки зрения социальной он, как и Андрей Штольц, конечно, взят из жизни и в общественном смысле типичен. Но для художественной типизации этого слишком мало. Необходимо, чтобы типические социальные черты в своей конкретной совокупности и повседневном выражении составили живую, оригинальную личность, характер. Без такой индивидуализации характер человека в искусстве лишается художественного полнокровия. Так и случилось с Тушиным. Во всем его опоэтизированном и идеализированной облике видна тенденция автора, его, так сказать, направляющая рука, а не художественная правда. Все говорит о том, что «Обрыв» внес в гончаровский тип романа значительные изменения. И в этих изменениях были не только просчеты и противоречия, в которых сказалась известная ограниченность точки зрения романиста на жизнь. В «Обрыве» видно и развитие гончаровского типа романа. Последний роман Гончарова также относится к числу выдающихся произведений русской литературы. Уже В. Г. Белинский обратил внимание на то, что талант Гончарова проявляется с наибольшей силой и оригинальностью в изображении любви. Великий критик находил общественнонравственное содержание в любовных увлечениях героя «Обыкновенной истории». Они характеризовали его в качестве определенного общественного типа, служили «вехами» в истории его иллюзий, разочарований и отрезвления. Автор пошел по этому же пути и в романе «Обломов». В нем любовь приобрела, как и в «Обыкновенной истории», глубокое общественно-нравственное содержание, вела к уяснению смысла, сущности обломовского типа жизни. Изображение любви в романах «Обыкновенная история» и «Обломов» позволило художнику решать возникшие перед ним в то время задачи художественного исследования адуевщины и обломовщины. Необыкновенный талант в изображении любви позволил художнику проникнуть в существенные вопросы жизни своего времени. В романе «Обрыв» Гончаров, оставаясь верным своему таланту, также обратился к изображению разнообразных типов любовной страсти. Об этом он говорит в статье «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв”». «Вообще меня, — 184 признается автор, — всюду поражал процесс разнообразного проявления страсти, то есть любви, который, что бы ни говорили, имеет громадное влияние на судьбу — и людей, и людских дел. Я наблюдал игру этой страсти всюду, где видел ее признаки, и всегда порывался изобразить их, может быть, потому, что игра страстей дает художнику богатый материал живых эффектов, драматических положений и сообщает больше жизни его созданиям» (VIII, 208—209). Далее Гончаров характеризует разные типы страсти, которые он воспроизвел в романе «Обрыв». Его особенно увлекла задача изображения страсти в чистой, своевольной и гордой натуре Веры, ее борьбы со страстью. Честную женскую любовь Веры художник характеризует как серьезное и пылкое чувство, которое «по несчастным обстоятельствам» обратилось в «гибельную страсть». От страсти Веры писатель невольно перешел и к другим образам. «Явилась страсть Райского к Вере, особый вид страсти, свойственный его характеру, потом страсть Тушина к ней же, глубокая, разумно человеческая, основанная на сознании и убеждении в нравственных совершенствах Веры; далее бессознательная, почти слепая страсть учителя Козлова к своей неверной жене; наконец, дикая, животная, но упорная и сосредоточенная страсть простого мужика Савелья к жене его Марине, этой крепостной Мессалине» (VIII, 209). К этим параллелям необходимо добавить и еще одну — любовь в прошлом Бережковой и Ватутина. Изображена в романе и непосредственная любовь Марфиньки и Викентьева. Наконец, в романе показана и Софья Беловодова, воплощающая другую, сравнительно с опасными проявлениями страстей, крайность в жизни. Она не только, как Марфинька, не обнаруживает никаких признаков страсти, в ней вообще спят почти все женские инстинкты. Характеризуя «практическое» направление своего века, Писемский (а до него и Гоголь) указывал на тех меркантильных «божков» (погоня за карьерой и наживой), которые управляли судьбами людей, их отношениями, их любовью. Гончаров иначе понимает «механизм» современной ему жизни. В ней он видит прежде всего игру любовной страсти, а за этой игрой — характеры, общественный уклад жизни. В «Обыкновенной истории» и в «Обломове» писатель руководствовался принципом: каковы характеры, такова и любовь. И это давало ему возможность при изображении разнообразия проявлений чувства любви проникнуть в историю личности, войти в обстоятельства ее формирования, а через все это почувствовать и передать внутреннюю жизнь общества. В романе «Обрыв» Гончаров не отказался от такого способа изображения жизни, а придал ему новые черты, открыл в нем новые возможности художественного познания. Вместо романа о человеческом характере в его разнообразной обусловленности (таким был «Обломов») явился роман о многочисленных проявлениях любовной страсти. Почему же такое принципиальное значение приобрела проблема любовной страсти в гончаровской концепции характеров и общества? Это было связано с пониманием им «механизма» жизни. Игра страсти, по его мнению, имеет громадное влияние на судьбы людей и их дел. Поэтому в трактовке романиста она приобрела глубокое общественное и психологическое содержание. На этой основе он развенчивает романтическое представление о любви и противопоставляет ему реалистическое ее понимание. Подобный подход к жизни легко улавливается уже в первых прозаических опытах художника, хотя бы в повести «Нимфодора Ивановна», в которой речь идет о двух типах любви (как «легком щекотании» и как «таинственной глубине»). И уже тогда трактовка страсти у Гончарова была направлена против романтического понимания чувства любви. Такая антиромантическая направленность сохранилась и развилась во всех его 185 романах, особенно же в «Обрыве» (образ Бориса Райского). Необходимо иметь в виду и еще одно очень важное обстоятельство. В анализ любви Гончаров привнес и антинигилистический смысл. Автор избрал для изображения «новых людей» любовную ситуацию и сосредоточил спор и разлад Марка и Веры на «пункте счастья». В «Обрыве» тот или другой тип любви не обязательно соотносится с тем или другим характером человека, объясняется им и сам объясняет его. Райский, как говорит Гончаров, был захвачен особым видом страсти к Вере. Он любил ее «только фантазией и в своей фантазии» (VIII, 214). И это великолепно раскрывало весь его характер, наделенный избытком праздной фантазии. В других случаях нет подобного прикрепления образа страсти к соответствующему характеру, к истории личности, что было связано с изменившимися задачами романиста. Конечно, и страсть Веры связана с ее характером. Об этом писатель не забывает и в других случаях, но он не ограничивает изображение страсти пределами лишь характера, а ищет в ней выражение духа времени, исканий, борьбы, уровня развития общества, миросозерцания, положения человека в обществе. Теперь главное у Гончарова не столько создание общественных типов (от этого он полностью не отказывается и в «Обрыве»), сколько изображение жизни русского общества в момент кризиса устоявшихся его форм, пробуждения, борьбы нового со старым. И симптомы всего этого проницательный художник находит в разнообразных проявлениях любовной страсти. Окончательное падение Марины, дикая страсть ее мужа Савелья явились следствием крепостного права, которое служило благоприятной почвой для всякого обезображивания человека. Для Марины и Савелья характерно полное отсутствие, как говорит романист, «всякого человеческого осмысления» своих поступков. Другие источники безобразной страсти у Ульяны Андреевны, жены Козлова. В «Обрыве» довольно подробно рассказана история ее беспорядочной, легкомысленной жизни. И в этом автор нашел ключ к объяснению возможного извращения чувства. Превращению этой заложенной дурным воспитанием возможности в действительность способствовала семейная жизнь Ульяны Андреевны, вся обстановка этой жизни. Бессознательная страсть Козлова к жене не давала материала для жизни ее ума и сердца, не развивала их, не наполняла человеческим содержанием семейные отношения. Такое слепое влечение, не замечающее даже своего предмета, вполне гармонировало со всем характером Козлова, оторванного от окружающей действительности, погруженного в изучение по книгам чужой и далекой жизни. «Грех» бабушки, ставшей в юности жертвой страсти, совершается в результате чинимых ее любви препятствий. Трагически, «обрывом» кончается и любовь Веры к Марку Волохову. Во всем обширном романе Гончарова нет страсти, которая привела бы к счастью, к выражению полноты жизни. В чем причина такого рокового исхода? В объяснении его можно, конечно, сослаться на отрицательное отношение романиста к любви как страсти. Его положительный герой Штольц был врагом поэзии страстей. Противником ее зарекомендовал себя и Петр Адуев. В чувстве Тушина к Вере торжествуют разум и воля. Напротив, разнообразное проявление страсти у Райского, Веры, Козлова, Марины, как и у поклонника «колоссальной страсти» Александра Адуева, изображено Гончаровым в качестве болезни, имеющей часто роковой, трагический исход. Однако нет оснований к обвинению Гончарова в филистерском благоразумии. Он знает, что любви без страсти быть не может. Романист холоден в изображении женщины-статуи Софьи Беловодовой. Правда, он поэтизирует естественную любовь Марфиньки и Викентьева, но и эта любовь не его идеал. Гончаров 186 не противник страсти в любви, но он защищает человеческое содержание в ней. Если же ее человеческое содержание встречает на своем пути препятствия, обезображено обстоятельствами жизни, насильно ими заглушено, то в этом вина прежде всего общества, а не натуры человека. Изображая роковой, трагический исход страсти, всевозможные искажения ее человеческой природы, романист говорит о ненормально живущем обществе, о господстве в нем уродливых предрассудков, о первых признаках пробуждения его самосознания, о начавшемся процессе распада отживающих представлений и отношений, о поисках новых критериев морали. Ранее Гончаров утверждал: каковы характеры, такова и любовь. Теперь он расширил эту формулу и сказал: каково общество, такова и любовь. В «Обрыве» изменился не только общий характер гончаровского романа; в нем появилось новое и в конкретных приемах, и в способах изображения жизни. В «Обрыве» отсутствует поэтика «мелочного» воспроизведения характеров в их слиянии с домашней обстановкой, с породившей их средой. «Обыкновенная история» и «Обломов» отличались резко выраженной и последовательно осуществляемой централизацией. Романист давал историю жизни, духовного развития главных героев, она являлась основой сюжета всего произведения. В соответствии с этим в «Обыкновенной истории» и «Обломове» большое значение приобрела экспозиция, изображающая социальную среду, в которой сложились характеры младшего Адуева и Обломова. В «Обрыве» нет подобной централизации, отсутствует в нем и экспозиция, знакомящая читателя с условиями формирования героев. Характерно, что в процессе работы над романом Гончаров свел до минимума предшествующую изображаемым событиям историю жизни Райского, воспроизведение породившей его среды. В последнем романе Гончарова имеется несколько главных, центральных героев: Райский, Вера, Бережкова и Тушин. Больший захват жизни отражен и в сюжете. Сюжет «Обыкновенной истории» как бы вытянут в одну ниточку. Следует говорить о художественном схематизме этого романа. В нем заключен один конфликт и развивается одна интрига. В «Обломове» Гончаров пошел еще дальше в освобождении русского романа от сложного и динамического сюжета, занимательной фабулы — он как бы остановил движение жизни. «Обрыв» же не монографический, а многосюжетный роман, включающий ряд самостоятельных, центральных и второстепенных историй. В нем даны запутанные, многообразные перипетии, занимательные и эффектные ситуации, крайне изменчивые характеры, бурно развивающийся (в конце романа) сюжет. Многосюжетность «Обрыва», необходимая для широкого захвата жизни, не нарушает единства романа. В каждом из сюжетов речь идет об истории того или другого типа любви. Совокупность же этих историй дает как бы исчерпывающую картину «параллелей страстей». И здесь проявляется рационалистическая и дидактическая тенденция. Приводя эти параллели, художник заставляет сравнивать и выбирать, он как бы подсказывает одно, нормальное, и остерегает от другого, опасного или гибельного. Структуру своего романа, вобравшую «параллели страстей», Гончаров, конечно, создавал не как геометрический чертеж. Но поэтика всех трех его романов убеждает, что в природе таланта их автора лежала сильная склонность к той «вдохновенной геометрии», о которой справедливо говорят некоторые пушкинисты, характеризуя принципы пушкинской композиции. Эта особенность поэтики Гончарова коренилась в характере его художественного мышления, сложившегося в процессе осознания и воспроизведения дореформенной действительности. Последняя обладала таким соотношением своих элементов, которое могло питать гончаровский «художественный догматизм». Названной склонности Гончаров остался верен и в романе «Обрыв». В нарисованной им картине жизни явились параллели 187 различных типов любви, строгая градация их содержания и форм проявления. Борьба за Веру, развернувшаяся между героями романа, и связанная с нею, вытекающая из нее внутренняя борьба, совершающаяся в нравственном мире Веры, трагический исход всего этого как преддверие избавления от «обрыва» и обновления для иной жизни — такова сердцевина всего романа. В нее-то и стягиваются все многочисленные сюжетные линии «Обрыва». Вместо централизации структуры романа вокруг типического характера возникла централизация вокруг типического конфликта. Главная задача Гончарова заключалась в том, чтобы поставить своих многочисленных и разнообразных героев в обстановку единого и многостороннего конфликта, отражающего борьбу нового со старым. Романист был чуток к этой борьбе и открывал ее проявления в самых интимных сторонах человеческой жизни. Он подчеркивал, что в нарисованном им конфликте его в конечном счете интересовали не индивидуальные судьбы конкретных личностей, а выраженная в них борьба старой и новой жизни. «Пала, — говорит он, — не Вера, не личность, пала русская девушка, русская женщина, — жертвой в борьбе старой жизни с новою» (VIII, 96). В романе «Обрыв» возникли и другие изменения в его поэтике. Смещения произошли в художественной символике романиста. Обломовщина явилась символическим обозначением определенного общественного уклада жизни и выросших на нем строя психики и особенностей поведения. Образ «обрыва» в последнем романе также имеет общее значение и постоянно, как и слово «обломовщина», обыгрывается художником при изображении самых различных ситуаций. Но образ «обрыва» в концепции всего романа — это не художественный символ широкого общественного уклада жизни, не средство типизации характеров и обстоятельств, а аллегория «новой лжи», нравственного падения, «греха», отступления от «правды». Совершенно очевидно, что такой аспект в художественном обобщении вел к дидактизму (аллегория присуща дидактическим жанрам), к усилению моралистической тенденции. Некоторые персонажи «Обрыва» превратились в дидактические символы, явились олицетворением «новой правды» (Тушин), России (бабушка), «новой лжи» (Волохов) и т. д. И самый конфликт между двумя «правдами», его исход приобрели резко выраженный дидактический характер. Гончаров всегда стремился предохранить себя от дидактизма и рассудочности. Он великолепно отдавал себе отчет в поджидающей его опасности, таящейся в самом существе всей его общественной и творческой позиции. Романист декларировал необходимость спокойного и беспристрастного отношения истинного художника к своему предмету изображения. Только такое отношение позволяет писателю приблизиться к истине жизни. Созданные Гончаровым объективные формы художественного воспроизведения жизни сыграли выдающуюся роль в борьбе и с романтической поэтикой, и с дидактической литературой, проникнутых субъективизмом, произвольным обращением с предметом изображения. Гончаров скептически оценивал писателей с субъективным складом таланта и противопоставлял им художников, талант которых отличается эпическим беспристрастием. Однако — и так часто бывает — художник «ушибся» об то самое, что он так желал избежать и против чего так решительно выступал. Дидактическая нота сильно прозвучала в его последнем романе. И это было вызвано сдвигом (назовем его «поправением») в понимании романистом положительных начал жизни. Талант Гончарова особенно расцветал в тех случаях, когда он всецело отдавался непосредственному творчеству, когда он находился полностью под властью главной своей потребности — рисовать характеры и наслаждаться своей способностью их рисовать. Они же говорили сами за 188 себя. В «Обрыве» же между автором и действительностью встал художникромантик Борис Павлович Райский. Ему романист передал функции наблюдателя и судьи жизни, свое понимание событий и лиц. Это как бы ограничило Гончарова в правах непосредственного общения с действительностью и непосредственного творчества. Чем же объясняется такая принципиальная роль романтика Райского в отношениях реалиста Гончарова с изображаемой им действительностью? Посредничество Райского между романистом и жизнью необходимо было для осуществления одного из основных эстетических принципов Гончарова. Автор «Обрыва» считал, что подлинный художник не прямо списывает жизнь общества и природы, а как бы видит их через свою фантазию. Свою фантазию Гончаров и объективировал в образе такого героя, которому она была особенно свойственна. С помощью фантазии Райского романист стремился лучше приблизиться к сущности действительности (а заодно и к образу самого Райского), освободиться от непосредственной связи с нею. Художник Райский необходим был Гончарову и для выражения своих эстетических идей, особенно своих взглядов на роман. Более того, процесс работы Райского над романом, его поиски формы и предмета романа во многом отражают манеру, искания Гончарова-романиста. «Обрыв» во многом явился ответом на вопросы о том, что такое роман, искусство, каков творческий процесс у художника, в каких отношениях с жизнью он должен находиться, какая жизнь «просится» в роман, в живопись, в скульптуру, в музыку. И все это высказано с помощью Райского, показано в его размышлениях об искусстве, в его творческой работе. Следовательно, Борис Райский — очень близкое романисту лицо. Но Гончаров полностью не передает ему своих функций. В романе есть и наблюдатель жизни, художник-артист Райский, и трезвый реалист Гончаров. Точка зрения последнего на жизнь и людей, на творчество и страсть не только сливается с восприятием Бориса Райского, но и отлична от него, самостоятельна. Не отказывается романист и от своего суда над Райским, от иронии над его идеалистическими представлениями о жизни, творчестве и страсти. Так возникло «два потока» в течении повествования. Они то сливаются, то расходятся, споря. Реальная жизнь развивается сама по себе, по своим не фантастическим, а действительным законам страсти, и в то же время она отражается в представлениях и поступках Райского. Без изображения этого невозможно было показать художника Райского в жизни и в искусстве. И именно такого художника, у которого фантазия и анализ не в ладу, который живет и любит фантазией. Из сказанного видно, что Гончаров полностью не отказался от своего первоначального замысла написать роман о художнике. Многое осталось от этого замысла в окончательном тексте «Обрыва», но слилось с другими, ставшими для романиста более актуальными вопросами. 4 После «Обрыва» Гончаров не возвращался к жанру романа, хотя в его воображении и рисовался новый, четвертый роман, захватывающий современную ему «укладывающуюся» действительность. Но роман так и не был создан. Препятствием к этому было не только непонимание романистом новейших типов русской жизни или то, что он исчерпал свою эпоху в той форме романа, которая была подсказана автору характерным для этой эпохи укладом жизни. С новыми типами романист мог бы познакомиться, а сложившуюся у него форму романа сломать и создать новую, соответствующую новому предмету изображения. Тенденция к этому у него, как было сказано, уже наметилась. Принципы типизации образа Райского глубоко противоположны принципам типизации образа Обломова. В одном 189 случае типизация улавливала устойчивое, коренное, уходящее глубоко в почву. В другом случае она раскрывала крайне изменчивое и противоречивое, почти неуловимое. Это стремление романиста воспроизвести в качестве типического изменчивое и противоречивое, находящееся в состоянии непрерывного брожения, свидетельствовало о том, что его художественная практика в какой-то мере ломала его эстетические представления о типическом. Следовательно, Гончаров обнаружил способность изменять свою систему, когда этого требовал предмет изображения. И все-таки романа о пореформенной, «переворотившейся» действительности он не написал. У Гончарова была своя большая духовная, писательская драма, свой «обрыв». С появления образа Марка Волохова началось охлаждение к писателю не только «молодого поколения», но и всего прогрессивного русского общества. Достаточно вспомнить многочисленные и безуспешные попытки автора «Обрыва» объясниться с отвернувшимся от него обществом, чтобы понять, как были глубоки страдания крупнейшего художника России. И дело не только в Марке Волохове, источнике столкновений Гончарова с современной ему действительностью. Это только эпизод в истории драматических отношений писателя и общества. Вся литературнообщественная позиция и эстетика типического у Гончарова привели его к безысходному конфликту с формирующейся пореформенной действительностью. И этот итоговый конфликт свидетельствовал не только об ограниченности взглядов писателя на жизнь, на типическое в искусстве. Он говорил и о силе художника, о его честности, о верности правде. Да, его испугала революционная Россия! И это явилось одной из причин его разобщения с современностью. Но он, как художник, не воспел и пореформенный буржуазный прогресс, не стал апологетом капиталистической цивилизации. Он готов был даже временами восхищаться Штольцами и Тушиными на заре их деятельности, но удержался от изображения их полного торжества в пореформенное время. Да и в романах своих Гончаров поставил Ольгу и Веру не только выше дворян Обломова и Райского, но и выше буржуазных героев — Штольца и Тушина, что также вело к разрыву художника с капитализирующейся современностью. При такой позиции ему действительно было не ясно, куда же следует вести Ольгу и Веру в условиях пореформенной России. И это тоже заставило художника отказаться от изображения современности. Необходимо вспомнить о самом сокровенном в позиции писателя, когда речь идет о его отношениях с современностью. Поборника и пропагандиста буржуазного прогресса настораживали присущие капиталистам черты — бесчеловечность, утрата высоких духовных стремлений и идеалов, меркантилизм. Гончаров среди русских романистов один из первых разгадал убожество «философии жизни» русского буржуа, мизерность его идеала счастья, трусливость перед большими проблемами бытия, непонимание им подлинных потребностей человеческой личности. И это разгадал художник, который связывал с буржуазным прогрессом судьбы мира и своей родины! Как и во многих других случаях, здесь правда жизни оказалась сильнее надежд писателя. Да, романист понимал, что судьба социальноэкономического прогресса находится в руках буржуазии. И это была историческая истина. Ее высказывал и Белинский. Но художник, подобно своему учителю, уловил и нравственную бескрылость Штольца, прозрел в нем человека узких горизонтов, духовно обедненного, способного довольствоваться достигнутым. В мыслях, во всей своей духовной сущности Штольц объективно оказался таким же консервативным, как и сам Обломов. И в этом тоже заключалась правда. Но эта правда служила уже будущему. Гончаров иногда оглядывался назад, на патриархально-обломовское царство и будто спрашивал: а не здесь ли сохранились цельность человеческой 190 личности, ее достоинство, человечность, любящее сердце, высокие помыслы? Вот почему Гончаров, автор романапутешествия «Фрегат „Паллада”», любуется стройной, трудовой, благообразной, чистой жизнью обитателей Ликейских островов, этого забытого цветущего уголка, где люди живут еще в «золотом веке». Это промелькнувшее чувство симпатии вовсе не означает, что Гончаров хотел бы остановить колесо истории. Нет, он убежден, что буржуазная цивилизация придет и в этот благословенный уголок. Симпатии автора говорят о другом. В них видна прорывающаяся грусть, вызванная тем, что современный ему человек утрачивает человеческое. Этот гуманистический мотив звучит и в романах Гончарова — в горячих тирадах Александра Адуева и Ильи Ильича Обломова об утрате современным им человеком своего высокого предназначения и достоинства. В них, конечно, много смешного, что великолепно понимал автор, он видел, что свой идеал цельного человека его герои черпают в родной им Обломовке. Но заветной мечтой самого романиста все же было гармоническое слияние лучшего из прошлого с лучшим в настоящем — с энергией, исканиями ума, созидательной деятельностью, прогрессом. Таково заветное желание романиста. Оно утопично, ибо подлинными наследниками всего лучшего, что оказалось завоеванным и накопленным в нравственной истории человечества, выступили такие социальные силы, которые были незнакомы Гончарову. Следовательно, в уходе романиста от современности, в отказе от романического творчества сказывались не только растерянность перед новым, непонимание этого нового (демократической России), но и все более завладевавшее им равнодушие к складывающемуся буржуазному обществу, к преуспеянию его героев. Поэтому Гончаров, поборник буржуазного прогресса, не написал эпопею буржуазного мира. Необходимо иметь в виду и еще одно важное обстоятельство — характер художественного мышления Гончарова, особенности его таланта. Подобного рода препятствие на пути сближения романиста с современностью нельзя было устранить, не став художником совсем иного типа. Это вовсе не значит, что оригинальность таланта фатально предопределяет все его возможности. Л. Н. Толстой пореформенных лет очень остро воспринимал современную ему действительность. И под ее воздействием совершился принципиальный перелом не только в его идеологической позиции, но и во всей его художественной системе, в способах и приемах изображения жизни, даже в строе его художественного языка. Так остро воспринимаемая им действительность открыла, пробудила и развила в его таланте новые творческие способности и возможности. То же следует сказать о Достоевском и Глебе Успенском. Этого сказать нельзя о Гончарове. Новый строй русской жизни не захватил его в свой водоворот и не вызвал в нем той глубочайшей ломки, которую пережили прозаики пореформенной эпохи. Талант Гончарова оказался неподатлив на впечатления, возбуждаемые современной ему действительностью. Эстетика и практика романа, художественное мышление и мастерство Гончарова сложились на почве осознания им особенностей дореформенной жизни и задач ее воспроизведения в искусстве. Он пытался, исходя из своего личного опыта, установить некоторые общие законы искусства, перенести результаты своей практики и осознания ее на искусство в целом (теория и практика типического). Но оказалось, что новый, складывающийся тип жизни пришел в резкое столкновение с художественным мышлением Гончарова, с его эстетикой, с его системой романа, с устаревшими приемами изображения действительности. Это обстоятельство и лишило его возможности обратиться к созданию романа о новом. У Гончарова навсегда сохранилось глубокое убеждение в том, что типизировать средствами искусства можно лишь прошлое или такие явления 191 и характеры современности, которые тесно связаны с прошлым. Это и привело Гончарова-романиста к безысходному конфликту с формирующейся современностью. В ее осознании он был слаб, ограничен. Но вся система его поэтики, тип его мышления, особенности его таланта, беспомощные перед хаосом складывающейся действительности, приобретали огромную силу проникновения в прошлое, в сложившийся уклад жизни, выявивший все свои возможности. В историю русской литературы Гончаров вошел как выдающийся мастер реалистического общественно-психологического романа. Его великая заслуга состоит в том, что он с исчерпывающей полнотой и с большим мастерством художника-реалиста раскрыл и объяснил читателю сущность патриархально-крепостнической Руси, пропел отходную умирающему миру и тем внес неоценимый вклад в общедемократическую борьбу за свободу народа. В руки революционных поколений России Гончаров дал роман, который явился могучим оружием в борьбе с эксплуататорским строем жизни. 192 Н. Г. Чернышевский , Полное собрание сочинений, т. VII, Гослитиздат, М., 1950, стр. 713. 2И. С. Т ургенев , Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Письма, т. IV, Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 309. 3Там же, стр. 201. 4 Там же, т. V, стр. 11—12. 5 Там же, т. VI, стр. 378. 1 6 «Вестник Европы», 1885, апрель, стр. 471. И. С. Тур генев , Письма, т. V. М.—Л., 1963, стр. 40. 8 Там же, т. IV, стр. 262. 9 А. И. Герцен , Полное собрание сочинений и писем, т. XVII, Пб., 1922, стр. 255. 10 Л. Н. Толстой , Полное собрание сочинений (юбилейное издание), т. 61. Гослитиздат, М., 1953, стр.172. 11А. И. Герцен , Полное собрание сочинений и писем, т. XIX, 1922, стр. 314. 12 Н. А. Некрасов , Полное собрание сочинений и писем, т. XI, Гослитиздат, М., 1952, стр. 85. 13 Д. И. Писарев , Сочинения, т. 4, Гослитиздат, М., 1956, стр. 424. 14 И. С. Т ургенев , Собрание сочинений, т. IX, ГИЗ, М.—Л., 1930, стр. V. 15 Г. А. Бялый. «Дым» в ряду романов Тургенева. «Вестник Ленинградского университета», № 9, 1947, ст.р. 102 (вошло в книгу: Г. Бялый. Тургенев и русский реализм. Изд. «Советский писатель», М.—Л., 1962, стр. 171—197). 16 Там же, стр. 100. 17 Там же. 18 С. М. Петров . Роман Тургенева «Дым». «Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», т. XVII, вып. 5, 1958, стр. 407. 19 «Новая жизнь», 1912, № 12, стр. 155. 20 Там же, стр. 169. 21 Там же, стр. 163. 22 И. С. Т ургенев , Собрание сочинений, т. IV, Гослитиздат, М., 1954, стр. 24. Все последующие ссылки на это издание (тт. I— XII, 1953—1958) даются в тексте (том и страница). Напомним высказывание Герцена: «„День” запрещен, „Современник” и „Русское слово” запрещены, воскресные школы заперты, шахматный клуб заперт, читальные залы заперты, деньги, назначенные для бедных студентов, отобраны, типографии отданы под двойной надзор... видно, николаевщина была схоронена заживо и теперь встает из-под сырой земли, в форменном саване, застегнутом на все пуговицы» (А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. XV,1920, стр. 310—311). 23 С. М. Петров . Роман Тургенева «Дым», стр. 403. 24 Письма И. С. Тургенева к г-же Полине Виардо и его французским друзьям. Изд. Д. П. Ефимова, М., 1900, стр. 168. 25 И. С. Т ургенев , Собрание сочинений, т. IX, ГИЗ, М.—Л., 1930, стр. XXVIII. 26 «Дым». Карикатурный роман А. Волкова и К°, живьем взятый из художественносатирического романа И. С. Тургенева. СПб., 7 1869, стр. 33. 27 См. письмо Д. И. Писарева от 18(30) мая 1867 года И. С. Тургеневу: Д. И. Писарев , Сочинения, т. 4, стр. 424—425. 28 А. Мазон. Парижские рукописи И. С. Тургенева. Изд. «Academia», 1931, стр. 116. 29 Там же, стр. 123. 30 М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, стр. 84. 31 Там же, стр. 102. 32 А. Мазон. Парижские рукописи И. С. Тургенева, стр. 116, 118 и 123. 33 С. Н. Кривенко . Из литературных воспоминаний. Цит. по: сб. «Тургенев в воспоминаниях революционеровсемидесятников», изд. «Academia», М. — Л., 1930, стр. 217— 218. 34 Там же, стр. 7. 35 Там же, стр. 124. 36 М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, стр. 102—103. 37 Там же, стр. 340. 38 Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полное собрание сочинений, т. XIX, Гослитиздат, М., 1939, стр. 87—88. 39 Л. Н. Толстой , Полное собрание сочинений (юбилейное издание), т. 62, Гослитиздат, М., 1953, стр. 314. 40 Г. Макогоненко . Политический смысл романа «Новь». «Литературный современник», 1939, №№ 7—8. 41 И. С. Т ургенев , Собрание сочинений, т. IX, ГИЗ, М.—Л., 1930, стр. 162. 42 Г. А. Бялый . От «Дыма» к «Нови». «Ученые записки Ленинградского гос. педагогического института, факультет языка и литературы», т. XVIII, вып. 5, 1956, стр. 97—98. 43 А. Г. Цейтлин . Мастерство Тургенева-романиста. Изд. «Советский писатель», М., 1958, стр. 265. 44 Там же, стр. 383. 45 Там же. 46А. Мазон. Парижские рукописи И. С. Тургенева, стр. 107. 47 «Литературное наследство», 1939, № 37—38, стр. 222. 48 Там же, стр. 450. 49 М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, стр. 102—103. 50 А. Мазон. Парижские рукописи И. С. Тургенева, стр. 108. 51 М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, стр. 243. 52 «Народное дело», 1869, № 7—10, стр. 159—160. 53 М. К. Клеман . И. С. Тургенев. ГИХЛ, Л., 1936, стр. 199. 54 Письма К. Д. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. Женева, 1892, стр. 222. В. Г. Белинский , Полное собрание сочинений, т. X, Изд. АН СССР, М., 1956, стр. 332, 333. 56 См.: Н. И. Пр уцков . В. П. Боткин и литературно-общественное движение 40—60-х годов XIX столетия. «Ученые записки Грозненского гос. педагогического института», № 3, 1947, стр. 115. 57 И. А. Гончаро в , Собрание сочинений, т. VIII, Гослитиздат, М., 1955, стр. 84 (см. также в статье «Намерения, задачи и идеи романа „Обрыв”» на стр. 215). Все последующие ссылки на это издание (тт. I—VIII, 1952—1955) даются в тексте (том и страница). 58 Она получила наиболее отчетливое выражение в известном письме Гончарова к Некрасову от 22 мая 1868 года. 59 «Русская старина», 1914, № 2, стр. 432—433. 60 Письмо к Никитенко датировано 17 июня 1862 года. 61 См.: Чехов в воспоминаниях современников. Гослитиздат, М., 1954, стр. 560. 62 Н. Щедрин (М. Е . Салтыков ), Полное собрание сочинений, т. VIII, 1937, стр. 122 и сл. 55 ArticlesMy Google PR Исходный английский текст: Herder was probably misled bÿ the fact that the Danish word elle signifies not only elf, but also alder tree (Ger. Erle). His mistake at any rate has been perpetuated by both English and French translators, who speak of a "king of the alders," "un roi des aunes," and find an explanation of the myth in the tree-worship of early times, or in the vapoury emanations that hang like weird phantoms round the alder trees at night. Предложить лучший вариант перевода