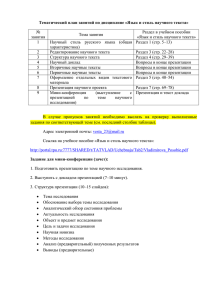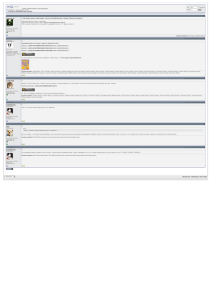Лотман Ю. М. Текст и полиглотизм культуры
advertisement
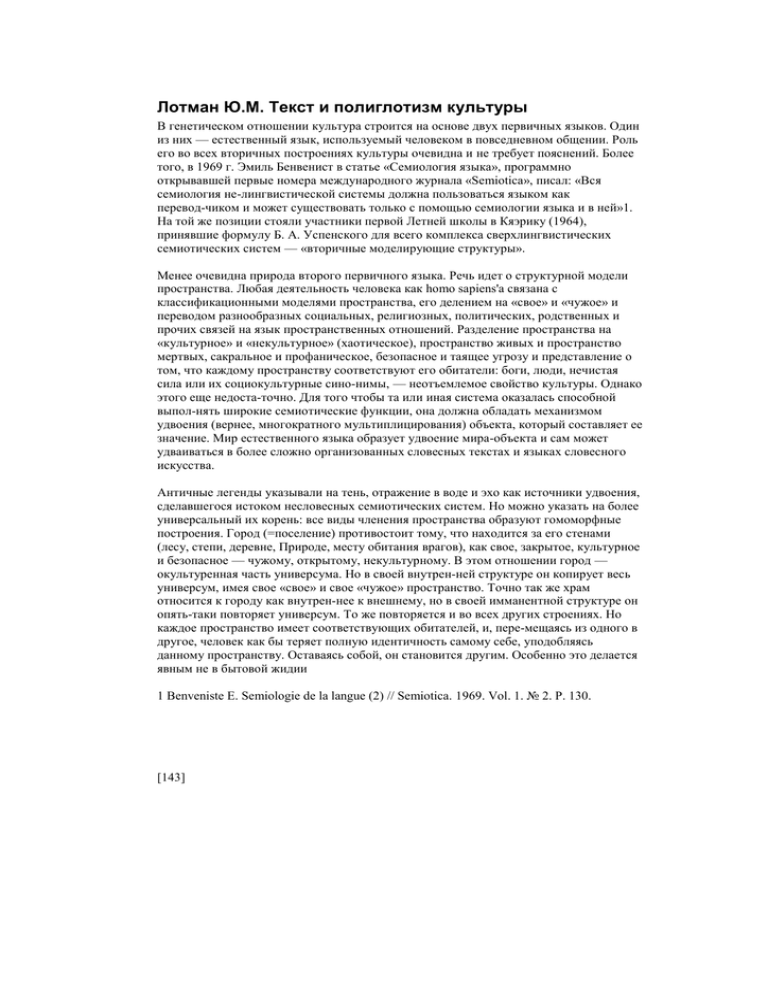
Лотман Ю.М. Текст и полиглотизм культуры В генетическом отношении культура строится на основе двух первичных языков. Один из них — естественный язык, используемый человеком в повседневном общении. Роль его во всех вторичных построениях культуры очевидна и не требует пояснений. Более того, в 1969 г. Эмиль Бенвенист в статье «Семиология языка», программно открывавшей первые номера международного журнала «Semiotica», писал: «Вся семиология не-лингвистической системы должна пользоваться языком как перевод­чиком и может существовать только с помощью семиологии языка и в ней»1. На той же позиции стояли участники первой Летней школы в Кяэрику (1964), принявшие формулу Б. А. Успенского для всего комплекса сверхлингвистических семиотических систем — «вторичные моделирующие структуры». Менее очевидна природа второго первичного языка. Речь идет о структурной модели пространства. Любая деятельность человека как homo sapiens'a связана с классификационными моделями пространства, его делением на «свое» и «чужое» и переводом разнообразных социальных, религиозных, политических, родственных и прочих связей на язык пространственных отношений. Разделение пространства на «культурное» и «некультурное» (хаотическое), пространство живых и пространство мертвых, сакральное и профаническое, безопасное и таящее угрозу и представление о том, что каждому пространству соответствуют его обитатели: боги, люди, нечистая сила или их социокультурные сино­нимы, — неотъемлемое свойство культуры. Однако этого еще недоста­точно. Для того чтобы та или иная система оказалась способной выпол­нять широкие семиотические функции, она должна обладать механизмом удвоения (вернее, многократного мультиплицирования) объекта, который составляет ее значение. Мир естественного языка образует удвоение мира-объекта и сам может удваиваться в более сложно организованных словесных текстах и языках словесного искусства. Античные легенды указывали на тень, отражение в воде и эхо как источники удвоения, сделавшегося истоком несловесных семиотических систем. Но можно указать на более универсальный их корень: все виды членения пространства образуют гомоморфные построения. Город (=поселение) противостоит тому, что находится за его стенами (лесу, степи, деревне, Природе, месту обитания врагов), как свое, закрытое, культурное и безопасное — чужому, открытому, некультурному. В этом отношении город — окультуренная часть универсума. Но в своей внутрен­ней структуре он копирует весь универсум, имея свое «свое» и свое «чужое» пространство. Точно так же храм относится к городу как внутрен­нее к внешнему, но в своей имманентной структуре он опять-таки повторяет универсум. То же повторяется и во всех других строениях. Но каждое пространство имеет соответствующих обитателей, и, пере­мещаясь из одного в другое, человек как бы теряет полную идентичность самому себе, уподобляясь данному пространству. Оставаясь собой, он становится другим. Особенно это делается явным не в бытовой жидии 1 Benveniste E. Semiologie de la langue (2) // Semiotica. 1969. Vol. 1. № 2. Р. 130. [143] (хотя и там присутствует), а в ритуалах. Ритуальное пространство гомоморфно копирует универсум, и, входя в него, участник ритуала то становится (оставаясь собой) лесным духом, тотемом, мертвецом, покрови­тельственным божеством, то вновь обретает человеческую сущность. Он отчуждается от себя, превращаясь в выражение, содержанием которого может быть он сам (ср. изображения умерших на саркофагах и «похоронных» портретах) или то или иное сверхъестественное существо. Благодаря членению пространства, мир удваивается в ритуале, так же, как он удваивается в слове. Следствием этого являются ритуальные изображения (маски, раскраска тела, танцы, надгробные изображения — саркофаги и т. п.) — истоки пластических искусств. Изображение тела возможно лишь после того, как само тело в тех или иных ситуациях начинает осознаваться как изображение себя. Без первичного членения пространства на сферы, требующие различного поведения, изобрази­тельные искусства были бы невозможны. Удвоение мира в слове и человека в пространстве образуют исходный семиотический дуализм. Культура в соответствии с присущим ей типом памяти отбирает во всей этой массе сообщений то, что, с ее точки зрения, является «текстами», т. е. подлежит включению в коллективную память. Следует, однако, обратить внимание на другую сторону вопроса: текст, рассматриваемый в перспективе какой-либо одной лингвистической системы, представляет собой реализацию какого-то одного языка. Куль­тура впринципе полиглотична, и тексты ее всегда реализуются в про­странстве как минимум двух семиотических систем. Слияние слова и музыки (пение), слова и жеста (танец) в едином ритуальном тексте было отмечено академиком А. Н. Веселовским как «первобытный синкретизм». Но представление о том, что, расставшись с «первобытной» эпохой, культура начинает создавать тексты моноязыкового типа, реализующие строго законы какого-либо одного жанра по строго однолинейным правилам, вызывает возражения. Даже если оставить в стороне указание на то, что на всем протяжении истории культуры тексты, синкретически сочетающие в едином действе все основные виды семиозиса, не исчезают, и не вспоминать ни литургии, ни карнавала, ни хепенинга, ни современ­ных выступлений рок-ансамблей, ни празднеств эпохи Великой француз­ской революции, ни других примеров синкретизма, то отступающих на периферию культуры, то занимающих в ней центральное положение, придется говорить, что зашифрованность многими кодами есть закон для подавляющего числа текстов культуры. Подлинно однолинейными будут лишь тексты на искусственных языках или же специально создавае­мые учебные иллюстрации к тем или иным сборникам теоретических правил. Таковы, например, «Опыты» В. Брюсова. Уже тот факт, что текст в своей синхронности может опираться разными своими частями на память различной временной глубины, делает его неоднородно зашифрованным. Так, большинство барочных храмов Цент­ральной Европы сохраняют для зрителя свою готическую или даже романскую первооснову. Кафедральный собор в Сиракузах, перестроен­ный из античного храма в христианскую базилику, сохранил во внутренней конструкции ряды античных колонн в стиле пестум, к которым достроена романская алтарная часть, и все это объединено великолепным барочным фасадом. Получается единый, но многоголосый текст. В Палатинской капелле в Палермо, которую Мопассан назвал прекраснейшей в мире и самой удивительной ювелирно-религиозной драгоценностью, которую создавали мечты человека и искусство ремесленника, зала в построенном [144] норманнами в XII в. дворце украшена византийскими мозаиками и увенчана кедровым потолком типично арабского стиля. Не только элементы, принадлежащие к различным историческим и этническим культурным традициям, но и постоянные внутритекстовые диалоги между жанрами и разнонаправленными структурными упорядоченностями образуют ту внутреннюю игру семиотических средств, которая, ярче всего проявляясь в художественных текстах, оказывается, по существу, свойством любого сложного текста. Именно это свойство делает текст смысловым генератором, а не только пассивным вместилищем извне заложенных в нем смыслов. Это позволяет видеть в тексте образо­вание, заполняющее пустующее место между индивидуальным созна­нием — смыслопорождающим семиотическим механизмом, базирующимся на функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга, — и полиструктурцым устройством культуры как коллективного интеллекта. Сказанное делает возможным внести некоторые коррективы в тради­ционное понятие текста. Исходным положением считается, что, поскольку текст всегда есть текст на каком-либо языке, то язык всегда дан — логически, а часто полагают, и хронологически -- до текста. Это убеж­дение долгое время определяло направленность интересов лингвистов. Текст рассматривался как материал, в котором манифестируются законы языка, как в некотором роде руда, из которой лингвист выплавляет структуру языка. Подобное представление хорошо объясняло коммуни­кативную функцию языка, ту функцию, которая лежит на поверхности и легко схватывается наиболее простыми методами анализа. Поэтому она долгое время представлялась основной, а для некоторых лингвистов — единственной функцией языка. С точки зрения этой функции, «работа» языка заключается в передаче получателю именно того сообщения, которое передал отправитель. Всякое изменение в тексте сообщения есть искажение, «шум» — результат плохой работы системы. Если стоять на этой позиции, то придется признать, что оптимальной языковой структурой являются искусственные языки и метаязыки, ибо только они гарантируют безусловную сохранность исходного смысла. Именно такое представление являлось — скорее психологической, чем научной — базой распространенного в 1960-е гг. снисходительного отношения к языкам поэзии (и искусства вообще) как «неэффективным» и неэко­номно устроенным. При этом забывалось, что крупнейшие лингвисты, как, например, Р. О. Якобсон, еще в 1930-е гг. прозорливо подчеркивали, что область поэтического языка есть сфера выявления важнейших законо­мерностей лингвистики в целом. Можно выделить еще одну функцию семиотических систем и, соответ­ственно, текстов. Кроме коммуникативной функции, текст выполняет и смыслообразующую, выступая в данном случае не в качестве пассивной упаковки заранее данного смысла, а как генератор смыслов. С этим связаны хорошо известные историкам культуры реальные факты, когда не язык предшествует тексту, а текст предшествует языку. Вопервых, сюда следует включить весьма широкий круг явлений, относя­щихся к фрагментам дошедших до нас архаических культур. Случаи, когда археология располагает предметом (=текстом), функция которого нам неизвестна, равно как и свойственный ему культурный контекст, достаточно распространены. Обладая уже текстом (словесным, скульп­турным, архитектурным), мы оказываемся перед задачей реконструкции кода по тексту. Реконструируя гипотетический код, мы обращаемся к реальному тексту (или ему подобным), проверяя на них достоверность реконструкции. [145] Фактически не отличается от первого случая и второй, при котором мы имеем дело не со старыми, а с самыми новыми произведениями искусства: автор создает уникальный текст, т. е. текст на еще не известном языке, а аудитория, для того чтобы принять текст, должна овладеть новым языком, созданным ad hoc. Тот же механизм работает и в третьем случае — при обучении родному языку. Ребенок также получает ..тексты до правил и реконструирует структуру языка по текстам, а не тексты по структуре. В протекающем подобным образом процессе дешифровки мы имеем, во-первых, лишь частичное и относительное соответствие языка тексту. Во-вторых, сам текст, будучи семиотически неоднородным, вступает в игру с дешифрующими его кодами и оказывает на них деформирующее воздействие. В результате в процессе продвижения текста от адресанта к адресату происходит сдвиг смысла и его приращение. Поэтому данную функцию можно назвать творческой. Если в первом случае всякое изменение смысла в процессе передачи есть ошибка и искажение, то во втором оно превращается в механизм порождения новых смыслов. Так, Э. Т. А. Гофман, причудливо соединив два разнородных текста: записки кота Мурра и жизнеописание капельмейстера Иоганнеса Крейслера, превратил еще и опечатки в комический прием, добавив в предисловии: «Разве не правда, что порой авторы обязаны экстравагантностью своего стиля благосклонным наборщикам, которые споспешествуют вдохновен­ному приливу идей своими так называемыми опечатками»2. А Гоголь реальные опечатки в первом издании «Вечеров на хуторе близ Диканьки» превратил в небольшое комическое эссе3. Можно было бы вспомнить письмо городничего в «Ревизоре», написанное на трактирном счете Хлестакова: «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...»4 или телеграмму в «Душечке» Чехова («хохороны» вместо «похороны»). Но в «Анне Карениной» описан случай, когда «шум» порождает новый — не комический, а серьезный — смысл: пятно, поставленное детьми на бумагу, помогает художнику найти не дававшееся ему положение фигуры. Столкновение разных типов кодирования — основной прием иронии в «Евгении Онегине», а Ахматова говорит о «чужом слове», которое «проступает» потому, что «я на твоем пишу черновике». Все случаи оключения в текст «чужого слова», рассмотренные М. М. Бахтиным и вслед за ним неоднократно подвергавшиеся изучению, относятся к столк­новению различно закодированных субтекстов и к смыслообразовательным процессам на границе смены кодов. Таким образом, с точки зрения первой функции, естественно представ­лять себе текст как манифестацию одного языка. В этом случае он гомоструктурен и гомогенен. С точки зрения второй функции, текст гетерогенен и гетероструктурен, он есть манифестация одновременно нескольких языков. Сложные диалогические и игровые соотношения между разно­образными подструктурами текста, образующими его внутренний полиглотизм, являются механизмами смыслообразования. 2 Гофман Э. Т. А. Крейслериана; Житейские воззрения кота Мурра; Дневники. М., 1972. С. 100. 3 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М., 1940, Т. 1. С. 317. 4 Там же. М., 1951. Т, 4. С. 42. [146] Можно представить себе семиотическую ось, на одном конце которой располагаются искусственные языки, метаязыки и все механизмы, обеспечивающие однозначность понимания, в центре — естественные языки, а на другом конце — полиструктурные системы типа языков поэзии (и искусства вообще). Реальные тексты перемещаются по этой оси в зависимости от их структурной доминанты. При этом читательское восприятие может сдвигать текст в ту или иную сторону, перемещая доминанту. Третья функция текста связана с памятью культуры. В этом аспекте тексты образуют свернутые мнемонические программы. Способность отдельных текстов, доходящих до нас из глубины темного культурного прошлого, реконструировать целые пласты культуры, восстанавли­вать память, наглядно демонстрируется всей историей культуры человечества. Не только метафорически можно было бы сопоставить тексты с семенами растений, способными хранить и воспроизводить память о предшествующих структурах. В этом смысле тексты тяготеют к символизации и превращаются в целостные символы. Символы полу­чают высокую автономию от своего культурного контекста и функцио­нируют не только в синхронном срезе культуры, но и в ее диахронных вертикалях (ср. значение античной и христианской символики для всех срезов европейской культуры). В этом случае отдельный символ высту­пает как изолированный текст, свободно перемещающийся в хроноло­гическом поле культуры и каждый раз сложно коррелирующий с ее синхронными срезами. Таким образом, в современном понимании текст перестает быть пассив­ным носителем смысла, а выступает в качестве динамического, внутренне противоречивого явления — одного из фундаментальных понятий современной семиотики. Однако рассмотрение текста как генератора смыслов, звена в иерархи­ческой цепочке «индивидуальное сознание — текст — культура» может вызвать вопросы. Очевидно, что текст сам по себе ничего генерировать не может — он,должен вступить в отношения с аудиторией, для того чтобы реализовались его генеративные возможности. Само по себе это не должно изумлять: любая динамическая генерирующая система не может работать в условиях изоляции от внешних потоков информации. Что же это означает применительно к тексту (=культуре)? Чтобы осу­ществить генерирующую смысловую активность, текст должен быть погружен в семиосферу. А это означает парадоксальную ситуацию: он должен получить «на входе» контакт с другим (другими) текстом (текстами). Аналогичным образом можно было бы сказать, что контакт с другой культурой играет роль «пускового механизма», запускающего генеративные процессы. Память человека, вступающего в контакт с текстом, можно рассматривать как сложный текст, контакт с которым приводит к творческим изменениям в информационной цепи. Парадоксальное утверждение, что тексту должен предшествовать текст (культуре — культура), находит параллель в автокаталитических реакциях (см. раздел «Вместо заключения» в настоящей книге), в ко­торых результат реакции должен стимулировать ее начало. Знаменитый вопрос Простаковой: «Портной учился у другого, другой у третьего, да перво-ет портной у кого учился?»5 — в научной постановке теряет свой смысл, ибо само понятие «портной» есть результат длитель5 Фонвизин Ц. И. Собр. соч.: В 2 т. М ; Л., 1959. Т. 1. С. 108. [147] ной истории швейного искусства. Можно было бы вспомнить, как решался аналогичный вопрос В. И. Вернадским применительно к происхождению жизни: «Надо искать не следов начала жизни на нашей планете, но материально-энергетических условий проявления планетарной жизни»6. Вообще, вопрос о «первом портном», по сути дела, принадлежит мифологии и в рамках науки не решается. Известные случаи воспитания клинически здоровых детей в полной изоляции от внешних текстов (например, в обществе исключительно животных) при­водят к тому, что здоровый механизм сознания оказывается не вклю­ченным. Таким образом, минимально работающий текстовый генератор — это не изолированный текст, а текст в контексте, текст во взаимодействии с другими текстами и с семиотической средой. 6 Вернадский В. И Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., 1965. С. 344. [148]