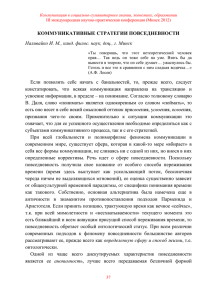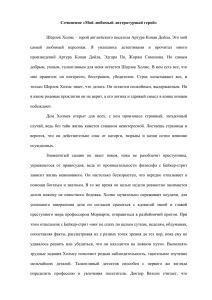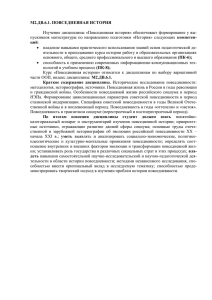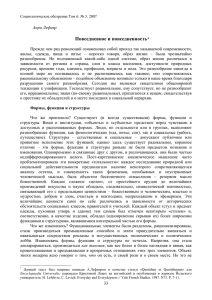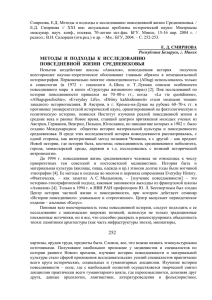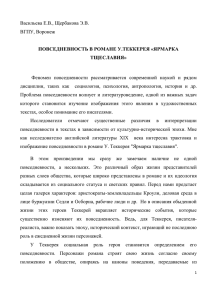В.Миловидов Тверь Повседневность и нарратив.
advertisement
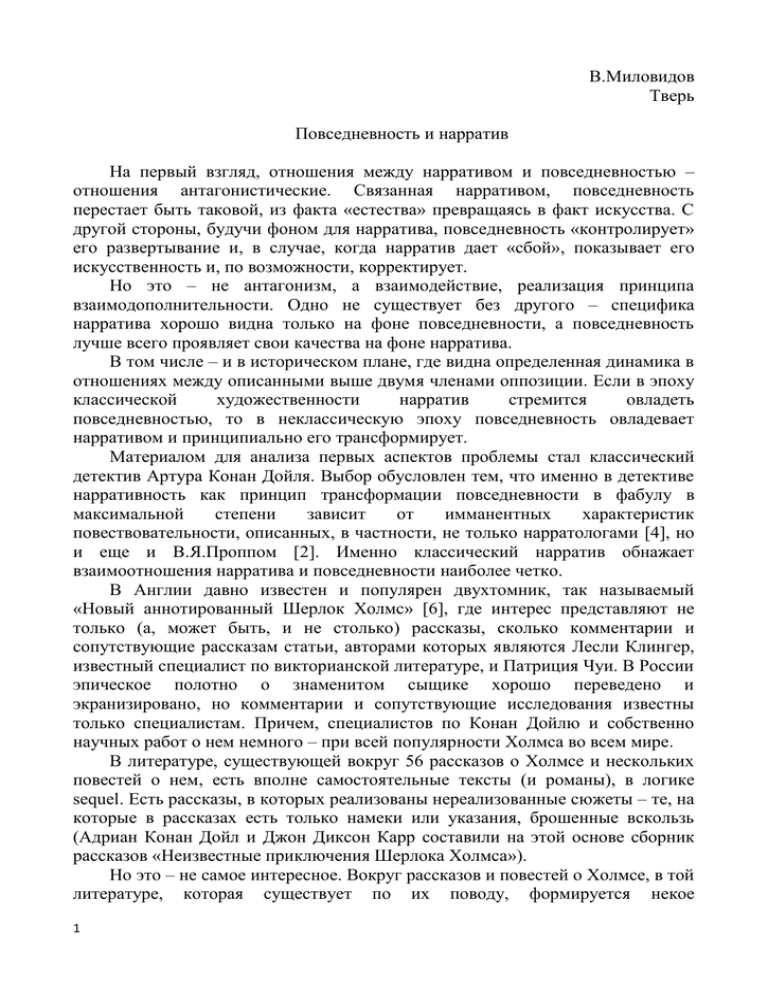
В.Миловидов Тверь Повседневность и нарратив На первый взгляд, отношения между нарративом и повседневностью – отношения антагонистические. Связанная нарративом, повседневность перестает быть таковой, из факта «естества» превращаясь в факт искусства. С другой стороны, будучи фоном для нарратива, повседневность «контролирует» его развертывание и, в случае, когда нарратив дает «сбой», показывает его искусственность и, по возможности, корректирует. Но это – не антагонизм, а взаимодействие, реализация принципа взаимодополнительности. Одно не существует без другого – специфика нарратива хорошо видна только на фоне повседневности, а повседневность лучше всего проявляет свои качества на фоне нарратива. В том числе – и в историческом плане, где видна определенная динамика в отношениях между описанными выше двумя членами оппозиции. Если в эпоху классической художественности нарратив стремится овладеть повседневностью, то в неклассическую эпоху повседневность овладевает нарративом и принципиально его трансформирует. Материалом для анализа первых аспектов проблемы стал классический детектив Артура Конан Дойля. Выбор обусловлен тем, что именно в детективе нарративность как принцип трансформации повседневности в фабулу в максимальной степени зависит от имманентных характеристик повествовательности, описанных, в частности, не только нарратологами [4], но и еще и В.Я.Проппом [2]. Именно классический нарратив обнажает взаимоотношения нарратива и повседневности наиболее четко. В Англии давно известен и популярен двухтомник, так называемый «Новый аннотированный Шерлок Холмс» [6], где интерес представляют не только (а, может быть, и не столько) рассказы, сколько комментарии и сопутствующие рассказам статьи, авторами которых являются Лесли Клингер, известный специалист по викторианской литературе, и Патриция Чуи. В России эпическое полотно о знаменитом сыщике хорошо переведено и экранизировано, но комментарии и сопутствующие исследования известны только специалистам. Причем, специалистов по Конан Дойлю и собственно научных работ о нем немного – при всей популярности Холмса во всем мире. В литературе, существующей вокруг 56 рассказов о Холмсе и нескольких повестей о нем, есть вполне самостоятельные тексты (и романы), в логике sequel. Есть рассказы, в которых реализованы нереализованные сюжеты – те, на которые в рассказах есть только намеки или указания, брошенные вскользь (Адриан Конан Дойл и Джон Диксон Карр составили на этой основе сборник рассказов «Неизвестные приключения Шерлока Холмса»). Но это – не самое интересное. Вокруг рассказов и повестей о Холмсе, в той литературе, которая существует по их поводу, формируется некое 1 метаповествование, реализованное в комментариях, книгах и статьях о героях Конан Дойля. Детали этого повествования, его сюжеты разбросаны по разным местам, но, собранные воедино, они формируют единую нарративную структуру, параллельную, а во многом и противостоящую основной, которая включена в так называемый канон. И в этих сюжетах повседневность занимает особую роль – как, если можно так выразиться, метанарративная инстанция, управляющая нарративом, а подчас видоизменяющая и его логику, и семантику актантной структуры. И герои, и сюжеты метаповествования о Холмсе предстают в каких-то совершенно новых качествах, и именно благодаря вмешательству повседневности, которая, как полагают исследователи, определяется «фундаментальными принципами соответствующего жизненного мира» [1: 20], и которая, на основе этих фундаментальных принципов, критикует и корректирует нарратив, если в его фундаменте обнаруживает фабульные «трещины». Самое интересное то, что повседневность, хотя и оказывает на жизнь человека эту жизнь определяющее воздействие, им не ощущается, она является нейтральным фоном его существования, она никак не маркирована. Но в искусстве, где незначимых элементов нет по определению, повседневность, как правило, маркируется, и из фона она превращается в начало, если не организующее, то контролирующее сюжет. Если сюжет не учитывает этого, то повседневность может начать «глумиться» над сюжетом, переписывать сюжет, параллельно уже существующему нарративу строить иной нарратив, который вступает в конфликт с нарративом первым (естественно, если читатель искусство отделяет от естества и ощущает условность первого, то катастрофы не происходит – в рамках договоренности с читателем и самые нелепые, с точки зрения повседневности, сказочные сюжеты живут и здравствуют). В качестве примера формирования этого параллельного (а, может быть, и перпендикулярного) нарратива – рассказ из сборника «Возвращение Шерлока Холмса», который называется «The Adventure of the Missing Three-Quarter» [6: 1123-1153] («Пропавший трехчетвертной»). Рассказ не самый известный и не самый интересный – здесь нет ни убийства, ни крупного хищения, ни мошенничества. Трехчетвертной – позиция в регби. В рассказе Холмсу сообщают о пропаже некоего Годфри Стонтона, трехчетвертного команды регби Кембриджского университета. Причем, пропал он накануне ответственного ежегодного матча против команды Оксфорда. По просьбе тренера Холмс ищет пропавшего атлета. Холмсу – как контрактант – противостоит доктор Армстронг, друг Стонтона, который не хочет, чтобы полицейские ищейки вмешивались в дело, поскольку подозревает, что их нанял дядюшка Стонтона, лорд Маунт-Джеймс. Армстронг навещает Стонтона, Холмс следит за Армстронгом, пытаясь по его следам выйти на убежище регбиста; Армстронг запутывает следы, Холмс умело их распутывает – таков обычный для шерлокианы сюжет. Холмс наконец находит Стонтона возле тела умирающей 2 от чахотки красавицы молодой жены – это трагическое событие и отвлекло Стонтона от матча. Но все разрешается уже после того, как Кембридж проигрывает Оксфорду с преимуществом в один гол и две попытки. Повседневность в нашем сознании чаще всего отождествляется с обыденностью, приземленностью, тривиальностью. Холмс не только медлителен, он словно утратил свою детективную хватку. Так, он теряет из виду экипаж Армстронга на ровной как ладонь долине – когда тот едет к Стонтону, а Холмс его выслеживает. Да и все расследование ведет как бы нехотя. Эта ретардация нарратива кажется всем, кто знаком с артистическими и энергичными действиями великого детектива, искусственной и воспринимается как нарушение актантно-нарративной структуры, обычной для классического детектива Конан Дойля. Но в комментариях, которые формируют метанарратив, медлительность Холмса в распутывании дела Стонтона объясняется причинами весьма тривиальными, хотя и довольно изощренными (изощренность не противоречит обыденности): Холмс намеренно тормозит дело – поняв, что Стонтон как игрок стоит половины команды, а его неучастие в матче обрекает Кембридж на поражение, Холмс ставит крупную сумму на победу Оксфорда и делает все, чтобы получить эти легкие деньги. В этом же подозревается и Уотсон – неисправимый любитель азартных игр, который, несмотря на опыт игры в регби, в рассказе о трехчетвертном умело скрывает это. Уотсон заключает пари со своими университетскими приятелями и, видимо, тоже выигрывает. Поэтому только по видимости Холмс ведет дело (а Уотсон в своем рассказе имитирует озабоченность Холмса судьбой трехчетвертного), но, по сути, саботирует его в личных интересах. Уотсон же обманывает читателя. Так, в метасюжете Холмс обретает черты саботажника, а Уотсон – обманщика, скрытного и хитроумного – каковым он никогда не был. При этом, как я уже сказал, характеристики, если можно так выразиться, метаактанта складываются как мозаика на основе разных рассказов. Об увлеченности Уотсона азартными играми мы узнаем из рассказа «The Adventure of Shoscombe Old Place» [6: 1707-1729] («Старинное поместье Шоскомб»), а о том, что он – регбист – из рассказа «The Adventure of the Sussex Vampire» [6: 1555-1576] («Вампир в Суссексе».) Холмс – не только саботажник, а Уотсон – не только обманщик. В метанарративе они оба нечисты на руку, причем – по мелочам. В рассказе «The Adventure of the Abbey Grange» [6: 1158-1188] («Происшествие в ЭббиГрейндж») фигурирует бутылка портвейна урожая 1834 года (о которой, кстати, существует целая литература). В рассказе по этой бутылке, а точнее, по винному осадку, который есть на бутылке и в бокалах, Холмс выходит на преступника, совершившего убийство. Но если в начале следствия в бутылке, из которой пили предполагаемые преступники, вина – на две трети, то несколькими абзацами ниже – только наполовину, причем – без всяких объяснений. 3 Понятно, это несоответствие – вина Конан Дойля. Но это – характерная вина. Сбой в нарративной конструкции и дает возможность повседневности проникнуть в него и, так сказать, взорвать изнутри. Виновными в исчезновении части вина в метанарративе, формируемом в комментриях, объявлены Холмс и Уотсон – это они его выпили. В холмсиане есть и иные формы взаимоотношений нарратива и повседневности. В метаэпосе о Холмсе первый служит нарративизации истории, то есть, повседневности – неупорядоченной и неструктурированной. В рассказе «The Adventure of the Empty House» [6: 781-815] («Пустой дом») Холмс возвращается из странствий (туда он отправился после истории с профессором Мориарти и своей мнимой смерти в Раушенбахском водопаде), и несколькими штрихами, в одном абзаце, описывает Уотсону свой маршрут – Мекка, Медина, Монпелье, Северная Африка. В Африке, между прочим, Холмс встречается с халифом Абд Аллахом, лидером махдистов, анти-египетского и антибританского движения в Судане. История гласит: в 1896 году британские и египетские войска взяли Судан, и последние махдисты (включая самого Абд Аллаха) пали 24 ноября 1899 года. Нарратив уточняет историю (то есть, повседневность), нарративизирует ее: действовали англичане и египтяне на основе информации, предоставленной Холмсом. В литературе, окружающей известный рассказ «The Adventure of the BrucePartington Plans» [6: 1300-1334] («Чертежи Брюса-Партингтона») также формируется дополнительный сюжет, в рамках которого нарратив вторгается в повседневность и подчиняет ее. В рассказе излагается история похищения из британского Арсенала чертежей сверхсовременной подводной лодки – эти чертежи, созданные изобретателем Брюсом-Партингтоном, похищены для последующей продажи конкурентам Англии в деле производства вооружений, и, вероятнее всего, Германии. Холмсу удается перехватить чертежи, но, вероятно, похитители успели скопировать часть из них, и технологические новинки, использованные Брюсом-Партингтоном, по видимости, попали в руки противников Англии. Но противниками в окружающем рассказ «Чертежи Брюса-Партингтона» матанарратива становятся не фикциональные, а реальные противники Англии, то есть, реальные Франция, США и Германия. Из истории известно, что в гонке вооружений в сфере строительства подводного флота накануне Первой мировой войны до определенного момента (до 1905 года) лидировали Франция и США, которые оснастили свои флоты новейшими модификациями субмарин «Жимнот» и «Холланд» соответственно. Но в 1905 году немцы построили свою первую подлодку «U-1», которая по своим техническим и боевым характеристикам значительно превосходила американскую и французскую лодки. И сделали немцы этот технологический прорыв потому (и здесь нарратив «вторгается» в повседневность и начинает связывать ее своими законами), что к ним в руки попали чертежи Брюса-Партингтона, которые передал им (нужен же посредник – такова логика нарратива) никто иной, как доктор Уотсон, преступник и шпион, крупнейший из живших когда-либо 4 преступников и шпионов. Естественно, что в рассказе он ничего не сказал о своей роли в строительстве немецкой военной мощи – весь рассказ есть средство закамуфлировать эту грандиозную преступную акцию автора. Такова логика взаимодействия нарратива и повседневности в классическом детективе, который, вероятно, наиболее тесно связан с классической словесностью. В неклассической словесности (модернизм и постмодернизм) повседневность уже не конфликтует с нарративом, но «поглощает» его, трансформируя саму поэтику нарратива в нечто иное, принципиально отличное от старых форм. В истории литературы есть «переходные» эпизоды, где четко проявляется этот конфликт между нарративом и повседневностью, где нарратив занят авторефлексией и негодует по поводу своего несоответствия повседневности, по поводу собственной отстраненности от повседневности, по поводу собственной странности. Негодует и исправляется. Самый, на наш взгляд, красивый эпизод, где показана борьба повседневности с нарративом – это финал второй главы флоберовской «Госпожи Бовари», где, как кажется, единственный раз во всем тексте Флобер отказывается от своей позиции вненаходимости и входит в повествование, произнося «Как странно!» (перевод Н.Любимова; французский текст - Quel étonnement ). Что странно? «Но удар был нанесен. Через неделю Элоиза вышла во двор развесить белье, и вдруг у нее хлынула горлом кровь, а на другой день, в то время как Шарль повернулся к ней спиной, чтобы задернуть на окне занавеску, она воскликнула: «боже!» - вздохнула и лишилась чувств. Она была мертва. Как странно!» [4: 20] Чем не фольклорный сюжет, достойный анализа в логике «Морфологии волшебной сказки»? – освобождение юного героя от власти старой ведьмы, открывающее ему путь к браку с юной красавицей. Странно то, что подобные сюжеты могут происходить там, где царит повседневность («провинциальные нравы»), - они-то и убивают героиню. Флобер после этого любимовского «как странно!» не заканчивает, а только начинает повествование, но уже в иной логике, без «странностей». Повседневность полностью овладевает повествование, но не уничтожает его. Повествование (нарратив) начинает следовать иной логике, подчиняться иным законам. То, что происходит с нарративом после этого «как странно!», описывается в известной работе У.Эко об «Улиссе» Джойса «Поэтики Джойса». [5] В книге о поэтике Джойса Умберто Эко придумывает для обозначения того нового, что придумал Джойс в «Улиссе», термин «поэтика поперечного разреза»: Джойс заменяет «поэтику фабулы поэтикой “поперечного разреза”»[5: 189]. С первой (поэтико фабулы) связана поэтика «хорошо сделанного романа», и она коренится в поэтике аристотелевской, в нормах построения трагической 5 фабулы, данной этим философом. Здесь поэзия (и искусство в целом) вводит в комплекс исторических фактов (история – это «комплекс беспорядочных событий») «…логическую связь, необходимую последовательность, отбирает одни и обходит стороной другие, согласно требованиям правдоподобия, представляющим собой требования необходимости» [5: 191]. Таков принцип традиционного романа. И, в доказательство этого тезиса, Эко приводит слова из предисловия к роману «Пьер и Жан» Мопассана. «…Жизнь, - пишет Мопассан, - оставляет все в одной и той же плоскости, она ускоряет факты или бесконечно их растягивает. Искусство же состоит в том, чтобы… благодаря умелой композиции полностью высветить события существенно важные и придать всем остальным ту меру объемности, которая им подобает, в зависимости от их значительности…». И далее: «.. нужно будет уметь из числа несметных и малозначительных повседневных событий убрать все те, которые для нее бесполезны, и особым образом высветить все те, которые останутся не замечены наблюдателями не столь проницательными…». Принцип необходимости, который управляет повествованием в рамках классического романа, может варьироваться. Но главное – он навязывает причинности истории (как неотфильтрованного наличия событий, деяний) перспективу поэзии (как организации исторического повествования о событиях). Эту фильтрацию можно описывать по-разному, и все это будет разговор о нарративности. Так, Эко пишет: «в традиционном романе не говорится о том, что герой высморкался, если только этот акт не значит что-нибудь для цели главного действия. Если не значит ничего, то это акт незначительный, «глупый» с точки зрения идеологии романа. Так вот: у Джойса мы встречаемся с полным приятием всех «глупых» актов повседневной жизни в качестве повествовательного материала» [5: 195]. Если воспользоваться традиционной литературоведческой терминологией, можно сказать, что вместо детали у Джойса доминирует подробность. Но она не становится деталью. Просто снимается важнейшая для традиционного нарратива оппозиция «деталь-подробность». Поэтика «поперечного разреза» отказывается от фабулы. Что вытесняет фабулу в поэтике поперечного разреза (в «неклассической» поэтике) – это большая и отдельная тема. Но чем же, в исторической ретроспективе становятся фабула и фабульность как признаки классического нарратива? Развивая терминологическую традицию Эко, можно говорить о том, что фабульность подчиняется поэтике «продольного разреза». И, когда Мопассан пишет, что автор классического романа умеет «..из числа несметных и малозначительных повседневных событий убрать все те, которые для нее бесполезны, и особым образом высветить все те, которые останутся не замечены наблюдателями не столь проницательными…», то речь как раз и идет о том, что нарратив, конструируя сюжет, режет «вдоль» фабулы, отсекая лишнее и несущественное, а именно – не поддающуюся нарративизации повседневность. 6 Но если нарратив «дает промашку», то повседневность мстит ему, делая на фабуле «поперечный разрез», подвергая нарратив вивисекции и таким образом уничтожая его; ведь ни один текст не способен выдержать сразу два разреза – и «поперечный», и «продольный». Литература: 1. Борсяков Ю.И. Феноменология повседневности // Гуманитарные аспекты повседневности: проблемы и перспективы развития в XXI веке. Воронеж, Воронежский государственный педагогический университет, 2011. 2. Пропп В.Я. Морфология «волшебной» сказки. Исторические корни волшебной сказки. М.: Издательство "Лабиринт", 1998. – 512 с. 3. Флобер Г. Госпожа Бовари. Москва: «Амальтея», 1993. – 480 с. 4. Шмид B. Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2003. – 312 с. 5. Эко У. Поэтики Джойса. Санкт-Петербург: Symposium, 2003. – 496 с. 6. The New Annotated Sherlock Holmes. Edited with Notes by L.S. Klinger with Additional Research by P.J. Chui. New York, London: Norton & Company, 2005. Vol. I-II. – 1878 p. Автор: Миловидов Виктор Александрович, доктор филологических наук, профессор профессор кафедры теории языка и перевода Тверского госуниверситета vik-milovidov@yandex.ru 7