Глава 10. Власть и общество в годы Второй мировой войны
advertisement
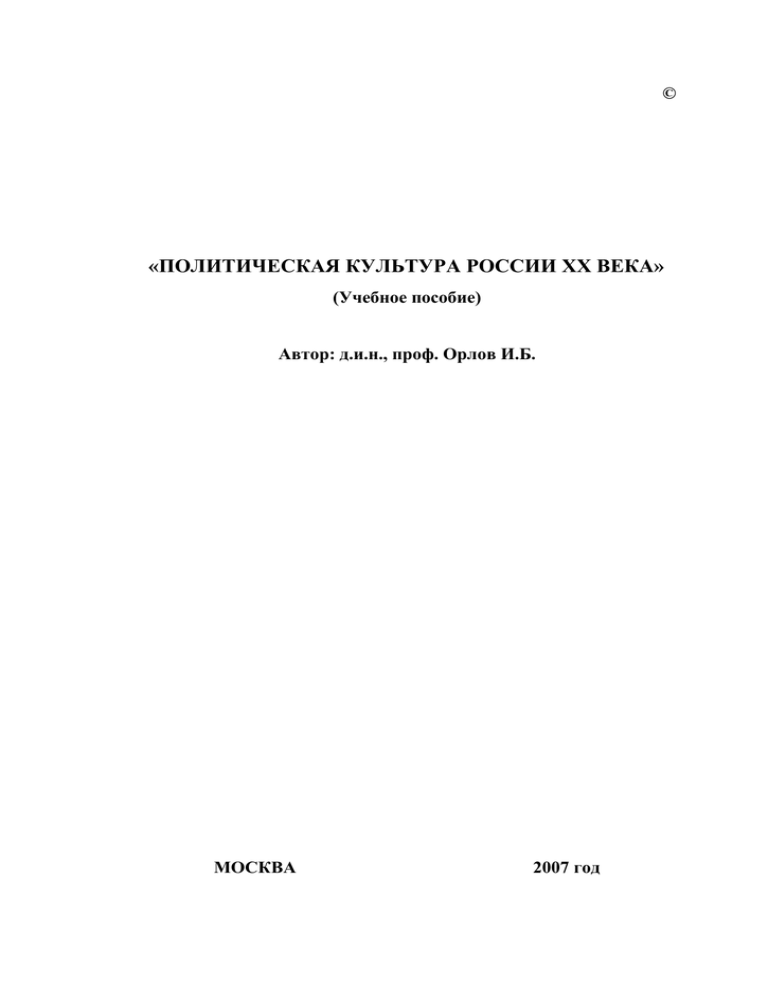
© «ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ ХХ ВЕКА» (Учебное пособие) Автор: д.и.н., проф. Орлов И.Б. МОСКВА 2007 год Учебное пособие подготовлено при содействии НФПК – Национального фонда подготовки кадров в рамках программы «Совершенствование преподавания социально-экономических дисциплин в вузах» Инновационного проекта развития образования. 2 Содержание СОДЕРЖАНИЕ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ВВЕДЕНИЕ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 1. КАТЕГОРИЯ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ ------------------------------ 6 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ И ПОЛИТИКИ ------------------------- 9 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА ----------------- 11 4. ГЕНЕЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ФАКТОРЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ -------------------------------- 12 5. СИМВОЛЫ И ЯЗЫК ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. РИТУАЛ КАК ЧАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 16 ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 1. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ----------------------------- 18 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ЕГО ЭЛЕМЕНТЫ ------------------------------------------------------------- 21 3. НРАВСТВЕННО-ОЦЕНОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ --------------------------------- 23 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ --------------------------------------------- 25 5. ОСНОВНЫЕ ТИПОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ----------------------------------------------------- 26 5.1. «Идеальные» типы Г. Алмонда и С. Вербы. ---------------------------------------------------- 26 5.2. Смешанные политические культуры. Гражданская культура как система политических ценностей.------------------------------------------------------------------------------------------- 28 5.3. Попытки усовершенствовать классическую типологию. ----------------------------------- 31 5.4. «Неклассические» типологии. --------------------------------------------------------------------- 32 5.5. Отечественные разработки в области типологии. ------------------------------------------ 34 ГЛАВА 3. ИСТОЧНИКИ И МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ ХХ ВЕКА ------------------------------------------------------------------------------------- 35 1. ПРОБЛЕМА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ И ИНФОРМАТИВНОСТИ МАССОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ------------- 35 2. РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТНОЙ ИСТОРИИ ------------------------------------------------ 42 3. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ И МЕХАНИЗМ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ» В СИСТЕМЕ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СССР --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ ----------- 49 ГЛАВА 4. ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗА РУБЕЖОМ ------------- 53 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ----------------------------- 54 2.1. Марксистско-ленинская традиция --------------------------------------------------------------- 55 2.2. Поведенческая традиция: достоинства и недостатки -------------------------------------- 58 2.3. Интерпретационные подходы --------------------------------------------------------------------- 59 2.4. Рассмотрение политической культуры через призму социальных изменений ----------- 60 3 3. ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ НА ЗАПАДЕ ------------------- 61 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ --------------------------------------------------------------------------------------------- 66 ГЛАВА 5. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 1. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ -------------------------------------- 72 2. ПОЛИТИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ГЕНОТИП РОССИИ И ЕГО СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ ---------------------------- 74 3. СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ПРЕРЫВНОСТЬ ИЛИ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ? ----------------- 78 ГЛАВА 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА (1900-1914 ГГ.) 85 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЕ ХХ В. ------------ 85 2. ЗАРОЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ------------------------------------------------------------------ 88 3. ЛИБЕРАЛИЗМ НА РОССИЙСКОЙ ПОЧВЕ----------------------------------------------------------------------- 91 4. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ И РАДИКАЛИЗАЦИЯ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ ---------------------------- 92 5. АНАРХИСТСКИЕ УМОНАСТРОЕНИЯ: ОТ ПРОПАГАНДЫ К ТЕРРОРУ -------------------------------------- 94 6. «НАРОДНЫЙ МОНАРХИЗМ»: ЗА И ПРОТИВ ------------------------------------------------------------------ 95 7. РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ: ОТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАЧКИ К ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЗАБАСТОВКЕ -------------- 96 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КРЕСТЬЯНСКОГО СОЦИУМА ------------------------------------------------- 99 9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ -------------------------------------------------100 ГЛАВА 7. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (СЕНТЯБРЬ 1914 ГОДА – ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА) ---------------- 103 1. ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ И ОППОЗИЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ -----------------------103 2. РАБОЧИЕ: ОТ ОБОРОНЧЕСТВА К АНТИВОЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ ---------------------------------107 3. КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ: ОТ СТИХИЙНОГО ПАТРИОТИЗМА К ОБЩИННОЙ РЕВОЛЮЦИИ -------108 4. РАЗРУШЕНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ --------------------------------------------------------------------111 5. ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ ГРАЖДАНСКИЙ МИР ИЛИ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА? ------------------------113 6. «ОБЩИННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» И «ЧЕРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ» -------------------------------------------------------117 7. «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ» -----------------------------------------------------------------------------------------120 ГЛАВА 8. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ (1917-1927 ГГ.) -------------------------------------------- 122 1. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ РЕВОЛЮЦИИ И НОВОЙ ВЛАСТИ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------122 2. ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ: ВЛАСТЬ И МАССЫ ---------------------------------------------------------------128 3. ГОРОДСКИЕ «СРЕДНИЕ» СЛОИ--------------------------------------------------------------------------------129 4. РАБОЧИЕ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------132 5. КРЕСТЬЯНЕ-------------------------------------------------------------------------------------------------------133 6. ОТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ К «ГРАЖДАНСКОМУ МИРУ» -------------------------------------------------136 7. ЦЕНТРАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ГЛАЗАМИ НАСЕЛЕНИЯ ---------------------------------------------140 8. «ВОЕННАЯ ТРЕВОГА» 1927 ГОДА КАК ФАКТОР СВЕРТЫВАНИЯ НЭПА ---------------------------------144 4 ГЛАВА 9. «ТОТАЛИТАРНАЯ» МОДЕЛЬ И КУЛЬТОВОЕ СОЗНАНИЕ (1930-Е ГОДЫ) 147 1. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МАСС ------------------------------------------147 2. КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ЖУПЕЛ «КУЛАКА» В МАССОВОМ СОЗНАНИИ ----------------------------------149 3. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ КАК «ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ВРАГ » СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. -----------------------------151 4. «ТАЙНО НАПРЯЖЕННОЕ ОБЩЕСТВО» -----------------------------------------------------------------------152 5. КОНСТИТУЦИЯ «ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА» И КУЛЬТОВЫЕ НАСТРОЕНИЯ ----------------------154 6. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 1930-Х ГОДОВ ---------------------------------------------156 ГЛАВА 10. ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1939-1945 ГГ.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 159 1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: ЕДИНЕНИЕ ВЛАСТИ И НАРОДА -----------------------------------------------161 2. МЕЖДУ ПАТРИОТИЗМОМ И КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМОМ: МАССОВЫЕ НАСТРОЕНИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------163 ГЛАВА 11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1940-Х – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА 1980-Х ГГ.) --------------------------------------------------- 171 1. МЕЖДУ ВЕЛИКИМИ СВЕРШЕНИЯМИ И НЕСБЫВШИМИСЯ НАДЕЖДАМИ -------------------------------172 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ «ОТТЕПЕЛЬ»: ОЖИДАНИЕ ПЕРЕМЕН ----------------------------------------------------175 3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ «ЗАСТОЯ» ------------------------------------------------------------180 ГЛАВА 12. «НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ» ДЛЯ СТРАНЫ И МИРА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕРИОДА «ПЕРЕСТРОЙКИ» ---------------------------------------------------------------------- 184 ГЛАВА 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ --------------------- 190 1. ОСОБЕННОСТИ «ТРАНЗИТНОГО» ТИПА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ----------------------------------190 2. РАСКОЛОТАЯ КУЛЬТУРА РАСКОЛОТОГО ОБЩЕСТВА -----------------------------------------------------192 3. ОБРАЗ ВЛАСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ РОССИЯН ------------------------------------------------195 4. ИЗБИРАТЕЛЬСКАЯ И ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ: СПАДЫ И ПОДЪЕМЫ--------------------------------197 5. ДЕРЖАВНОСТЬ ИЛИ РЕГИОНАЛИЗМ? ------------------------------------------------------------------------199 6. НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ---------------200 7. МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА --------------------------------------------------------------------------------202 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 205 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ------------------------------------------------- 207 5 Введение 1. Категория «политическая культура»: история и современность Политическая культура является одной из наиболее популярных и вместе с тем неоднозначных категорий в политологии и политической социологии. Впрочем, вопрос об универсальности употребляемых терминов является одним из самых болезненных в политической науке. Например, французский социолог Раймон Арон (1905-1983) в начале 1960-х гг. постоянно писал о том, что уже получило название «политическая культура», но не нашел иного определения, как «историческое окружение политической системы». В современной отечественной и зарубежной политической науке имеются различные подходы к трактовке, как самого понятия «политическая культура», так и ее структурных элементов в разрезе общества, классов, социальных групп и в личностном аспекте. Здесь существует широкий спектр определений и формулировок, примерно до пятидесяти, что создает терминологическую путаницу. Наряду с идеологическими факторами, водоразделом в понимании политической культуры являются различия в подходе ученых к рассмотрению философских, общекультурных и социальноэкономических проблем. Категориальная путаница усугубляется и тем, что в последнее десятилетие термин «политическая культура» стал широко использоваться не только в научном, но и в политическом языке СМИ. Возможно, дело отчасти и в том, что понятие «политическая культура» в научной лексике употребляется как в широком, так и в узком смысле своего значения. В первом случае его используют для обозначения особой области культуры, которая имеет отношение к сфере политики. В таком контексте категории субкультуры, политической социализации и культурных изменений в имплицитном виде встречаются в Священном писании, в «Республике» и «Законах» Платона. Модель смешанного правления с преобладанием среднего класса разрабатывалась Полибием, Цицероном и особенно Аристотелем («Политика»), особое внимание уделившим психологическому измерению проблемы. Именно в таком общекультурном смысле термин «политическая культура» был впервые употреблен немецким писателем, богословом и философомпросветителем Иоганном Готфридом Гердером (1744-1803), который в 1784 году в 6 работе «Идеи к философии истории человечества» не только ввел это словосочетание в научный оборот, но и упомянул о зрелости политической культуры и ее носителях. Существенное влияние на формирование концепции политической культуры оказали Никколо Макиавелли (1469-1527), Шарль Луи Монтескье (1689-1755), Жан Жак Руссо (1712-1778), Алексис Токвиль (1805-1859), Гаэтано Моска (1858-1941), Вильфредо Парето (1848-1923), Роберт Михельс (1876-1936), Карл Маркс (18181883), Макс Вебер (1864-1920) и др. Впоследствии, особенно в конце XIX - начале XX вв., данная категория активно использовалась различными научными школами, в том числе и марксистской. Параллельно в разные отрезки времени в научной литературе существовали различные подходы к интерпретации понятия «политическая культура» в рамках строго определенной дефиниции, обусловленной, прежде всего, спецификой предмета конкретной общественной дисциплины (социологии, политической науки или истории), принятой научной парадигмой, методологией исследования или даже идеологическими догмами. В узком смысле концепция политической культуры зародилась в ходе дискуссии середины 1930-х гг. относительно причин гибели Веймарской республики и победы национал-социализма в Германии. В виду того, что в рамках прежнего случившееся было «объективно-рационально-классового» нельзя, в центр внимания были подхода объяснить поставлена проблема иррациональных и субъективных факторов в политике. В современной западной политологии категория «политическая культура» впервые появилась в работе американского теоретика Х. Файера «Системы правления великих европейских государств» (1956 г.). Однако, в прикладном смысле данная категория впервые была использована и получила глубокое концептуальное осмысление в работе американского политолога Габриэля Алмонда «Сравнительные политические системы» (1956 г.), расценившего политическую культуру как особый тип ориентации на политическое действие, отражающий специфику каждой политической системы. Несколько позднее Г. Алмонд и еще один американский политолог С. Верба определили политическую культуру как «систему ценностей, глубоко укоренившихся в сознании мотиваций или ориентаций и установок, регулирующих поведение людей в ситуациях, имеющих отношение к политике». Значительный вклад в разработку теории политической культуры в рамках политологии внесли также американские ученые Л. Пай, У. Розенбаум, Д. Кавенах, немецкий теоретик К. фон Бойль, французы М. Дювержье и Р.Ж. Шваценберг, 7 голландец И. Инглохард и др. Важным этапом в формировании концепции политической культуры стало появление книги английского ученого Лю Роуза «Политическая культура и политическое развитие» (Оксфорд, 1972 г.), в которой была предпринята попытка определения и сравнения политических культур 19 стран. Современный российский политолог Е.Б. Шестопал, следуя за Д. Кавенахом, сводит существующие в научной литературе определения политической культуры к четырем группам: 1) «психологические», где культура рассматривается как система ориентаций на политические объекты; 2) «всеобъемлющие», включающие как установки, так и политическое поведение индивидов; 3) «объективные», в которых культура представляется как определенный ограничитель поведения индивида; 4) «эвристические», рассматривающие культуру как гипотетическую конструкцию для аналитических целей. Наиболее распространено в настоящее время представление о политической культуре как системе ценностей, символов, верований и установок на политическое действие. Хотя и здесь существуют варианты: например, «особый тип ориентации на политические объекты» (Г. Алмонд), «субъективный поток политики» (Л. Пай и С. Верба) или «психологическое измерение политики» для психоаналитика Л. Пая. Заслуживают внимания и нетрадиционные определения политической культуры. Так, М. Башир полагал, что политическую культуру можно представить как типы верований, доминирующие в обществе, и как «набор» образцов формирования этих верований, в основе которого лежат ценности и традиции, признанные и сохраняемые в социуме. С. Липсет определял политическую культуру как некую совокупность ритуалов, «которые служат сохранению законности различной демократической деятельности». Для Л. Пая «политическая культура является набором установок, верований и чувств, которые вносят порядок и значение в политический процесс и содержат скрытые предположения и правила, управляющие поведением в политической системе». Р. Инглхарт в своих сравнительных исследованиях выделял три измерения «синдрома политической культуры»: удовлетворенность, доверие и поддержку. В последнее время наметилась тенденция к сближению позиций отечественных и зарубежных ученых. Те и другие делают упор не только на поведенческом аспекте 8 составляющих частей политической культуры. Подчеркиваются такие компоненты как «исторический опыт в сфере политики», «система политического информирования граждан» и т.п. Например, первый изданный в России в 1990-е годы энциклопедический словарь по политологии трактовал политическую культуру как «исторический опыт, память социальных общностей и отдельных людей в сфере политики, их ориентации и навыки, влияющие на политическое поведение», который «содержит в обобщенном, преобразованном виде впечатления и предпочтения, как в сфере международных отношений, так и внутренней политики». 1 Такой подход нашел место и в единственном изданном в 1990-х гг. учебнике по политической культуре России, авторы которого презентовали последнюю как «обобщенную картину всего спектра политических взглядов, оценок, позиций».2 2. Политическая культура как составная часть культуры и политики Широкое распространение получило понимание политической культуры как сложного и многогранного явления, находящейся на стыке политики и культуры и, в силу этого, имеющей свои особенности в историческом, национально-культурном и идейно-политическом измерениях. Постулат о том, что она выступает, с одной стороны, интегральной составляющей культуры в целом, а с другой, является интегральной составляющей политики, стал в последнее время определяющим элементом методологии анализа политической культуры различных стран и народов. Понятие политической культуры активно используется в тех случаях, когда надо объяснить, почему одни и те же политические институты по-иному работают в разных странах, почему те или иные политические новации и заимствования в одном месте прививаются легче, а в другом – труднее. Тем не менее, следует признать, что вопрос о правомочности употребления термина «культура» занимает особое место в исследованиях, посвященных политической культуре. Конечно, сам термин и концепции прочно вошли в науку, а 1 Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.: Ю.И. Аверьянов. М., 1993. С. 2 Каменец А.В., Онуфриенко Г.Ф., Шубаков А.Г. Политическая культура России. Учебное 264. пособие для всех. М, 1997. С. 3. 9 ироничное замечание ведущего немецкого политолога Макса Каазе, что использование термина «политическая культура» сродни «попытке прибивать гвоздями пудинг к стене», скорее исключение. Однако само понятие «культура» трактуется весьма различно. Если для Г. Алмонда и его последователей политическая культура свободна от ценностных коннотаций, то в российской историографии до сих пор доминирует подход немецкого естествоиспытателя Александра Гумбольдта (17691859), согласно которому культура трактуется как высокая культура, противопоставляемая «плоской» цивилизации. Не менее актуальным остается поднятый немецким писателем Томасом Манном (1875-1955) вопрос о том, всякая ли культура обладает политическим измерением. Романист полагал, что путь Германии к национал-социализму «связан с аполитичностью бюргерского духа» и с «его антидемократическим отношением в социальной и политической сфере, на которую он взирал с высот спиритуализма». В конечном счете, Манн приравнял демократию к политике, определив первую как «политический аспект духовного, как готовность духа к политике». Политическая культура, как интегральная характеристика политического образа жизни страны, класса, нации, социальной группы и индивидов, может рассматриваться в качестве совокупного показателя политического опыта, уровня политических знаний и чувств, образцов поведения и функционирования политических субъектов. По мнению известного российского историка и культуролога А.Я. Гуревича, «культура проявляется и воплощается в политических и правовых идеях, ценностях, установках и институтах, властных отношениях и т.д.», что в концентрированном виде отражено именно в константе политической культуры. В этом качестве последняя регулирует сознание, поведение, поступки людей, сообразуясь с социокультурными и историческими особенностями различных этносов, а также выступает инструментом достижения стабильности и общественного прогресса. Центральным компонентом мира политики является власть, которая также может рассматриваться через призму культуры. По этому поводу польский политолог и социолог Е. Вятр отмечал: «Взгляд на политику через призму культуры позволяет лучше понять, какая власть, в какой степени, когда и для кого является ценностью, а также каково взаимоотношение между различными ценностями, например, между властью и собственностью, властью и престижем, властью и религиозной святостью». 10 3. Политическая культура как элемент политической системы общества Как было указано выше, политическая культура является особой частью общей культуры данного общества, хотя и обладающей определенной автономией. С другой стороны, она связана с конкретной политической системой и является ее неотъемлемым компонентом. П. Шаран в своей «Сравнительной политологии» выделил четыре основных элемента политической системы: власть (как ее ядро), интересы, политику и политическую культуру. Следуя в целом этой схеме, В.Ф. Пеньков в состав политической системы включает: власть, субъекты политики, политические отношения, политические организации и институты, а также политическую культуру. Ф.М. Бурлацкий вообще рассматривает политическую культуру как «центральный» элемент политической системы. В современной политической науке общепризнан вывод известного американского политолога и историка Роберта Такера о том, что «политическая система данного общества глубоко проникает в его политическую культуру, включая модель ориентации в отношении политического действия, которая является частью культуры (в широком смысле), существующей отдельно от других и обладающей известной независимостью». В свою очередь, политическая культура активно воздействует на функционирование и устойчивость политической системы и трансформацию ее структуры. Как утверждал американский историк и советолог Стивен Коэн: «Ни одна политическая система, ни в одной стране не будет стабильна, если она не рождена в самой этой стране, на ее почве как результат развития собственной политической культуры». Одновременно со становлением новой политической системы идет процесс формирования новой политической культуры, а на определенном этапе развития неизбежно сосуществуют несколько политических субкультур, находящихся в борьбе друг с другом. Политическая культура влияет не только на устойчивость политической системы, но и на характер политического процесса. Сложившиеся в научной литературе три функциональный конфликтный подхода к изучению американского немецкого политического социолога социолога Толкотта Ральфа процесса (структурно- Парсонса (1902-1979), Дарендорфа и поведенческий американского ученого Чарльза Мерриама) фактически дополняют друг друга. При таком допущении политический процесс можно понимать как функциональное 11 проявление политической системы и как трансформацию ее элементов. Например, смена системы ценностей, изменение стратификации общества, эрозия политической культуры непосредственным образом влияют на протекание процесса модернизации. Кроме того, естественный ход истории зачастую прерывается революционными взрывами. Сам же характер преобразований, следующих за сменой устоявшегося порядка, во многом определяется уровнем политической культуры общества. Выведение структуры политического процесса из принципов конфликтной методологии (революционный и реформистский процессы, легитимный процесс формирования институтов власти, процесс агрегации и консолидации интересов и т.п.) также предполагает участие тех или иных элементов политической культуры на всех его этапах. 4. Генезис политической культуры и факторы ее формирования Политическая культура не является изначально заданным и неизменным феноменом. Она развивается вместе с ее носителями (социальными общностями) под воздействием: во-первых, динамики отношений в сфере производства, которая приводит к перестройке общественной структуры и, следовательно, потребностей и интересов соответствующих групп и, во-вторых, процесса приобретения нового исторического опыта. Имея в виду, что специфические особенности политической культуры любой нации в значительной степени детерминированы ее историческим опытом и национальным характером, политическую культуру часто рассматривают сквозь призму политической практики и опыта организации политической жизни, свойственного различным этапам развития данной нации. Опыт передается следующему поколению в превращенном виде – через систему закрепляющих его идеологических представлений, норм и ценностей, а также за счет личностных особенностей тех, кто его передает. Поэтому для характеристики политической культуры общества немаловажен такой фактор как смена поколений, в том числе и поколений политиков. Французский писатель и философ Альбер Камю (1913-1960) в своей Нобелевской речи (1957 г.) подчеркнул: «Каждому поколению свойственно считать себя призванным переделать мир». Р. Дарендорф напрямую связал существование политической культуры и политического класса. По его мнению, слабость или тем более отсутствие последнего 12 лишают политическую культуру устойчивости и свидетельствуют о дефицитности в ней преемственности и диалогичности. Иными словами специфический облик политической культуры определяется балансом сосуществующих консервативных и подвижных компонент, присущих той или иной эпохе. Этот баланс образуется, с одной стороны, совокупностью относительно устойчивых во времени ценностей, установок и ориентаций, норм морали и других элементов сознания и стереотипов поведения, зафиксированных в обычаях, традициях и порой даже в законах, С другой стороны, он определяется множеством динамичных элементов, таких как массовые политические ориентации и настроения. Последние, в свою очередь, обусловлены характером политической системы или режима, экономическим строем, внешнеполитическими и иными обстоятельствами, влияющими на стиль и образ жизни, как рядовых граждан, так и власть предержащих. Выявление одновременной изменений социально-политической «реконструкцией человеческих структуры переживаний» и общества с определением комплекса мотиваций поведения – важное направление реализации современных тенденций в политической и исторической науке. Реконструкция субъективных переживаний, оценок, стремлений позволит сформировать более объемное представление об эпохе и установить причинно-следственные связи событий. Например, в периоды кардинальных общественных трансформаций происходят сдвиги в ранее устойчивых характеристиках политической культуры и, прежде всего, в массовых политических ориентациях. При этом фактор «настроений масс» становится неотъемлемым элементом политической практики. Политическая культура не может быть универсальной, она несет на себе не только отпечаток времени и места, но и национальных особенностей (ментальности) того или иного этноса. В качестве основных факторов формирования политической культуры в отечественной и зарубежной литературе выделяются: 1) институциональные, 2) идеологические, 3) деятельностные, 4) эмоциональные, 5) природно-географические, 6) социально-экономические, 7) военно-политические, 8) духовные и микросистемные (на уровне малых общностей). 13 Можно добавить, что особенности политической культуры определяются также урбанизационными и модернизационными процессами. В качестве главенствующих институциональных факторов трансформации политической культуры рассматриваются: 1) государство, гражданское общество, власть; 2) поляризация политических сил общества; 3) конфликт политических культур или субкультур. По мере уменьшения возможностей внешнего контроля за информационным потоком (Интернет) возрастает значимость политической культуры СМИ и ее этического компонента. Помимо СМИ, на информационные потоки и, следовательно, на политическую культуру воздействуют слухи, которые нередко воспринимаются в обществе как объективная информация. Вполне обыденным явлением политической жизни и фактором трансформации политической культуры являются мифологемы, чья значимость и влияние в кризисные моменты развития общества резко возрастают. Можно соглашаться или не соглашаться с заявлением американского богослова Рейнхольда Нибура (1892-1971) о том, что «история может приобрести смысл только с помощью мифа», но трудно оспорить мнение Макса Мюллера: «Мифология в высшем значении – это власть, которой язык обладает над мыслью во всех возможных сферах умственной деятельности». В современной литературе выделяются следующие три качества «гражданского мифа»: основа самоопределения человеческого общества; необходимый элемент всех сводов нравственных законов, отражающихся в гражданских законах; способ приспособления к меняющейся реальности или своего рода психологическая компенсация социальных шоков. Если говорить о России, то власть у нас - категория сама по себе по преимуществу мифологическая. В свою очередь, «миф о власти», зародившийся на рубеже XV-XVI вв. - в процессе создания единого, централизованного государства выступает своеобразным каналом коммуникации российской административной элиты и народа. Более того, по выражению писателя Юрия Полякова, заложенная в русском менталитете потребность в любви к власти, создает последней определенный «мифологический резерв». Это видно на примере специфически русского чувства жалости к высшим правителям, порой доходящей до желания освободить их от вины за любую частную несправедливость. Эта ответственность со времен древнерусского писателя Даниила Заточника («Не царь грешит, а думцы наводят») традиционно переносится на администраторов более низкого ранга. 14 В самом начале XVI столетия в России возникает «Сказание о князьях Владимирских», утверждавшее вековечность московской династии, возводя ее происхождение к римскому императору Августу. Практически одновременно игумен Иосифо-Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий (1439/40-1515) разрабатывает теорию божественного происхождения царской власти. Наконец, тогда же в послании псковского монаха старца Филофея Москва провозглашается «Третьим Римом», а московские государи преемниками византийских императоров. Иван Грозный в своей переписке с бежавшим в Литву князем Андреем Курбским рассматривает любое сопротивление самодержавной власти как оскорбление Божьей воли, одновременно сформулировав положение о равенстве всех перед верховной властью как источником высшей справедливости. В дальнейшем вплоть до утверждения при Николае I теории «официальной народности» речь шла уже только о доработке отдельных положений мифа о власти. В целом до 1881 года образ царя был обусловлен имперским мифом петровских времен, в котором он представал как богоподобный носитель западных культурных ценностей и воплощение идеи секулярного государства. В основе изменения властного мифа, произошедшего во время правления Александра III, лежал славянофильский, религиозный основывающийся на и идеализации националистический допетровского «нарратив Московского о власти», царства. Этот национальный миф отличался от доктрины «официальной народности», так как содержал скрытый отказ от многих ценностей самодержавия, которое оно проповедовало до этого времени - законность, рационализм, верховенство царской бюрократии. Но понятие национальной монархии, заимствованное из культурных моделей европейских правителей, имело разрушительные последствия: оно подрывало основу существования именно тех ценностей и социальных групп, посредством которых русские монархи осуществляли правление на протяжении двух веков. В результате с царствования Александра III мы наблюдаем возрастающее несоответствие между политическим мифом и политическим ритуалом. Более того, если при Александре III миф определял отношение к политической власти в трех аспектах (освящал личный авторитет царя как помазанника Божьего, делал православную церковь основной выразительницей национальных ценностей, а также оправдывал сословные учреждения, дворянство и общину в качестве социальной основы царской власти), то у Николая II первый из принципов - царская власть, основанная на личном и религиозном авторитете, - заслонил и подорвал два других. 15 Следует уточнить, что миф как «первая культура» (по определению известного отечественного историка и филолога А.Ф. Лосева) свойственен и традиционному и современному обществу. Советский миф по своей сути являлся инверсией традиции, хотя и обладал внутренней целостностью. Советская идеологическая система сумела интегрировать глубинные, архаические пласты коллективного бессознательного (это видно на примере излюбленных терминов советской пропаганды типа «Родина-мать») и одновременно включить в себя зовущие к подвигу мифологемы, связанные с христианством: 1) красное знамя, 2) культ «мучеников» или «фетишизация» ран Ленина. Правда здесь мы имеем дело с «мутировавшим мифом», который в отличии от классического почти всегда претендует на некую «научность». Важно и другое. «Мифологический космос» коммунизма окончательно не исчез, и все еще продолжает определять мировосприятие значительной части населения современной России. Можно говорить о трех основных направлениях мифологизации политической культуры на постсоветском пространстве: поиске новых форм и способов идентичности, персонификации представлений о причинах происходящих событий, активизации ностальгических настроений по «светлому прошлому». Подробнее эти и другие тенденции развития российской политической культуры будут рассмотрены в следующих главах учебного пособия. 5. Символы и язык политической культуры. Ритуал как часть политической культуры Политическая культура неразрывно связана с общенациональной культурой, социокультурными, национально-историческими, религиозными, национально- психологическими традициями, обычаями, стереотипами, мифами и установками. Если следовать определению гражданских мифов, данному Джоном Бирлайном, следует согласиться с тем, что эти мифы «создают основу для образования государства и обеспечивают полномочия правительства, объединяя всех граждан с помощью общего символизма». Именно символическое пространство при столкновении с новым и чужим снимает шок и неопределенность путем формирования представлений об этом «неизвестном». Основу такой «терапии» создают имеющиеся в этом пространстве идеалы, ценности и традиции. 16 По мнению американского политолога Л. Дитмера, именно политический символизм составляет в политической культуре собственно «культуру». Так, наряду с символами самодержавия и народности в формировании и укреплении русского государства важную роль сыграла символика православной церкови. В формировании идей о величии и особом пути России, патриотизме и преданности Отечеству, которые составили важнейшие компоненты политического сознания россиян, важную роль сыграла православная вера. Подтверждением этого является, в частности, то, что многие атрибуты и символы православной церкви стали одновременно и символами российской государственности, например, Исаакиевский собор или храмы Василия Блаженного и Христа Спасителя. В советской политической культуре особая роль принадлежала В.И. Ленину (1870-1924). У этой символической личности был целый набор ролей: пророк, герой, учитель, образец, первоисточник власти и прочее. Все последующие вожди черпали свою легитимность именно в «Ленине-символе». Кроме вышеуказанного «внутреннего» содержания символического пространства политической культуры, его «внешней», зрелищной формой выступает ритуал. В России XIX-ХХ вв. политический ритуал являлся инсценировкой тех мифов, которые несли с собой цели и ценности самодержавной власти. Более того, этот ритуал был аспектом государственной власти, необходимым для демонстрации величия и легитимности императора и правящей элиты. Новый, коммунистический, менталитет также формировали через новую ритуалистику и атрибутику. На парадах живые скульптуры являлись знаковыми символами советского образа жизни. В советской политической культуре различные формы уличных празднеств (шествие, демонстрация, митинг или агитпроцессия), нацеленные на «выражение мыслей и настроений через процессию», традиционно противопоставлялись «бессодержательным формам так называемого карнавала». В пространстве советской политической культуры любое «уличное игрище» было насыщено политическим содержанием и пронизано политической сатирой. В школах проходили «суды» над литературными героями, олицетворявшими дворянские или буржуазные типажи. Даже реклама папирос гласила: «Мы эксплуататорские не любим, нам советские подавай». Величие советского строя были призваны утвердить здания и скульптуры в жанре сталинского монументализма. И еще один немаловажный аспект. Политическая деятельность по своей сущности носит лингвистический характер и осуществляется в рамках определенных языков и понятийных аппаратов, которые ограничивают спектр политических 17 действий. Если политика не учитывает имеющуюся в обществе языковую культуру, то она либо отторгается населением, либо искажается до неузнаваемости. Следует отметить и то обстоятельство, что нередко язык политической культуры становится вообще непонятным без специальных пояснений. Например, не так просто догадаться не искушенному в терминах ГПУ человеку, что «взамен» – это приговоренный к высшей мере наказания, а «твердозаданцы» - не раскулаченные крестьянеединоличники, которым было дано твердое задание по продналогу. В противовес им колхозников стали называть «мастерами урожаев социалистических полей». Люди сталинской эпохи не только жили в мире непонятных нам слов, но и пытались выражаться искусственным языком газетных передовиц. Впрочем, молодежь, родившаяся после 1917 года, другого языка и не знала. Глава 2. Политическая культура: функции, структура и проблемы типологии 1. Основные функции и общая структура политической культуры Политическая культура выполняет в обществе определенный спектр функций, включающий в себя, прежде всего: когнитивную (политические знания), оценочную (политические ценности и идеалы) и эмоциональную (политические чувства). Кроме того, именно политическая культура обеспечивает преемственность политической жизни и стабилизацию социума в период кризисов. Еще одной важной функцией политической культуры является политическая социализация человека. С одной стороны, в процессе социализации каждый человек формируется как социокультурное существо, а с другой, являясь носителем политической культуры, включается в многогранный и динамичный процесс политических отношений. Политическая культура выступает модификатором как политических отношений, так политических организаций и институтов, прежде всего, через свои деятельные формы, включающие, наряду с политическим опытом и традициями, способы и средства политической деятельности. Если ограничиться набором базовых функций, то структура политической культуры с точностью их повторяет. В одной из наиболее известных западных работ по 18 проблемам политической культуры - книге американских политологов Г. Алмонда и С. Вербы «Культура гражданина» - политическая культура структурно представляется в виде трех уровней ориентаций: 1) познавательных (политические знания, политическая образованность, политическое сознание, способы политического мышления), охватывающих знания о функционировании политической системы, ее ролях и носителях этих ролей. Познавательный элемент предполагает знание и понимание гражданами политических интересов разного уровня, Конституции и законов страны, программных положений основных общественно-политических сил; политических сложившихся в партий стране и других политических отношений, происходящих политических событий и явлений. В политические знания входит также понимание основных политических процессов международной жизни; 2) эмоциональных (политические чувства, традиции, ценности, идеалы, убеждения), отражающих чувства, испытываемые по отношению к политической системе и ее функциям, участникам политического процесса и их деятельности; 3) оценочных, выражающих личное отношение к политической системе, ее акторам и их действиям. Однако, по мере развития концепции политической культуры усложнялось и представление о структуре ориентаций. Дело в том, что политическую культуру можно рассматривать на двух уровнях. Все зависит от того, что взять за единицу анализа. Одни исследователи во главу угла ставят «системный уровень», то есть речь идет о политической культуре, как системе коллективных ориентаций народа. Другие же делают упор на изучение «субъективных ориентаций» индивида. Например, Г. Алмонд и Г. Пауэлл, характеризуя политическую культуру как совокупность индивидуальных позиций и ориентаций, выделяли в числе последних: познавательную (истинное или ложное знание о политических объектах и идеях), эффективную (ощущение связи, вовлеченности или противодействия по отношению к политическим объектам) и оценочную ориентацию, т. е. суждение и мнение о политических объектах. Иногда в структуру политической культуры включается и поведенческий аспект, то есть политические установки, типы, формы, стили, образцы общественнополитической деятельности, политическое поведение. Упомянутый выше Е. Вятр, понимающий политическую культуру как «совокупность позиций, ценностей и 19 образцов поведения, затрагивающих взаимоотношения власти и граждан», относил к ней не только знания о политике, оценку политических явлений и эмоциональную сторону политических позиций, но и признанные в данном обществе образцы политического поведения. Американский ученый У. Розенбаум обратил внимание на то, что политическая культура – это не только особые формы ориентации на политическую систему. По его мнению, структура политической культуры и есть структура ориентаций, среди которых базовыми компонентами выступают ориентации относительно политической системы. Аналогично П. Шаран при определении главного в политической культуре ставит на первой место субъективные ориентации людей на политическую систему, считая, что именно политическая культура несет в себе основные «свойства или психологические критерии политической системы». Для Розенбаума ориентации различаются по тому, связаны ли они с «входом» (трансформацией требований общества в политические решения через партии, группы интересов или выборы) или «выходом» системы, т.е. с результатами политического процесса, принятием решений парламентом, правительством или другими органами власти. Предложенная им схема ориентаций состоит из трех групп. Первая из них (относительно институтов государственного управления) включает в себя ориентации относительно режима (оценки и реакции индивида на основные государственные институты, их нормы, символы и официальных лиц) и ориентации относительно «входов» и «выходов» политической системы. Вторая группа ориентации относительно «других» в политической системе – состоит из политических идентификаций, политической веры и «правил игры», которые признает индивид. В третью группу (ориентации относительно своей собственной политической деятельности) входят политическая компетентность и политическая действенность. Если на оценку первой влияет продолжительность и способ участия индивида в политической жизни, а также частота, с которой он использует свои политические «ресурсы», то политическая действенность оценивается как ощущение того, что политические действия индивида оказывают или могут оказывать влияние на политический процесс, как «вера в возможность политической действенности». Если первая половина 1990-х годов прошла для российской политической науки под знаком очевидного и даже доминирующего влияния зарубежной традиции, то последние годы исследователями ознаменованы оригинальных активным моделей конструированием политической культуры, российскими с учетом 20 отечественной специфики. Прежде всего, обращает на себя внимание интерес российских политологов к «неартикулированным идейным и психологическим установкам» (по выражению Б.В. Межуева) или к сфере ментальности. В предложенной В.А. Тихоновой альтернативной структурной «системе координат» базовые формы политической культуры разделены на две большие группы: институциональные (правовые установления, форма государственного устройства, символика) и нематериальные или неинституционализированные (традиция, харизма вождей, принятые способы разрешения конфликтов). До сих пор не сложилось четкого представления о целесообразности включения в структуру политической культуры религиозных элементов. Если К.С. Гаджиев предлагает рассматривать религию как один из важных компонентов политической культуры, то для В.Ф. Пенькова, априорное включение религиозного компонента в структуру политической культуры возможно лишь тогда, когда речь идет о конфессиональной модели политической культуры. Тем не менее, следует заметить, что при всем многообразии предлагаемых вариантов структуры политической культуры, общепризнано, что основными и в определенной мере комплексными составляющими политической культуры являются политическое сознание, нравственно-оценочные элементы и политическое поведение, содержание и проявление которых мы рассмотрим ниже. 2. Политическое сознание и его элементы В научной литературе подчеркивается то обстоятельство, что при всей схожести политической культуры и политического сознания, между ними существуют существенные различия. Во-первых, понятие «политическая культура» значительно шире политического сознания, так как первая вбирает в себя не только политические знания и идеи, но и социально-политическую практику. Во-вторых, «ограниченность» категории «политическое сознание» по сравнению с политической культурой видится в том, что первое характеризует исключительно лишь духовную сферу, тогда как вторая – весь спектр политической жизни общества. Наконец, в-третьих, политическая культура «отбирает» только ту часть сознания, которая может способствовать фиксации политической практики. Основными элементами политического сознания выступают: взгляды, убеждения, верования и установки. Устойчивые политические представления, 21 составляя часть политической культуры, способны играть весьма существенную роль в социальной практике, во многом определяя состояние политического сознания. По убеждению известного российского историка Н.Я. Эйдельмана (1930-1989), «идея высшей царской справедливости постоянно, а не только при взрывах крестьянских войн присутствовала в российском народном сознании. Как только несправедливость реальной власти вступала в конфликт с этой идеей, вопрос решался, в общем, однозначно: царь все равно «прав»; если же от царя исходила неправота, значит, его истинное слово искажено министрами, дворянами или же этот монарх неправильный, самозваный и его нужно срочно заменить настоящим». Как было сказано выше, политическое сознание включено в политическую культуру не только представлениями, основанными на чувствах, традициях, взглядах и идеях, соответствующих конкретно-временным границам и ментальности народа. Оно также отражено политическими установками, отличающими те или иные социальные группы. Более того, политические установки (отношение людей к политическим явлениям) являются важнейшим компонентом политической культуры. Политическая установка также может проявляться в стремлении к получению политических знаний или, наоборот, в негативном отношении к их приобретению, в активном или пассивном участии в политической деятельности, в отношении к различным формам этой деятельности. Американский политолог Герберт Ашер в своем исследовании электорального поведения 1980-х гг. определил индивидуальные установки в качестве наиболее непосредственной детерминанты поведения избирателей, выделив три кластера установок – приверженность, проблемные установки и оценки кандидатов. Другой исследователь Ангус Кэмпбэлл в работе «Американский избиратель» также обозначил три центральные установки: партийная идентификация, ориентация на кандидатов и политические проблемные вопросы. Помимо вышеуказанных существуют и другие – гражданские – установки: чувство гражданского долга, интерес к выборам, удовлетворенность участием и т.п. Немаловажная роль в исследованиях также отводится установкам по отношению к политическим институтам и политической системе в целом. При этом способами выражения и развития политического сознания выступают общественное мнение, диалог, пропаганда и участие в политическом процессе. 22 3. Нравственно-оценочные элементы политической культуры В структуре ценностных отношений политической культуры выделяют, прежде всего, общекультурные ориентации, а также отношения к власти и политическим явлениям. Характер и направленность общекультурных ориентаций раскрывает место политических явлений в структуре ценностей личности, группы или общества. Исключительно важными нравственно-оценочными характеристиками политической культуры являются политические настроения и чувства, традиции, ценности и идеалы. Особое значение имеют оценочные суждения человека, выражающие его индивидуально-личностное отношение к явлениям политики и власти. Способность осуществлять политические суждения непосредственно зависит от занимаемой позиции в поле политики, а также от наличия у агента культурного капитала. Тогда как остальная часть населения, как правило, использует готовые стереотипы. В политических настроениях можно отдельно выделить рациональные и иррациональные, стихийные и сознательные стороны. Также следует говорить об удовлетворенности или неудовлетворенности теми или иными явлениями политической жизни. Именно традиции (или «шлейфу прошлого» по выражению известного театрального режиссера К.С. Станиславского) присуще уникальное качество, обеспечивающее сохранение непрерывности исторического и политического процесса. Российский религиозный философ - эмигрант Г.П. Федотов (1886-1951) по этому поводу отмечал: «… как ни резки бывают исторические разрывы революционных эпох, они не в силах уничтожить непрерывности. Сперва подпочвенная, болезненно сжатая, но древняя традиция выходит наружу, сказываясь не столько в реставрациях, сколько в самом модернистском стиле воздвигаемого здания». Наиболее устойчивыми являются традиции в политической культуре. В известном смысле они выступают как объективное, не зависящее от воли людей явление. Как констатировал К. Маркс: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых». В традициях отлагаются те элементы предшествующего политического опыта, которые объективно отвечают интересам и целям общества. Кроме того, политические традиции представляют собой способ передачи образцов политического сознания и поведения. Другими словами, традиция – специфический процесс передачи и сохранения ценностей. 23 В свою очередь ценности (представления людей о свободе, социальной справедливости, равенстве, демократии, роли государства и т.п.) являются неким «зерном» традиции и центральной составляющей политической культуры. Наиболее предметно политическая культура выявляется в процессе культивирования ценностей (прежде всего политических), именно через них раскрывая собственную социальную значимость в политической жизни. Одновременно политическая культура может быть представлена как пространство реализации ценностей. В свою очередь, укорененность политических ценностей напрямую связана с доминирующими в данной культуре архетипами. Например, для России традиционными политическими ценностями можно считать: этатизм, коллективизм, социальную справедливость, жертвенность личным во имя общественного. Неким интегративным показателем являлось то обстоятельство, что, по словам еще одного видного представителя Русского Зарубежья, правоведа и социолога П.И. Новгородцева (1866-1924), среди важнейших ценностей для российского человека на первый план всегда выдвигался идеал не свободы, а равенства. Эта традиция в советском обществе получила дополнительный импульс со стороны почти тотального контроля государства над личностью и коллективистских начал, утверждаемых советской властью в общественной жизни. В политической культуре, так или иначе, отражаются сущностные черты некоторой идеальной модели бытия, которая имеется у каждого индивида. В то же время политические программы партий и движений всегда апеллируют к проекту определенного общественного устройства. Идеалы всегда служили основой политического доверия к субъектам политики - государствам, партиям, лидерам, а политическая действительность предполагала их ответственность за оптимальность разрешения противоречия между идеалом и возможностью его реализации. В России политическая культура проявлялась, прежде всего, в понимании и искании российским человеком социального идеала, который в русском сознании представлен как категория нравственная («правда»), а не как категория знания - «истина». В литературе неоднократно отмечалось тяготение русского человека к абсолютному идеалу, без которого он не может существовать. Например, поэт и историк – славянофил К.С. Аксаков (1817-1860) считал «русским политическим идеалом» строй, в котором фактически соединены низовая представительная демократия и сильная власть центра. 24 4. Политическая культура и политическое поведение В современной политической науке существует мнение, что политическое поведение шире понятия политической культуры, которая выступает одним из источников первого и внутренним регулятором политического поведения. Однако большинством исследователей политическое поведение признается составной частью политической культуры, которая, в свою очередь, реализуется через политическое поведение. Другими словами, именно постоянный процесс взаимовлияния политического сознания и поведения образует такую подвижную структуру как политическая культура. Поведенческий элемент в структуре политической культуры предполагает осознанное участие граждан в обсуждении проектов государственных и партийных документов, в референдумах, плебисцитах и выборах, в работе различных государственных и общественно-политических органов и организаций, в других видах общественно-политической деятельности, а также членство в политических партиях, общественно-политических организациях и движениях. Политическое поведение, помимо отношений власти, господства, конфликта или согласия, определяют такие факторы, как: общая ситуация в стране, расстановка политических сил, личные интересы политического деятеля и т.п. На политическое поведение граждан оказывают непосредственное воздействие не только их личные взгляды и убеждения, политические симпатии и антипатии, но зачастую подсознательные стереотипы и привычки, вырабатываемые под влиянием окружающей социальной среды и передаваемые из поколения в поколение. Существенным фактором политического поведения, особенно в экстремальных обстоятельствах, выступают массовые психозы. Важным элементом политического поведения являются политические диспозиции – закрепленные в социальном опыте людей предрасположенности воспринимать, оценивать и осмысливать политические объекты и события. Ведущим фактором становления политических диспозиций выступает процесс социализации, главными институтами которого являются школа, институт и работа. В период политической стабильности эти институты поддерживают устойчивый ансамбль диспозиций, который образует в поле политики согласие со всем происходящим в данной сфере. В период же глубоких социально-политических потрясений структура политических диспозиций подвергается значительным трансформациям. Происходит 25 процесс вовлечения индивида в политику, который носит не только физический, но и символический характер. На первый план в этих условиях выходит функция политических диспозиций в поддержании легитимности происходящих изменений в области распределения политической власти и ресурсов внутри поля политики. Кроме того, в ситуации политической неопределенности усиливается значимость политических идей и лозунгов, которые в самом общем виде выполняют функцию координации в процессе политической коммуникации. Политические установки являются существенным аспектом не только политического сознания, но и политического поведения, в виду того, что способствуют переводу представлений и ценностей в плоскость их практической реализации. Примером такой политической установки является отношение российских избирателей к авторитарной системе правления, долгие годы господствующей в нашем обществе и не преодоленной полностью до настоящего времени. Ярким подтверждением этого стали президентские выборы 1996 года, которые показали, как комбинация многовекового феодального и самодержавного правления, а также существовавшей долгие годы командной системы послужила питательной средой для пассивности масс. Говоря в связи с этим о формах политического поведения, следует выделить активные и пассивные типы последнего. При этом отказ от политического поведения следует рассматривать, особенно применительно к российской политической культуре, как своеобразную форму протеста. Помимо этих видов, отдельно в политологической литературе выделяются экстремальные формы политического поведения и политическое поведение маргинальных групп. 5. Основные типологии политической культуры 5.1. «Идеальные» типы Г. Алмонда и С. Вербы. Г. Алмонд и С. Верба разработали классическую типологию политических культур, в основание которой были положены «психологические ориентации людей на политические объекты»: политическую систему в целом, «входные» и «выходные» каналы системы, самоориентации индивидов как акторов внутри системы. Политологи типологизировали политические культуры в зависимости от того воздействия, которое «оказывает культура на регулирование конфликтности и снижение политической напряженности, или, точнее, напряжения, фокусирующего вокруг вопроса о 26 делегировании власти или об участии во власти». Принимая во внимание, что каждый из теоретически возможных типов политических культур может быть определен с помощью свойственного только ему сочетания ориентаций, они описали три основных модели («идеальных типа») политической культуры: 1. «Парохиальная» политическая культура, которую иногда называют приходской, традиционной, патриархальной, общинной, провинциальной, локально-замкнутой, ограниченной или местной. Этот тип политической культуры характеризуется полным отрывом населения от политической системы и полным отсутствием знаний о ней. В таких обществах отсутствуют специализированные политические роли, а основные акторы (вожди, шаманы и другие) реализуют одновременно политические, экономические и религиозные функции. При этом политические, экономические и религиозные ориентации населения не дифференцируются. Преобладает территориальная и социально-культурная идентификация: человек идентифицирует себя, в первую очередь, как часть локального сообщества (рода, деревни и т.п.). Указанный тип доминирует в обществах, где нет самостоятельной, т. е. отделенной от других общественных институтов и структур политической системы, и часто интерпретируется как «аполитичная культура»; 2. «Подданическая» политическая культура или культура «подчинения» и «покорности». Этому типу политической культуры свойственно пассивное политическое поведение, ориентация на господствующие официальные ценности и нормы, а также своего рода патерналистское отношение к политической системе. Такой тип характерен для обществ, в политической системе которых нет четко дифференцированных «входных» каналов, и где индивиды не расценивают самих себя в качестве политических акторов. 3. «Партисипаторная» политическая культура - культура участия или активистская культура. Этому типу политической культуры свойственно активное участие индивидов в политической жизни, основанное на достаточно высокой политической грамотности граждан и их убежденности в способности повлиять на процесс принятия политических решений посредством собственного участия. Такие общества характеризуются относительно высокой степенью функциональной дифференциации: различные сферы общественной жизни относительно автономны, подсистемы (в частности, политическая 27 подсистема) достаточно развиты, и наличествуют позитивные ориентации граждан на все политические объекты. 5.2. Смешанные политические культуры. Гражданская культура как система политических ценностей. Но в чистом виде этих типов, конечно, нет, а существует их «пересечение». В действительности национальные политические культуры сочетают в себе различные типы, то есть являются смешанными. При этом комбинации этих типов могут быть разные. Исследования Алмонда и Вербы в области политического поведения поставили под сомнение адекватность активистской модели, показали, что граждане демократических стран редко живут в соответствии с принципами последней. Авторы сделали вывод, что определенное сочетание некоторых «активных» ориентаций с «пассивными» было бы идеальной комбинацией для любой стабильной демократии. Данная комбинация, определенная как «сбалансированная политическая культура, в которой присутствуют политическая активность, вовлеченность и рациональность (граждан), будучи уравновешенными пассивностью, традиционностью и обязательствами по отношению к локальным ценностям», получила название «гражданской культуры» («культуры гражданского общества», или «культуры граждан»). То есть это - смешанная культура, в которую входят элементы приходской (приверженность «корням» и отсутствие осведомленности о государстве в целом), подданнической (пассивное отношение человека к политической системе) и культуры участия (ориентированность членов общества на систему в целом). На основе анализа результатов социологических исследований они сделали попытку описать примерные пропорции, в которых сосуществуют субкультуры, соответствующие идеальным типам, в национальных политических культурах. Примерная «формула» гражданской культуры выглядела, в их интерпретации, следующим образом: 60% «участников», 30% «подданных» и 10% «парохиалов». Позднее Алмонд признал большое влияние теории демократической стабильности Г. Экстайна, согласно которой для нормального существования демократической политической системы необходимо «уравновешенное неравенство», на концепцию «гражданской культуры». Речь идет о необходимости поддерживать равновесие между полномочиями власти и ответственностью, между консенсусом и расколом, одобрением и апатией, существующими в обществе. В соответствии с 28 теорией «гражданской культуры», гражданин является активным потенциально. Он не выступает как постоянный участник политического процесса, редко активен в политических группах, но при этом обладает резервом потенциальной влиятельности. То есть считает, что в случае необходимости может мобилизовать свое социальное окружение в политических целях. Гражданин в большей степени склонен поддерживать на высоком и постоянном уровне политические связи, входить в какуюлибо организацию и участвовать в неформальных политических дискуссиях. Эти виды деятельности сами по себе не указывают на активное участие в процессе принятия политических решений, но делают такое участие более вероятным. С одной стороны, бездеятельность обыкновенного человека помогает обеспечить правящие элиты властью в той мере, которая необходима для эффективного решения проблем. С другой стороны, роль гражданина, как активного и влиятельного фактора, обеспечивающего ответственность элит, поддерживается благодаря его приверженности нормам активного гражданства и его убежденности, что он может быть влиятельным политическим актором. Нельзя не сказать о том, что подход Алмонда и Вербы неоднократно подвергался критике и, прежде всего, за чрезмерный акцент лишь на одной компоненте - на ориентациях, что вело к недооценке роли реального политического поведения масс и элит. Указывалось также, что ориентации, охарактеризованные авторами, как необходимые и достаточные условия устойчивого развития демократических систем, столь широки по своему содержанию, что могут быть в равной степени признаны установками, определяющими не только политическое поведение, но все типы социального поведения. Однако, важнее другое. Анализ динамики особенностей национальных субкультур Запада за три десятилетия (с начала 1960-х гг. по начало 1990-х гг.) позволил сделать ряд весомых выводов. «Гражданская» культура, для которой характерны относительно высокий уровень доверия населения к представителям власти и относительно высокий интерес к политике, осталась важным типом политической субкультуры в Великобритании и США, а также широко распространилась в Германии. В англосаксонских странах по сравнению с 1960-ми гг. стала менее распространенной «гражданская партисипаторная» субкультура, для которой характерно отсутствие доверия к государственным служащим в сочетании с высоким уровнем интереса к политике. Также в западных странах появилась и сохраняется «автономная культура», для которой характерно отсутствие доверия властям при невысоком интересе к 29 политике. Наряду с этим в этих обществах постепенно исчезают пассивные типы политической субкультуры - парохиальная и подданическая. Сравнительные исследования политического поведения, проведенные в 1990-е годы, выявили важную роль ценностных изменений в переходе индустриального общества к постиндустриальной стадии. Так, Р. Инглхарт процесс формирования и трансформации демократической культуры объясняет ценностными изменениями, происходящими в обществе. Проанализировав роль гражданской культуры в развитии демократии по трем показателям (межличностное доверие, удовлетворенность жизнью и процентное отношение людей, поддерживающих революционные изменения), он выдвинул гипотезу дефицита, согласно которой люди ценят выше всего то, в чем испытывают недостаток. Кроме того, ученый предложил гипотезу социализации, подразумевавшую, что индивидуальные ценностные предпочтения отражают условия взросления человека. Вместе эти две гипотезы составляют общую объяснительную модель формирования ценностных предпочтений: индивидуальные ценностные предпочтения формируются в ранние периоды жизни под влиянием социальноэкономических условий данного периода, и, однажды сформированные, эти ценности будут проявляться на всем протяжении последующих жизненных изменений. Вот наглядный пример. В настоящее время в демократических странах люди среднего возраста и старше отдают предпочтение таким «материальным» ценностям как благосостояние, социальная защищенность, закон и порядок. Молодое поколение, выросшее в условиях, когда эти ценности были уже в какой-то мере достигнуты, больше стремится к «постматериальным» ценностям - самовыражению и самореализации, личной свободе, социальному равенству и поддержанию уровня жизни. Другую гипотезу формирования демократической культуры выражает позиция Р. Патнэма, который предположил, что развитие демократии предшествует материальному благополучию. Для изучения влияния традиций гражданской культуры на политический процесс Патнэм использовал понятия «социального капитала» (сеть взаимоотношений между людьми, нормы этих отношений и доверие) и «гражданского обязательства» (включенность людей в жизнь сообщества). Впрочем Алмонд и Верба никогда не претендовали на истину в последней инстанции. В своей работе «Снова о гражданской культуре» (1980 г.) ими был сделан далеко идущий вывод, что политическая культура – это гибкая многомерная переменная, которая гибко реагирует на структурные изменения. Да и сам подход к анализу политической культуры, 30 основанный на сравнении «реальных» политических культур с идеальными типами, следует признать достаточно плодотворным. 5.3. Попытки усовершенствовать классическую типологию. Приведенная «классическая» типология политической культуры и идея гражданской культуры вызвала серьезную критику со стороны различных исследователей. В частности, критику вызвали методы измерения наличия или отсутствия гражданской политической культуры. Например, во время социологического исследования респонденту предлагалось отметить черты его страны, которыми он гордится, поскольку Алмонд и Верба гипотетически предположили, что гражданская культура предполагает высокий уровень гордости населения за свою страну и, в особенности, за ее политическую систему. Понятно, что наиболее высокий уровень был зафиксирован в Великобритании и США. Вместе с тем авторы не учли разные исторические и общекультурные традиции различных стран, а также смысловую нагрузку тех или иных выражений, используемых при выработке инструментария, в частности, например то, что слово «гордость» имеет несколько разное значение в рамках различных культур. О несовершенстве предложенной типологии и исследовательского инструментария свидетельствует и тот факт, что результаты операционализации понятия «гражданская политическая культура» и применения предложенных исследовательских методик, приводили порой к парадоксальным выводам. В частности, по мнению некоторых советологов, они во многом отражали советскую реальность. Тем не менее, типологическая схема, основанная на выделении различных совокупностей политических ориентаций, получила дальнейшее развитие. Так, например голландские исследователи Ф. Хьюнкс и Ф. Хикспурс в середине 1990-х гг. пытались усовершенствовать типологию политических культур Алмонда и Вербы, дополнив ее новыми типами: «гражданская партисипаторная», «клиентелистская», «протестная» и «автономная» культуры, а также «культура наблюдателей». Впрочем, эти типы политической культуры также необходимо рассматривать как идеальные типы, отражающие основные характеристики субкультур, представленных в рамках национальных культур, что сближает их с «первоисточником». Однако Хьюнкс и Хикспурс, исходя в целом из заданной «классиками» схемы операционализации 31 понятия «политическая культура», предложили собственный набор индикаторов измерения этого явления. В качестве индикатора ориентации в отношении политической системы в целом они рассматривали степень интереса индивидов к политике. В качестве индикатора ориентации относительно «выхода» системы использовался уровень доверия к государственным институтам и управленческому аппарату. Индикатором ориентации относительно собственной политической компетентности выступала оценка возможности личного участия, зависящая от социально-демографических и социально-статусных характеристик. В частности, авторы показали, что гражданская субкультура имеет достаточно широкое распространение только среди высоко статусных категорий населения. Автономная и партисипаторная субкультуры также широко представлены среди представителей высших социальных групп, а также среди лиц с высшим образованием и мужчин. Тогда как клиентелистская, парохиальная и подданическая культуры в наибольшей степени распространены среди представителей низко статусных групп. 5.4. «Неклассические» типологии. Известно, что сам Алмонд предложил другую, отличную от «классической» типологию политической культуры, а точнее, выделил два «полярных» типа политической культуры, основанных на дополнительном критерии - наличие или отсутствие консенсуса. По этому критерию политические культуры можно разделить на поляризованный и консенсусный (или консенсуальный) типы. Действительно, большинство национальных культур можно расположить на оси от поляризованного к консенсусному типу. Например, в поляризованной политической культуре преобладают крайние право- и леворадикальные ориентации. К центру относятся только 25% населения, в то время как к крайним позициям - около 45%. В такой культуре отсутствует согласие большинства по поводу приоритетных ценностей развития. Консенсусная политическая культура, наоборот, базируется на согласии большинства. В ней превалируют центристские, умеренные ориентации (примерно 55%), и лишь около 10% граждан занимают радикальные позиции. Следует отметить, что в настоящее время использование данного критерия является достаточно распространенным и дает неплохие результаты. Логическим выводом из «поляризованной политической культуры» стали теории политических субкультур и фрагментированных политических культур. 32 По своей типологии политические субкультуры бывают вертикальными, то есть различающимися по социальным и демографическим характеристикам (массовая и элитистская субкультуры), и горизонтальными, основывающимися на религиозных, этнических и региональных признаках (например, прибалтийская политическая субкультура в СССР). Кроме того, в литературе выделяются этнические, региональные «враждебные» (или протеста) и молодежные субкультуры. Если субкультуры это – своеобразные «мини-культуры», самостоятельные и автономные образования, то фрагментированная культура есть сумма разнообразных фрагментов. В рамках фрагментированной политической культуры, по определению У. Розенбаума, у населения отсутствует прочное согласие относительно путей развития общества. Тем не менее, в последнем случае раскол общества не столь всеобъемлющ и глубок, как в случае существования культуры, состоящей из совокупности автономных субкультур. Выделяя интегрированные и фрагментированные политические культуры, исследователь наделяет последние следующими признаками: преобладание парохиальной политической лояльности над национальной; отсутствие легитимных и действенных процедур по урегулированию конфликтов; острое недоверие социальных групп по отношению друг к другу; нестабильные и недолговременные правительства. Обращаясь к идее Алмонда и Вербы о лояльных, апатичных и отчужденных политических культурах по отношению к политической системе, Розенбаум считал такое различие оправданным лишь при анализе в основном «подданнической» и смешанной с ней культур. При этом он отмечал, что наиболее стабильные и устойчивые политические культуры – лояльные, а максимальная «несогласованность» политической культуры и политической системы наблюдается у отчужденных культур. В числе «неклассических» типологий следует упомянуть до сих пор широко распространенное, несмотря на некоторую идеологическую заданность, деление на тоталитарные и демократические, а также либеральные и коллективистские культуры (У. Блюм). У Алмонда мы можем найти разделение политической культуры на гомогенный, фрагментированный, смешанный и тоталитарный типы, а Д. Элейзар говорит о моралистической, индивидуалистической и традиционной культурах. 33 5.5. Отечественные разработки в области типологии. Господствующий десятилетия и до конца не изжитый марксистский подход ставит несколько особняком отечественные наработки в области типологии политической культуры. Прежде всего, это относится к классификации политической культуры по формационному, классовому, идеологическому признакам и по отношению к демократии (в советском толковании этого слова). Аналогично мы можем расценивать деление политической культуры на интернациональную, националистическую, гегемонистскую, шовинистическую и миролюбивую. С другой стороны, типология политической культуры по ее субъектам при всех очевидных различиях находилась в русле общекультурной традиции. Как попытку адаптировать западные схемы к российской действительности можно расценивать «синтетический» подход, предложенный современным российским политологом К.С. Гаджиевым. В рамках этой типологии выделяются органическая (включающая различные варианты авторитарной, тоталитарной и традиционной политической культур), либеральнодемократическая (внутри которой можно выделить гомогенный, фрагментированный, интегрированный, консенсусный, конфликтный и другие варианты) и смешанная культуры. Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что степень гомогенности или однородности является важной характеристикой политической культуры конкретного общества. Очевидно, что объективная социальная полярность общества и неоднородность политических структур порождают широкий разброс потребностей и интересов групп и личностей, которые, в свою очередь, по-разному формируют элементы их политической культуры. В итоге в каждом обществе могут одновременно сосуществовать несколько политических культур: господствующая или общая, субкультуры и даже контркультуры. Особое значение в силу отмеченного выше деления приобретает конфликтность в сфере политической культуры, так как здесь на первое место выходит конфликт ценностей, лежащих в основе отдельных субкультур и контркультур. 34 Глава 3. Источники и методология изучения политической культуры России ХХ века 1. Проблема репрезентативности и информативности массовых источников В целом характер документов отечественных архивов таков, что в них недостаточно полно отражены те или иные аспекты политической культуры россиян. По некоторым периодам российской истории ХХ столетия подобный материал встречается крайне редко и в основном в виде отдельных фрагментов. В большинстве случаев трудно с достаточной степенью достоверности выявить степень распространенности тех или иных мнений или настроений. Дело в том, что для массовых источников вообще характерно, что заключенная в них информация «неосязаема» на уровне отдельно взятого документа. Доступной она становится лишь на уровне всей совокупности. Сталкиваясь с несопоставимостью массовых источников, историк обычно старается отдать предпочтение одним перед другими, что заметно обедняет источниковую базу. Поэтому необходим подход, заключающийся в изучении совокупности разнотипных источников, объединенных по принципу общности информации. Например, сопоставление сводок с письмами в газеты, а также с реально происходившими в стране процессами указывает на общность проблем, поднимаемых в шедшей «снизу» корреспонденции. О том, что общество остро реагировало на них, говорят такие надписи на сводках, как «Надо указать, что примерно таких же писем за последние месяцы поступает значительное количество». Следует принять во внимание, что в ряду документов по истории России ХХ столетия важное место занимают как источники личного происхождения, так и официальные документы. Чтобы получить адекватную информацию о политических настроениях и ориентациях населения, обозначить систему приоритетов в этих настроениях, необходим анализ информации по всем группам источников. Причем с большей долей уверенности, считает авторитетный российский историк Е.Ю. Зубкова, можно говорить только «о тенденциях в развитии настроений, о распространенных комплексах ожиданий и главных психологических установках на конкретный отрезок времени». 35 Тем не менее, материалы российских государственных учреждений содержат немало данных, которые могут быть признаны вполне информативными с точки зрения отражения различных, в том числе и поведенческих, элементов политической культуры. Так, в многочисленных фондах административно-карательных органов, куда стекались донесения со всей страны, отложились документы по истории массовых движений начала ХХ века. При этом самый большой объем документации сохранился в местных архивах: в фондах канцелярий губернаторов и губернских жандармских управлений, а также уездных полицейских управлений. В целом, что касается губернской документации, включая фонды духовной консистории, то жесткая вертикаль власти в губернии и отсутствие несанкционированной инициативы предполагали рутинное осведомление губернских структур обо всем, что происходило или могло произойти в уезде. Материалы губернского жандармского управления содержат сведения не только о политических настроениях населения, но и агентурные сведения о деятельности партий, отчеты о неблагонадежных лицах и факты антиправительственной пропаганды. Например, в фондах жандармских управлений ряда губерний находятся дела по обвинению крестьян в оскорблении личности царя, в распространении прокламаций, пении революционных песен и участии в демонстрациях в период революции 1905-1907 годов. Кроме того, сведения о стачках, забастовках и других выступлениях политического характере сохранились в сообщениях и рапортах уездных исправников и полицмейстеров о настроениях населения. Материалы фабричной инспекции и горного надзора, хотя в меньшей степени отражают политические выступления, зато весьма точно освещают такие параметры стачки, как число участников, длительность выступления, требования и результаты. Определенные сведения о политической культуре (прежде всего, политических настроениях) различных слоев населения царской России предоставляют материалы центральной и местной прессы. Несмотря на характерную для России особенность – организацию ее периодической печати в первую очередь в государственных интересах – есть немало примеров обратного. Так, созданные в 1902 году «Сибирские врачебные ведомости» стали одним из самых бескомпромиссных изданий в период в период 19051907 гг., поскольку публикации газеты вышли далеко за рамки медицины и фактически превратили ее в рупор либеральной общественности Красноярска. В годы Первой русской революции еще одна красноярская газета «Голос Сибири», которую издавали кадеты и областники, размещала не только критические статьи и фельетоны в адрес 36 самодержавия, но и материалы, которые содержали прямые призывы к смене существующего строя и освобождению Сибири от административного гнета центра. Созданная в октябре 1906 года эсеровская газета «Голос революции» открыто призывала к вооруженному восстанию. В целом из 15 созданных в Красноярске в 19051907 гг. изданий только одно («Сусанин») поддерживало самодержавие, и еще одно («Православный сибиряк») выступало за ограниченные и постепенные перемены в стране. Но они не пользовались популярностью у населения. Что касается военного времени, то документы Российского военно- исторического архива предоставляют возможность исследования политических настроений и поведения солдатских масс – широкой части российского крестьянского социума. Материалы личного происхождения (подборка писем солдат с фронта) несколько тенденциозны, но эти живые свидетельства являются необходимым массивом информации. Ведь исследование обстановки на фронте и общественного сознания фронтовиков есть необходимое условие для понимания поведения крестьянства в последующий революционный период. Опубликованные еще в советское время материалы о противостоянии общины и власти дают нам сведения о динамике крестьянского движения в военные годы и эволюции политических настроений деревни. Способность русского крестьянства к самоорганизации в революционное время показана в изданном в 1929 году сборнике о советах и прочих крестьянских организациях 1917 года. Произведения народного фольклора и художественная литература тех лет позволяют проиллюстрировать изменения в политических настроениях и поведенческие реакции горожан в условиях военного времени. Не менее информативны документы советского периода, в том числе и официальные. При этом, как отметил академик Н.Н. Покровский, «источниковедение документалистики советской эпохи в принципе должно подчиняться общим законам исторического источниковедения». В ряду документов советской эпохи значимую информацию о политической культуре населения дают партийные и информационнополитические сводки ВЧК-ОГПУ-НКВД, сводки политотделов и военно-цензурных отделов, документы чисток советских учреждений (многочисленные справки, отчеты, доносы, анкеты, заявления и письма в разные инстанции и протоколы разбирательств) и даже многочисленные записки, в большинстве случаев анонимные, в президиумы собраний. 37 Информационно-политические сводки о настроениях населения, составляемые каждые несколько дней, рассылались для ознакомления и подлежали уничтожению в 24 часа, но по непонятным причинам сохранились. Больше всего интересовали специальные органы такие явления, как отношение людей к тем или иным мероприятиям правительства, выборам в советы, чисткам на предприятиях и т.п. В сводках особо выделялось отношение к происходящему разных классов и социальных групп. Время от времени сводки составлялись ежедневно, что было связано с обострением общественной обстановки. В этом случае и сами сводки были посвящены только одной теме. Президиум ВЦИКа на протяжении нескольких лет требовал от председателей губисполкомов представлять примерно раз в месяц секретные письма о положении на местах. Свои ежемесячные отчеты о настроениях крестьян, приезжающих в Москву по общественным и личным делам, представлял даже Центральный Дом крестьянина. Кроме регулярных форм отчетности на всех уровнях готовились специальные сводки, доклады и обзоры о настроениях рабочих, о политическом положении деревни, об антисемитских настроениях, о сектантском движении, о настроениях в связи с угрозой войны и т.д., которые содержали элементы политического сыска и доноса. Важным каналом информации о настроениях в Красной армии были сводки, поступавшие по линии политотделов и военно-цензурных отделов. Направлявшиеся ими сводки включали такие разделы, как «Настроение», «Уровень сознательности», «Отношение к коммунистам», «Отношение к Советской власти» и т.п. Вопреки сложившимся в советское время стереотипам, архивные документы демонстрируют широкий спектр политических настроений, как в противоборствующих армиях, так и среди гражданского населения. Правда, с реконструкцией политической культуры сторонников белого движения дело обстоит сложнее, что объясняется фрагментарностью и опосредованным характером документов антисоветского лагеря. Среди документов, характеризующих состояние РККА в годы Великой Отечественной войны, аналогичны по значимости спецсообщения и сводки о перлюстрации красноармейской почты, составляемые за декаду или половину месяца. Зафиксированные в спецсообщениях настроения можно разделить на три группы: настроения одобрения, проблемные и критические. Изучение материалов каждой из этих групп позволяет составить представление о различных аспектах политической культуры военнослужащих. 38 Наряду со сводками ОГПУ-НКВД на основе отчетов общезаводских и цеховых партийных информаторов подобные сводки составляли в информационно- статистических отделах и секторах райкомов и обкомов партии. Эти отчеты о демонстрациях, общих собраниях, выборах в советы и прочих мероприятиях содержали достаточно достоверную информацию, хотя часто и носили характер доноса. По определению известного российского историка Б.Г. Литвака, доносы выполняли ряд важных для режима функций. Они, во-первых, были источником информации об общественных настроениях и об общественном мнении. Во-вторых, в советском контексте доносы были одним из эффективных путей выявления недостатков и их преодоления. Донос давал простому гражданину определенную меру власти и контроля в государстве. Кроме того, доносы были главным генератором различных форм репрессий. Следует признать, что для официальных сводок, отправляемых в высшие эшелоны власти, были характерны: субъективизм в освещении реального положения и стремление показать политические настроения населения с наиболее выгодной для правящей партии стороны. Содержание сводок имеет более ярко выраженную политическую направленность, которую пытались придать сообщаемым, зачастую самым обыденным фактам составители в угоду «духу времени». Один из ведущих отечественных специалистов в области социальной истории А.К. Соколов, анализируя ежегодное уменьшение числа сводок, подчеркнул то обстоятельство, что по мере укрепления власти и отделения от народа номенклатурная верхушка становилась все более склонной полагаться на созданные аппаратные механизма и специальные органы, призванные наблюдать за состоянием умов и выносить нужные для руководства рекомендации. В течение 1920-х годов все менее объективными относительно политических настроений населения становятся даже информационные материалы ОГПУ. В конце десятилетия в них все чаще звучит фраза о поддержке основной частью рабочих и крестьян политики, проводимой советской властью. Тогда как материалы политического контроля, по мнению петербургского историка В.С. Измозика, в своей совокупности убедительно показывают, что даже в середине 1920-х гг., в период наибольших успехов нэпа, коммунистическое руководство не имело безусловной поддержки большинства населения. На примере сводок ОГПУ Н.Н. Покровский вывел некий «закон» соотношения тенденциозности и достоверности текста: наиболее достоверны содержащиеся в документе сведения, противоречащие основному направлению его тенденциозности, а наименее достоверны - совпадающие с ним. 39 Секретные обзоры писем, составлявшиеся для высоких инстанций, как правило, содержат негатив. Такие подборки формировались отдельно и им присваивались специальные названия типа «враждебные отклики». Сводки по письмам составлялись многими газетами в специальных отделах (например, «отдел расследования и читки» в «Правде» или «отдел крестьянских писем» в «Крестьянской газете») и охватывали события на протяжении от двух-трех недель до нескольких месяцев. Сама сводка представляла собой обзор «наиболее характерных фактов из писем» и содержала информацию как бы двух уровней: сведения очевидцев с мест и реакцию на них определенного слоя работников «идеологической полиции» (выдержки из писем и короткий комментарий обозревателя). Что касается самих писем в газеты, то особо выделяется подгруппа писем, полученных в связи с каким-либо юбилеем или знаменательным событием. Частным, но весьма характерным, примером служат письма в «Крестьянскую газету». Они, безусловно, несут в себе определенный субъективизм, отражая индивидуальные особенности каждого сельского корреспондента, а не только политические интересы, свойственные социальной общности в целом. Однако письма часто создавались как выражение общественного мнения односельчан или их определенной группы. Учитывая непосредственность социального контроля на селе, а также традиционную для крестьянства убежденность в определяющем значении коллективного мнения односельчан во всех аспектах деревенской жизни, сообщать какие-либо ложные сведения для большинства из них не имело смысла. С другой стороны, легко заметить характерное для значительного числа писем в газету стремление «попасть в струю», когда в редакцию возвращались в усеченном и трансформированном виде их собственные установки. История печати периода революции и Гражданской войны – это, прежде всего, история партийной периодики. Как признал позднее В.И. Ленин: «… все вопросы, изза которых шла вооруженная борьба масс 1917-1920 гг. можно (и должно) проследить в зародышевой форме по тогдашней печати». Но информативность прессы зависит от характера издания (официальные издания правительственных и муниципальных учреждений, издания профсоюзных комитетов, партийные органы печати, независимые издания) и его направленности литературные и сатирические, – общественно-политические, художественножурналы по искусству, издания отдельных профсоюзных комитетов и организаций, женские журналы и т.п. Особо выделяется юмористические издания, весьма ценные для понимания политической 40 повседневности. Впрочем, надо учитывать, что независимая пресса была разгромлена уже в 1922-1923 гг. Заметные тенденции развития исторической науки в последнее время связаны как со вниманием к «нестандартным», ранее практически игнорировавшимся проблемам, так и с введением в научный оборот нетрадиционных для советской историографии источников: наказов и приговоров крестьянских обществ, резолюций общих собраний рабочих коллективов, дневников и мемуарной литературы, анекдотов, частушек и даже слухов. Анализ столь специфичного источника как коллективные решения крестьян, письменно зафиксированные в таких разновидностях как приговоры, наказы, петиции и телеграммы, предпринятый в работах О.Г. Буховца, выявил весьма яркую политическую окраску подобных документов. Подобное качество во многом обусловлено «коллективным творчеством», носящим на себе печать компромисса интересов различных слоев деревни. Несмотря на некоторую печать субъективности, мемуарная литература содержит сведения, которые трудно почерпнуть в других видах источников, прежде всего личностные характеристики представителей власти взаимоотношениям между и общественности, ними. Дневники дополнительные и воспоминания штрихи к (особенно революционной и военной поры) отражают личностные, субъективные и часто взаимоисключающие суждения и оценки. Это понятно, так как в целях безопасности предпочтительнее было молчание. Трудность извлечения информации усложняется, с одной стороны, слитностью политического сознания с другими явлениями народной жизни, а с другой стороны, тем, что оно слабо поддается количественному анализу и его трудно выразить в обобщающих показателях. Среди материалов первого послереволюционного 15-летия определенную ценность представляют так называемые коллективные воспоминания. Речь идет о стенограммах вечеров воспоминаний, которые проводились в 1920-х – первой половине 30-х гг. с широким участием общественности. Несмотря на очевидную идеологическую предвзятость, ценность фактологической составляющей этих воспоминаний обусловлена тем, что все материалы просматривались участниками событий, и неточности в них исправлялись. Особую группу источников составляют данные социологических опросов и статистики. Тогда как художественная литература и публицистика выступают, прежде всего, как источник изучения политической культуры интеллигенции. 41 Отдельного рассмотрения требует политическая символика и политическая карикатура, а также кинематограф и зрительские предпочтения в системе политической культуры россиян. Анализ образов «народных героев» 1920-30-х гг. по материалам газетных фотографий показывает, что лики вождей, чьи портреты были весьма распространены среди населения, с годами молодеют, и все больше приближаются к каноническим образам святых. По мере утверждения коммунистического режима постоянно увеличивался комплекс документов, входящих в личное дело. Обязательными становились заключение о соответствии должности, характеристика, содержащая оценку предшествующей работы, марксистской подготовки и личных качеств, и, наконец, партийная характеристика. Сюда же вкладывались доносы, результаты партийных проверок и т.п. 2. Реконструктивные возможности устной истории Устные рассказы - еще не востребованный современными исследователями источник, освещающий наиболее острые моменты прошлого. Но постепенно приходит понимание того обстоятельства, что сферу, которая ограничивает политическая культура, позднейшая история утрачивает, если пренебрегает субъективным опытом и проработкой подобной информации. Как писали немногочисленные «поклонники» устного жанра, «в неряшливости оформления рассказов есть своя убедительность, лицо документа. Важно и то, что сказал человек, и то, как он сказал». Подобные «мемуары особого рода» несколько по-иному, чем пухлые монографии, рисуют события, например, Гражданской войны. В устных рассказах, по мнению авторитетного исследователя Гражданской войны В.Л. Телицына, последняя предстает на своеобразном микроуровне, где события братоубийственной войны порой умещаются в два-три эпизода, два-три предложения, смысл которых можно понять лишь зная подоплеку событий в том или ином регионе, уезде или волости. Влияние политических слухов на политическую ситуацию, психический фактор этого феномена не новы для определенной части историографии, которая нацелена на изучение коллективных представлений в том виде, в каком они вырисовываются, судя по отношению людей к верховной и местной власти, «своим» и «чужим». В отличие от столиц и промышленных центров, слухи в провинции и в начале ХХ в. оставались реальным фактором политической жизни. Помимо «витания», слухи оказывают вполне 42 конкретное воздействие на общество: распространяясь с поразительной быстротой, они формируют общественное мнение, настроение и поведение социальных слоев, возрастных и региональных групп. Известный популяризатор науки 1920-х гг. Я.И. Перельман показал на простом примере, что провинциальный 50-ти тысячный город может узнать свежую новость, привезенную столичным жителем, в течение самого ближайшего времени - от 1 часа до 2,5 часов. Несмотря на то, что слух, распространяясь, сильно деформируется («испорченный телефон»), в «тоталитарном» обществе, по мнению академика А.В. Дмитриева, ему особенно доверяют. Например, даже однолошадные и однокоровные крестьяне, напуганные конфискациями 1918-20 гг., немедленно реагировали на ложные слухи об усилении натуральных повинностей массовым забоем мелкого скота и молодняка. В литературе подчеркивается то обстоятельство, что политический смысл слухи приобретают только в контексте исторической ситуации, а как сопутствующий элемент политической жизни они порождают и проблему злоупотребления словом. В процессе многоэтапной устной передачи слухи не только обрастают вымышленными подробностями, но нередко и кардинально меняют свой характер – в зависимости от представлений, симпатий и чаяний той среды, в которой распространялись. Так, политические слухи, циркулирующие в провинции в начале ХХ в., группируются по значимости и частоте возникновения. Это, прежде всего, «аграрные» слухи (о переделе земли, отмене выкупных платежей, отобрании земли у помещиков), слухи о царской семье, о войне или «измене», и, наконец, слухи о конкретных политических событиях как общероссийского, так и местного масштаба. Слухи, как разновидность неформальной коммуникации, существовали всегда, однако состояние информационного пространства в СССР создавало условия для их активного формирования и распространения. Чем меньше у населения возможности доступа к достоверной информации, тем более широким является поле для возникновения разного рода фантазий и слухов. Их значение возрастает в переломные, нестабильные эпохи, атмосфера которых служит благоприятной почвой для возникновения разного рода страхов, опасений и вместе с тем надежд. Слухи, как вид коммуникации, распространяются стихийно, но предпочитают «свою» публику, которая приспосабливает достоверность слухов к своему опыту и ожиданиям. Посредством устной речи не просто «движется информация» внутри одной социальной группы, но противостоящие участники стремятся переориентировать друг друга, т.е. достичь определенного изменения поведения. Иногда слух усиленно соперничает со 43 средствами массовой информации, хотя создателями и распространителями слухов иногда являлись сами газеты и журналы. На основе вопросов, возникающих, в том числе, и на почве слухов, редакции нередко создавали рубрику «Ответы на письма читателей». Следует признать, что циркуляция слухов является одной из составляющих политического процесса. Среди источников возникновения слухов указывается интерес аудитории к теме и дефицит надежной информации. Рядом исследователей (например, философом А.П. Назаретяном) слух определяется как передача эмоционально значимых для аудитории сведений по каналам межличностной коммуникации. Хотя есть и другая точка зрения (историк А.С. Ахиезер), согласно которой слух есть ничто иное, как сообщение, достоверность которого не устанавливается. Слухи, достигая определенной степени интенсивности, порождают страх, фобии, дискомфортное состояние. Более того, они могут превратиться в массовые действия, в неповиновение власти, в погромы и массовые движения, например, бегство в «обетованные земли», скупку товаров и т.д. Близки к истине и те (социолог А.В. Дмитриев), кто определяет слухи в качестве теневого рынка информации, где ценность слуха заключается в его неофициальности. Если обратиться к основной функции политического анекдота, то он представляет собой, прежде всего, «подпольный» канал коммуникации. Анекдот также выполняет функцию, связанную с механизмом «снятия» оппозиций «власть – народ» или «господство – подчинение». В условиях, когда на пути движения общества к гражданскому обществу постоянно ставились властные препоны, анекдоты выполняли своего рода замещающую функцию некой отдушины. По мнению известного российского историка С.В. Кулешова, при изучении информационно-закрытых режимов анекдоты дают возможность дополнительной верификации характера происходящих процессов. Политический юмор, являясь в каком-то смысле «пятой ветвью власти», очищает общество и защищает часть населения от авторитарных поползновений власти. В свою очередь, способность видеть в том или ином явлении смешное сопряжена, в том числе, с уровнем политической культуры. Последнее свойство особо приоритетно, ибо осмеивание, окарикатуривание чего-то связано нередко с тем или иным типом ксенофобий. К примеру число юмористических журналов и газет в 1905-1907 гг. достигло нескольких десятков, а высшая политическая элита, включая императора и его семью, перестала быть персоной «нон грата» фельетонистов и карикатуристов. Но, конечно, политический анекдот нельзя 44 рассматривать только в качестве средства противостояния режиму. Представляя собой форму критики и протеста против жестокости и глупости властей, он функционально служит и средством популярного развлечения. Расцвет политического анекдота падает на советские годы, причем тематика его была чрезвычайно обширной и разнообразной, а канал распространения один передача «из уст в уста». Сюжетная классификация анекдотов позволяет, хотя и в упрощенном виде, уловить, в каких категориях предстает политическая система советского общества в массовом сознании: революция 1917 г., революционные идеи, КПСС, Ленин, Сталин, НКВД, административно-бюрократический аппарат, вожди и массы и т.п. Политические анекдоты в нашей стране не только отражали конкретные ситуации, в которые ставила человека советская общественная система. Являясь проявлением здравого смысла, они предотвращали полный социальный некроз. Кроме того, это была одна из разновидностей нонконформизма. Не случайно в Советской России ходила шутка: «Будь начеку – попадешь в Чеку!», а в Соловках имелись специализированные бараки для анекдотчиков. Дряхлеющий Брежнев стал полем анекдотной вакханалии – «Бровеносец в потемках». А это уже весьма грозный для системы симптом – ее не просто не любят, а в грош не ставят. На закате советской системы именно расцвет политически и социально заостренного анекдота как наиболее распространенной формой критики режима свидетельствовал о нарастании глубокого отчуждения между обществом и властью. Частушки, более характерные для сельской местности, так же как и анекдоты, выступают источником изучения отношения народа к тому или иному политику, к тем или иным политическим событиям. Политизированность частушек в годы октябрьской революции и Гражданской войны общеизвестна. В послереволюционные годы отражение политических противоречий в тогдашней деревне заметно потеснило традиционные любовные и бытовые темы. Злобой дня стали кооперирование и раскулачивание крестьянства. В 1930 году переиначивались старые частушки: «Ох, калина, малина! Нам не надо Сталина, нам не надо Рыкова, дай Петра Великого!». К числу весьма специфических источников исследования политического сознания можно отнести также фольклорные материалы. При отсутствии естественных форм проявления (через реакцию властей, например) общественное мнение проявляется через действие таких публичных механизмов, как фольклор. Пословицы и поговорки, как правило, вынуждаемые силою обстоятельств, также выявляют психологические и политические воззрения народа. Например, исследование 45 Г.В. Лобачевой показало, что в них достаточно четко определены функции государственной власти глазами народа. Верховная власть - наиболее справедлива и прозорлива («Ведает бог, да царь», «Бог милостив, а царь жалостлив» и т.п.), а отношение к государственной службе рассматривается как повинность – «Где не жить, одному царю служить». Постоянным мотивом фольклора является и противопоставление верховной власти и чиновничества: «Царь гладит, а бояре скребут». По мнению еще одного исследователя народной культуры А.В. Захарова, в русских народных сказках власть выступает не абсолютной, а относительной ценностью, а путь к ней лежит через испытания. Для окончательной же победы власти необходимо принести символическую жертву. Успеха и власти в сказке добиваются не силой, а умом. А так как своего ума часто не хватает, то герой, обладающий харизматическим призванием, прибегает к волшебству. То есть логика «чуда» выступает главным атрибутом власти. Эпоха накладывает свой отпечаток и на язык общества. В свою очередь, слова и речевые обороты точно выражают дух своего времени. Для исследователя 1920-х годов интересны как пережитки старой орфографии, так и быстрое наступление бюрократического новояза. Незаметно в политическую повседневность вторгались и занимали прочное место странная терминология и чудовищная аббревиатура («язык Шариковых»). Именно неразрывная связь формирования советского «политического языка» с политической историей страны обусловила появление и закрепление таких слов, как комсомол, рабкрин, коминтерн и др. Английский писатель и публицист Джордж Оруэл (1903-1950) с его поисками в новоязе идеологически определенных целей, оставлял без должного внимания другую причину - обычную малограмотность людей, пришедших во власть в результате значительных социальных потрясений. Им казалось все доступным - изменить характер власти, формы собственности, основу культуры и, естественно, сам язык. Но любой общественный институт, стремясь унифицировать текст, создает одновременно оппозицию себе и недоверие к стереотипам. Это недоверие выражается в поисках новых, необычных слов, зачастую совершенно непочтительных для официальной среды. Наибольшее количество аббревиатур дала советская власть в первые годы своего существования. Одновременно появились многочисленные и разнообразные их расшифровки, чаще всего с ироническим оттенком. Например, ВЧК – «Всякому человеку конец», ВКП(б) – «Второе Крепостное Право Большевиков», СССР – «Смерть Сталина спасет Россию» и т.п. 46 3. Нетрадиционные источники и механизм «обратной связи» в системе властных отношений в СССР Обращение к вышеуказанным источникам, с одной стороны, вызвано смещением центра тяжести в изучении отечественной истории ХХ столетия от структур к человеку. С другой стороны, интерес к ним диктуется отказом значительной части исторического сообщества от «объяснительной модели» тоталитарного общества. Категориальный аппарат «новой социальной истории» превращает народ из пассивной жертвы или иррационально-агрессивной массы в сознательный субъект коллективных действий, которые становятся неотъемлемой частью социально-политического процесса. Необходимость уловить систему столь сложных общественных связей вынуждает обращаться к свидетельствам людей, представляющих различные социальные слои. Ведь попадая в те или иные ситуации, люди начинают реагировать на них, тем самым приводя в действие фактор «обратной связи», исподволь меняющий устройство общества, взгляды, мысли и чувства людей, не исключая и «вождей». Подобные массовые источники личного происхождения, которые раньше рассматривались как «второстепенные» и «излишне субъективные», позволяют пролить свет на природу конфликтов и напряжений в обществе, формы политического участия, социальной апатии и разного рода «общественных отклонений». Историки сравнительно недавно открыли для себя огромный массив документов социальной истории и истории менталитета, на который ранее не обращалось должного внимания. Речь идет о «письмах во власть» (термин, введенный в научный оборот А.Я. Лившиным и И.Б. Орловым). Этим собирательным термином можно обозначить отложившийся в российских архивах пласт источников, являющихся, пожалуй, наиболее важным документальным свидетельством эволюции политической психологии народа в советское время. В каждом письме выступает личность, на поведение и образ мыслей которой сказывается влияние определенного класса, социальной группы, но стремления и желания которой проявляются более прямо и непосредственно, чем в документах официального характера. Кроме того, уменьшение масштаба исторических исследований до уровня отдельных регионов позволяет проследить не только формирование региональных вариантов политической культуры, но и механизм «обратной связи» между центральной властью и локальными сообществами. При этом анализ обращений к власти на локальном уровне позволяют 47 увидеть не только степень сопротивления центральной власти, но и конформизм с центром. Подобные документы, могут составить базу для изучения, по крайней мере, двух фундаментальных проблем: во-первых, динамики изменения политического сознания в послереволюционные годы, и, во-вторых, особенностей своеобразного «диалога» между властью и обществом посредством писем «с мест» (имея в виду письма как элемент политических отношений). Конечно, речь идет не об абсолютно адекватном и полном отражении состояния политического сознания в письмах, а, скорее, о методах анализа источников, в наибольшей степени приближающих исследователя к пониманию отношения к власти (как центральной, так и на местах), внутренней структуры политического сознания и иерархии ценностей, наиболее характерных дискурсивных стратегий и речевых особенностей самовыражения корреспондентов. Кроме того, источники личного происхождения, оставленные людьми малограмотными, чрезвычайно ценны для изучения политических эмоций, чувств и настроений простых людей. Разумеется, такой типичный документ, как «письмо во власть», чрезвычайно многослоен и заключает в себя огромное и зачастую скрытое многообразие смыслов и культурных практик. Исследование столь специфических текстов неминуемо выводит исследователя в сферу социально-психологических механизмов, часто довольно расплывчатых, граничащих с «коллективным бессознательным». Кроме того, дискурс «писем во власть» отражает разлитое в массовом сознании мифологическое мышление. То есть утопическое противопоставление мышление, действительности основными и идеала, чертами которого абсолютизация являются абстрактных принципов, требования осуществить идеал здесь и немедленно, - начинает проявлять себя в качестве обычного явления в политическом сознании населения. Говоря о второй фундаментальной проблеме - письма и иные формы апелляции к власти, рассматриваемые как своеобразная форма диалога общества и государства - следует видеть в письмах и реакции на них со стороны властного аппарата специфическую форму политических отношений в советский период. Разумеется, «диалогичность», о которой идет речь, весьма условна и нетрадиционна. Нельзя однозначно положительно ответить на вопрос, являлись ли письма и иные формы апелляции к власти специфической формой политического участия, средством политики и власти в условиях коммунистической диктатуры. Утверждать подобное значило бы чрезмерно переоценивать любые внегосударственные факторы формирования политического 48 курса в советское время, равно как и роль общественного мнения в этом процессе. Для известного отечественного источниковеда В.В. Кабанова «письма трудящихся», адресованные анонимному образу Власти, скорее подчеркивают роль «маленького человека» как «псевдогражданина» принципиально негражданского общества. Однако важно избегать и недооценки значения, хотя бы в информационном плане, писем и доносов для выработки, реализации и, возможно, в ряде случаев корректировки действий власти. Анализ механизма «игры» «низов» с властью свидетельствует, что авторы апелляций «во власть» осознанно использовали социально акцентированные ролевые модели «простого рабочего» или «честного крестьянинатрудовика». Проситель был не до конца бесправен, а наделен определенной политической инициативой, ибо мог рассчитывать и даже спрогнозировать желаемую реакцию на свой «сигнал» со стороны государства. Можно говорить об определенном взаимодействии в рамках системы «народ-власть», в которой апелляция к государству являлись коммуникативным средством, попыткой очертить и решить ряд насущных вопросов повседневности, своеобразным «клапаном» для выпускания пара социального недовольства. Более того, такой «диалог» выступал наиболее приемлемой и безболезненной для коммунистического режима формой осуществления государственного управления на основе «обратной связи». 4. Политическая культура как инструмент анализа политической реальности Один из ведущих российских политологов Ю.С. Пивоваров считает политическую культуру абстрактной научной моделью, придуманной Алмондом, концепцией, соответствующей некоторым реалиям западного социума. Поэтому тема об использовании западной науки при исследовании незападного общества остается открытой. По его мнению, следует говорить о принципиальной несостоятельности попытки «понять» Россию через последовательное применение концепции «политическая культура», хотя мы многому можем научиться у западных специалистов по политической культуре. С этим, на первый взгляд, трудно спорить. Однако вряд ли можно согласиться с тем, что к российской истории ХХ века абсолютно неприменимы походы, применяемые для анализа социально-политических процессов в других странах Европы. Естественно, конечно, что они требуют конкретизации и корректировки применительно к российской специфике, адаптации методик и 49 категориального аппарата к конкретному материалу, а главное вписывания в «объемное» видение отечественного исторического процесса. Методически западные разработки по политической культуре можно разделить на несколько направлений. Во-первых, речь идет об изучении предрассудков и предубеждений – что одна общественная группа думает о другой или один народ о другом. Вторым направлением стало изучение американским этнографом Маргарет Мид (1901-1978) начале 1950-х годов национального характера, чьи исследования в конце 1960-х гг. американские политологи Алекс Инкельс и Дэниэль Левинсон развили в концепции «модальной» или «типичной» личности. В своей известной книге «Бегемот: Структура и практика национал-социализма, 1933-1944 гг.» Франц Нойман, выявляя политические, экономические, интеллектуальные и духовные причины возникновения «третьего рейха», заметил, что интеграция общества в армию способствовала формированию в Германии типа «резервного офицера», который постепенно превращался в идеальную модель немца и стал одной из таких «модальных личностей». Большевизм, по классификации религиозного философа –эмигранта Н.А. Бердяева (1874-1948), также стал способом создания «модальной личности» «военноспортивного характера». Важным методологическим шагом стало изучение идеологии как научной и ценностной «карты», по которой могут ориентироваться субъекты данного общества. По мнению Карла Шлёгеля, все идеологии суть выражение характерных для общества дефицитов, а главное их предназначение – выполнение компенсаторных функций. Шлёгель объясняет это на примере советского общества, которое в конце 1920-х гг. было пропитано идеологией американизма, а в конце 1940-1950-х гг. – антиамериканизма. Если советский американизм двадцатых годов был компенсаторной идеологией отсталой страны, которая страстно стремилась совершить рывок к индустриализму, то послевоенный антиамериканизм стал компенсаторной идеологией мощной военной державы, остававшейся в гражданском отношении крайне отсталой. Современная Россия демонстрирует одновременно и то, и другое. При изучении политической культуры как междисциплинарной категории на первый план все больше выходит историческая антропология и проблема взаимозависимости человека и обстоятельств, прежде всего, поставленная французским философом Полем Рикёром проблема «расширения самопонимания через понимание другого». 50 Современные выводы о типе политической культуры делаются на основании изучения общества с помощью таких совокупных показателей, как доход на душу населения, уровень образования, степень и тип урбанизации и прочее. Большое значение уделяется выявлению коррелятивных связей и каузальных отношений между этими характеристиками и типом господствующей политической системы. Одной из наиболее острых является тема об изменчивости и неизменности политической культуры, главное в которой вопрос о том, имеется ли в политической культуре некая субстанциональная подоснова? Если признать ее наличие, то отсюда следует вывод, что любая политическая культура обладает только ей присущим «генетическим кодом». Во главу угла поставлены политологический анализ и анализ, связанный с социальной проблематикой: изучение общественно-политической ситуации в стране, ее динамики и последствий принятия политических решений для широких масс населения. Основой для теоретических обобщений и прогнозов выступают данные социологических опросов, статистики и конкретных исторических исследований, проанализированные в динамике и в сравнении с другими социокультурными системами. В последнее десятилетие в методологии исследований базовых понятий, символов и ценностей политической культуры наблюдается отход от популярного в 1960-1970-е гг. увлечения количественными методами, выражавшегося в массовом распространении анкет, опросников и других статистических процедур, во многом предопределяющих возможные ответы респондентов. В настоящее время адекватным признан идеографический метод, предполагающий обращение к глубинным личностным процессам. В рамках этого подхода широко используется метод феноменологического интервью, позволяющий выявить глубинную ценностносмысловую структуру респондента. В целом смену научной парадигмы видения политической культуры на современном определяют следующие тенденции: синергетическое представление социума как сложной, многомерной, нелинейной и самоорганизующейся системы и отказ от оценочных суждений в отношении политической культуры. В качестве перспективных методик исследования политической культуры следует указать: выявление в процессе формирования политической культуры тенденций «долгосрочного», «среднесрочного» и «мгновенного» действия, пионером чего стал французский историк Фернан Бродель (1902-1985), а также переход от сравнительного 51 анализа на макроуровне к сопоставлению эмпирически замеряемых социальнопсихологических и поведенческих характеристик культуры на микроуровне. Свои результаты может дать сочетание логического и исторического методов, что будет способствовать раскрытию взаимоотношений власти и народа «по горизонтали» и «по вертикали». Необходим также учет цивилизационных факторов формирования политической культуры. Определенные перспективы открывает применение системного (интегрально-аналитического) подхода к исследованию политического взаимосвязей сознания: между выявление различными характера элементами и качественного структур массового своеобразия сознания; типологизация признаков, характеризующих различные аспекты политического сознания; вскрытие механизма и факторов формирования архетипов населения. Что касается исследовательских методик, то здесь могут быть эффективными, помимо глубинных интервью, проведение фокус-групп и контент-анализа, а также изучение специфического политического дискурса. 52 Глава 4. Зарубежная и отечественная историографическая традиция 1. Основные этапы развития концепции политической культуры за рубежом Первым этапом в развитии концепции политической культуры стала разработка в 1920-1930-е годы темы достижения социальной стабильности. В числе работ этого периода стоит отметить труд Ч. Мерриама «Формирование граждан» (1928-1938 гг.). Исследования 1940-1950-х гг. «национального характера» М. Мид поставили в повестку дня изучение ценностных ориентаций и установок разных народов. Именно в рамках этого направления делаются первые попытки «сконструировать» психологический потрет нации. Обращают на себя внимание и эмпирические исследования японцев и немцев в рамках деятельности комиссии по «денацификации» Германии. Что касается российской тематики, то в условиях холодной войны главным объектом изучения советологии выступает «русский характер». При этом феномен большевизма нередко трактовался как порождение русского характера (Дж. Горер, Г. Дикс, Н. Лейтес). Параллельно этот же период отмечен серьезной критикой исследований национального характера в работах Л. Пая, С. Вербы и С. Уайта. Бихевиористская революция 1950-х гг., затронувшая и традиционную политическую науку, привела к проникновению в политическую науку идей культурной антропологии (К. Клакхон, А. Кребер, Б. Малиновский). С другой стороны, «поведенческая революция» в политологии привела к образованию функционалистского направления (Г. Алмонд, С. Верба, Л. Пай) и выдвинула на первый план в 1960-е годы исследования политической реформы, социальной перестройки и устойчивости политических процессов. При этом серьезное внимание было обращено на культурный аспект предпринимаемых политических изменений. В сферу политической науки были вовлечены процессы деколонизации и рост демократических настроений в странах «третьего» мира. Период второй половины 1960-х – 1970-х гг., когда концепция политической культуры была взята на вооружении американских социологов и политологов (В. Ки, Р. Маркриди, В. Нойман, Д. Марвик), сменился в середине 1980-х годов 53 разочарованием в объяснительных возможностях этой концепции (М. Каазе). Тем не менее, распад СССР и «бархатные революции» 1980-х – начала 1990-х гг. перевели исследования в плоскость изучения проблемы культуры в контексте власти и поставили вопрос о роле культуры в процессе политических изменений. Еще одним новым направлением стало исследование политической культуры в сочетании с понятием «стиль жизни» (А. Вильдавски). Можно констатировать возрождение интереса к политической культуре в начале 1990-х гг. (Р. Инглхарт, Р. Патнэм и Р. Далтон). Согласно выводу американского профессора Р. Инглхарта, сделанному в конце 1990-х гг., измерения «синдрома политической культуры» (удовлетворенность, доверие и поддержка революционных изменений) характеризуют позитивное или негативное отношение людей к миру, в котором они живут. 2. Основные направления исследования политической культуры Как было указано выше, понятием «политическая культура» в современной политической социологии, политической науке и печати обозначается широкая предметная область, в рамках которой ведутся как эмпирические, так и теоретические исследования. На эмпирическом уровне изучаются такие вопросы, как: разнообразие политических ориентаций, убеждений, установок, ценностей и видов политического поведения; отношение граждан к неравенству и демократии; интерес к политике и степень политического участия; уровень политического и межличностного доверия; соотношение сторонников «левой» или «правой» политической ориентации и степень поддержки ими политических партий; активность избирателей на выборах и их политико-моральные императивы; национально-государственная самоидентификация индивидов и т.д. Что касается теоретических исследований, то основная их проблематика была рассмотрена нами в предыдущих главах. Современный социолог М.М. Назаров в своей работе «Политическая культура российского общества 19911995 гг.: опыт социологического исследования» (М., 1998) выделил четыре основных направления исследования политической культуры: марксистско-ленинская традиция, поведенческая традиция, интерпретационные подходы и рассмотрение политической культуры через призму социальных изменений, с чем можно согласиться. Рассмотрим их подробнее. 54 2.1. Марксистско-ленинская традиция Непосредственно в политическую и научную практику советского периода понятие «политическая культура» было введено В.И. Лениным, чье понимание последней включало в себя: идею единства культуры и политики, наличие двух составляющих в каждой национальной культуре и партийность культуры во всяком классовом обществе. Для Ленина политическая культура, с одной стороны, выступала производной от политической деятельности, необходимой для достижения революционного изменения всего общества, а с другой стороны, рассматривалась как определенная цель политической деятельности, направленная на становление человека нового общества как общественного существа. В более конкретном плане В.И. Ленин использовал понятие «политическая культура» при анализе уровня сознательного участия масс в политической деятельности, рассмотрения характера политических ценностей и их влияния на политические отношения. Другими словами, в марксистской интерпретации признаки политической культуры характеризуют уровень идейной зрелости трудящихся, политической активности и участие в принятии политических решений. В теории максимально полное развитие демократии рассматривалось как необходимая предпосылка развития политической культуры социализма в целом. Несомненное первенство в изучении вопросов политико-культурного свойства после Ленина принадлежало репрессированному философу и историку философии и литературы, одному из первых исследователей философского наследия вождя И.К Лупполу (1896-1943). Но в целом отечественные обществоведы активно включились в разработку проблем политической культуры только в начале 1970-х годов. На базе разработанных ранее теоретических положений в 1970-1980-е гг. в СССР проводились многочисленные исследования политической культуры советского общества. Но в виду того, что отечественная научная мысль к проблеме исследования политической культуры обратилась позже, чем западная, 1980-е годы стали периодом интенсивного формирования понятийного аппарата. Этим, прежде всего, объясняется разная интерпретация этого понятия, в зависимости от решаемых задач. Чаще всего политическую культуру понимали как опыт, с помощью которого «описываются феномены общественного сознания», воздействующие на формирование, развитие и деятельность политических институтов, а также на массовое политическое поведение граждан (Ф.М. Бурлацкий и А.А. Галкин). При характеристике политической системы С.А. Егоров определял политическую культуру как совокупность устойчивых 55 установок, ценностей и образцов поведения социальных слоев и отдельных граждан, «касающихся их взаимодействия с властью». При определении содержания категорий «власть» и «государство» в понятие «политическая культура» включалось (Н.М. Кейзеров) единство политических знаний, политических теорий и методов деятельности, специфическая форма, способ отражения и реализации коренных общественных интересов. Разработки процесса формирования общества в целом привели Э.Я. Баталова к пониманию политической культуры как продукта исторического развития, складывающийся и проявляющийся в деятельности и в процессе взаимного общения людей. Среди многочисленных определений политической культуры в этот период (Е.М. Бабосов, А.В. Дмитриев, Ж.Т. Тощенко, Г.В. Осипов и др.) в качестве предметной области чаще всего выделялись: феномены общественного сознания (установки, нормы и ценности), элементы политического поведения и политические институты. Именно в это время в работах А.И. Арнольдова, Э.В. Ильенкова, В.В. Журавлева, И.Т. Фролова и других отечественных философов, социологов и историков сложилось рассмотрение политической культуры как составной части общей культуры В целом характерной особенностью подходов, преобладавших в исследованиях политической культуры в СССР, можно назвать их существенный нормативный акцент, когда конкретные проявления политической культуры соотносили с некоторой идеальной моделью, присущей человеку социалистического общества, рассматривали политическую культуру социализма как «высший тип политической культуры». Советские обществоведы исходили из того, что политическая культура фиксирует, в какой степени общество, класс и отдельные индивиды овладели всеми элементами политической деятельности. По их мнению, именно политическая культура фиксирует, в какой мере политическая деятельность развивает человека, обогащает его духовный мир и способствует его становлению как гражданина. В силу этого, базовыми составляющими элементами социалистической политической культуры выступали такие компоненты, как: овладение знаниями в области марксистко-ленинской теории, внутренней и внешней политики партии; превращение знаний в глубокие внутренние убеждения личности и выработка классового самосознания; приобретение необходимых навыков политической деятельности и реализация знаний, убеждений в практической деятельности субъекта политической деятельности во всех сферах общественной жизни. Впрочем, нормативный аспект был присущ и подавляющему 56 большинству зарубежных исследований. Только в этом случае политическая культура рассматривалась с точки зрения ее соответствия стандартам западной демократии. Хотя в подавляющей массе отечественных исследований особо подчеркивался фактор наличия в СССР гомогенной политической культуры, само марксистское понимание феномена политической культуры не было гомогенным. Например, А.Г. Агаев, А.И. Арнольдов, Ф.М. Бурлацкий, А.А. Галкин и С.К. Рябов рассматривали эту категорию как совокупность политических знаний, ценностей, принципов и способов политической деятельности, исторического опыта и традиций. Для Ю.П. Ожегова, ЮА. Тихонова и Р.Г. Яновского политическая культура являла собой обобщенную характеристику человека, степени его политического развития и активности и умения применять политические знания на практике. Для третьей группы ученых (Е.М. Бабосов, Г.А. Юелов, М.Т. Иовчук, Н.М. Кейзеров, Л.Н. Коган), политическая культура представлялась процессом, способом и формой реализации сущностных черт человека, его знаний и убеждений в общественно-политической деятельности. Эту классификацию следует дополнить рядом ученых (Ж.Т. Тощенко и др.), рассматривающих вопросы политической культуры преимущественно через призму политического сознания, как «качественное свойство сознания и поведения людей, соединяющее в себе политические знания, опыт, убеждения, навыки и умения политической деятельности». Рассмотрение работ «перестроечного» периода показывает, что идеологическое противостояние в обществе привело к повышению интереса специалистов к работам зарубежных авторов. Именно в конце 1980-х – начале 1990—гг. был опубликован ряд работ отечественных исследователей (в первую очередь, Э.Я. Баталова и С.А. Гамаюнова), анализирующих немарксистские подходы к изучению политической культуры. Удар был нанесен, прежде всего, по классовому подходу к оценке общественно-политических политическую культуру явлений. сердцевиной Например, В.А. Шегорцев, объявивший перестроечного механизма, в качестве характерных черт первой указал «признание необходимости коренных реформ существующих институтов и принципов политической жизни советского общества», активную поддержку их осуществления «не только мнением, но и участием». 57 2.2. Поведенческая традиция: достоинства и недостатки Начало широкого применения термина «политическая культура» в западной науке обычно относят к концу 1950-х – началу 1960-х гг. Если раньше этот термин применялся в узко техническом или вспомогательном плане, то теперь он превращается в необходимую концептуальную составляющую исследований в области политики. Причем изначально новый статус понятия определялся задачей классификации и сравнения политических систем. Будучи сторонником системно-функциональной школы, Г. Алмонд сосредоточил свое внимание на феномене политической системы, выделив два уровня анализа: институциональный (исследование реальной политической культуры) и ориентационный, связанный с существованием такого специфического явления как политическая культура. В этот же период появляются некоторые работы, в которых политическая культура наделялась методологическим статусом. Так, по мнению Х. Бир, к политической культуре могут быть отнесены «ценности, верования и эмоциональные отношения». В рамках других определений (например, Р. Макридис) политическая культура трактовалась как разделяемые цели и общепринятые правила взаимодействия индивидов и групп, посредством которых властные решения и выбор определяются всеми акторами внутриполитической системы. В целом в этот период в литературе о политической культуре говорилось в весьма широком контексте. В качестве равноположенных с политической культурой выступали такие термины как идеология, ценностные ориентации, политические ожидания, политический фольклор и т.п. Более того, термин использовался некоторыми авторами в качестве синонима доминирующих норм в сфере политики, политической системы или даже общества в целом. Наиболее ярким и полным примером поведенческой концепции политической культуры, представленной, кроме указанных, такими именами, как С. Верба и А. Улам, является работа Алмонда и Вербы «Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти государствах» (1963 г.). В ней авторы определили политическую культуру как совокупность политических ориентаций, присущих населению в целом или его группе. По их мнению, содержание политической культуры складывается под воздействием ряда факторов: детской социализации, образования, открытости средствам массовой информации, опыте контактов с правительственными организациями, влиянии социально-экономической действительности. При этом 58 зависимость между политической культурой и политическими структурами является двухсторонней. Конечно, поведенческому подходу к политической культуре присущ ряд недостатков. Во-первых, широко используемые опросные техники и методы статистического анализа зачастую «нечувствительны» к глубокому культурному и нормативному контексту происходящего. Во-вторых, вне поля зрения оказывается проблема одновременного существования формально разделяемых ценностей и скрываемых реальных политических ориентаций. И, наконец, в-третьих, весьма жесткая связь между политической культурой и политическими институтами скрывает то обстоятельство, что на практике та или иная политическая культура содержит в себе противоборствующие составляющие. А именно последнее обстоятельство является предпосылкой реализации иных политических траекторий развития. 2.3. Интерпретационные подходы Существует традиция, связанная с разным видением задач анализа социальной реальности в рамках бихевиористских (следование критериям свободной от ценностей позитивной науки с использованием старых количественных методов опроса для получения эмпирических знаний) и интерпретационных парадигм науки, включающих поиск «смыслов» политической жизни и вычленение смысловых аспектов политики. При этом используется широкий набор приемов анализа, начиная от разнообразных описаний и анализа фрагментов национальной истории до изучения образцов популярной культуры. Для некоторых из современных интерпретационных исследований политической культуры центральным являются идеи социальной антропологии (прежде всего, сюда следует отнести работы известного антрополога К. Гирца), где символ трактуется в качестве ключевого элемента понимания культуры и соответственно человеческого поведения. В основе некоторых других работ лежат посылки, заимствованные из структурной антропологии, когда предметом политической культуры выступают не быстро меняющиеся психологические установки, а фундаментальные представления, лежащие в их основе. То есть речь идет о политической жизни в целом, начиная от смысла социального существования и общих социальных приоритетов и завершая актуальными вопросами политики. Сторонники этого подхода рассматривают политическую культуру как особую форму рациональности – некую культурную 59 рациональность. Формирование культуры происходит адаптивно, то есть люди формируют свою политическую культуру в процессе принятия решений. При этом постоянная актуализация и модификация отношений с властью и по поводу нее расставляет свои акценты в системе предпочтений. В рамках данного варианта интерпретационного подхода каждая нация наделяется определенной комбинацией идеальных типов политической культуры, число которых ограничено. При определении типов политической культуры основания дифференциации строятся исходя из представлений об ограниченном числе «образов жизни», присущим тем или иным культурам. В основе этого лежит концепция антрополога М. Дуглас о двух базовых параметрах измерения социального контроля: 1) степени многочисленности традиционных предписаний и ограничений и 2) степени коллективности, фиксирующей силу или слабость групповых барьеров. Отсюда, в свою очередь, формируется 4-х позиционная матрица культур или «образов жизни»: эгалитарная, иерархическая, индивидуалистическая и фаталистическая. 2.4. Рассмотрение политической культуры через призму социальных изменений Если все предыдущие подходы можно отнести к изучению политических систем в состоянии относительной стабильности, то этот подход преимущественно сосредотачивался на изучении обществ развивающихся стран. Одной из наиболее известных в этом плане является работа «Политическая культура и политическое развитие» под редакцией Л. Пая и С. Вербы (1965 г.), в основу которой была положена теория модернизации, а категория политического развития использовалась как соотносящаяся с понятием модернизации применительно к области политики. В рамках этого подхода особое внимание придавалось изучению роли ментальности, норм и ценностей конкретного общества с точки зрения их позитивного или негативного влияния на процессы культуры. При этом в качестве важнейшей составляющей развития рассматривалось политическое участие, а в качестве основного препятствия выступали традиционные ценности, присущие обществам развивающихся стран. Результаты исследований позволили выделить основные черты политики обществ «незападного типа»: недифференцированность политики от социальной и личностной сфер; различие протопартийных группировок не столько по отношению к конкретным вопросам политики, сколько к более широким характеристикам образа 60 жизни населения; существенные различия в политических ориентирах населения; отсутствие консенсуса в отношении целей и средств развития; высокий уровень политической апатии населения; слабая дифференциация политических интересов широких масс. При этом утверждалось, что наименее предрасположены к трансформации ценности, легитимирующие функционирования базовых политических структур. То есть, чем более распространены эти ценности среди широких слоев населения, тем менее возможны их быстрые изменения. Ценностным трансформациям в социально-политической области уделялось внимание и при изучении западных обществ. Существует несколько вариантов объяснения этого феномена. Во-первых, изменения в установках связывались с жизненным циклом людей, в частности, рост консервативных настроений - с возрастом. Во-вторых, изменение ценностей группы расценивались как результат смены ее состава. Кроме того, сюда же относится идея периодических эффектов, когда те или иные политические или социально-экономические события оказывают значимое влияние на установки большинства населения. Результаты проекта изучения ценностей под руководством Р. Инглхарта подтвердили, что индивид оценивает как более важное то, в чем испытывает недостаток, а взаимосвязь социально-экономических условий и ценностных ориентаций предполагает существенный временной лаг. При всем разнообразии позиций, очевидно, что большая часть попыток исследования общественных изменений посредством категории «политическая культура» сводится к постулированию неоднородности, гетерогенности культурного наследия. То есть «ядро» политической культуры воспринимается не как монолитное образование, а как подвижная комбинация различных установок или «паттернов», причем соотношение и удельный вес последних могут изменяться с течением времени. 3. Прикладные исследования политической культуры России на Западе Работ по политической культуре России на Западе написано много. Однако большинство этих книг и статей посвящены тем или иным аспектам русской политической культуры (например, исследования Марка Раева «Понять дореволюционную Россию» и «Народ, интеллигенция и русская политическая культура» и работа Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме»), и лишь в немногих делается попытка целостной характеристики этого феномена. Одной из таких работ 61 является статья немецкого ученого Вольфганга Пфайлера «Исторические условия формирования русской политической культуры», исходная позиция которой сводится к следующим положениям. Во-первых, отмечается некий континуитет политической культуры России от древнейших времен до эпохи «социалистической диктатуры», который начинает меняться только с конца 1980-х гг. Во-вторых, автор подчеркивает, что политическая культура России находится на низком уровне, поэтому на ее почве произросло нечто, весьма отличающееся от остальной Европы. Исходя из этого, Пфайлер выделял основные черты политической культуры России, чья духовная жизнь развивалась в условиях изоляции. Изоляционизм российской политической культуры способствовал «переработке» западных влияний в соответствии с русской нормативной и ценностной системами. Ученый особо подчеркивает влияние византийской традиции на политическую культуру России, которое проявилось в представлениях об иерархизированном порядке, в рамках которого индивид включен в коллективные структуры, о единстве царской и имперской идей, государственной религии и государственной церкви, а также в религиозно-нравственном восприятии «политического». Примером последнего служит идеологема «Москва – Третий Рим» и, в определенной мере, идея мировой революции. Основная масса черт политической культуры России выводится Пфайлером исходя из отсутствия тех или иных институциональных и неинституциональных факторов, которые определили генезис западной политической культуры. Отсутствие Возрождения и индивидуалистического рыцарства предопределило слабость элементов индивидуализма в политической культуре, а заимствованный характер Просвещения поставил на место религиозной веры «науковерие». В России не было Реформации и, как следствие, не была поставлена проблема свободы совести. В виду этого отсутствует толерантность и культура компромисса, не проведено разграничение мировоззренческих и политических ценностей. Образование государства предшествовало созданию нации, в результате чего русское государство есть государство по преимуществу династическое и территориальное, а не национальное. Отличный от Европы тип развития социальной структуры, в которой не только церковь не была отделена от государства, но и экономика от политической власти, препятствовал возникновению буржуазного сознания, которое во многом определило политическую культуру Запада. В итоге политические функции отсутствующего третьего сословия в России взяла на себя интеллигенция. 62 Американский ученый Эдвард Л. Кинан сделал попытку квалифицировать основополагающие мифы политической культуры России, в числе которых первенствующее положение занимает идея преемственности Московского государства – ядра будущих Российской и Советской империй – от Киевской Руси. По его мнению, сформулированная концепция «Москва – Третий Рим» возложила на Москву ответственность за «результаты» мировой истории, а первые большие завоевания середины XVI в. (Казань и Астрахань) идеологически оправдывались богоугодностью проведения антитатарского крестового похода и христианского миссионерства. Интересные наблюдения о природе политической культуры России имеются в классической книге Эрика Фёгелина «Новая наука политики: Введение». Для него тип политической культуры определяется типом представительства, а русский вариант представительства (трансцендентально-экзистенциальный) в наиболее полном виде выражен опять же в концепции «Москва – Третий Рим». Более того, Россия сформировалась в политическое общество посредством символической самоинтерпретации в качестве продолжателя дела Рима. В американской историографии последних лет появились работы, в которых историки и политологи обратились к истории русского пореформенного крестьянства. В трудах Дж. Брукса и Б. Эклофа крестьяне предстают не «пассивной и темной силой», а людьми, стремящимися к знаниям. Д. Фильд также отвергает стереотипный образ консервативного русского крестьянина. Об участии крестьян в революции 19051907 гг., их борьбе за «землю и волю» и возросшем самосознании пишут Дитрих Байрау и Теодор Шанин. Для У. Розенберга вопрос об ослаблении государственной власти после Февральской революции не сводим только к «двоевластию». Ведь в ходе революции развернулся более существенный процесс: внутри институтов государства изменились пути утверждения властного начала и способы его реализации. После Февраля 1917 года авторитет перестраивающейся власти с ее меняющейся институциональной практикой, и особенно новыми ценностями (прежде всего, концепцией «демократии участия»), слабел в зависимости от меняющегося соотношения между ценностями и институциональной практикой. Ряд интересных наблюдений над политической культурой СССР был проделан западными исследователями уже после распада Союза. Так, например, Карл Шлёгель полагает, что решающую роль в победе большевизма и становлении советской политической культуры сыграла Первая мировая война. По его мнению, идея «Третьего Интернационала» - это секулярный аналог концепции «Москва – Третий Рим». Новый 63 мир обретает свою идеологию в марксизме-ленинизме, который отводит России мессианскую роль – утвердить на всем земном шаре Абсолютную Социальную Справедливость. Москва вновь объявляется центром ойкумены. Не случайно, несколько поколений советских людей выросли на стихах: «Всем известно, что Земля начинается с Кремля…». По мнению Вольфганга Айхведе, система (как и политическая культура), созданная большевиками, не имеет аналогов, так как не предполагает ни разделения властей, ни прав человека, ни наличие общественного договора. Существование этой системы было «санкционировано» партией, которая находила себе легитимацию в «метаисторических химерах». На взгляд исследователя, классовая политика, трансформируясь в политику индустриализации, приводит к «американизации» большевизма и сращиванию социализма с техницизмом. При этом техницистское измерение приобретает и политическая культура большевизма. Одновременно в советской политической культуре происходит невиданное доселе подчинение экономической рациональности иррациональности власти, прикрываемой мифологической гигантоманией. При этом Айхведе указывает на две политические субкультуры первых двух десятилетий победившего коммунизма. Если носителем первой - ленинизма - был по преимуществу бывший политэмигрант, чья политическая социализация прошла в европейских столицах, то проводником сталинизма являлся провинциальный партийный работник, проведший почти всю жизнь в своей губернии и потому воспринявший близко лозунг «социализма в одной стране». Ориентированный на горизонтальное распространение революции ленинизм являл собой тип горизонтальной мобилизации, а сталинизм был ориентацией на вертикальное распространение революции. Хайнц Тиммерман подчеркивает, что все попытки европеизации России удались лишь отчасти, так как на пути этого процесса всегда вставал «русский империализм» как совокупность ряда родовых черт. Советский коммунизм, в свою очередь, стал способом осуществления модернизации политической культуры России. Но эта модернизация имела, прежде всего, технико-промышленное измерение: было построено индустриальное государство, а не индустриальное общество. Клаус Зегберс выступил против тех западных исследователей (Ш. Фицпатрик, Д. Скотт, М. Левин и др.), которые характеризовали политическую культуру России как однозначно антагонистическую. В его представлении, русский коммунизм продемонстрировал удивительное умение вырабатывать отношения социального консенсуса, в том числе, между властными элитами. Основой такого консенсуса Зегберс считает следующие 64 феномены коммунистической политической культуры: «институционализированный плюрализм», закрепляемый в учреждениях по ведомственному принципу; неформальные группы интересов и давления в «системе» неформального управления страной; «бюрократический торг» или тайна планирования и раздачи привилегий, а также нежесткие бюджетные ограничения. Известное исследование о политической культуре Советского Союза Фредерика Бэргхурна в качестве доминантного ядра последней выделяет культуру КПСС и ее руководящих работников. Эту доминантную культуру, основой которой была воинственная верность идеологии марксизма-ленинизма, он квалифицирует как идеологическую, фанатичную, элитистскую и подданически-партисипаторную. По мнению Бэргхурна, в рамках политической культуры СССР доктрина и власть переплетались весьма тесно, взаимно легитимизируя друг друга. Исследователь выступил против того, чтобы квалифицировать советскую политическую культуру как бюрократическую и авторитарную по преимуществу, так как ее идеологическое измерение, сочетавшее утопически-идеалистические и прагматически-реалистические элементы, важнее. Д. Россман в статье о стачке 1932 г. в городе Тейково Ивановской области, показал, как рабочие, апеллируя к революционным традициям, обратили их в свою пользу, добавив к этому изрядную долю традиционных общинных, великодержавных и явно антисемитских настроений. Автор наглядно продемонстрировал, как политическая культура советских рабочих в 1930-е гг. впитывала в себя элементы социальной вражды, унаследованные от прошлого, как трансформировалась в эти годы дихотомия «мы» и «они», и как руководство страны обращало подобные настроения в свою пользу. В той же манере была выполнена работа С. Дэвис, рассказывающая о том, как в 1930-е гг. проявлялась вражда социальных низов по отношению к власти различных уровней. Герхард Зимон утверждает, что закат СССР и его политической культуры был обусловлен тем, что в послевоенный период происходило формирование альтернативы господствующему порядку в виде нации – организованного в государство и обладающего политическим самосознанием народа. Герхард Веттиг, продолжая тему «национального в политической культуре», подчеркивает, что под покровом советского тоталитаризма скрывалось национальное, представлявшее собой антиимперскую, партикулярную тенденцию. Ассен Игнатов отмечает возникновение принципиально нового феномена в политической культуре русского общества конца 1980 – середины 65 1990-х гг. – идеологии национал-большевизма, которая представляет большую опасность как совершенно иррациональное соединение коммунистического, националистического и православного начала. Своеобразным подведением итогов исследования политической культуры России можно рассматривать работу Г. Зимона «Будущее из прошлого: Элементы политической культуры в России», в которой самодержавие объявляется главной родовой чертой политической культуры Московского государства. Большевистская диктатура, в сущности, соединила принцип вождизма с самодержавной традицией, тогда как все попытки ввести «коллективное руководство» оканчивались полной неудачей. Зимон также считает, что современная Россия, как и в годы Смуты и революций начала ХХ века, переживает кризис идентичности. В силу этого восстановление сильной власти, ревалентной природе русской политической культуры, является основной предпосылкой для преодоления кризиса, выходом из которого снова будет, по мнению ученого, дистанцирование от Европы. 4. Основные тенденции исследования политической культуры в современной российской историографии В 1990-е годы в России появляются исследования Э.Я. Баталова, С.Р. Брыля, К.С. Гаджиева, М.Н. Марченко, М.М. Назарова, В.Ф. Пенькова, В.В. Пушкаревой, В.Л. Савельева, Г.Н. Сердюкова, А.И. Соловьева, В.А. Тихоновой, М.Х. Фарукшина, Е.Б. Шестопал и других авторов, по-новому ставящие многие политологические проблемы, в том числе, и вопросы политической культуры. По мере проведения систематических исследований, взгляд на советскую политическую культуру начинает усложняться. Возникнув первоначально в работах западных авторов, новый взгляд на политическую культуру советского и российского общества начинает утверждаться и в отечественных исследованиях. Особенно популярной становится идея цивилизационного раскола. При многообразии подходов к анализу этого явления, главенствующей становится точка зрения о модернизационном расколе, вызванном антагонизмом между процессами модернизации и традиционалистскими ценностями. Именно этот раскол в различных его модификациях и в настоящее время, по мнению многих ученых, продолжает определять специфику современного состояния российской политической культуры. 66 Вслед за социологами и политологами к изучению вопросов массового сознания и политического поведения масс, восприятия власти и ее институтов, отношения к текущим политическим событиям, политическим партиям и революционным вождям обратились в 1990-е гг. и историки. Акценты в изучении крестьянской проблемы были перенесены в сферу противоборства государственной власти и крестьянства еще советской историографией. Просто политические перемены 1990-х годов придали новое звучание аграрной проблеме вообще и проблеме «власть и общество» в частности. Особенности политического менталитета крестьянства на рубеже XIX-XX вв. фигурируют в качестве самостоятельной проблемы в работах историков Л.В. Даниловой, В.П. Данилова, К.О. Касьяновой и С.В. Лурье, которые связывают специфические черты сознания, социальный опыт, духовные и политические ценности и архетипы поведения крестьян с жизнью и хозяйствованием на земле. В работах Л.Т. Сенчаковой проанализированы приговоры и наказы сельских и волостных сходов шести центральных губерний, в том числе Владимирской, Московской и Тверской, направляемые в Всероссийскому 1905-1907 гг. крестьянскому в различные союзу, что государственные позволило инстанции выявить и социально- политические требования и пожелания крестьян. Приговорное движение нашло отражение и в исследованиях О.Г. Буховца, написанных на материалах черноземных губерний России и Белоруссии. Однако, несмотря на работы С.В. Авреха и Н.И. Черняева о характере российского традиционного общества и его политической культуре, в современной литературе пока еще слабо разработан такой аспект культуры крестьянства, как монархизм. Вывод историков В.Л. Дьячкова и Л.Г. Протасова о том, что «разнокультурность России с наложившейся на нее «сверху» контролируемой модернизацией создала парадоксальную и удивительную ситуацию – огромная война, объективно вошедшая во все клетки и поры России, оказалась «посторонней», ненужной», позволяет по-новому посмотреть на политическую предысторию революции 1917 года. Судя по направленности и содержанию новейших работ по истории революции и эпохи военного коммунизма, исследователей в первую очередь волнует дилемма «государство и народ» или «власть и массы». Например, Ю.М. Волков полагает, что структура сознания человека в «социальной машине» послереволюционных лет по большей части была подготовлена всей крепостнической историей России, что позволяет говорить о многокомпонентности последнего. Наиболее благоприятными чертами политической культуры для решения задач 67 «идеократического режима» автор считает: двойное сознание русского человека индивидуализм и коллективизм; «отсутствие чувства формы» (по определению отечественного философа М.К. Мамардашвили), делающее такой тип зародышевого сознания чрезвычайно восприимчивым к «безумным» идеям; чувство «социальной матки» или принадлежности к чему-либо большему - партии, «родному заводу» и т.п. В постреволюционном пространстве идеологически «главным» становится коллективистское сознание, в котором идеология выполняет функцию различения «своих» и «чужих». Здесь же находится источник безграничного (почти религиозного) доверия лидеру, безудержного нигилизма в мыслях и, как следствие, «беспредела» в действиях. Интересные аспекты социальной динамики и политической психологии и культуры масс в революции раскрывает монография В.П. Булдакова «Красная смута. Природа и последствия революционного насилия» (М., 1997). Здесь заслуживает внимания главный тезис автора, что стихийное движение низов в революции не есть бессмысленное истребление сограждан, а особая форма поиска обществом нужного пути и «выкристаллизовывания» из своей среды жизнеспособной власти и авторитета, соответствующего его критериям, которому оно готово подчиниться. Исследуя феномен «человека с ружьем» известный российский историк пришел к выводу, что солдаты и матросы оказались носителями «коллективного бессознательного», в котором сочетались элементы традиционного крестьянского бунтарства и разнузданности вынужденного маргинала, а в основе революционизма солдатской массы лежало архаичное неполитическое бунтарство. К числу наиболее удачных исследований политического сознания «низов» первых послереволюционных лет можно отнести работу О.В. Великановой, посвященную анализу феномена культа вождя через категорию «гражданской религии», то есть видения мира посредством мифов и символов. Трансформация полифонического образа вождя рассматривается автором с позиции различных социальных ролей: религиозного, родового, политического и даже сексуального символа, центра национальной интеграции и образца для подражания. При этом проблема культа вождя тесно увязывается с вопросами структурирования «нового общества» и легитимации режима. Значимой приметой времени стало исследование В.Д. Тополянским возможностей использования прессы для изучения политических вопросов через искусственно организованный обмен мнениями, скрытой борьбы в печати, влияния 68 газет на вождей и их решения. В этой связи укажем на выводы С.А. Павлюченкова о дезориентирующем властные структуры характере публикаций в периодической печати. Важнейшее значение имеет становление нового направления научных исследований, рождающегося на основе сформулированного В.С. Измозиком понятия «политического контроля». Еще одним из наиболее заметных направлений в современной историографии следует признать разработку А.В. Блюмом ранее закрытой темы цензурных преследований. Одним из значительных достижений в освоении проблематики политической культуры стали исследования инакомыслия и политического протеста в СССР. Так, Л.А. Королева дала следующую классификацию диссидентства: 1) гражданские движения, среди которых со временем ведущим стало правозащитное; 2) национальные, в том числе, за национальную независимость, депортированных народов за возвращение в места обитания и за эмиграцию; 3) религиозные движения. Близка к этому и классификация Ф.М. Бурлацкого, различающего три основных направления в оппозиционном движении 1970-х гг.: собственно диссидентское движение как борьба за политическую свободу, особенно свободу слова и убеждений; правозащитное движение; движение еврейской, армянской и иной эмиграции. Определяя суть любого протеста, как возражение и несогласие, современные историки исследуют инакомыслие через призму социально-исторического творчества и социально-политической активности субъектов политики. Исследуется инакомыслие и как объект карательной политики. Известный российский историк А.А. Данилов в своих работах и, прежде всего, в «Истории инакомыслия в России» (Уфа, 1995), не только дал краткую хронику основных событий движения, но и рассмотрел взаимосвязь двух процессов - зарождения и эволюции плюрализма в верхах и легитимации инакомыслия снизу. Тема гражданского сопротивления в СССР рассматривается и в основательной монографии Р.Г. Пихоя «Советский Союз: История власти. 1945-1991» (М., 1998). Несмотря на то, что работы конца 1980-х – начала 1990-х гг. чаще всего ограничивались лишь рассмотрением уличных выступлений (восстаний, митингов, захватов общественных зданий и др.), не затрагивая забастовки, сборы подписей под петициями и прочие формы, в них был выдвинут тезис, полностью подтвердившийся в 69 более поздних исследованиях: «Восстания же происходили преимущественно на обездоленной пролетарской периферии, захватывали массу люмпенизированных слоев, и кровавые расправы государства над их участниками были типичными явлениями послелагерной эпохи». Авторы учебного пособия по истории диссидентского движения А.Б. Безбородов, М.М. Мейер и Е.И. Пивовар объявили правозащитное движение «ядром диссидентского движения, полем пересечения интересов всех иных течений – политических, социально-культурных, национальных, религиозных и др.». А.Б. Безбородов в исследовании феномена «академического диссидентства» рассмотрел косвенную роль научно-технической интеллигенции в процессе политического и духовного раскрепощения советского общества. Довольно неожиданной этом фоне выглядит книга В.А. Козлова «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 – начало 1980-х гг.)» (Новосибирск, 1999), расценившего (интеллигентской) диссидентское альтернативы движение коммунистическому в качестве режиму либеральной как слабое и маловлиятельное, так как диссиденты не «смогли заразить своими идеями массы населения». Впрочем, отчасти это объясняется тем, что на протяжении последних лет в отечественной историографии не смолкают споры вокруг теории тоталитаризма, рассматриваемой как главный и единственный ключ к пониманию и уяснению советского прошлого. Противники тоталитарного объяснения советской истории (ведущие сотрудники Института российской истории РАН А.К. Соколов, С.В. Журавлев и другие) твердо уверены, что истинная причина краха социалистического эксперимента в стране выглядит гораздо сложнее, чем его трактовка в версии борьбы общества против репрессивного тоталитарного государства. Авторитетный российский исследователь урбанизации А.С. Сенявский, отказавшись от ценностно-оценочной составляющей «тоталитаризма», использует это понятие как рабочий инструмент, обладающий определенной методологической ценностью для структурирования социально-политического поля и идентификации политических моделей. Действительно, если абстрагироваться от индивидуальных подходов, то понятие «тоталитаризм» сводится к едином признаку – это разновидность антидемократического (авторитарного) государства, характеризующаяся тенденцией к полному (тотальному) контролю над всеми сферами жизни общества. В предельных случаях можно говорить о полном слиянии общества и государства, но данная возможность остается теоретической абстракцией, так как в реальной истории таких обществ не было. Даже советское общество в период расцвета сталинского террора 70 нельзя отнести к этой категории, так как оставалось немало областей деятельности, неподвластных государству: черный рынок, религиозность, сохранение социальной неоднородности и демократических и квазидемократических форм (критика и самокритика, выборность) внутри самой партии. С середины 1990-х годов наблюдаются приметы более объективного подхода к изучению проблемы политического реформирования советского общества в 1985-1991 годах. По содержанию в историографии периода горбачевских реформ выделяются четыре основных направления: 1) консервативное, представители которого (Е.К. Лигачев, Н.И. Рыжков, В.А. Крючков и другие авторы), не оспаривая необходимости перемен в середине 1980-х гг., считают, что к конце десятилетия перестройка «переродилась», а ее идеологи свернули на путь капитализма и сознательного развала СССР; 2) апологетическое, в рамках которого (в работах «прорабов перестройки» А.Н. Яковлева, Э.А. Шеварнадзе, В.А. Медведева, А.С. Черняева и Г.Х. Шахназарова) прослеживается попытка теоретического обоснования тезиса о перестройке как части общего процесса реформации России и преобразования ее в демократическое общество; 3) радикально-критическое, для представителей которого (прежде всего, для Б.Н. Ельцина и его окружения) характерны отрицание реальности горбачевских реформ и защита идеи ускоренного перехода к либеральнорыночным ценностям; 4) объективно-реалистическое, самым ярким представителем которого является историк и политолог В.В. Согрин, делающий попытки объяснения перестройки с позиций теории модернизации. Следует оговориться, что объем и задачи учебного пособия не позволяют сделать более подробный анализ современной исторической, социологической и политологической литературы, на страницах которой, так или иначе, затрагиваются различные аспекты политической культуры России ХХ столетия. Однако основные наработки и выводы, сделанные в этих исследованиях, легли в основу глав, освещающих процесс трансформации и специфические формы политической культуры россиян на разных этапах отечественной истории рассматриваемого периода. 71 Глава 5. Исторические особенности российской политической культуры 1. Факторы формирования политической культуры России Специфика политической культуры России обусловлена целым комплексом факторов: евразийским геополитическим положением страны, высокой концентрацией и централизацией авторитарной власти, слабостью механизмов самоуправления и самоорганизации, доминированием коллективных форм образа жизни. Следует учитывать и то обстоятельство, что в формировании политической культуры России участвовали различные этноконфессиональные и социокультурные группы, каждая из которых привносила в нее свой специфический опыт, ценности, традиции и предрассудки. Особо остановимся на геополитических и исторических факторах, обусловивших то своеобразие российской политической культуры, которое, во многом, характеризует ее и сегодня. Буферное положение России между Европой и Азией сделало ее местом пересечения двух социокультурных типов: европейского и азиатского или личностно-центрической и социоцентрической. При этом взаимодействие этих двух типов в российском обществе своеобразно, предполагая не просто переплетение и взаимообогащение, но и непрерывную борьбу между ними. По словам одного из столпов российской исторической науки В.О. Ключевского, «из древней и новой России вышли … два враждебных склада и направления нашей жизни, разделившие силы русского общества и обратившие их на борьбу друг с другом вместо того, чтобы заставить дружно бороться с трудностями своего положения». Возникшие на этой основе дуализм, двойственность, противоречивость и конфликтность политической культуры наиболее рельефно находят свое отражение и в сегодняшнем противоборстве «западников» и «почвенников». Обращение к истории развития российского государства позволяет выявить в нем особенности, наглядно отраженные в политической культуре. Фактически весь исторический процесс древнерусского государства «работал» на своеобразие русской политической культуры. Длительное существование самоуправляющихся республик на севере страны и складывание свободного казачества на юге формировало анархические 72 наклонности, нигилистическое отношение к продолжительное угнетение населения со власти и праву. стороны Одновременно, золотоордынских князей, неоднократные «смуты» и связанный с ними социальный и политический хаос сориентировали, в конце концов, народ на поддержку государства. За три столетия господства ордынцев население привыкло к жестокости как неизбежному следствию властвования, а возможность облобызать стопы царя нередко вызывала умиление и рабский восторг. Это качество униженного послушания проявилось и в ХХ веке. Своеобразие России заключается и в том, что у нее прерывная история. Так, Н.А. Бердяев отмечал, что «в русской истории … нельзя найти органического единства». Прерывность истории российского общества, многочисленные и разнообразные революционные потрясения, крестьянские войны, восстания на протяжении длительного времени определили ориентацию его политической культуры на революционное отрицание предыдущих этапов ее развития, норм и ценностей в ней доминирующих. При этом активное начало проявляется скорее в бунтарском, нежели в протестном поведении, то есть в эмоциональных, по большей части взрывных и разрушительных действиях в отличие от рациональных, планомерно преобразовывающих действительность усилий. В отечественной историографии сложилась традиция объяснять особенности исторического пути и политического развития России природно-климатическими и географическими факторами. В наиболее четком виде эта концепция выразилась в тезисе историка и этнографа, автора пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилева (1912-1992) о непреодолимой власти отрицательной изотермы января, разделившей население Европы на западноевропейский и российский этносы. Своеобразие географического положения России вызывало необходимость в сильном государстве, способном структурировать и организовать ее огромное пространство. В свою очередь, вседовлеющая роль государства сформировала ситуацию, в которой индивид и общество выступали не как полноправные акторы, а как пассивные субъекты политического процесса. Интересы личности изначально приносились в жертву коллективному благу, понятия «личное» и «общественное» выстраивались как взаимоисключающая оппозиция. Вытекающий из специфики государственности характер государственной власти (контроль над всеми сферами жизни и отчужденность от общественной сферы) формировал неоднозначные установки в отношении нее в массовом сознании. С одной стороны, речь идет о завышенных ожиданиях от власти конкретной помощи и поддержки, а с другой стороны, народ испытывал по отношению 73 к ней страх, недоверие и ненависть. Такое амбивалентное отношение к государству и власти послужило причиной и одновременно результатом мифологизации политики и персонализации власти. В итоге в политической культуре России руководящие личности всегда играют ведущую роль, а институты – периферийную. Лояльность по отношению к царизму основной массы населения была связана с личностью царя, а не с институтами империи. Большевики, несомненно, учли этот опыт, требуя лояльности к вождю. «Догоняющее» развитие России обуславливало формирование разветвленных механизмов внеэкономического принуждения и соответствующих им норм политического поведения. Желание царского и советского правительства ускорить процесс развития вносило невероятное напряжение в социальную жизнь. Парадокс состоял в том, что чем большее число российских правителей пытались модернизировать государство, тем более отсталой по отношению к Западу империя становилась. Речь также должна идти об этноконфессиональных и социокультурных особенностях российского социума и, особенно, о роли христианства в укреплении российского этатизма. Следует учитывать православную основу русской общины как политического института. Будучи дочерней цивилизацией по отношению к Византии, Россия восприняла от нее не только православие, но и политическую культуру, прежде всего имперскую идею, реализация которой привела к превращению страны в многоэтническую империю. Удержать целостность такой огромной империи можно было только с помощью деспотической власти и сильного централизованного государства. Понимание данного обстоятельства подводило к осознанию необходимости подчинения власти и государству. Даже после развала СССР мощное централизованное государство в сознании многих людей воспринимается как основное историческое достижение русского народа. Из Восточной Римской империи массовым сознанием был воспринят и своеобразный космополитизм - наднациональный характер, как самой политической власти, так и государственности. 2. Политико-культурный генотип России и его сущностные черты У каждого народа есть свой политико-культурный генотип, который транслируется в поколениях и оказывает определяющее воздействие на политические 74 реальности и на взаимоотношения индивида, общества и государства. В России также сложилась, пусть противоречивая, но своеобразная политическая культура, которая по своему происхождению и реальному состоянию скорее относится к разряду авторитарно-коллективистских культур с ярко выраженными подданническими политическими ориентациями. Как заметил известный кадетский историк П.Н. Милюков (1859-1943), в России имело место государство, формирующее общество. Германский политолог Л. Люкс считает, что российская история всегда отличалась всесилием государства и бессилием общества. Поэтому, русская этика эгалитарная и коллективистская, а из всех форм справедливости равенство для русских всегда стояло на первом месте. Внутренняя противоречивость, антиномичность – характерная черта российской политической культуры, что превосходно было схвачено Н.А. Бердяевым: «И в других странах можно найти противоположности. Но только в России тезис оборачивается антитезисом, рабство рождается из свободы, крайний национализм из сверхнационализма. В этой душе — симбиоз анархизма и этатизма, готовности отдать жизнь за свободу и неслыханного сервилизма, шовинизма, интернационализма, гуманизма и жестокости, аскетизма, «ангельской святости» и одновременно «зверской низости». Кроме антиномичности политическое сознание россиян сочетается с принципом «мы – они». Поскольку личность всегда «растворялась» в общине, корпорации и государстве, потребность в самоуважении удовлетворялась за счет причисления себя к какой-либо общности, которое происходило при помощи противопоставления ее другой общности по принципу «мы – они». Также в литературе утвердилось мнение о гетерогенности и фрагментарности российской политической культуры. Например, К.С. Гаджиев подчеркивает, что для российской политической культуры характерны не только конфликты интересов, установок и ориентаций, но и конфликты основополагающих ценностей. Действительно, политико-культурная «палитра» российского общества многообразна: западническая и почвенническая, радикальная и патриархально-консервативная, анархическая и этатистская субкультуры. Эта особенность обусловила перманентное отсутствие в России базового национального консенсуса. Особенностью российской политической культуры была (и отчасти сохраняется по сей день) ее конфронтационность, выражавшаяся в непоколебимой уверенности индивидов и социальных групп в правоте своих принципов и неприятии компромиссов как средства обеспечения целостности государства и общества. В недавнем прошлом примером 75 такой конфронтации служит столкновение сторонников Верховного Совета и президента в октябре 1993 года. К числу наиболее характерных черт политической культуры россиян традиционно относят: жертвенность, коллективизм и идеал социальной справедливости, конфронтационность и радикализм, этатаизм и сервилизм, клиентизм и патернализм, своеобразный космополитизм и эсхатологизм. Утвердившийся авторитаризм в сочетании с многочисленными феодальными пережитками породил, в первую очередь, стихийный монархизм в индивидуальном сознании. Представление о самодержавии как о наиболее стабильном режиме государственной власти, необходимом для обеспечения внутренней и внешней безопасности, лежало в основе «наивного монархизма» в сознании народных масс. Поэтому «низы» легко мирились с принуждением и регламентацией, ориентировались на устоявшиеся авторитеты, боялись нарушить многочисленные запреты и правила, а также негативно относились к переменам и нововведениям. Здесь корни народной нелюбви к плюрализму мнений и агрессивность по отношению к нарушителям общепринятых норм. С другой стороны, русский монархизм, казавшийся консервативным, на самом деле был поверхностным и глубоко анархичным. Сначала крестьянский анархизм привел к отсрочке реформ, затем под его воздействием они были проведены весьма осторожно, и, наконец, выйдя на поверхность, этот анархизм привел к хаосу и падению Российской империи. Одновременно с этим формируется патернализм населения, корни которого следует искать в природно-климатических условиях страны, особенностях традиционной культуры и патриархальности крестьянской общины. Освященный авторитетом церкви патернализм стал культурным архетипом, закрепленным в российской ментальности и политической культуре. Он в конечном итоге ведет к массовой политической инертности, что в условиях отсутствия демократических форм связи между властью и гражданами укрепляет уже имеющийся правовой нигилизм последних. Как подчеркивал теоретик «русского социализма» А.И. Герцен (18121870): «Полное неравенство перед судом убило в нем (русском народе – авт.) всякое уважение к законности. Русский, какого бы он звания ни был, обходит или нарушает закон повсюду, где это можно сделать безнаказанно, и совершенно так же поступает правительство». В российской политической культуре гораздо шире распространено представление, что политика выше права. Основную ответственность за правовой нигилизм несло образованное общество, которое сочетало сострадание и жалость к «сирым и убогим» и антиправовое мышление. Показательны в этом отношении 76 юмористические стихи Б.Н. Алмазова: «Широки натуры русские, нашей правды идеал не влезает в формы узкие юридических начал». Примат государства над законом порождал, с одной стороны, правовой нигилизм и произвол, а с другой - азиатскую покорность (сервилизм). И еще одно обстоятельство. Хотя в российской истории эгалитаризм и патернализм совместимы далеко не всегда и не полностью, тем не менее, российский традиционализм можно определить как тенденцию к совмещению этих двух установок. Российская культура представляет собой мобилизационный тип политической культуры, с весьма специфическим соотношением «свободы» и «воли». Точнее, свобода как ключевое понятие европейской ментальности у россиян так и не смогло оформиться. Место свободы заняла воля, которая проявляется в абсолютизации независимости. Тогда как русская политическая культура культивировала идею свободы личности для расширения возможностей ее служения отечеству, долгу, то есть изначально свободная личность несла на себе печать жертвенности. Кроме того, желание осуществить невозможное, постоянный поиск лучшей жизни в сочетании с неукротимой верой в способность ее достижения породило такую черту, как утопичность. Более того, Р. Такер характеризовал российскую политическую культуру как «культуру веры». Однако эта позиция требует уточнения. Наряду с этим развивалась субкультура, ориентированная на общечеловеческие ценности, которые культивировались, прежде всего, в среде демократической интеллигенции. Особое место в российской политической культуре занимают традиция и харизма. Тенденция ориентации на авторитет, наделяемый чертами харизматического лидера, связана с надеждой и верой в чудо, которое сопровождается постоянной готовностью подчиняться авторитету. Бывший народоволец, а позднее ярый монархист Л.Н. Тихомиров (1852-1923) верно подметил принципиальное функциональное разделение в сознании «управительную». И народа если государственной последняя может власти на «верховную» быть достаточно и сложно структурированной, то от «верховной» власти народ требует простоты, однородности и очевидности. Россияне охотно признают лишь ту власть, которая в той или иной степени носит сакральный характер. Отношение к власти в России всегда было двунаправленным: на власть верховную и власть на местах. Если первая приобрела признаки сакральности, то вторая постоянно объявлялась виновной во всех бедах народа. Главная функция первого лица – исполнение роли верховного арбитра, гаранта законности и порядка. Поэтому его власть обосновывается наличием некой харизмы и 77 стремлением к некому идеологически мотивированному абсолютному идеалу. Непримиримый характер сознания русского народа сформировал его потестарность, которая заключалась в механическом восприятии им заданных самодержцем оценок и форм политического участия. А это, в свою очередь, вело к эмоциональному восприятию политической жизни, формировавшему отношение к своим политическим правам, прежде всего, как к долгу перед государством и обществом. Показательно, что патриотизм в России носит не столько националистическую, сколько государственническую направленность. Вместе с тем гипертрофированная значимость государства способствовала тому, что в сознании рядового россиянина происходило смешение понятия патриотизма и лояльности в отношении действующего правительства. Германский политический философ К. Шмитт рассматривал дихотомию «друг – враг» в качестве главного конституирующего признака политических отношений. Для России с ее персонификацией политики и самой государственной системы, нечеткостью разделения государства и других сфер жизни характерна тенденция перенесения дихотомии «друг – враг» на все сферы жизни. В России сложилась в целом консенсуальная политическая культура, но характер русского консенсуса разительно отличается от европейского аналога. Консенсуальное решение в России является результатом не свободного волеизъявления, а итогом насилия, санкций и угроз. Поэтому русская культура консенсуса принципиально не умеет решать конфликты: либо одна из конфликтующих сторон уничтожается, либо конфликтная ситуация загоняется внутрь. Различные точки зрения воспринимаются в России как нечто преходящее и ненужное, так как имеется одна Правда и политика обязана ей служить. Существование партий в рамках консенсуальной политической культуры также «подозрительно», ведь партии отстаивают не общий интерес, а интересы групповые. В силу этого, «договорная демократия» (по выражению современного историка и философа А.С. Ципко) адекватнее природе политической культуры России, чем традиционная европейская демократия с борьбой партий, выборами и парламентаризмом. 3. Советская политическая культура: прерывность или преемственность? Несмотря на резкие разрывы с прошлым, на каждом этапе развития (языческий период, Киевская Русь, Московское царство, Петербургская империя, советский и 78 постсоветский периоды) вольно или невольно интегрировались некоторые основополагающие особенности предшествующих, и, таким образом, изменчивость сочеталась с преемственностью. Очевидно, что после большевистской революции не произошло немедленной трансформации политической культуры, и даже более того, в сталинский период некоторые наиболее авторитетные элементы традиционной политической культуры России даже усилились. Благодаря подобному сочетанию прерывности и преемственности политическая культура России характеристик. демонстрирует Стойкость этих удивительную «констант» и стойкость своих относительная базовых неизменность политического поведения россиян служит одной из причин незавершенности и национальной специфики гражданского общества в России. Россия, ассимилирующая образцы западной культуры, может принадлежать к Европе, но ее гражданское общество остается не только незавершенным, но и имеет изначально русские черты. То есть политическая культура России многослойна: в ней сочетаются российские, советские и западные элементы. Мозаичность и многокомпонентость политического сознания в постреволюционную эпоху отражается через сочетание и конфликт традиции и новации. Так, Советы оказались тесно связаны с традициями общинной «прямой демократии», что обусловило социальную базу поддержки большевистской концепции построения социализма. Для многих людей, выросших в крестьянской общине, обращение большевиков к категориям социальной справедливости, обещание построить «царство Божье» на земле перекликалось с христианскими установками народного сознания. Марксизм воспринимался массой как социальная религия, на что обратил внимание Н.А. Бердяев в «Истоках русского коммунизма». В политологической и исторической литературе (Д.В. Гудименко, С.В. Кулешов, А.Н. Медушевский, В.Ф. Пеньков, Ю.С. Пивоваров и др.) делается попытка вычленить основные базовые характеристики российской политической культуры, которые, пусть и в несколько трансформированном виде, сохраняются на всем протяжении ХХ столетия. Во-первых, власть в России вне зависимости от смены режимов традиционно имеет авторитарную политико-культурную «матрицу», так как в основе политической жизни лежит сильнейший персонализм, а политические представления населения основываются на стихийном монархизме или «вождизме». Несмотря на специфичность подданничества советского типа (почитание вождей, конформизм, абсолютизация классовых ценностей и отрицание достижений западной демократии) культ вождей оказался тесно переплетенным со стихийным монархизмом 79 части населения. Латентный монархизм массового сознания позволил ему быстро возродиться в СССР (разочарование в Николае II не было антимонархизмом) и сохраняться до наших дней. Во-вторых, этатизм является базовым принципом общественной жизни в России. А из этого вытекают огромная политическая роль бюрократии, патернализм и ориентация гражданина на социальное восхождение вследствие занятия более высокой позиции в государственной иерархии. Тогда как «выключенность» широких народных масс из повседневного политического процесса способствует их политической инертности и отсутствию цивилизованных или хотя бы корректных форм взаимоотношения между «верхами» и «низами». История советского периода подтверждает устойчивость патерналистских традиций в России. Все дети младшего школьного возраста были октябрятами — внучатами Ильича. Четверть века страной управлял «отец народа» - И. В. Сталин (1879-1953), а партийные органы осуществляли функции опеки, надзирая, поощряя и наказывая граждан. Патерналистский характер формирующегося менталитета советского типа хорошо проиллюстрировал Борис Пастернак (1890-1960), написавший знаменитое: «Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход». Этим схвачен один из сущностных компонентов советской политической культуры, ориентированной на деятельность регламентируемого сверху типа. В третьих, сохраняется крайняя гетерогенность политической культуры, определяемая существованием субкультур с совершенно различными ценностными ориентациями, отношения между которыми складываются конфронтационно, а порой и антагонистично. В-четвертых, для политической культуры ХХ века остается характерным стремление к постоянному сокрушению старых кумиров и выдвижению новых, экстремизм и нетерпение. Ограниченность «политического пространства» и стремление правящих существования в сил нашей занять стране его целиком конструктивной приводят к оппозиции, невозможности что наглядно демонстрируют реалии современной России. Тем не менее, при всех общих чертах, советская политическая культура имеет свои особенности, проявляется как многослойный, противоречивый и изменчивый в исторической динамике феномен. С одной стороны, она представляет собой некий целостный продукт идеократической системы. С другой стороны, она трансформировалась вместе с изменением советского общества. Исходной своей точкой советская политическая культура имела революционистскую ментальность, 80 которая с особой силой проявилась в годы Гражданской войны. Очевидно, что в основе революционных потрясений лежали глубинная вера народа в справедливость и надежда на чудодейственную возможность удовлетворения своих первоочередных нужд. В социализм темная, прежде всего, крестьянская масса, верила словно в Берендеево царство. Если же новое общество не оправдывало надежд, то от него отшатывались. Форсированная модернизация привела к возникновению мощного слоя маргиналов, потерявших одну культуру и не обретших другой. Этот процесс сыграл существенную роль в формировании политико-культурного облика советского общества. Многолетнее засилье советско-партийных СМИ в СССР сформировало у значительной части населения страны определенные политико-культурные стереотипы: с одной стороны, веру в непогрешимость прессы и безоговорочное признание истинности содержащейся в ней информации, и неприятие официальной информации и огульное отрицание ее правдивости, с другой стороны. Одним из признаков советской политической культуры являлся массовой энтузиазм, который нес огромный мобилизационный заряд. В ментальности российского населения, по мнению петербургского историка Н.Б. Лебиной, важную роль играют представления о добре и зле. Если в дореволюционном обществе они определялись религией, то в принципиально атеистическом советском обществе на роль новой религии претендуют коммунистические моральные нормы. Добродетелью становится классовый фанатизм, счастьем – самоотречение во имя идей коммунизма, подвижничеством – презрение личным счастьем для общего блага. Большевизм усвоил одну из отечественных политических традиций – тяготение народа к сильной государственной власти. В то же время остальные традиции российской политической культуры и, прежде всего, народоправство, игнорировались. В условиях коммунистической диктатуры вождь объявил себя носителем и рупором общественного консенсуса. Но это препятствовало развитию социальных инструментов для преодоления конфликтов. Советская система свела их до двух – отрицания существующего конфликта или уничтожения противника. В силу этого, Советская Россия стала классической страной «теорий заговоров», которые играли значительную роль в оправдании проводимой политики. Новая власть сумела использовать миф «революционного обновления» в полную силу. Например, духу новой мифологемы вполне отвечал декрет о «рабочем контроле». Даже в период, когда реальных ход событий заставил большевиков создать грандиозную армию, ВЧК и поставить всю промышленность по контроль государства, 81 этот миф продолжал жить и воздействовать на массы. Массовое проявление героизма в годы «гражданки» на фронтах и «революционного энтузиазма» в тылу, постоянная поддержка со стороны масс, которую большевики ощущали, все это трудно объяснить только ненавистью к белым, гением Ленина или хорошей организацией новой власти. Миф о Богом избранном царе сменил миф о трудовом народе, который, совершив Великую революцию, в лице своих лучших представителей взял власть в свои руки – с тем, чтобы опять идти по единственно верному пути в светлое будущее. Однако торжество русского варианта марксизма в советский период еще больше догматизировало политическое сознание общества. В результате сформировалось политическое сознание народа, отличающееся склонностью к коллективистским проявлениям политического поведения при отсутствии твердых моральных принципов и развитого самосознания, умением обходить государственные запреты и установления в сочетании с признаками иждивенчества за счет государства, а также комплексом неполноценности по отношению к Западу. Характерными признаками советской политической культуры стали устремленность к общественной и политической организации будущего, соотнесение всех своих действий и поступков с реализацией социалистической идеи как идеи мирового счастья, справедливости и всеобщего братства. Общинность трансформировалась в коллективизм, пассивность — в апатию, патриархальность - в устойчивую персонификацию власти, мессианство - в представления о ведущей роли СССР в мировой политике, а мифологизированность сознания стала основой для веры в светлое будущее. Базовыми характеристиками политического сознания «человека советского» выступали: представление о собственной исключительности и сознание собственного превосходства; излишняя вера в авторитет государства, чувство коллектива и склонность к максимализму; иерархичность и имперский характер; «стремление быть как все и не выделяться». Парадокс общественной жизни России заключается в том, что политически она всегда была авторитарным государством, но в обыденной жизни в стране всегда существовала «бытовая» демократия, более открытая, чем на Западе. Несмотря на жесткие идеологические и политические ограничения, советские люди жили своеобразной политической жизнью, где широко были распространены нелицеприятная критика руководителей, политические анекдоты и другие проявления внутренней свободы, правда, на уровне, застолья, кухни и курилки. Что касается политического поведения советского человека, то оно было не менее противоречивым, чем политическое сознание. Ужас «маленького» человека 82 перед всемогущим тоталитарным Левиафаном предельно четко выразил Осип Мандельштам (1891-1938): «власть отвратительна, как руки брадобрея». Вместе тем, чем страшнее проявляла себя власть, тем сильнее было у советского человека стремление войти в нее и стать ее частью. В категории «человек приспособленный» (по выражению известного социолога, руководителя ВЦИОМа Ю.А. Левады) в советское время оказались люди из самых различных социальных групп: фанатики революционного авантюризма, остатки бывших элит, равно как и бывших низов – крестьяне, мещане, рабочий люд и др. То есть речь идет о массово-поведенческой структуре. Еще одним поведенческим императивом советской истории стало формирование «человека недовольного» (еще одно определение Ю.А. Левады). Досоветская, советская и постсоветская история демонстрируют преобладание терпения над активным протестом, приспособления над бунтом, пассивного недовольства над борьбой за свои права. Хотя в современной России социальные настроения перестали быть молчаливыми и получили выход в политические институты, масс-медиа и на «улицы». Точно также «массовый» человек советских времен не был существом абсолютно безмятежным. Просто у него отсутствовали не только легитимные возможности выразить свое недовольство, но и условия для того, чтобы его осознать. Принудительное единодушие времен «застоя» поддерживалось не только страхом наказания за малейшее отклонение от требований, но и – что даже важнее – самой «гражданского ситуацией общества» безальтернативности. были и в советское Тем не время, менее, когда элементы действовали многочисленные общественные организации, в которых люди могли реализовать свои индивидуальные и коллективные интересы. Другое дело, что они не могли противостоять государству, если оно нарушало интересы граждан, да и не рассматривали себя даже оппонентами власти. «Гласность» первых лет перестройки обнаружила отсутствие адекватного социального и политического языка, способного выразить общественное недовольство, и адекватных структур – программ, партий и элит. Отсюда преобладание эмоционального протеста, который довольно быстро стал вырождаться и укладываться в традиционные формы «советского» патернализма и патриотизма. Не удивительно поэтому, что первые вспышки забастовочной борьбы в 1989 году не дали возникновения массовых настроений протеста. Понадобилась политическая поляризация 1993 г., чтобы хаос и тяготы реформ превратились в базы устойчивого и широкого социального недовольства. Однако оно не переросло в социальный взрыв, 83 как это было в России начала ХХ века. Современный политический процесс в Российской Федерации приобрел некоторую стабильность и устойчивость, что, несомненно, не могло не отразиться в сознании населения. Ряд отечественных исследовательских институтов отметил заметный рост на рубеже веков доверия к институтам власти. Впрочем, современным тенденциям в развитии политической культуры россиян посвящена отдельная глава. 84 Глава 6. Политическая культура России начала ХХ века (1900-1914 гг.) 1. Основные факторы трансформации политической культуры в начале ХХ в. Для советской историографии было характерным ленинское деление культуры на буржуазную и социалистическую. При этом последняя связывалась, прежде всего, с «самым передовым» классом общества – пролетариатом, а выработка «высшего типа» культуры ложилась на плечи «авангарда» рабочего класса – большевистскую партию. В этой классово-идеологической типологии любые промежуточные типы (например, многомиллионное российское крестьянство) записывались в разряд «мелкобуржуазной культуры». Тем самым красочная политико-культурная палитра начала ХХ века заменялась черно-белым полотном. Обострившийся цивилизационный раскол и усилившееся влияние этно-конфессиональных факторов способствовали формированию «мозаичного» типа политической культуры. Причем, речь идет не об отдельных группах и слоях населения со своими политическими предпочтениями, а о смешении в сознании россиян различных пластов политической культуры. Зачастую это смешение ломало рамки сословности и нарушало политико-географический принцип. Более того, присущее крестьянскому социуму видение мира через призму социалистических и монархических ценностей одновременно затрудняет типологизацию политической культуры и по идеологическому критерию. Предлагаемая в данной главе типология исходит из вышеперечисленных оснований и может рассматриваться как попытка отразить эклектичность массовой политической культуры рассматриваемого периода. В условиях ускоренной модернизации начала ХХ столетия в политической сфере обнаружились две разнонаправленные тенденции. Первая заключалась в большей или меньшей либерализации и демократизации различных аспектов общественной жизни, то есть в утверждении основ «гражданского общества». А противоположной тенденцией было усиление контроля за общественной жизнью со стороны государства. Из-за остаточных явлений полукрепостного строя и сословных отношений, неравномерности развития разных слоев российского общества, в политической культуре России начала ХХ столетия со всей очевидностью проявились 85 два аспекта социально-политической поляризации: во взаимоотношениях города и деревни, и между «низами» и «верхами». А.С. Сенявский показал, что свою лепту в деформацию традиционной российской культуры внесла начальная стадия урбанизационного перехода, вызвав «базовую» социальную нестабильность, породив взрывоопасные маргинальные слои города и подорвав ценности сельской общины. Переход от сельского к городскому обществу представлял собой историческую полосу повышенного социального риска, когда началось формирование массовых социальных движений, выходящих на политическую арену и оказывающих все растущее влияние на общественную жизнь. Оказывая внешнее давление на государственные институты, эти движения (а чаще всего стоящие за ними политические партии) действовали в целом в демократическом направлении, однако в потенциале радикальных движений таилась угроза «подмять» под себя и государство, и общество. Помимо российской «базовой» политической маргинализации, культуры начала свое ХХ влияние в. на оказала трансформацию так называемая «ситуационная» маргинализация, вызванная социальными последствиями русскояпонской войны и первой русской революции. В целом по России патриотический подъем был достаточно высоким до конца войны. Пораженческую политику занимали только большевики, развернувшие агитацию в массах, в том числе среди призванных из запаса солдат, часть которых успела еще до призыва познакомиться с революционными идеями. Свой вклад в дело разобщения русского общества в период войны с Японией внесли и либералы, развернувшие осенью 1904 г. массовые антиправительственные кампании. Не удивительно поэтому, что если боевой дух японцев в годы русскояпонской войны представлялся очень высоким, то среди российских солдат и офицеров, по свидетельствам современников, большое воодушевление отсутствовало. Революция 1905-1907 гг. продемонстрировала социальную востребованность идеи насилия как функции восстановителя справедливости. Например, радикально настроенные киевские железнодорожные рабочие бросали уличенных в провокаторстве в баки с кипящей водой. Прибалтийские революционеры в 1905 г. вырезали ругательства на трупах убитых ими российских военных. В качестве символического жеста у полицейских агентов вырезались языки. Стоит ли удивляться садисткой жестокости этих же людей в Гражданскую войну или в период сталинских репрессий. Свою роль в формировании радикальной политической культуры сыграла и партийная пресса различной окраски. Хотя в 1905-1907 гг. больше, чем газеты, читались прокламации, а еще большее значение имели выступления партийных ораторов на 86 массовых собраниях. Источники свидетельствуют, что в годы первой русской революции идея борьбы за общественные идеалы нередко объединяла как либеральнонастроенных гласных и членов управ, так и земских служащих, примыкавших к эсеровским и социал-демократическим организациям. Хотя их деятельность чаще всего ограничивалась устной пропагандой и распространением политических брошюр среди крестьян. Были, однако, свидетельства иного толка. Например, развернувшаяся в октябре 1905 г. всеобщая политическая забастовка стала признаком общей неудовлетворенности общества «уступками» правительства. Первая российская революция также стала началом процесса постепенной десакрализации царской власти. Как заметил современник этих событий философ и публицист князь С.Н. Трубецкой (1862-1905), «монархический дух хирел», что и создавало возможность революции. Здесь важно понимать, что отождествление власти и самодержавия было одним из ведущих факторов политической культуры начала ХХ столетия. Политическая ситуация после революции 1905 г. сделала необходимой новую режиссуру появления царя перед массовой аудиторией: инсценированные в 1909-1913 гг. юбилейные торжества были призваны продемонстрировать неувядающую привлекательность монархизма в глазах масс. Хотя это была, скорее, попытка сплотить народные массы вокруг царя, бросив вызов тем, кто поддерживал представительные органы. В поисках народной поддержки Николай II и его советники пытались уменьшить пропасть между императором и его подданными, придав императору сходство с простым смертным. В образе труженика, смиренного христианина и богомольца предстал царь в официальной популярной биографии «Царствование Государя Императора Николая Александровича». Но все это лишало царя ауры святости, необходимой для монархического правления. По мнению известного американского историка Леопольда Хеймсона, еще в конце XIX века начался процесс резкого повышения уровня социальных ожиданий и требований, а также обнаружилось общее недовольство своим положением среди населения (в том числе среди профессиональной интеллигенции и купечества) больших городов и крупных промышленных и торговых центров России. В течение довоенного периода эта «революция в ожиданиях и амбициях» приняла форму радикальной политической оппозиции существующему режиму. Она проявилась и в рабочем движении (особенно заметно среди наиболее грамотных и урбанизированных слоев рабочего класса), которое с начала ХХ века приобрело резкие социальные и политические формы. В рабочем движении, как и в выступлениях других социальных 87 групп, соседствовали внешне противоречивые требования: как равных прав, так и признания их обособленности от более привилегированных слоев общества. Одной из основных причин острого политического кризиса стала неразрешенность аграрного вопроса. Хотя круг требований крестьянства к власти в этот период был достаточно узок, основным из которых было требование от власти только дополнительной земли. 2. Зарождение гражданского общества Как уже указывалось, рубеж XIX-XX веков стал отправной точкой формирования гражданского общества в России, о чем свидетельствовало вовлечение в политический процесс все новых и новых слоев общества, в целом демонстрировавших «культуру участия». Политической культуре начала ХХ в., подразумевавшей под властью самодержавие, в целом не противоречила идея земств, которые после революции 1905-1907 гг. перестали быть цитаделью либералов и стали (особенно в черноземных губерниях) оплотом правых. Тогда как неонароднические и социалистические идеи были распространены в основном среди земских служащих. Исследование Е.М. Петровичевой показало, что выборы 1909-1910 гг., проходившие, в отличие от выборов 1906-1907 гг., в более спокойной обстановке, в целом закрепили победу правых. Тенденция предпочтения со стороны избирателей «людей дела», вне зависимости от партийной принадлежности наиболее ярко проявилась в ходе последних предвоенных земских выборов 1912-1913 гг. Столыпинская реформа в целом способствовала абсентеизму дворянства на земских выборах. Нередко на них приезжало столь малое число дворян, что порою все приехавшие без баллотировки объявляли себя гласными, да и тогда нередко случался недобор. Власти также вполне справедливо отмечали «дезорганизацию» крестьянских избирателей и их незнакомство с техникой земских выборов. Зато выборы выявили острую борьбу хуторян и городских предпринимателей за увеличение своего представительства. Хотя после революции сохранялись конфликты на почве неутверждения выбранных лиц, но трений между местным самоуправлением и губернской администрацией стало меньше. Заметно поутихла и партийная борьба в земской среде. Однако уже в 1912-1914 гг. стараниями радикальной земской интеллигенции, в условиях думской монархии активно использовавшей свои политические права и свободы для дискредитации власти и борьбы с ней, противоречия между правительством и земствами, наметившиеся еще при Столыпине, стали очевидными. Усилилась и политическая активность органов 88 местного самоуправления. В 1914 году известный деятель земского движения и крупнейший его историк Б.Б. Веселовский пророчески написал: «Существует широко распространенное мнение, что политическая роль земства – в прошлом; мы держимся иных взглядов и полагаем, что вся почти она еще впереди». Государственная Дума стала не столько первым опытом российского парламентаризма, сколько «рупором народного гнева». Избирательная кампания и сама деятельность российского парламента наглядно продемонстрировала неготовность народа к представительной демократии. В 1912 году богослов и философ С.Н. Булгаков (1871-1944) таким образом охарактеризовал политическую культуру крестьянских депутатов Государственной Думу: «Как и прежде, зарождались у отдельных выборщиков совершенно фантастические надежды на депутатское кресло в расчете на шальную удачу, благодаря которой выборные комбинации выносят в Таврический дворец иногда совершенно случайных людей, а то, что удалось одному начинает маячить и другому. Черта низкой политической культурности – эти претенденты совершенно не задаются вопросом, пригодны ли они к чему-нибудь в законодательной палате, как дети они интересуются только избранием, наивно и просто». Буржуазно-либеральные идеи рассматривались в обществе как нечто чуждое и противоречащее традиционным ценностям. По мнению авторитетного российского историка И.С. Розенталя, определенную долю истины в оценке достигнутого к началу века уровня массовых политических представлений содержит такой (с определенной поправкой на тенденциозность) источник, как сатирические рисунки периода первой русской революции. Бытовые сценки на выпущенных накануне выборов в I Государственную Думу открытках под названием «Выборы» должны были показать, что само это слово ассоциируется в сознании российского обывателя с чем угодно, только не с парламентскими выборами. Так, художник изобразил, как нищий выбирает съедобные отбросы из мусорного ящика, крестьянка ищет насекомых в волосах сына, некий господин выбирает проститутку на бульваре, а дама в мехах стоит перед выбором драгоценностей в ювелирном магазине. Надежды на Государственную Думу в народной толще не могли быть, поэтому, устойчивыми. Больше надеялись на Думу тогдашние «средние слои», но в последующие годы и для них характерно равнодушие к выборам в Думу и к ее деятельности. Обращает на себя внимание и известный нелегитимизм Думы, которая считала себя «суверенной» и стоящей над Конституцией. Более того, объявить себя в Думе правительственной группой – значило бы потерять политическое кредо. Не случайно 89 председатель III Думы, октябрист М.В. Родзянко (1859-1924) отговорил крестьянских депутатов посылать благодарственную всеподданнейшую телеграмму, указав на нежелательность создания подобного прецедента. Роспуск I Государственной Думы вызвал протесты в основном либеральной общественности, наиболее ярким проявлением которых стало Выборгское воззвание о пассивном сопротивлении, принятое главным образом кадетской группой. Но в народе призыв «выборжцев» не платить налоги и отказываться от службы в армии серьезного отклика не нашел. Тем не менее, в 1906 году московский губернатор В.Ф. Джунковский (1865-1938) получил три письма – отклика на обращение губернатора к народу в связи с Выборгским воззванием. Анонимные адресаты выражали возмущение действиями правительства и брали под свою защиту «выборжцев» и Государственную думу. На последнюю корреспонденты смотрели как на воплощение народной мечты о справедливой власти путем создания реального противовеса равнодушной к нуждам народа и враждебной ему бюрократии. Если народ не был готов к гражданскому обществу, то образованная общественность была не готова терпеть антилиберальный авторитарный режим. Развитие политической культуры интеллигенции выразилось, прежде всего, в формировании партийной системы. При этом в политической культуре образованных кругов уникально сочетались «банкетные кампании» и идущая из глубины веков петиционная традиция. В целом не оспаривая утверждения, что к началу XX в. складывается новый политический менталитет, согласно которому общество имеет право и должно участвовать в государственном управлении наравне с коронной администрацией, следует уточнить, что это достижение мало чего стоило, так как одновременно шло взаимное отчуждение верховной власти и образованного общества. Если дворянство и внесло вклад в политическую жизнь, то сделало это не как общественно-политическая группа, выступавшая за свои интересы, а как интеллигенция, борющаяся за абстрактное «всеобщее благо». Русская буржуазия была настроена промонархически и националистически, но в начале ХХ в. предпочитала отстраняться от политической жизни. Она не смогла создать своей политической партии, не имела серьезного веса и в Государственной Думе. Лишь в 1908-1909 гг. немногочисленная, хотя и влиятельная, группа московских предпринимателей под руководством А.И. Коновалова (1875-1948) и П.П. Рябушинского (1871-1924) попыталась активизировать партийное строительство. В целом партийная палитра была раскрашена во все цвета (от красного до черного), что наглядно отражало пестроту 90 политических пристрастий российской интеллигенции. Преломляясь через политическую культуру социальных «низов», картина еще больше усложнялась, хотя в целом демонстрировала ускоренное размывание толерантных настроений и радикализацию политических настроений. 3. Либерализм на российской почве В России носителями либеральных идей и ценностей выступали главным образом представители дворянства и интеллигенции, стремившиеся к компромиссу с властями и отвергавшие насильственные методы борьбы. Либеральная интеллигенция, разделявшая идеи создания правового государства, выступала за ликвидацию неограниченного самодержавного режима, настаивала на его замене конституционнопарламентарным строем, введении всеобщего избирательного права и демократических свобод. Но в отличие от дворянских (земских) либералов XIX века, выступавших против нелегальной деятельности и ограничивавшихся адресами и петициями на «высочайшее имя», либеральные интеллигенты еще до революции приступили к созданию своих нелегальных печатных органов и организаций. Известны факты сотрудничества левых «освобожденцев» (группировавшихся вокруг издаваемого в Штутгарте под редакцией бывшего «легального марксиста», философа и экономиста П.Б. Струве (1870-1944) в 1902-1905 гг. журнала «Освобождение» либералов) со священником – агентом охранки Г.А. Гапоном, эсерами и социал-демократами, а а также поддержки ими рабочего забастовочного движения и сбора средств на подготовку вооруженного восстания. Среди них получила распространение даже идея цареубийства. Русское либеральное политическое сознание в начале ХХ века можно рассматривать как попытку трансформировать традиционное общество в гражданское в условиях сохранения в целом самодержавной власти. Это противоречие обусловило сложную адаптацию либерализма к российской действительности. Если сначала либералы не отрицали возможность созыва Учредительного собрания в результате революционных действий масс, то по мере развития революции они перешли к осуждению крайних насильственных форм борьбы. Предпочитая мирные формы борьбы, либералы сохраняли надежду на возможность компромисса с властью. Более или менее точным индикатором либеральных настроений российского общества можно считать позицию партии кадетов, поскольку как партия центра она 91 представляла собой «среднюю линию» в политической системе тогдашней России. Современные исследования программы партии и книги П.Н. Милюкова «Год борьбы» (СПб, 1907) позволяют сделать вывод, что кадеты, в целом положительно оценивая монархический режим в России, отрицательно воспринимали его самодержавный характер. Но монархия была для них не идеалом, а просто наилучшим вариантом политического устройства России со всеми своими достоинствами и недостатками. При этом кадеты рассчитывали на дальнейшие политические реформы ввиду того, что признавали за монархией способность, пусть и под давлением общества, изменить политический быт страны. А условием прогресса монархии в этом направлении становилась партия кадетов, получившая «сакральность» благодаря вхождению в Думу. Тем самым монархия превращалась в равного населению страны (в частности, его ставленникам в стенах народного представительства) участника политического процесса. В результате в сознание народа вносились новые для него мысли и настроения, многие из которых впоследствии способствовали столь значительному падению престижа монархии. Но, несмотря на рост оппозиционного либерального движения в предвоенный период и усиление критики правительства, либеральная политическая идеология потерпела поражение, так как не смогла приобрести широкой популярности в российском обществе из-за противоречия буржуазно-либеральных идей традиционным ценностям основной массы населения страны. Все это делало воздействие кадетских групп на формирование позиции избирателей минимальным. Исследования последних лет подтверждают, что добиться распространения своих идей среди широких масс населения (прежде всего, рабочих и крестьян) кадетам не удалось. Определенное влияние они оказывали только на средние городские слои, доля которых в структуре населения была небольшой. Кроме того, внутренний раскол либерального движения способствовал парализации работы Думы, структур всех политических партий и парламентских фракций. 4. Социалистические идеи и радикализация массового сознания В начале столетия волеизлияние народа все больше превращалось в своего рода политическую приманку, право на использование которой пытались узурпировать различные общественные силы. В условиях слабой социальной стратификации 92 общества, высокого удельного веса маргинальных слоев и их отзывчивости на популистские призывы особой силой на политической арене России стали социалисты, чьи идеи привлекали надеждами на торжество идеала социальной справедливости. Социалистические ценности, часто отвергающие парламентаризм, несмотря на свое «западное» происхождение, оказались более близки некоторым духовным традициям и русскому национальному характеру своим радикальным и коллективистским духом. Революционный миф обещал благоденствие после грандиозного переворота, нацеливая массы на отчаянную борьбу с властью, которая в 1905-1907 гг. выплеснулась на улицы российских городов. Можно с уверенностью сказать, что в начале ХХ столетия революционная мифологема набирала все больше сторонников в различных слоях российского общества. Стачечная волна и рабочее движение накануне войны приняли острый политический характер, на что огромное влияние имела пропаганда большевиков. Последние систематически и последовательно использовали все легальные организации рабочего класса и, прежде всего, трибуну Государственной Думы. Анализ политических представлений социальных низов Москвы (2/3 которых составляли выходцы из деревни), проделанный И.С. Розенталем, показал, что до 1905 года социалисты были вынуждены считаться с сохранением в этой среде крестьянских представлений о власти, о монархии, как сакральном институте, и о монархе как о высшем носители «правды». Естественно, в 1905 году содержание, тон и масштабы агитации революционеров изменились. Именно этим, в первую очередь, объясняла московская администрация антиправительственные настроения рабочих. Хотя не все было так просто. Данные свидетельствуют, что стремление рабочих к политическому участию соседствовало с негативным отношением к жесткой регламентации этого участия. Такое политическое поведение свидетельствовало, в том числе, о дистанциировании рабочих от идеологических споров двух фракций РСДРП – большевиков и меньшевиков. Характерно, что дух протеста продолжал жить не только среди относительно немногочисленных сторонников социалистических партий, но и среди массы верующих, как правило, семейных рабочих и ремесленников, принимавших то или иное участие в революции. Самые радикальные из них примыкали к «свободным» или «голгофским» христианам, проповедовавшим «революцию именем Божиим» для создания общества без частной собственности и учреждения новой церкви, в которой не будет иерархии. 93 5. Анархистские умонастроения: от пропаганды к террору В 1903-1910 гг. в анархистском движении в России участвовало чуть более 7 тысяч человек. География анархистских групп также была достаточно узка – в основном Белосток, Екатеринослав, Киев и Дон. В среднем по России процент участия крестьян уступал мещанам (16,5% против 45,2%). Наиболее подверженной анархистским настроениям была молодежь от 20 до 29 лет, максимализму которой импонировало анархистское отрицание. Более значимым фактором политической культуры рассматриваемого периода стал сам рост анархистских умонастроений как показатель острой социальной нестабильности. Возникновение анархистских организаций было связано, с одной стороны, с усилением настроений разочарования и неверия какой-то части общества во власть, а с другой - убеждением в том, что единственным выходом из неприемлемого положения является его тотальная ломка. Следует признать, что российская действительность с ее самодержавной властной традицией, огромным и всемогущим бюрократическим аппаратом создавала возможность для популяризации анархистской идеологии. Кроме того, гарантом жизнеспособности теории анархизма стал в России «почвеннический» характер и революционный мессианизм теории столпов анархизма М.А. Бакунина (1814-1876) и П.А. Кропоткина (1842-1921). К началу ХХ в. анархистское движение оказалось с более или менее разработанной доктриной, но в ней отсутствовала постановка практических вопросов предстоящей революции. Поэтому «новые» анархисты за основу своего мировоззрения взяли доктрину активного революционного действия Бакунина. Именно на этой почве была построена теория так называемого «парфлетизма» - пропаганды действием, в противовес пропаганде словом. Пересмотр тактических приемов борьбы анархистов с государством, начавшийся под влиянием революционных событий, и связанный с этим процесс внутрипартийного «полевения» неминуемо привели к расколу. Начавшись с ревизии теоретических основ анархо-коммунизма, являвшегося господствующим течением с конца XIX в., раскол способстовал не только оформлению двух самостоятельных направлений (анархо-синдикализма и анархо-индивидуализма), но и выделению в анархо-коммунизме, кроме сторонников Кропоткина («хлебовольцев»), «безначальцев» и «чернознаменцев», признававших возможным употребление всех средств реализации социальной революции. А это уже было знаковой приметой 94 времени, которое рождало сколь жесткое, столь же неэффективное противодействие справа. 6. «Народный монархизм»: за и против Если верить официальной статистике, в 1907 году правомонархические организации были самым массовым политическим движением в России - к концу года их численность составляла 408999 членов. Основная социальная база движения находилась в провинции: черносотенные организации существовали в 2229 населенных пунктах. Но подавляющее большинство состояло в монархических союзах чисто номинально. Известно, что под давлением администрации к черносотенным организациям «присоединялись» целыми селами, включая несовершеннолетних и даже грудных младенцев. В противовес этому, уездное общество с самого начала увидело за православно-монархическими заявлениями угрозу стабильности. Экстремистские методы достижения православно-монархического благополучия, предлагавшиеся «истинно русскими» людьми, в сочетании с отсутствием уважения и доверия к ним со стороны местных властей и жителей, ставили под угрозу ценностно-значимую образующую провинциальной идеологии – стабильность – и поэтому были отвергнуты уездной Россией как потенциально опасные. Хотя основную ставку правые монархисты делали на крестьянство, но в крупнейших промышленных центрах действовали и черносотенные рабочие организации. Даже в период высшего подъема революции стремление «защитить царя» обнаружили значительные слои рабочих, составившие вместе с другими слоями городского населения опору правомонархических организаций. Да и на другом полюсе политических настроений поддержка лозунга «Долой самодержавие!» не всегда означала исчезновение «монархических» предрассудков, ибо под самодержавием часть рабочих понимала чиновничье-полицейский произвол, а не государственное устройство в целом. Правда, черносотенцам не удалось глубоко внедриться в рабочие ряды, зато как рыба в воде чувствовали себя в монархических союзах деклассированные и уголовные элементы. Из люмпенов в основном вербовались и боевые дружины правых. Понятно, что все это не добавляло черносотенному движению популярности в образованных кругах. Хотя не стоит бросаться и в другую крайность, объявляя правомонархические союзы простым сборищем погромщиков. 95 Как и другие составляющие политического спектра России, монархисты делали активные попытки выработки собственной идеологии. В период происходившей ускоренной модернизации российского общества консерваторы стремились сохранить традиционные идеологические и религиозно-нравственные константы. Гарантом единства и дальнейшего развития Российской империи в их глазах выступала монархическая власть, оправданная религией и опирающаяся на строгую иерархическую систему. С точки зрения сторонников «Союза Русского Народа», воспринимавших учреждение Государственной Думы как восстановление Земского собора, правительство сделало шаг к воссозданию «русского самодержавия», идеалом которого было единение царя с народом без посредничества бюрократии. Однако поражения на выборах крайне правых привели к тому, что первые две Думы вызвали ярое неприятие у лидеров Союза. Л.А. Тихомиров в начале ХХ в. даже попытался связать традиционную для государственников идею сильной власти и славянофильскую программу создания действенного самоуправления на местах. При этом он попытался синтезировать не только консервативные и славянофильские, но даже народнические идеи, предложив особую программу построения «монархической государственности», согласно которой взаимоотношения между властью и народом строились бы не только по принципу «сверху вниз», но и «снизу вверх». Однако, эти идеи «народной монархии» находили в различных слоях российского общества все меньшую поддержку. Данные свидетельствуют, что ненависть к организаторам забастовок и революционным агитаторам, находившая свое выражение в доносах на «красноглавых» и погромах, была вызвана отнюдь не монархическими пристрастиями, а страхом перед внезапным нарушением обычного жизненного ритма в условиях невиданного размаха стачечного и демонстрационного движения. Впрочем, на политическое позицирование населения влияло много факторов, в том числе и интересы того или иного социального слоя. 7. Рабочее движение: от экономической стачки к политической забастовке Скорость подобного «движения» во многом зависела от профессиональноотраслевой принадлежности рабочих, региональной специфики, трудового стажа и прочих факторов, зачастую субъективного порядка. Факторами формирования политической культуры рабочих, помимо вышеуказанных, являлись условия их 96 жизнедеятельности, установки правительства в решении рабочего вопроса, а также положения и требования, внедряемые в их среду социалистами разных мастей. Именно последние в известном смысле формировали политические стереотипы и пристрастия в сознании рабочих. С одной стороны, к восприятию идей революционного изменения порядка рабочих подталкивала неудовлетворенность своим материальным положением и жизненным уровнем. С другой стороны, в начале ХХ в. оформлялось новое направление в политике правительства в рабочем вопросе – тенденция на некоторое улучшение условий их труда, что нашло свое отражение в Основах попечительской политики правительства по рабочему вопросу (1902 г.), «Законе о старостях» и законе «Об ответственности предпринимателей за увечья и смерть рабочего» (1903 г.). Но постепенное вовлечение рабочих в общественную жизнь при сохранении контроля государства сочеталось со стремлением государства максимально сохранить состояние политической иммобильности рабочих. Вполне понятно, что все это облегчало деятельность нелегальных политических партий в рабочей среде. Именно политическая литература формировала у рабочих устойчивые стереотипы политической картины окружающего мира. При этом язык социал-демократических листовок, закамуфлированных «под разговорный язык», по сравнению с эсеровскими был более доходчив и менее перегружен политическими терминами. В результате один из важнейших стереотипов – о наличии в обществе политического врага, - был не только четко определен, но и дифференцирован. Первый и главный враг – царь и правительство, второй – промышленники. То есть социалистическая пропаганда формировала специфические черты политической культуры рабочих: недоверие правительству, неудовлетворенность своим общественным положением и восприятие идей революционного изменения общества. В современных исследованиях показано, что в политической культуре металлистов юга России, наиболее вовлеченных в общественно-политические процессы, как в зеркале отразились все субъективные установки рабочих того времени по отношению к государству и их практическое проявление. Массовые выступления рабочих-металлистов Южного промышленного региона, включавшего часть области войска Донского и восточный Донбасс, начались еще в 1900 году. Именно в это время началось формирование политических пристрастий, стереотипов и основных представлений металлистов о системе взаимоотношений с правительством, о роли государства в выработке системы ценностей рабочих и о месте рабочего человека в 97 обществе. Параллельно рабочие получали опыт участия в нелегальной, массовой и антиправительственной деятельности, а в годы первой русской революции все это наглядно проявилось в политическом поведении рабочих. Общепризнано влияние «кровавого воскресенья» на крах царистских иллюзий в рабочей среде и на трансформацию форм рабочего активизма. Однако, нельзя 9 января 1905 года рассматривать как момент всеобщего и одновременного крушения традиционных народных представлений о власти. Не находится в противоречии с этим и размах стачечного движения. Дело в том, что требования стачечников первой половины 1905 года не были направлены, за редкими исключениями, против основ существующего строя. То есть налицо был, по определению В.П. Булдакова, феномен «бунтарского верноподданичества». В качестве одного из основных мотивов поведения рабочих выступала потребность в политическом участии. Предоставление рабочим права участия в электоральном процессе вполне соответствовало их потребности в политическом участии, но ограниченность и половинчатость избирательного законодательства приводили к тому, что не реализовывалась другая важная потребность – в достижении. Подобное противоречие порождало преобладание нелегальных форм политического участия, прежде всего участие в массовых выступлениях, над легальными. При этом рабочих в правильности предпринимаемых действий убеждало изменение общественного мнения по отношению к ним в положительную сторону в ходе революции 1905-1907 гг.: от «чумазого» и «чужого» до образа волевого, целеустремленного человека, несправедливого обиженного правительством. Конечно, сфера политического участия рабочих была расширена за счет возможности участвовать в выборах в Государственную Думу (наказы, даваемые кандидатам, свидетельствуют, что определенные надежды рабочие связывали с электоральным поведением), а также в связи с изданием «Временных правил о профессиональных союзах». Однако деятельность легальных профсоюзных организаций была для рабочих привлекательной только на начальном этапе, но затем постоянный контроль государства и рост ограничительных мер вновь подтолкнули рабочих к нелегальным антиправительственных формам действиях политического (стачках и участия демонстрациях), – в массовых которые часто оказывались весьма эффективными. Что же касается созданных в годы революции Советов, то по своей форме и содержанию они, скорее, отвечали традиционным представлениям крестьянского социума, нежели являлись специфической формой 98 рабочего самоуправления. Более значимым оказался приобретенный рабочими первый опыт вооруженного сопротивления. Хотя они рассматривали оное не как конечную цель своей деятельности, а как вынужденную меру и средство самозащиты от полиции. После поражения первой русской революции и краха стачечного и рабочего движения в 1908-1910 гг. заметное оживление стачечного движения в крупных городах и промышленных центрах уже в 1911 году, толчком чему стали Ленские события, свидетельствовало о первых признаках кризиса «низов». При этом в среде наиболее возбужденных слоев молодого рабочего поколения борьба принимала характер и формы вступления против всех органов власти и всех остатков кастовых и патриархальных отношений. 8. Политическая культура крестьянского социума Несмотря на заверения советской историографии, аграрное движение в начале ХХ в. развивалось преимущественно вне партийного влияния. После отмены крепостного права община под воздействием разнообразных факторов изменялась в направлении большей оппозиции к власти. Она активно боролась за восстановление своей власти, за автономию и независимость от государства, а там, где в законодательстве были лакуны, создавала свои собственные нормы. Повышение грамотности крестьян, появление в деревне книг и периодической печати, культурно-просветительная деятельность интеллигенции, проникновение в деревню различных политических доктрин привели в начале ХХ века к изменениям в самосознании крестьян, и в первую очередь, в губерниях Центрально-промышленного района. Многочисленные факты свидетельствуют, что в сознании части крестьян харизма царя как носителя верховной власти и народного заступника разрушалась, особенно после поражения в русско-японской войне и в период революции 1905-1907 гг. Наряду с ростом критического отношения к самодержавию, крестьяне все больше стали осознавать свою роль в государстве. Возросший уровень общественного сознания проявился в активном участии крестьян в образованном в конце июля – начале августа 1905 года Всероссийском крестьянском союзе, в активизации традиционного для политической культуры сельских жителей приговорного движения, а также в выборах и работе крестьянских депутатов в Государственной думе. Весной 1906 года была создана крестьянская фракция I Государственной думы – Трудовая группа (трудовики), которая стала зачатком крестьянской демократической партии. 99 Традиционно крестьяне легче горожан мирились с принуждением и регламентацией. Они не любили значительную дифференциацию в чем бы то ни было и ориентировались на устоявшиеся авторитеты. Однако, если большинство крестьян все же сохраняло архаичные черты, то радикально настроенные делегаты центральных губерний на Учредительном съезде ВКС летом 1905 года требовали полных и равных прав с другими сословиями, народно-выборного управления и демократизации всех сфер жизни страны. В мае следующего года совместно с партиями революционнодемократического лагеря Союз принял решение о подготовке вооруженного восстания. Все это свидетельствовало о значительном синкретизме политического сознания российского крестьянства. Недовольные малым представительством в земских органах (до Указа от 5 октября 1906 года крестьянские гласные уездных земских собраний назначались губернатором из числа кандидатов, избираемых волостными сходами по 1 человеку от волости), крестьяне всячески уклонялись от уплаты земских повинностей. Зато принятие данного указа, отменившего право губернатора назначать гласных от крестьян, заметно оживило внимание крестьян к земствам. В некоторых волостях крестьяне являлись на сходы практически в полном составе, а в некоторых земствах выбирались членами управ. Рост интереса крестьян к расширяющейся земской деятельности привел к повышению сознательного отношения к земству и выборам в крестьянской среде в ходе избирательной кампании 1913 года, что отразилось на результатах выборов. 9. Политическая культура российской провинции Политическую культуру России нельзя понять без учета провинциального фактора. Применительно к российской провинции начала ХХ в., по мнению современного историка Ю.А. Иванова, сложно говорить о политической жизни в общепринятом смысле. До революции 1905-1907 гг. существовал практически полный запрет на любую политическую деятельность в провинции. Вокруг этого аксиоматического положения строилась вся общественная жизнь, а в обывательском сознании под «политикой» понималось любое самостоятельное мышление. Однако в уездной России запрет на собственно политическую деятельность, по сути, оказывался составной частью местной политической жизни. Принципиальная отстраненность местных властей от «большой» политики и готовность выполнить указания «сверху» 100 сочетались с необходимостью адаптировать правительственные циркуляры к реалиям уездной жизни, что выводило администрацию на «дополитический» уровень принятия решений, но в этом уже была своя политика. Сохранение информационнополитической «отгороженности» рассматривалось местными властями как способ сохранения стабильности. Особое положение православия как государственной религии вело к тому, что религиозная жизнь оказывалась важным элементом провинциальной жизни. Характерно, что русская провинция не знала толерантно-отстраненного отношения к религиозности, характерного для образованного и чиновничьего слоя столиц и больших городов. Общественно-политический консерватизм как жизненная философия подразумевал легитимность политических ценностей в религиозном контексте. В итоге городские благочинные оказались вовлеченными в местную политическую жизнь в 1905-1907 гг. Выборные кампании во II и III Государственные Думы показали, что приходское духовенство было деятельным и наиболее дисциплинированным участником выборов из числа избирателей-земледельцев. В лице рядовых священников и благочинных уездное духовенство имело значительный ресурс влияния на все социальные группы, как в силу государственного статуса православия, так и за счет традиционной бытовой религиозности основной массы населения. В силу этого религиозная жизнь провинции оказалась весьма политизированной. Еще одной характеристикой провинциальной жизни был полный отказ от выработки самостоятельной политической парадигмы. Своеобразная «уездная идеология» была скорее компиляцией отголосков правительственных установок и государственной идеологии. Провинциальная России демонстрировала не только рутинность бытия, но и незыблемую шаблонность реакций и мотивов политического поведения. Как отмечалось выше, по сути, политикой была демонстративная аполитичность, что ярко проявлялось в деятельности земств. В начале ХХ в. легальная общественно-политическая и партийная жизнь на уездном уровне ассоциировалась в обыденном сознании с выборами в Государственную Думу и вращалась вокруг них. В начале ХХ в. любые негосударственные организации «канализировали» общественную инициативу по принципу «что не разрешено, то запрещено». Поэтому на уездном уровне «политика» в любых проявлениях оказывалась нелегальной и в этом качестве стала компонентом «уездной идеологии». Нелегальное революционное движение в провинции носило в основном привнесенный извне характер, что хорошо 101 осознавалось местными властями. Отсюда – стремление к замкнутости уездного мира, контроль за приезжими и настороженное отношение к «читающей публике». Бытовой консерватизм и религиозные традиции основной массы провинциальных обывателей привели на уездном уровне к совпадению ценностных установок местных властей и значительной части населения: поддержание стабильности и отсутствие потрясений и радикальных перемен рассматривались как самоцель. Политически активный обыватель составлял в лучшем случае 1,5-2% жителей уездного города даже со значительным фабричным населением. Протестноэкстремистский потенциал российской провинции был еще меньше: сказывалось природное здравомыслие уездного жителя. В контрольно-регулирующей деятельности власти могли опираться на бытовые изоляционистские настроения обывателя, пассивность, социальную аморфность и общенациональную склонность к патернализму основной массы населения. В провинции абсолютно органично воспринимались отсутствие приватности и анонимности, а ранжированность, субординация и дисциплина, наоборот, принимались как должное. Снижение накала политического противостояния после 1907 года было с заметным облегчением воспринято основной массой провинциального населения. Не сочувствуя ни левым, ни крайне правым, не имея реального представления о программных требованиях основных российских партий, да и не интересуясь ими, обыватели ориентировались на традиционалистские ценности и сохранение привычного порядка вещей. Именно здесь истоки массового бытового и идейного консерватизма провинции. Но с другой стороны, романовский юбилей (1913 г.), как и другие государственные праздники в провинции в начале ХХ в. (50-летие отмены крепостного права и 100-летие Отечественной войны) наглядно свидетельствовал, что «верноподданической встряски» и «ликования народа» не происходит. 102 Глава 7. Политическая культура периода Первой мировой войны и Февральской революции (сентябрь 1914 года – октябрь 1917 года) Став следствием кризиса европейской цивилизации, составной частью которого была девальвация ценностей гуманизма и либерализма, Первая мировая война вызвала, в свою очередь, трансформацию и даже крутую ломку ценностных установок, стереотипов мировосприятия и моделей поведения миллионов людей, породила революции, «потерянные поколения» и «тоталитарные» режимы. Точка зрения о наличии «системного кризиса империи» спорна, однако нет сомнения, что мировое противоборство привело к параличу властного начала в целом и тем самым подтолкнуло «низы» к проявлению инициативы, росту агрессивности и «смуте». Наряду с формированием милитаризованного сознания, в условиях военного времени менталитет различных общественных слоев в наибольшей степени находил выражение в их отношении к защите Отечества. 1. Патриотический подъем и оппозиционные настроения в обществе В отечественной литературе в качестве источника патриотизма называется, прежде всего, деревня. Именно крестьянами и выходцам из деревенской среды были свойственны «наивный монархизм» и патриархальная идея помощи «братьям славянам», вера в «единую и неделимую Россию», что делало их «добросовестными оборонцами». К этой среде можно отнести и городское население губерний аграрного типа. Преобладающее в народных низах настроение рельефно отражали две фразы: «Если немец прет, то как же не защищаться?» и «Нам чужого не надо, но и своего не отдадим». Именно этими настроениями, а также тревогой за судьбу страны был обусловлен патриотический подъем, охвативший в начале войны практически все слои населения. В городах, рабочих поселках и селах проходили патриотические манифестации, шествия и молебны о даровании победы над врагом. Патриотизм сельского населения проявлялся в самых разнообразных формах, прежде всего, в материальной помощь фронту в виде определенного количества хлеба из запасов общества. Кроме того, сельские общества выделяли деньги на устройство лазаретов, а 103 деревенские девушки вязали и шили теплые вещи для фронтовиков. На время удалось достигнуть общественного согласия, хотя, как показали дальнейшие события, потенциал его оказался невелик. Тем не менее, в начале войны с Германией патриотический подъем в стране был необычайно высок, а на первое место в системе ценностей вышла защита Отечества. С другой стороны, ощущение войны как вселенского горя, охватившего страну, было такой же правдой первых дней войны, как и патриотический подъем, подпитываемый официальной пропагандой. Хотя во время первой мобилизации в армию в июле 1914 года на Урале и в ряде других районов страны имели место выступления призванных из запаса крестьян и рабочих, но они носили не антивоенный, а стихийный характер, так как были спровоцированы закрытием казенных винных лавок. Эта акция в связи с введением в стране сухого закона нарушала многовековую традицию деревенских проводов рекрутов на войну, в которой пьяная гульба носила во многом ритуальный характер, знаменуя переход крестьянина из одного состояния в другое. А случаи отказа идти в армию по политическим мотивам были единичными. Начало войны вызвало германофобию, мощное движение благотворительности в поддержку армии и небывалый патриотический подъем, прежде всего, среди интеллигенции. Так, партийные распри в земской среде не только утихли, но даже исчезли. Патриотическую приподнятость проявляли, как кадеты, так и правые земцы. Повсеместно созывались чрезвычайные сессии земских собраний, которые посылали в адрес императора патриотические телеграммы. Все это рождало надежду на то, что война укрепит то хрупкое взаимное доверие, которое родилось между земским самоуправлением и представителями коронной администрации в предшествующие годы. С другой стороны, активизировалась борьба земств за расширение функций местного самоуправления, а также политическая активность думских фракций и связанных с ними партий. Цензовое общество не собиралось предоставлять лавры победы правительству, к тому же оно не слишком верило в способности власти. Под прикрытием созданных в начале войны Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов происходила переорганизация сил оппозиции и рост оппозиционных настроений. Обществу настойчиво предлагалась новая система взаимоотношений с властью, в которой складывались два понятия: «мы» общественность, народ и «они» - императорская власть. С лета 1915 года, на фоне неудач на фронте, октябристы и значительная часть националистов пошли на 104 формальный блок с либералами. В результате создания «Прогрессивного блока» в Государственной Думе появилось оппозиционно настроенное большинство. Однако депутаты и представители блока вновь столкнулись из-за того, что программе создания «министерства общественного доверия», поддержанной большинством членов блока, «прогрессисты» и левые кадеты противопоставили более резкое требование «ответственного министерства». Понятно, что в таких условиях оппозиционное либеральное движение не смогло предотвратить революционный взрыв. Все попытки расширить социальную базу за счет привлечения трудящегося населения успехом не увенчались. Дело в том, что общество было не готово к длительной войне и к тяжелым испытаниям, поэтому рост тягот военного времени и первые поражения на фронте постепенно вели к росту негативного отношения к войне. По определению российского историка Н.Н. Попова, поражения первого года войны привели к тому, что в России предел «моральной упругости» войск был перейден. В армии росло дезертирство, а в тылу – уклонение от воинской службы. Если исступленно-шовинистическая форма патриотической вспышки летом 1914 года привела к переименованию Санкт-Петербурга в Петроград, то уже в апреле 1915 года Екатеринбургская городская Дума единогласно отклонила предложение губернатора о переименовании города. Продовольственный кризис и рост цен вели к радикализации сознания и готовили массовое настроение к социальному взрыву. К зиме 1914-1915 гг. продовольственная ситуация в городах обострилась настолько, что постепенно цены на продукты становятся не менее важной темой для обсуждения, чем события на фронтах. Подспудно росло недовольство правительством, которое не проявляло должной заботы о своем народе. Не удивительно, что с середины 1915 года наблюдается рост активности революционных партий, агитация которых стала проникать повсеместно. Если среди земских гласных распространялось влияние либеральных партий, прежде всего, кадетов, то среди земских служащих – левых социалистических партий. К 1917 году под влиянием революционной агитации резко обострилась ситуация в тыловых гарнизонах, а провал летнего наступления способствовал большевизации солдат. Однако не был единым и левый лагерь. Война углубила идейные разногласия внутри левого фланга российского политического спектра. Авторитетный исследователь истории партии эсеров К.В. Гусев отмечал возникновение в партии социалистов-революционеров трех группировок по отношению к войне: оборонцев (Н.Д. Авксентьев, И.И. Фондаминский, А.А. Аргунов), интернационалистов (М.А. 105 Натансон и Б.Д. Камков) и центристов во главе с лидером партии В.М. Черновым (1873-1952). Если часть лидеров эсеров высказалась за возможность сотрудничества с государственной властью в деле обороны страны и считала нецелесообразным вести революционную работу в сложный для Родины период, то эсеры-интернационалисты выступали против сотрудничества с правительством, отвергали лозунги «войны до победного конца» и «гражданского мира». В результате уже с весны 1914 года «правое» и «левое» течения в эмиграции вели работу преимущественно раздельно, а России разногласия имели следствием образование эсеровских оборонческих и интернационалистских групп. Представители левого течения вели антивоенную и антиправительственную пропаганду в среде городских рабочих, крестьянства, учащейся молодежи, солдат и матросов, что способствовало росту антимилитаристских и революционных настроений в обществе. Аналогичный раскол на сторонников и противников войны определял и политическую деятельность социал-демократов. Апофеозом «интернациональных» настроений стали большевистские идеи «поражения своего правительства» и «перерастания войны империалистической в гражданскую». В качестве определенного «противовеса» революционным настроениям с весны 1915 года наблюдаются усиление позиций правомонархических организаций и тенденция к сближению позиций сторонников различных течений внутри правого лагеря. Однако на фоне деятельности других политических организаций укрепление правых было явно недостаточным. Более того, эволюция взглядов лидеров Союза Русского народа в сторону откровенно реакционного консерватизма привела к потере популярности правых монархистов среди населения и краху монархического мировоззрения, прежде всего, в крестьянской среде. Все это предопределило развал правомонархического движения и не позволило его лидерам оказать даже минимальное сопротивление Февральской революции. Впрочем, следует говорить о сложности и неоднозначности партийно-политического влияния на различные слои российского социума, эффективность которого напрямую зависела от положения на фронте и в тылу. Например, в Центральном промышленном районе большевики имели наибольшее влияние среди текстильщиков, тогда как идеи оборончества получили относительное преобладание в среде металлистов. 106 2. Рабочие: от оборончества к антивоенному сопротивлению Развитие предвоенного кризиса было приостановлено благодаря патриотическому подъему в разных слоях общества, вызванному объявлением войны. Еще в 1972 году известный отечественный историк С.В. Тютюкин высказался против расширительного толкования тезиса об «иммунизации» рабочего класса страны в отношении шовинизма, что подтверждают современные исследования политической культуры рабочего класса. Отчасти это объясняется сокращением удельного веса потомственных рабочих и возросшим притоком на предприятия выходцев из деревни с их зачастую проправительственными настроениями. Но уже летом 1915 года с новой силой вспыхивает стачечное движение с политическими забастовками рабочих преимущественно металлообрабатывающих заводов столицы, непосредственной причиной которых послужил расстрел в ИвановоВознесенске и Костроме рабочих, протестовавших против вздорожания и нехватки продуктов и товаров, а также падения реальной заработной платы, особенно в текстильной промышленности. Именно неспособность государства и его органов на местах выполнять свои функции по поддержанию жизнеобеспечения населения придавала борьбе рабочих политический характер. Тогда как доля участников политических стачек в июле 1914 – феврале 1917 года составляла менее 20%, причем антивоенные лозунги в этих стачках почти не выставлялись. В «патриотических» забастовках приняло участие всего 5% от общего числа стачечников. Тесно были связаны с политическими стачками демонстрации, но их число было невелико, и они не играли серьезной роли в массовом движении. Также откровенно антивоенного характера не носили и выступления мобилизованных рабочих. Доминирующую форму антивоенного сопротивления забастовочное движение приняло в октябре 1916 – феврале 1917 года. В это время свержение самодержавия стало рассматриваться в рабочей среде как необходимое условие успешного решения вопросов продовольственного снабжения. Помимо отраслевой, существовала и региональная специфика, определявшая особенности политического мировосприятия и характера взаимоотношений с властными структурами того или иного отряда рабочего класса. Например, южноуральские рабочие сохраняли общинно-патерналистское сознания, которое вступало в очевидное противоречие с реальностью урбанистической субкультуры. Преобладание 107 коллективизма в психологии, культуре и общественной организации, бедность подавляющего большинства населения региона и углубляющаяся имущественная дифференциация приводили к распространению социалистических учений, которые позволяли решить острейшие проблемы без отречения от традиционных ценностей. 3. Крестьянское движение: от стихийного патриотизма к общинной революции Крестьянское движение в период войны было слабее, чем в предвоенные годы. Несмотря на многочисленные крестьянские волнения, обстановка в деревне в период войны оставалась преимущественно стабильной, что было отчасти следствием наметившегося подъема в начале войны, ухода наиболее беспокойной части населения на фронт, введения «сухого закона» и деятельности земств по организации досуга крестьян. Лишь с 1916 года недовольство войной, вылившееся в крестьянские выступления, рост преступности и пьянства, стали проявляться в широких масштабах. Можно говорить о «противостоянии в умах», что от робких и немногочисленных выступлений 1914-1916 гг. выплеснулось в непосредственную активную революционную деятельность 1917 года. Авторитетный исследователь общественных настроений периода Первой мировой войны О.С. Поршнева наглядно показала, что война и все связаннее с ней воспринимались крестьянами исходя из провиденциальных позиций, а патриотическая волна, имевшая место в крестьянской среде в начальный характер войны, носила исключительно стихийный и мало осознанный характер. Русские крестьяне в массе сохраняли средневековое, по сути, восприятие войны как крестового похода за землю и веру. Тогда как рациональные имперские интересы России не укладывались в матрицу крестьянского сознания. Ограниченность кругозора крестьянина рамками сельского мира, уезда и максимум губернии определяла своеобразие его представлений о внешнем враге, который должен обязательно угрожать разорением родного очага, вторгнуться и тогда получить отпор. Причины подобного явления были в том, что в России, в отличие от других стран, никакой идейно-психологической подготовки к войне, способной скольконибудь повлиять на массовое сознание, не велось. То есть в массах не было представления ни о месте России в грядущей войне, ни о потенциальном противнике. Не умеющий понять и осознать действительных целей мирового военного 108 столкновения, одетый в шинель вчерашний крестьянин не получил понятного для него объяснения и в течение военных лет. Поэтому крестьяне поддерживали ведение войны лишь в самом начале – с августа по декабрь 1914 года. Основными причинами этого была мощная идеологическая работа, проведенная правительством и местными властями, а также упорно ходившие весь военный период слухи о возможности бесплатного получения земли всех немцев и подданных других государств крестьянами как победителями. Высланный из России в 1922 г. писатель и философ Ф.А. Степун (1884-1965) вспоминал, что часто слышал от солдат в Карпатах: «Да зачем нам, ваше благородие, эту Галицию завоевывать, когда ее пахать неудобно». Дешевые лубочные картинки и открытки патриотического содержания распространялись в 1914 – начале 1915 г. в миллионах экземпляров, что является косвенным подтверждением широкого распространения патриотических настроений в народной среде в это время. Свою роль в формировании в массовом сознании установок восприятия войны как справедливой и оборонительной сыграл факт, что Германия первой объявила войну России. После вступления в войну и до середины 1915 года в массовом сознании крестьян постепенно возобладали элементы стабильности: покорность воле провидения (Бога), властей и воинского начальства. За отсутствием иных сакральных символов формула «За Веру, Царя и Отечество», принимаемая как своеобразный политический ритуал, продолжала освещать участие крестьян в событиях. Стабилизирующими факторами также были хорошие урожаи 1914 и 1915 гг., выдача солдатам казенного пайка, организация общественной помощи семьям, потерявшим кормильцев и рост цен на сельхозпродукцию. Но с января 1915 года под влиянием поражений, мобилизации и реквизиций настроения стали постепенно меняться. Если в 1915 году о войне в отрицательном плане открыто говорилось мало, то в 1916 году отношение крестьянства к войне стало определенно отрицательным. Это и понятно. Крестьянство было основным резервом пополнения армии (по официальным данным из 15,8 млн мобилизованных к осени 1917 года оно составило свыше 12,8 млн чел.), поэтому не могло относиться к войне равнодушно. И все же в восторженном хоре патриотических речей первого месяца войны голоса крестьянства почти не было слышно, так как его восприятие войны отличалось от представлений других слоев общества. Грянувшую как гром среди ясного неба и непонятную им войну крестьяне восприняли как разновидность неподвластного им стихийного бедствия или ниспосланное Богом испытание. Эта специфика восприятия войны на селе отмечалась в жандармских отчетах в губернские жандармские управления и в отчетах Департамента полиции 109 МВД. Зримое воплощение стереотип восприятия войны как ниспосланного Богом испытания получил в фольклоре. В одной из солдатских песен-причитаний, услышанной и записанной сестрой милосердия С.З. Федорченко в госпитале в начале войны, были такие слова: «Послал на нас Господь грозу великую, Ангелы Архангелы не вымолили, Матушка Царица небесная не выплакала». Восприятие случившегося как испытания, а не как военно-политической необходимости, побуждало солдатскую массу стремится к скорому завершению войны и следовательно к миру. Кроме того, в ходе войны сельское население стало активнее интересоваться вопросами послевоенного устройства своей жизни, а длительность боевых действий и связанный с этим груз проблем порождали у крестьян реакцию протеста. Хотя экономическое положение Российской империи в целом и великорусской деревни, в частности, до февраля 1917 года не было подорвано войной, а основные проблемы носили временный характер, вызванный тяготами военного времени. Однако тревожные тенденции в хозяйственной жизни (рост цен на дефицитные промышленные товары, увеличение налогов и связанный с этим рост недоимок, а также усиление социальной напряженности в деревне в связи с запретом вывоза сельскохозяйственной продукции за пределы губернии, установлением предельных цен на хлеб и фураж для армии и проведением реквизиций продуктов по пониженным ценам) дестабилизировали ситуацию в деревне. Хотя крестьяне зачастую обходили эти запреты, но ощущение несправедливости экономической политики правительства нарастало. Ведущую роль в определившемся в годы войны противостоянии верховной власти и крестьянского «мира» великорусского Черноземья играл надлом общественной психологии, вызванный капиталистической модернизацией начала ХХ в. и усугубленный мировой войной с ее психологией военного времени. Общее состояние Восточного фронта также имело в целом устойчивый характер, однако деформация массового сознания пропагандой привела к тому, что на субъективном уровне положение вещей воспринималось исключительно в негативном ключе. Неумелые действия государственного аппарата и кризис снабжения зимы 1916-1917 гг. окончательно подорвали доверие к верховной власти со стороны крестьянства. Убеждение в наличии внутри страны масштабного резерва «излишних» посевных площадей у помещиков, государства, банков и других крупных владельцев было одной из причин неприятия крестьянами идеи завоевания чужих земель. Более того, в период мобилизации встречались прямые заявления крестьян о нежелании воевать в связи с нерешенностью земельного вопроса: «У крестьян земли нет – воевать 110 не за что». К 1917 году ключевой фигурой, определяющей судьбу войны и страны, стал крестьянин в шинели – «человек с ружьем». При этом объединение усилий крестьянства фронта и тыла в деле решения проблем мира и земли происходило в русле эскалации насилия. В современной историографии отмечается и факт милитаризации сознания населения, тогда как применение оружия массового поражения вело к обесцениванию человеческой жизни. 4. Разрушение легитимности власти Падение монархии был результатом воздействия целой системы взаимосвязанных факторов, в том числе политико-культурного свойства. Наряду с вышеуказанными тенденциями, период Первой мировой войны стал временем разрушения легитимности власти и роста настроений уравнительности. Уже в первый год войны в обществе стали циркулировать слухи об измене в высших эшелонах власти, немецких шпионах, «толки» о немецком засилье, доходившие и до крестьян. С этим было связано появление в крестьянской среде суждений об императрице Александре Федоровне и вдовствующей императрице Марии Федоровне как о «немках», якобы сочувствующих Германии и всеми способами вредивших России. Вкупе со слухами о самом императоре и придворной камарилье они стали первыми кирпичиками образа внутреннего врага – «темных сил», который стал интенсивно формироваться в массовом сознании с лета 1915 года. Предписание Ставки военной цензуре ограничиться наблюдением за соблюдением военной тайны открыло простор для критики правительства в газетах. Дело военного министра В.А. Сухомлинова (1848-1926) порождало впечатление, что измена свила гнездо повсеместно и особенно во властных верхах. Слухи об измене в окружении царя, в правительстве, высшем генералитете наносили страшный удар по нравственному авторитету монархии, разъедали веру в святость и правоту верховной самодержавной власти. В отчете петроградского охранного отделения за ноябрь 1916 года отмечалось, что слухам «верят больше, чем газетам, которые по цензурным соображениям не могут открыть всей правды». Известным отражением этой тенденции стал рост числа судебных дел, возбуждаемых за оскорбление императорской фамилии, и появление мало приличных карикатур и стихотворений, прежде всего на «распутинскую» тему. 111 Лавинообразное нарастание во второй половине 1915-1916 гг. слухов, дискредитирующих монархию, можно проследить по материалам Министерства юстиции. Происходила десакрализация образа монарха, казавшегося оборотнем, не частью «мы», а представителем враждебной общности «они». Все чаще в слухах царь представал как пассивный и трагикомичный персонаж, которому в годы войны иногда противопоставляется энергичный Вильгельм. Слухи утверждали, что управляет страной императрица по указке Распутина, которые обманывают императора и манипулируют им. 3 февраля 1917 года рабочие у Путиловского завода кричали: «Долой самодержавную власть, так как государь не знает, кто правит страной и ее продает…». Понятно, соответствовал что такой патриархальному жалкий идеалу персонаж великого слухов совершенно царя-самодержца, не который насаждала официальная пропаганда. Но по сути дела в основе антимонархистских настроений лежала монархистская ментальность: императору в вину вменялось, что он не был «настоящим» царем. Кроме того, в обществе распространялись умело запущенные слухи о провалах власти, что ввергало земскую общественность в глубокий пессимизм. В результате требования о расширении земского представительства и немедленного проведения земской реформы нередко облекались в ультимативные формы. Война актуализировала в крестьянском сознании проблему взаимоотношений с помещиками. Начиная с 1916 года в письмах с фронта все чаще встречается возложение ответственности за начало войны на помещиков, якобы стремящихся избавиться от мужиков, так как последние посягают на их землю. В свою очередь, мотивом открытых посягательств на помещичью собственность стало представление об обоснованности притязаний в условиях войны на обеспечение семей мобилизованных за счет крупных землевладельцев. Хотя наибольшее распространение антипомещичьи акции получили в тех районах, где к социальному противостоянию примешивалась этническая рознь (западные, юго-западные и поволжские губернии), а также где помещики носили немецкие фамилии. В годы войны не прекратились выступления крестьян-общинников и против столыпинского землеустройства. Солдатки, оказывающие активное сопротивление землеустроителям, следовали не только общему настроению большинства односельчан, но и указаниям своих мужей в письмах с фронта. Хотя правительство в 1916 году свернуло землеустроительные работы, но крестьянство не прекратило борьбу с отрубниками и хуторянами за возвращение земли в общинный фонд. Именно в годы войны, ознаменовавшейся усилением 112 государственной эксплуатации деревни, по мнению О.С. Поршневой, произошла консолидация большинства крестьян на базе общинных традиций и принципов, обеспечивающих совместное выживание. Со второй половины 1916 года недовольство властью и войной, стихийная жажда мира и справедливости становятся доминантами общественного сознания уже широких слоев народа. При сохранении многослойности и противоречивости народного сознания, сочетании консервативно-патриархальных, реформистских и революционно-оборонческих установок последние явно набирали силу при сохранении традиционалистских парадигм, определяющих фундаментальные представления о справедливости. Усиление антиправительственных настроений видно и в солдатских письмах. «Человек с ружьем» становится главным персонажем грядущей революции. В России в 1917 году первыми стали осуществлять грабежи и передел земельной собственности именно многотысячные потоки дезертиров. Наиболее разумные и действительно патриотично настроенные общественные деятели России, понимая опасность, проистекающую из идейно-политической поляризации общества, указывали властям и ее непримиримым оппонентам на необходимость преодолевать разногласия путем взаимных уступок, без радикального потрясения основ общественного бытия. Но российский социум в целом был настроен на иную политическую тональность. Причиной революции в целом стал перманентный конфликт власти и общества, подчас напоминавший «диалог глухого со слепым». 5. От Февраля к Октябрю гражданский мир или гражданская война? Наиболее впечатляющей чертой Февральской революции была степень всеобщей поддержки смены правительства. Можно согласиться с таким авторитетным историком как А.П. Ненароков, особо подчеркнувшим общий характер процесса демократизации, начавшегося после свержения самодержавия. Но есть ряд уточнений. События начала марта 1917 года обнаружили фундаментальное несовпадение природы совсем недавно единого недовольства режимом со стороны различных слоев общества. В то время как центральное место в спорах между лидерами едва сформировавшегося Временного правительства и Петроградского Совета сразу занял вопрос о значении войны для «жизненных интересов» России, то основная масса простых людей была озабочена не столько самой войной, сколько тем, как она влияла на качество и уровень 113 жизни. Революционные события были замешаны на социальных иллюзиях и надеждах, что жизнь станет лучше. Современник событий зафиксировал в своем дневнике в 1917 году: «Наша дворничиха тетя Паша верит в то, что теперь все дешево будет». Но потом, когда оказалось, что путь к демократии – не столько праздник, а хлеб и сахар вообще исчезли с прилавков, многие были готовы пожертвовать всем, чтобы только вернуться к подобию нормальной жизни. По этому поводу «простой рабочий» в письме к российскому премьеру А.Ф. Керенскому (1881-1970) предлагал забрать назад свободу с революцией, если приходится голодному ложиться спать. Средние слои – чиновничество, офицерство и интеллигенция – приветствовали политическую свободу, принесенную Февральской революцией, но уже довольно скоро обнаружили, что эта свобода имела и обратную сторону. Ведь революция всколыхнула не только «низы», но и социальное «дно». Уже к концу весны произошла идентификация государства с теми или иными обязательствами и обещаниями. В это же время легитимность представительного государства стала связываться не с теми и или иными демократическими процедурами, как это было раньше, а с их эффективностью, как это было при царизме. Становящиеся автономными государственные институты на деле становились все менее способными откликаться на народные нужды и ожидания. В результате ценности «демократии участия», которые эти институты отражали, все более оказывались под вопросом. На деле отречение царя лишь формально означало конец самодержавия в России, так как сохранялся целый набор культурно устоявшихся элементов общественных отношений, которые в определенных социально-политических границах воссоздавали соответствующие формы власти и контроля. Известны случаи, когда солдаты отказывались присягать Временному правительству, рассматривая само упоминание о государстве, как проповедь монархизма. То есть, парадоксальное на первый взгляд сочетание антимонархических настроений и монархистской ментальности не было чемто необычным в этот период. При этом массовое сознание сохраняло монархистскую ментальность. Место царя в массовом сознании занимают «вожди демократии» и, прежде всего, А.Ф. Керенский, вокруг которого, как «символа демократии», в 1917 г. сложился целый культ. Включение термина «демократия» в собственный политический лексикон стало обязательным практически для всех политических сил – от большевиков до корниловцев. Однако исследование современного историка Б.И. Колоницкого показало, что термин «демократия» в 1917 году воспринимался специфически, часто 114 выражая определенный тип самоидентификации. При этом в социалистических кругах «демократия» противопоставлялась не «диктатуре», а «цензовым элементам», «буржуазии». Подобный подход сказался, например, на составе Демократического совещания, состоявшегося 11-14 сентября (27 сентября –5 октября) 1917 года, на которое представители «буржуазии» не были приглашены. Подобная трактовка демократии находила отражение и в массовом сознании, когда демократия отождествлялась с народом. Однако последнее перерабатывало идеи «демократии» в соответствии с собственными традиционными представлениями о власти: «Мы хотим республику, … но с хорошим царем». Как видно, в первые месяцы революции в массовом сознании понятия «демократическая республика», которая нередко выступала синонимом «новой жизни», и «хороший царь» могли мирно уживаться. Однако затем «распутиниада» и уничтожение символов империи, а также массовая антимонархическая пропаганда привели к табуированию слов «царь» и «монархия». Впрочем, необразованные солдаты-крестьяне не понимали и «правильного языка» социалистов. Например, известный дореволюционный и советский историк Н.И. Кареев (1850-1931) проводил лето в деревне, где местный кузнец заявил ему, что стоит за социалистическую республику. При уточнении оказалось, что этот хуторянин выступает против президентской формы правления, но за гарантии частной собственности. До сих пор в зарубежной и отечественной литературе остается открытым вопрос о сущности Советов. В то время как одни рассматривают их как погибшую после Октября «уникальную ветвь парламентаризма» (Д. Гайер) или «орган революционной диктатуры», черпающий свою правомочность в «инициативе восставшего народа» (Дж. Боффа), другие склонны видеть в Советах пример безвластия и политической пустоты (М. Малиа). Думается, объяснение подобного разброса мнений следует искать не только в политическом позицировании исследователей, но и в самой динамике трансформации политического «лица» Советов. Ситуация марта 1917 года в регионах характеризовалась преобладающим стремлением к союзу сил левой ориентации, что способствовало росту влияния умеренных социалистов (особенно эсеров), провозгласивших лозунги единства нации с целью движения к социализму. В марте-апреле партийное влияние в Советах не было значительным: господствовало мнение, что Совет не должен поддерживать одну партию. В решениях Советов преобладали резолюции о доверии Временному правительству «постольку, поскольку» оно подчинялось Петросовету, а в вопросе о 115 мире (хотя некоторые Советы принимали решения и о войне до победного конца) – призыв к окончанию войны без аннексий и контрибуций. Ряд Советов находился под устойчивым влиянием большевиков, но их требования почти не отличались от заявлений других социалистов. Однако уже с мая большинство Советов заявило о своих партийных симпатиях, что привело к краху идеи «единого социалистического лагеря», появлению эсеровских, меньшевистских и большевистских Советов и, наконец, к массовой большевизации рабочих и солдатских Советов после корниловского мятежа. Тогда как в Советах крестьянских депутатов на протяжении всего периода между Февралем и Октябрем 1917 года преобладали представители партии социалистов-эсеров. Дело в том, что в небольших городах по причине недостаточного развития политической культуры, элементарной неграмотности, ограниченного числа средств пропаганды, силы местных традиций и влияния авторитетных граждан людям было особенно сложно разобраться в различиях между социалистами. А политика поддержки умеренными социалистами Временного правительства в условиях снижения жизненного уровня населения вела к радикализации политических настроений в регионах. Следствием этого и стал рост влияния большевиков. Апрельский кризис Временного правительства, вызванный нотой Милюкова о войне до победного конца, стал первым раскатом будущей затяжной гражданской войны. Кое-где были даже столкновения, иногда вооруженные, между сторонниками и противниками Временного правительства. Так, демонстрация 18 июня стала по существу первой победой большевиков, так как 2/3 демонстрантов шли под лозунгами, требовавшими передачу власти Советам. С провала летнего наступления требование мира, отстаиваемое большевиками, становится всеобщим. Советы с лета 1917 года вынуждены были решать вопросы, свойственные местным органам власти, следствием чего стало значительное поправение социалистов, связанных с властью, а избиратели при этом «дрейфовали» влево. Обратной стороной этого процесса стал раскол в рядах РСДРП, который, по мнению С.В. Тютюкина, шел от интеллигенции, а рабочие этому сопротивлялись, желая сохранить нужное им единство. Незавершенность процессов политического структурирования российской социал-демократии стала одним из факторов, способствовавших приходу к власти в октябре 1917 года большевиков, которые считали, что после взятия власти и утверждения диктатуры пролетариата Россия минует буржуазный этап развития, потому что в самое ближайшее время произойдет мировая социалистическая революция. Однако, большевики победили не под 116 социалистическими, а под демократическими лозунгами. Народ в своей массе в конце 1917 года не осознавал, что делает социалистический выбор. «Разогретый» социалистическими декларациями, он был доведен до высшей степени социального кипения. В этих условиях призывы к гражданской войне упали на благодатную почву. А серьезного противовеса этому не было. Конечно, неудачи Временного правительства и предрасположенность провинциальных, в большей степени сельских, жителей к традиционным устоям, позволили правым монархистам к середине лета 1917 года несколько улучшить позиции. Однако конкуренции в борьбе за власть они уже не могли составить. Несмотря на полевение кадетских организаций в ряде регионов в большей степени, чем в Центре, и активную предвыборную кампанию, кадеты также не смогли получить большинства голосов ни в городских думах и земских собраниях, ни в Учредительном собрании. Самое главное, что они не смогли привлечь на свою сторону крестьянство, составлявшее большинство населения страны. 6. «Общинная революция» и «черный передел» Аграрное движение стало решающим фактором углубления революционного процесса. Даже солдаты ставили самую возможность своего дальнейшего участия в войне в зависимость от выполнения властью не только насущных нужд армии, но и долгосрочных надежд крестьянства – разрешения аграрного вопроса в пользу деревни. Борьба крестьянства против верховной власти продолжалась по нарастающей в течение всего года, вплоть до полного закрепления за общиной всех прав на землю. Более того, если в первые месяцы самостоятельное разрешение аграрных проблем проводилось сначала давлением на власть в поисках признания законности своих действий, то затем - противостоянием с ней и ее игнорированием. В первые месяцы после падения самодержавия крестьяне опасались прибегать к насильственным действиям, но уже в июне-июле очевиден рост насильственных форм борьбы. После временного августовского затишья, в сентябре вооруженные стычки с воинскими командами, посылаемыми для заготовки хлеба, и разгром комитетов стали обычным делом. Во многих местах сельские сходы стали распускать Комитеты общественной безопасности и продовольственные управы, причем этот процесс ускорился в октябре. Следует признать, что в России к осени 1917 наступила анархия, что объяснялось потерей легитимности губернской и уездной власти в глазах общинников. Тем не менее, против центральной власти крестьяне выступили, хотя и наиболее решительно, в самую 117 последнюю очередь – в сентябре 1917 года. При этом в ходе локальных бунтов, пик которых пришелся на октябрь-ноябрь 1917 года, крестьяне не задумывались о возможности коренного институционального переустройства российской власти. Требования восстановления монархии появлялись вообще эпизодически. Из нескольких тысяч сводок, поступивших в центр с мест, только в 2-3 сообщалось о монархических настроениях. Крестьяне в первые месяцы революции были готовы ждать земли от Учредительного собрания, однако в сентябре – начале октября под влиянием большевиков и левых эсеров они выступили за немедленную передачу земли земельным комитетам. Современный исследователь крестьянской проблематики Д.И. Люкшин вполне справедливо говорит о крестьянской архаике как системоопределяющем элементе российской кризисной динамики в 1917 году. По мнению исследователя, именно бездарная политика Временного правительства в сфере аграрных отношений обусловила антисистемный вектор в целом просистемных усилий крестьянства в ходе «общинной революции». Крестьянство приняло участие в революции, прежде всего, в лице армии, выдвигая свои требования уравнительнотрудового распределения земли. Но это отражает ситуацию в городах, но практически ничего не проясняют в характере собственно аграрных выступлений. В частности материалы по ряду губерний свидетельствуют, что в 1917 году крестьянские выступления носили самостоятельный характер. Более того, нередки были стычки крестьян в шинелях с крестьянами в лаптях. В ходе «общинной революции» и «черного передела» земель общинники оказались в состоянии конфликта со всем окружающим миром – помещиками и местной администрацией, хуторянами и отрубниками, членами других общин и с горожанами вообще. Оказавшись фактически хозяева своей судьбы (волость законодательно превращалась в некое автономное образование) и не боясь ответственности за свои поступки, крестьяне распорядились властью в целях искоренения, как остатков помещичьего землевладения, так и ростков капиталистического хозяйства хуторян и отрубников. Движение против хуторов и отрубов, не защищенных государством, было характерно для всей Европейской части России, но особенно большой размах оно приобрело в Поволжье. Если хуторяне стали первой жертвой крестьянской революции, то более поздняя атака на дворянские «гнезда» по своим масштабам далеко превзошла первые крестьянские выступления 1917 года. Уже в июне этого года около 60% всех аграрных беспорядков были направлены против землевладельцев. Более того, в июле118 августе основная масса общинного крестьянства своим радикализмом опережала решения крестьянских съездов и на практике отвергала их сдерживающие постановления, а к осени 1917 года власть на деле оказалась в руках поземельных общин. Одной из причин перерастания недовольства в антизаконные акты стало изменение государственного строя и отсутствие легитимности власти Временного правительства в глазах общины. Второй причиной стало ослабление государственной репрессивной машины. Политическое поведение крестьян в это время представляло собой соединение старых, проверенных опытом форм протеста, (например, порубок или потрав) с новыми - проведением в жизнь решений Советов и Комитетов, борьбой с хлебной монополией или обложением помещиков налогом. В целом выступления были призваны не столько удовлетворить политические амбиции крестьянства, сколько решить его экономические проблемы. Для российского крестьянства неоспоримыми оставались лишь требования ликвидации помещичьего землевладения и осуществление уравнительного раздела земли. О ликвидации сословий, уравнении в гражданских правах или всеобщем избирательном праве крестьяне вспоминали только при чтении газет или, собравшись послушать вернувшегося из города земляка. По мнению российских историков, вопросы гражданских прав волновали менее трети крестьянского населения. А идеи гражданского общества вообще были приоритетом урбанизированной части населения. Тем не менее, постепенно в сознании крестьян происходила вербализация образа «Совета» как некоего крестьянского схода, призванного решать крестьянские проблемы. Хотя крестьянское движение осени 1917 года в сообщениях с мест, частной переписке и воспоминаниях характеризовалось как «анархия», но, по мнению В.Л. Телицына, все обстояло гораздо сложнее. Стремление к самоорганизации, подпитываемое «черным переделом», предопределялось сельским сходом. Но в ситуации «без царя» самое многочисленное сословие стремилось в той или иной форме навязать всем другим свой, единственно «праведный» взгляд на мир. Сознание крестьян разрывалось между элементарным безвластием, более известным как феномен «Божья воля», и признанием неизбежности покладистого правителя. Подобный дуализм и предопределил появление в деревне большевистской власти. 119 7. «Человек с ружьем» Усиление антиправительственных настроений иллюстрируют также солдатские письма этого периода, преобладающим мотивом которых являлось намерение осуществить расправу над привилегированными слоями населения. К началу 1917 года из более чем 10 млн человек, находившихся «под ружьем», до 95% были выходцами из крестьян, около 3% - рабочих, а остальные из других слоев населения. Эта масса была в наибольшей степени недовольна и в какой-то мере деклассированна. Отрешенность и потеря корней делали солдат динамичной и податливой на всякую пропаганду массой. Именно переход солдат тыловых гарнизонов на сторону народного движения обеспечил победу Февральской революции в столице и особенно в провинции. Представители и лидеры солдатских масс нередко инициировали и создание Советов, в ряде которых преобладали. Однако нельзя четко выделить политическую ориентацию основной солдатской массы. На выступление в марте солдат подтолкнули скорее нелюбовь к режиму и усталость от войны. Во время корниловского мятежа многие части вообще остались равнодушным к событиям. Даже в октябре 1917 года ряд гарнизонов были политически индифферентны, и солдаты в основном хотели одного – скорее попасть домой. В результате в некоторых регионах солдаты вставали на большевистскую сторону, но активных действий не предпринимали. Известно, что после победы Февраля восставшие солдаты устремились в Таврический дворец, дабы засвидетельствовать свою поддержку отнюдь не популярной ранее Думе. Дело было, скорее всего, в желании отыскать властную точку опоры в хаотично-непонятной действительности. Матросские бунты на флоте также были направлены не против власти вообще, а против «дурных и слабых» начальников. Знаменитый приказ № 1 Петросовета, в буквальном смысле продиктованный солдатами, отражал стремление солдатской массы выбирать «свое» начальство. А что касается демократической власти за пределами своих подразделений, то она интересовала их, главным образом, в качестве гаранта учиненной ими внутренней «демократии». Появившийся 5 марта приказ № 2, разъяснявший недопустимость переизбрания офицеров, уже не спасал армейскую субординацию, по крайней мере, в столице. В ситуации восторжествовавшего бунта громадное значение приобретала «правильность» действий новых властей, а ошибочные действия власти в таких условиях становились непоправимыми. 120 В результате всего за полгода настроения солдат и их политическая ориентация резко изменились от воззваний типа «Война до победного конца!» и доверия Временному правительству до лозунгов «Долой войну!». Уже во второй половине сентября солдатские настроения были направлены на передачу власти Советам. Солдаты и их организации все больше вмешивались в политическую жизнь губерний, ведя, вопреки запрету командования, агитационную работу в деревнях. В ряде мест солдаты стали зачинщиками беспорядков, руководя захватом имений и лесов. Осенью солдаты практически вышли из повиновения офицерам и беспрерывно митинговали. Приказы властей выполнялись лишь тогда, когда они были утверждены полковым или батальонным комитетом. После Февраля 1917 года наблюдается увеличение числа дезертиров в деревнях и усиление их влияния на общественную жизнь. Это объясняется, с одной стороны, упразднением органов МВД, занимавшихся в основном задержанием дезертиров, а с другой стороны, изменением имиджа дезертиров после падения монархии. Превращение их в «пострадавших от старого режима» наряду со сплоченностью превращало их в грозную социальную силу. Именно дезертиры и отпускники были вдохновителями первых крестьянских выступлений, спонтанных и направленных, в первую очередь, против разбогатевших односельчан и хуторян. В.П. Булдаков выделяет целый набор факторов, повлиявших на трансформацию политической культуры российской армии после Февраля 1917 года: отношение к военной службе и защите Отечества; идеал взаимоотношений с армейским начальством и наиболее раздражающие факторы армейской жизни; впечатления от войны и контактов с населением завоеванных территорий и пленными и т.п. Февральская революция дает массу примеров того, как солдаты мигом и по-хамски демонстративно избавлялись от таких унижающих, как им казалось, запретов как езда в вагоне трамвая или курение на улицах. Бывшие крестьяне могли неплохо воевать, если армия наступала, а им перепадало кое-что из трофеев. Они охотнее шли в атаку, узнав, что у противника полны фляжки спиртным (предпочтение отдавалось австрийскому рому, а не немецкому шнапсу). Можно согласиться с тем, что Февраль, открывший дорогу социальной агрессии «человека с ружьем» оказал куда большее воздействие на последующий ход российской истории, нежели большевизм, который пришел «на готовое». 121 Глава 8. Трансформация политической культуры в послереволюционное десятилетие (1917-1927 гг.) 1. Неоднозначность восприятия революции и новой власти в годы Гражданской войны Интеллигенция в своем большинстве встретила новый строй неприязненно, так как ее система ценностей не вписывалась в ментальное пространство большевистской власти. Но были и те, кто стал на ее сторону. Помимо профессиональнопрагматических причин, были и по-своему разделявшие социалистические идеи. Хотя действительность скоро во многом развеяла их иллюзии, но они предпочли из двух зол выбрать меньшее. Аргументация была простой: пусть лучше большевики, чем те, кто придет только мстить и восстанавливать свои права на особняки и имения. Ментальность наименее квалифицированного слоя рабочих была близка к той, которая совпадала с интересами и ценностями партийно-советского режима. Из этого слоя и рекрутировались красногвардейцы и продотрядчики. Квалифицированная часть рабочих, судя по архивным источникам, вряд ли с восторгом встретила новую власть. Те, кто обладал профессией и работой до революции, достаточно долго испытывали ностальгию по прошлому. К данной группе относились и те, кто быстро разочаровался в «диктатуре пролетариата». Были и те, кто был носителем антисоциалистического менталитета. Некто Шевцов из Воронежской губернии писал в декабре 1918 года, что «демократия выродилась в советократию». Однако не стоит преувеличивать степень отторжения большевистского режима населением. Конечно, немало «простых людей» не приняло революцию и ее первые итоги. Тем не менее, многие люди связывали с революцией позитивные изменения в своей жизни. Новая власть сумела использовать миф «революционного обновления» в полную силу. Надежда на то, что Советская власть действительно станет властью трудящихся, красной нитью проходит через письма на имя Ленина, в котором люди видели больше чем руководителя – некий символ новой власти. Власти клялись в верности, напутствовали ее на то, чтобы она была жестче и решительней в достижении поставленных целей. Хотя были и письма-предупреждения, информирующие главу советского правительства о властных злоупотреблениях. Возможно, имели место традиционные для российского социума иллюзии, что правду от вождя скрывают. 122 Стихийное движение «низов» в революции предстает как особая форма поиска обществом своего пути и «выработка» из своей среды жизнеспособной власти. При этом доминировали представления о «центре» политической власти как структурообразующей основе формирования новой исторической и политической реальности. Отказ от создания коалиционного правительства в ноябре 1917 года был первым, еще бескровным актом сужения демократии. Разгон Учредительного собрания в начале января 1918 года и войска, посланные против рабочей демонстрации в его поддержку, ознаменовали собой слом психологии гражданского мира и начало этапа «вооруженных выборов» будущего социально-политического устройства страны. Очевидно повышенное внимание городских средних слоев (примерно 50% всех политических требований) к «спасению» демократических порядков Февральской революции и установлению в России конституционного устройства, выработанного Учредительным собранием. При этом нельзя преувеличивать степень осознанности политических идеалов городских средних слоев. Ведь призыв вернуть власть Учредительному собранию звучал только в каждом десятом выступлении, большинство которых на эмоциональном уровне отвергало диктаторскую политику большевиков и желало сравнительно свободных порядков. Но и с учетом этой оговорки идея Учредительного собрания преобладала в умах горожан над идеей власти Советов. Наоборот, главной причиной, по которой крестьянство и большая часть рабочих не поддержали Учредительное собрание, являлась их политическая неискушенность: посулы о хлебе и мире заставили их признать новый режим. «Учредиловка» осталась в качестве политического лозунга лишь противостоящей большевикам в Гражданской войне стороны. Период Гражданской войны стал тем временем, когда существенным образом изменились социальные и культурные условия, основные смыслы человеческой деятельности в политической жизни общества. Положение человека в системе социально-политических связей в этот период отличалось тем, что он практически непрерывно находился в экстремальной ситуации, которая постепенно приобрела значение постоянного фактора политической жизни. Трансформация религиознонравственных основ деятельности человека и его ценностных ориентиров в годы Гражданской войны порождало настроения классового противостояния и нетерпимости. Жестокость и попрание элементарных человеческих прав комбатантами действующих армий, отказ от исполнения своего воинского долга становятся некой нормой жизни. Значительный размах принимает террор по отношению к политическим 123 и идеологическим противникам. Не вызывает сомнений, что «красный» террор был системой планомерного проведения в жизнь насилия как орудия и символа власти и даже был возведен на идеологический уровень. При этом властные импульсы, идущие сверху и ориентировавшие низовые органы на революционный террор, усиливались «встречным потоком» революционных инициатив. Тогда как «белый» террор представлял собой эксцессы на почве разнузданности и мести, вакханалии атаманчества и слабой дисциплины, не возведенные в ранг идеологии. Но вряд ли можно согласиться с широко распространенным в последнее время тезисом, что «белые» пытались придерживаться правовых норм при проведении карательных акций. Само сравнение: один террор хуже (или лучше) другого - некорректно. Правовые декларации и постановления противоборствующих сторон не защищали население страны в те годы от произвола и террора. Правы те, кто рассматривает террор как деструктивную силу, являющуюся фактором деморализации для всех его участников. Принцип революционной или государственной целесообразности, дополненный правом на самосуд, превращают «расстрел» в одну из ключевых категорий милитаризованной политической жизни российского социума в целом. Говоря об особенностях общественного сознания россиян в это время, следует учитывать демографические изменения первой четверти ХХ века, когда к активной деятельности пришли десятки миллионов молодых людей, не обладавших необходимым образовательным уровнем и политической культурой. Именно они стали носителями новых идейных установок и ценностей. Революционистская ментальность была ориентирована на определенный тип социального поведения, направленного на немедленное и радикальное переустройство общественных основ с применением крайних методов. Этот нетерпимый тип менталитета предполагал целенаправленный поиск врага. Характер гражданского вооруженного конфликта обусловил формирование человека особого типа, для которого политическая жизнь является пространством реализации всех его жизненных целей, а также фоном повседневного существования, определяющим смыслы повседневной действительности. После многих лет военных и революционных потрясений у россиян возобладала милитаристская психология, чему способствовали как военная обстановка, так и установившийся мобилизационный тип экономики. Это привело к превращению советского государства в «крепость мировой революции», где специфическую все было «осадную подчинено военным психологию». целям, Характерным а граждане ментальным имели признаком 124 «нового» человека, для которого политическая жизнь стала главным средством самовыражения в истории, была реализация социалистической идеи как идеи мирового счастья, справедливости и всеобщего братства. Данные ментальные установки сознания в полной мере соответствовали традиционным ментальным конструктам российской исторической системы и эксплуатировались большевиками, осуществившими захват политической власти в октябре 1917 года в расчете на мировую революцию. Даже после неудачной польской кампании лидеры большевиков не отвергли идеи мировой революции. Об этом свидетельствует выступление В.И. Ленина на IX партконференции и другие документы, в частности доклад перешедшего на сторону Советской власти генерала А.А. Брусилова (1853-1926) о разработке похода в Индию и постановление Совнаркома по этому вопросу от 10 марта 1921 года. Необходимо подчеркнуть неоднозначность и противоречивость настроений и движений основных масс российского общества в течение 1917-1920 гг. Дело в том, что на поле брани столкнулись не столь уж различающиеся по своему социальному составу армии. По современным подсчетам, доля рабочих, крестьян и казаков в белой армии составляла почти 73%. Примерно таков же был и состав РККА, где крестьянство составляло 77%. Несущественно, по расчетам военного историка А.Г. Кавтарадзе, отличалось и число офицеров старой армии, воевавших на стороне белых и красных. Соотношение приблизительно равнялось 100 тыс. и 75 тыс. Правда, немаловажным отличием Красной Армии был ее интернациональный характер. Если осенью 1918 года в ее рядах сражалось 50 тыс. иностранцев, то к лету 1920 года их численность достигла 250 тысяч и превзошла регулярные части иностранных армий, высадившихся на окраинах бывшей Российской империи. Поэтому в выборе воюющей стороны важнейшую роль играли этические, нравственные, психологические аспекты, важнейшим из которых были российско-германские отношения. В условиях оккупации части России и сотрудничества Москвы с Берлином белые генералы рассматривали гражданскую войну как продолжение мировой, когда противник представал в виде двуликого немецко-большевистского Януса. Слабостью антибольшевистского лагеря выступала неоднородность взглядов и представлений Белого движения об альтернативах будущего развития России, что было вызвано наличием в «белом» стане представителей всех сословий. Февральская революция усугубила политическую дифференциацию офицерского корпуса, нарушив один из главных принципов «армия вне политики». Уже весной 1917 года среди офицеров и либерально-буржуазных кругов зарождаются идеи будущего Белого 125 движения как протест против развала армии и разрушения российской государственности. Главными идеологическими установками Добровольческой армии, процесс создания которой завершился в период 1-го Кубанского похода, были спасение Российской империи от распада и гибели, воссоздание российской государственности и продолжение войны с Германией в единении с союзниками по Антанте. Если среди кадровых офицеров преобладали монархисты (причем этот монархизм объясняется, прежде всего, симпатией и приверженностью к старому имперскому строю), то офицеры военного времени придерживались проэсеровской ориентации, а солдатская масса Добровольческой армии была в основном аполитична. Изначально ослабляло потенциал борьбы с большевизмом и разделение «белого» лагеря на прогерманскую и проантантовскую «ориентации». Например, в условиях, когда немецкая оккупация Дона фактически прикрывала проантантовскую армию от большевиков, в «Декларации» Добровольческой армии речь шла о политике «вооруженного нейтралитета» - «никаких сношений с немцами». Весной 1918 года руководство Правого центра сочло возможным вступить в официальные контакты с оккупационными войсками на Украине, а Донской атаман П.Н. Краснов (1869-1947) пошел на прямое сотрудничество с немцами. Окончание Первой мировой войны в целом примирило германофилов и антантофилов, но не исключило возможности конфликтов. Например, в октябре 1919 года проантантовская Северо-Западная армия генерала Н.Н. Юденича (1862-1933) уничтожила прогерманскую Западную армию. Ключевая для Белого движения идея «спасения российской государственности» зачастую растворялась в «личных мотивах» антибольшевистской борьбы. Существенной характеристикой психологии участников Белого движения являлась жертвенность. В литературе последних лет утвердилось мнение, что основой идеологии «белого дела» стал национализм, выразившийся в лозунге «Спасение Великой России» и в отказе от партийных убеждений, а ее нравственный потенциал заключался в государственной национальной идее, патриотизме, православии и соблюдении законности. Однако, у противников большевиков традиционные ценности религиозного плана существенно девальвировались в период военного конфликта, утрачивая внутреннее свое содержание. Оставалась лишь форма их внешнего выражения, принимающая характер обыденных ритуальных действий. Парадоксально и другое: именно «гражданственно» настроенные белые воспринимались значительной частью населения в качестве мятежной стороны. 126 Современные исследователи причины этого видят в том, основная часть населения оставалась инертной и стремилась уклониться от участия в братоубийственной войне. Ее интересовало, в большей мере, будут ли сменяющие друг друга правительства гарантом их интересов и стабильности. Тогда как «национальная диктатура» генерала А.И. Деникина (1872-1947), «средняя линия» между либерализмом и реакцией адмирала А.В. Колчака , «левая» политика правым руками генерала П.Н. Врангеля (1878-1928) и «демократическая контрреволюция» эсероменьшевистских правительств показали их неспособность решить актуальнейшие вопросы в период нахождения их у власти. В течение гражданской войны массовые настроения (прежде всего крестьянские) складывались под воздействием многих составляющих, но важнейшее значение среди них имела военно-коммунистическая политика большевиков, которая в ответственный период сумела приспособиться к интересам деревни, обрести более или менее терпимые формы. Другим важным фактором стала неупорядоченная активность белой контрреволюции, которая включала в себя и попытки реставрации старых земельных порядков, и мало контролируемую реквизиционную и террористическую деятельность. В результате крестьянство в 1919 году из двух зол выбрало меньшее. Народ поддержал в Гражданской войне «красных», так как сработала надежда на лучшую жизнь. А большевистская идеология в полной мере отвечала традиционным представлениям о справедливом общественном устройстве. Тогда как противники большевиков потерпели поражение в виду того, что их доктрины не содержали в себе новых и притягательных для основной массы населения общественно-политических идей и новых смыслов человеческой деятельности. Кроме того, в глубине сознания простые люди часто оценивали «белых» как «чужих» (бар), а «красных» - как «своих». Тупиковым оказались и «третий путь» в гражданской войне, в основе которого лежали лозунг всеобщего избирательного права и признание политического плюрализма. Главными лозунгами эсеро-меньшевистских правительств на Востоке страны стали борьба с большевизмом и созыв Учредительного собрания, а отличительной чертой идеологической концепции правительств восточного региона было сочетание идеи Учредительного собрания с идеями областников о сибирской автономии. В приказах Комуча, изданных в июне 1918 года, прямо говорилось об организации Народной армии в целях борьбы против «большевистских и немецких банд». 127 Однако в период нахождения у власти эсеры не смогли провести свою программу, в силу чего потеряли доверие масс. Более того, эсеро-меньшевистская идеология не способствовала консолидации разнородных социально-политических сил. По признанию бывшего начальника штаба войск Поволжского фронта генерала С.А. Щепихина, бросаемые Комучем в массу антибуржуазные лозунги вряд ли способствовали слитности разнообразных по своим политическим воззрениям группировок. В результате Народная и Сибирские армии, как и широкие слои населения, не поддержали временные правительства, созданные на Востоке. Исследования последних лет показывают, что крестьяне не торопились высказать свое отношение к партии эсеров: они не поддерживали Комуч, но и не выступали против него, стремясь остаться в стороне от острой политической борьбы. Об этом свидетельствовали как доклады эсеровских агитаторов, так и сообщения военных разведчиков Красной армии. В беседе с крестьянами можно было услышать: «Мы люди темные, повиноваться должны власти, уж какая она ни есть». Крестьяне считали, что гражданскую войну раздувают враждующие между собой партии, и были недовольны тем, что их, беспартийных, зовут на партийную борьбу. То есть они, в отличии от других слоев общества, в частности, офицеров, не видели прямой связи между мировой и гражданской войнами. Тем самым «демократическая контрреволюция» фактически открыла путь к установлению диктатуры адмирала Колчака. 2. Военный коммунизм: власть и массы Помимо насыщенной политическими катаклизмами Гражданской войны, важной составляющей формирования политической культуры населения революционной России стала политика, проводимая противоборствующими правительствами на контролируемой ими территории. Прежде всего, речь идет о политике военного коммунизма, которую не следует рассматривать только как утопичный коммунистический эксперимент. Здесь в наиболее обнаженной форме предстала, вызванная тяжелой необходимостью, авторитарная традиция русского общества. Об эксперименте можно говорить только в том смысле, что влиятельные общественные силы (партийно-советская бюрократия) попытались вместо кратковременной эксплуатации системы государственного абсолютизма для укрепления расшатанного Российского государства, выгодно представить ее в качестве «столбовой дороги» всего человечества и тем самым продлить жизнь чрезвычайщине. 128 Утверждение, в конечном счете, варианта государственного строительства, предлагаемого большевиками, обуславливалось тем, что он содержал в себе процесс новой реализации традиционных смысловых образов о всеобщей российской государственности, являющейся основой нового мирового порядка, о мессианском и всемирном ее предназначении, об исключительной роли русского народа и создаваемых им форм общественно-политического устройства. Данные идейные обоснования нового государственного строительства, несмотря на их кажущуюся новизну, в своей сути отражали традиционные ментальные образы российского сознания, привычные устоявшиеся стереотипы широких масс. Хотя политические настроения и поведение различных слоев российского социума в условиях утверждавшей себя «диктатуры пролетариата» имели свою специфику. 3. Городские «средние» слои Среди городского населения наиболее политизированным слоем была интеллигенция, которая, тем не менее, опасалась (особенно учителя, работники медицины и сферы культуры) использовать в политической борьбе радикальные средства. Политическое лицо «новых» средних слоев определяли не чиновники и духовенство, а средний слой общественных служащих, члены «буржуазной» милиции и офицеры военного времени, вынужденные поступить на советскую службу после развала старой армии. Повысив свой социальный статус в годы войны и особенно после Февраля, они опасались быть вытеснены со средних ступеней социальной лестницы решительно поднимавшимися с конца 1917 года «низами» общества. Невыразительным было участие в выступлениях против новой власти и «старых» городских средних слоев – торговцев, ремесленников и других мелких собственников. С открыто классовых позиций относительно широко выступали только торговцы, которых Советская власть существенно «прижала» летом 1918 года. Данные исследования авторитетным российским историком В.В. Канищевым поведения средних слоев почти 200 провинциальных городов 14 губерний Центра России противоречат выводу советской историографии о мирном ходе «триумфального шествия Советской власти» в этом регионе. Только к осени 1918 года новой власти удалось установить политический контроль над городскими средними слоями и добиться их внешней лояльности. Бросается в глаза высокий процент (более трети) умеренно-контрреволюционных выступлений в конце октября 1917 – августе 1918 гг., 129 что в наибольшей степени соответствовало имманентной сдержанности политического поведения городского обывателя. Под умеренно-контрреволюционными понимаются стихийные (реже – подготовленные политическими партиями и общественными организациями) мирные выступления, число участников которых колебалось в пределах десятков или сотен, сопровождавшиеся частными обвинениями в адрес Советской власти. Тогда как только пятая часть выступлений попадала под определение радикально-контрреволюционных, то есть преимущественно организованных, в основном насильственных по форме, с сотнями и тысячами участников, сопровождающихся прямыми призывами к свержению Советской власти. При этом контрреволюционная активность городских средних слоев развивалась неравномерно. Первая ее волна конца октября – ноября 1917 года была весьма широкой, но приняла в основном форму умеренных словесных и письменных осуждений итогов вооруженного восстания в Петрограде и вооруженной борьбы за установление Советской власти на местах. Новая волна «мелкобуржуазной контрреволюционности» весны 1918 года была вызвана резким вторжением революционных властей в сферу интересов горожан. Эта волна не была такой широкой, как первая, но отличалась большей долей радикальных выступлений. Десятки насильственных проявлений контрреволюционности средних слоев городского населения, особенно 58 восстаний против Советской власти, свидетельствуют о том, что становление «диктатуры пролетариата» вызвало не свойственные «мирным обывателям» экстремистские неожиданное для преобладание формы меркантильных политических контрреволюционных по главным духу требований выступлений «триумфального шествия Советской испытывали политического образом (почти поведения. городских объясняется две обывателей тем, трети) Несколько что огромное большинство произошло в период власти», когда городские средние слои политическое давление со стороны новой администрации. Среди политических требований в первую очередь отметим полное отсутствие реставраторско-монархических заявлений и не очень высокую долю прямых антисоветских и антибольшевистских заявлений и призывов к сопротивлению Советской власти. Требование перевыборов местных советов с целью устранения из них большевиков звучало очень редко, что опровергает тезис о приверженности средних слоев города идее – «Власть Советам, но без коммунистов». Практически не был популярен у средних слоев города и лозунг «однородного социалистического 130 правительства», что ставит под сомнение вывод ряда историков о том, что такое правительство могло стать реальной альтернативой «диктатуре пролетариата» в конце 1917 года. Не находит подтверждения и тезис о белогвардейцах как предводителях восстаний в Центре России. Можно говорить об организаторской деятельности «белой гвардии» только по отношению к восстаниям в Муроме и Ярославле в июле 1918 года Определенное воздействие на средние слои города оказали профессиональные союзы, однако 2/3 выступлений были стихийными или самоорганизованными. Редкость чисто экономических требований в контрреволюционных выступлениях средних городских слоев можно объяснить недоверием основной массы этих слоев к Советской власти, ожиданием ее скорого падения и надеждами на решение житейских проблем в условиях восстановленного «буржуазно-демократического» режима. Кроме того, городские средние слои часто оказывались неспособными на самостоятельные действия и шли за другими слоями населения. Например, промышленные и транспортные служащие нередко поднимались на забастовки и другие антисоветские акции вслед за терявшими доверие к «диктатуре пролетариата» рабочими. Однако совместные выступления с рабочими (впрочем как и с буржуазией) большинство мелких собственников города не поддерживало. В свою очередь, зажиточные обыватели побаивались анархичную «солдатню», а рядовых представителей средних слоев нередко отталкивало участие в восстаниях против Советской власти «золотопогонников». В некоторых случаях «средние» горожане примыкали к волнениям крестьян, явившихся в города с протестами против продовольственной политики властей или оказавшихся в городе в качестве мобилизованных в Красную армию. Но возможности союза городских средних слоев с крестьянством были существенно ограничены традиционным противоречием между городом и деревней. Об отсутствии сколько-нибудь широкого антисоветского фронта в городах Центральной России убедительно контрреволюционных говорит и выступлений: анализ только численности 10% из участников них были отдельных массовыми, включавшими несколько тысяч участников, и менее 5% из них длились более недели. Можно особо отметить политическую неразвитость многих представителей городских средних слоев, отсутствие у них четкой и устойчивой партийной ориентации. Они больше стихийно бунтовали, чем организованно восставали. Демократические устремления «новых» средних городских слоев в значительной мере оставались благими пожеланиями, так как огромное большинство населения страны исторически привыкло к жестким формам управления. Стоило Советской власти 131 прибегнуть к суровым мерам борьбы с «мелкобуржуазной контрреволюцией», включая применение войск и расстрел мятежной толпы, аресты участников выступлений с последующим расстрелом части из них, как мещанство политически притихло и постаралось приспособиться к новому строю. 4. Рабочие Более сложным и запутанным представляется вопрос о колебаниях настроений рабочего класса в годы военного коммунизма и гражданской войны. С.А. Павлюченков отмечает значительные противоречия между рабочими и властью, между рабочими и крестьянством в течение всего периода военного коммунизма. Фактически реализованный в ходе «красногвардейской атаки на капитал» лозунг «фабрики – рабочим» и разрушение системы управления городской экономикой привели промышленность к кризису, который наряду с продовольственным кризисом 1918 года способствовал формированию промышленных центров антибольшевистских настроений. С одной стороны, выходцы из рабочей среды сыграли важную роль в формировании советских институтов государственной власти. А с другой, летом 1918 года рабочие Урала и Поволжья приняли участие в становлении «демократической контрреволюции» и впоследствии сыграли значительную роль в колчаковском перевороте в Сибири. Впрочем, зачастую любые выступления рабочих властью расценивалась как контрреволюционные и антисоветские. Например, в марте 1918 года в Петрограде было созвано чрезвычайное собрание уполномоченных фабрик и заводов, в декларации которого рабочие протестовали против урезания из прав и свобод. Затем и в Москве возник организационный уполномоченных фабрик комитет и по заводов, созыву но это Всероссийской движение конференции было объявлено контрреволюционным. В свою очередь, такое отношение власти вызвало волну забастовок по фабрикам Москвы, Петрограда, Тулы, Брянска и других городов. В марте 1919 года рабочие металлических заводов Астрахани, заручившись нейтралитетом матросов Волжской флотилии, прекратили работу. Но 10-ти тысячный рабочий митинг был расстрелян из пулеметов: было убито и ранено не менее 2 тыс. человек. Но и этого показалось мало: наркомвоенмор и председатель Реввоенсовета Республики Л.Д. Троцкий (1979-1940) послал телеграмму с требованием беспощадной расправы бежавших в степи рабочих настигала красная конница. 132 Еще один партийный лидер Н.И. Бухарин (1888-1938) в 1921 году признал, что режим, именовавший себя «диктатурой пролетариата», со стороны самого пролетариата не пользуется безусловной поддержкой. В связи с этим он был вынужден задать себе непростые вопросы: почему рабочий класс выступил в начале года с забастовками в Петрограде, волнениями и волынками в Москве и других городах? Почему рабочие и на предприятиях выносили «эсеровские лозунги», поддерживая лозунг свободной торговли? Почему в связи с этим тыловые гарнизоны пришлось переводить на фронтовой паек? Но в своих выводах один из теоретиков военного коммунизма, конечно, не смог выйти за рамки классового подхода: «при разрухе пролетариат превращается в мелкую буржуазию». Для власти предержащей такое объяснение было наиболее удобным, хотя мало что проясняла в механизме осуществления «диктатуры пролетариата» без пролетариата. 5. Крестьяне Революционные процессы протекали в российской деревне достаточно стихийно, что было предопределено эклектичностью крестьянского сознания. Крестьянство каждой губернии, уезда и даже волости производило революцию для себя, желая расширить свой надел. Носители идеи традиционной сельской «общности» испытали состояние сильнейшей ценностной дезинтеграции от достигшего своего апогея после Октября безвластия. Несмотря на то, что к осени 1917 года крестьяне как будто напрочь забыли о существовании царской семьи, и в их сознании укрепился другой образ (Учредительное собрание как панацея от всех бед), первозданные представления о природе власти остались незыблемыми. Мечта о «мужицком государстве с добрым царем-отцом» характеризовала истинную ментальность крестьян того времени. Одновременно проявилась и другая тенденция. В то время как петроградские политики разрывались между диктатурой и анархией, крестьяне без суеты сорганизовывались в общероссийском масштабе: характерный тому показатель – поток уездных и губернских крестьянских съездов осени 1917 – первой половины 1918 года. Общепризнанно, что крестьянство было тем классом, который в лице своих вооруженных представителей (солдатской массы) позволил большевикам овладеть государственной властью. Позже крестьянство предоставило массовую социальную базу для возникновения обширного контрреволюционного фронта в середине 1918 года 133 Но то же крестьянство годом позже стало той массовой силой, которая своей поддержкой отдала победу в гражданской войне большевикам, а еще через год заставила их отказаться от радикальных планов по «непосредственному переходу к социализму». Если в первой половине 1920 года крестьянство пыталось найти легальные способы борьбы за свои интересы путем стихийного стремления к объединению в крестьянские союзы, то уже осень ознаменовалась началом массовых крестьянских волнений, вооруженных восстаний и повсеместным оживлением политического бандитизма. Крестьянская война охватила весной 1921 года Украину, Поволжье, Черноземье и Сибирь и продолжалась в ряде регионов до осени 1923 года «Прививка большевизма» не могла не сказаться на психологии крестьян, которые отдавали предпочтение коллективным формам бунтарства. Современные исследования показывают, что после революции и «черного передела» крестьянство повело себя не адекватно ожиданиям остального общества. Лозунг «земля – крестьянам» на деле оказался лозунгом голода для промышленного населения страны, а иллюзия того, что земля принадлежит не всей нации, а только ее крестьянской части, оказалась чревата гражданской войной. По мнению В.Л. Телицына, заключительный аккорд общинной революции – погром имений – не был хозяйственно обусловлен. Грабежу, в первую очередь, подверглись не самые богатые, а самые беззащитные владельцы имений, особенно те, кто жил в городе. Если еще в декабре 1917 года помещикам разрешалось перебраться в город, забрав большую часть движимого имущества, то уже через два-три месяца барина могли не только лишить последней рубашки, но и не выпустить из горящего дома. Завершение в конце весны – начале лета 1918 года общинной революции как фазы более широкой аграрной революции эклектически складывалось из возрастания роли деревенского общества в процессе его противостояния внешнему миру, расширения внутриобщинного идейно-возрастного раскола и подсознательного превалирования скептических взглядов деревенского жителя на этатизм и апробации способов инновационного сосуществования с властью. Очевидно, что в результате социальных пертурбаций деревня раскололась не по имущественному, а, скорее, по возрастному признаку. 20-летние были подвержены страсти крушить все, что не укладывалось в рамки нигилистического восприятия мира. Большинство селян, в возрасте 45-60 лет, сумевших избежать окопов Мировой войны, было за свою, «мужицкую», корыстную правду. Часть 30-40-летних (обычно из числа бывших солдат) стояли за всеобщую коммуно-общинную структуру и за перманентный передел земли и 134 собственности. Еще меньшая часть, прежде всего пожилые крестьяне, вообще застыла в растерянности. Большевистское государство выстраивало свои отношения с деревней на идеологической подоплеке с элементами политической конъюнктуры. Значительное место занимала пропаганда, разжигавшая классовую непримиримость и ненависть, особенно в период деятельности комбедов, в ходе пропаганды красного террора, продовольственной агитации и на завершающем этапе войны. Региональные исследования демонстрируют, что по сравнению с другими регионами (Сибирью, Уралом, Кубанью) содержание большевистской агитации и отношение к ней крестьянства в Центральном Черноземье во многом было обусловлено тем, что здесь классовая борьба внутри деревни в 1918-1921 гг. носила более острый и определяющий характер. Составной частью взаимоотношений крестьянства с Советской властью являлась борьба крестьянства как против помещичьей реставрации, так и против военно-коммунистических порядков. В ответ крестьяне предложили свое видение политической ситуации, отразившееся в послеоктябрьских особенностях деревенского бунтарства, прежде всего, в массовом сопротивлении и настойчивости в использовании крайних мер в отстаивании своих интересов. Постепенно выкристаллизовывались новые формы бунтарства: дезертирство из армии и восприятие образа воина как способа существования. Складывался особый тип бунтаря, а появление крестьянских вождей, способных повести за собой, ожесточенность борьбы, настойчивость своих требований и выход за границы отдельных регионов позволяет говорить о коренном отличии проявления крестьянского недовольства постреволюционного времени от аналогичных явлений начала ХХ в. С другой стороны, прежняя форма реакции на аномию – бунт – сменилась инновацией, предполагавшей согласие с целями общества, но отрицавшей социально одобряемые способы их достижения. Спонтанный поворот крестьянства к Советской власти произошел под влиянием элементарной сентенции: «Мы против всех». Крестьяне были убеждены, что сначала нужно было выгнать «добровольцев», которые в их сознании представляли большую опасность, чем большевики, а потом не допустить к себе «коммунию». После 1917 года традиционализм взаимоотношений власти и крестьянства, хотя и медленно, но бесповоротно уступал позиции революционным представлениям об устройстве мира. Однако идеи радикальных сдвигов в общественной и 135 государственной жизни России в крестьянской среде привились лишь к началу 1921 года. Но даже в то время среди крестьян был популярен лозунг «Советы без коммунистов». Например, из 13 вариантов лозунгов, получивших распространение среди участников западно-сибирского восстания, лишь один был чисто монархическим («С нами Бог и царь Михаил II), два – с призывом поддержать Учредительное собрание, а остальные 11 можно свести к единому тезису – «Долой коммунистов, да здравствует Советская власть». Ярко антикапиталистическую и антисоциалистическую направленность имели крестьянские восстания в Тамбовской, Саратовской, Воронежской и других губерниях. 6. От Гражданской войны к «гражданскому миру» Период новой экономической политики следует рассматривать как весьма сложное и противоречивое сочетание реформ и контрреформ в различных сферах жизни советского общества. Последнее обстоятельство, наряду с половинчатостью проводимых мероприятий по принципу «шаг вперед, два шага назад» и в сочетании с первоначальной задумкой нэпа, как ограниченной по времени и специфической по методам программы выхода из тотального кризиса 1920-1921 гг., во многом определили серьезный структурный кризис политической жизни, ставший неотъемлемой частью нэповской реальности. Нэповский либерализм не означал отказа от этатизма и государственного коллективизма, а лишь удлинял путь к нему. С другой стороны нэп возвратил общество к мозаичной социальной структуре, что не позволяет говорить об общественном сознании 1920-х годов как монолите. Это было обусловлено тем, что массовое сознание воспринимало нэп в основном через призму социальных аномалий. Усиливающиеся противоречия между партийно-государственным управлением и ожиданиями широких слоев населения подпитывали антинэповские настроения, на которые опиралась сталинская группа в конце 20-х годов, и «разрешились» тем, что нэп, языком Сталина, «послали к черту». Логику нэпа и специфику политической культуры этого периода невозможно понять, не учитывая доминирующий фактор партийного руководства различными сферами жизни общества. Интерес сохранения и укрепления правящей элитой новой власти был определяющим на всем протяжении указанного периода, а преобразования заранее ограничивались идеологическими рамками «переходного периода к социализму», в дальнейшем еще более суженными сталинской идеей «строительства 136 социализма в одной стране». Пересмотр краеугольной для большевиков концепции мировой революции начался не сразу. Лидеры большевиков в 1921-1923 гг. старались говорить лишь о некоторых новых акцентах в прежней концепции. Перелом наступил в 1923-1925 гг., решающим внешним фактором чего стало поражение революционных выступлений в Германии, а главным внутренним обстоятельством – обострение внутрипартийной борьбы. Суровая необходимость «строить социализм в отдельно взятой стране» стала серьезным ударом по мифологеме «революционного обновления мира». На фоне нэповского отступления от «революционных завоеваний» уже в середине 1920-х гг. революционная мифологема затрещала по швам, породив настроения реванша в партийной среде. Сталину удалось реанимировать миф «революционного обновления», сплавив его с возрожденным старым, традиционным мифом о «добром царе». Легитимация власти Сталина предполагала ее отчуждение от масс, придание ей сакрального характера. Не случайно в то же время предпринимались попытки сделать Христа «первым коммунистом» и канонизировать большевистских вождей. Острая внутрипартийная борьба не оставляла времени и возможности для подготовки и проведения глубоких стратегических перемен. Если в фокусе экономики на первый план выступают многочисленные кризисы двадцатых годов и непримиримое столкновение государственной и частной хозяйственной инициативы, то политический ракурс демонстрирует партийно-государственный корабль, раскачиваемый бурями внутрипартийных дискуссий, экипаж которого («ленинская гвардия») занят жесткой подковерной борьбой без правил за «наследство вождя». В ходе дискуссии о профсоюзах зимой 1920-1921 г. контроль за прохождением материалов в печати пытались осуществлять не только ЦК партии и отдельные вожди, но и устойчивые группы партийных функционеров. В том, что ленинской группе удалось обуздать влиятельные группы функционеров, значительную роль сыграло установление фактического контроля за прессой. То, что обсуждение в печати последних статей Ленина контролировалось, демонстрируют факты регулярной передачи особых сводок Агитпропа с анализом результатов дискуссий и подборками газетных вырезок в ОГПУ. В 1923-1924 годах ожесточение полемики было связно не столько с письмом Троцкого «Новый курс», сколько с появившимися в «Правде» критическими резолюциями из районов. Именно обнародование мнения «низов» и взорвало ситуацию, стало катализатором дискуссии и изменило отношение к печати как к инструменту внутрипартийной борьбы. После публикации «Правдой» в июне 137 1924 года доклада Сталина на курсах секретарей укомов при ЦК уже никого не возмущало ни содержание односторонней полемики, ни тональность, с которой печать обрушилась на «Уроки Октября» Троцкого. Решающее значение для закрепления данного статуса прессы имел XIV съезд партии. В борьбе с «новой» оппозицией сталинская группа блестяще использовала прессу, прямо и опосредованно влияя на аппарат, давно усвоивший истину: «Читай аккуратно «Правду», будешь в курсе дела». Структуры ЦК установили жесткий контроль над всеми стадиями информационного обеспечения внутрипартийной борьбы. В двадцатые годы в рабочей среде отмечались открытые выступления в поддержку оппозиционеров. Были случаи, когда вывешивали портреты Л.Д. Троцкого и Г.Е. Зиновьева (1883-1936) и завешивали портреты Ленина. Однако подобные акции были редки, и в них участвовало всего несколько десятков человек. Несмотря на все меры предосторожности, в рабочей среде знали о ленинском «Письме к съезду» и особенно хорошо об оценке личности Сталина. Но какой-то серьезной поддержки оппозиция в рабочей среде не получила. Рабочие, хотя в некоторых случаях и симпатизировали оппонентам Сталина, но опять же все сводили к критике экономических трудностей, которые волновали людей больше, чем борьба за власть в верхних эшелонах. Современный российский историк С.А. Шинкарчук на материалах Северо-запада России наглядно продемонстрировал, что рабочим надоела бесконечная борьба за власть, и часть из них связывала именно с этим материальные трудности, наивно веря в связь единства партии с улучшением жизни. Можно утверждать, что основная часть населения не понимала сути разногласий внутри партийного руководства. Отсюда и явно скептическое отношение по поводу перспектив построения социализма. Во многих случаях рабочие даже поддерживали борьбу с оппозицией, хотя скорее это был, скорее, заранее срежессированный спектакль. Можно считать, что в одобрении мероприятий власти проявлялось некое пассивное сопротивление режиму. Не было и всеобщего культа поклонения генсеку. Дело в том, «низы» демонстрировали безразличие к тому, «кто будет у власти, Пятаков или Сталин, лишь бы не делили Россию» и не очень мешали жить. Установление монополии партийно-советской печати стало важнейшим фактором формирования политической культуры населения. Если официальная пресса фактически была огосударствлена и превращена в специфическое ведомство государственного аппарата, то практически вся печать политических партий и наиболее независимая «нэповская» пресса были разгромлены в 1922-1923 гг. В литературе 138 отмечается, что в годы Гражданской войны легальную прессу имели анархисты, народнические группы и националистические организации. В конце 1920 года даже Н.И. Махно (1888-1934) официально разрешили издание газеты «Голос махновца». Однако, разраставшееся с 1920 года народное движение обусловило рост значения репрессий как в отношении повстанческой, так и легальной прессы («Максималист», «Знамя» и др.). Тем не менее, легальная пресса не просто устояла, но и стала расти. Образно говоря, Нэп породил свою «дочь Неп» - независимую печать. Причем помимо аполитичных журналов, существовали и издания с выраженным общественнополитическим оттенком («Новая Россия», «Право и жизнь» и др.). Однако с начала 1922 года репрессивная политика, направленная на обеспечение партийной монополии, была возобновлена. В первую очередь запретительная политика в 1926-1927 гг. затронула издания общественно-политического характера. Окончательная гибель альтернативной печати в 1929 году и закрытие частных издательств в 1934 году были тесно связаны с переходом к форсированному социалистическому строительству. Складыванию комплекса негативных оценок нэпа способствовало и фактическое отсутствие в нем правовой составляющей. Тогда как культура правосознания и атмосфера доверия являются стратегическими посылками любой реформы и одной из важнейших предпосылок ее эффективности. Сохранившаяся с эпохи военного коммунизма недемократическая избирательная система предусматривала открытые и многоступенчатые выборы, а также лишение избирательных прав самой экономически активной части общества двадцатых годов - так называемых нэпманов. В этой связи интенсивную кодификацию первой половины 1920-х годов можно рассматривать, как попытку восполнить пробелы в законе за счет революционного правосознания. Например, с введением нэпа начала проводиться достаточно либеральная политика в отношении проживания и передвижения населения. Зато сами граждане в атмосфере нагнетания всеобщей подозрительности последних лет нэпа все чаще обращались во властные структуры с предложениями усиления надзора ОГПУ, введения прописки для дачников и тому подобных мер, ограничивающих свободу передвижения. Следует признать, что ликбез не поднял крестьянина на качественно новую ступень и не восполнил тех небывалых потерь в сфере культуры, которые понесла страна. Не лучше обстояло дело и с качеством рабочих кадров, которые в большей степени формировались за счет детей крестьян, принесших с собой на заводы и фабрики деревенские особенности психического склада и традиционной политической культуры. Реалии нэпа подпитывали негативное отношение к нему, как в высших 139 эшелонах власти, так и в широких массах, которые с влиянием нэпа связывали возвращение к «старым порядкам». 7. Центральная и местная власть глазами населения Очевидно, что отсутствие у коммунистического руководства безусловной поддержки большинства населения заставляло его бояться либерализации режима и предпринимать широкомасштабные пропагандистские меры по формированию более благоприятного облика «народной власти». Широкомасштабному мифотворчеству «верхов» способствовало то обстоятельство, что в СССР второй половины 1920-х годов вызрела и оформилась культурная среда, характерная для переходных обществ, основными признаками которой стали неустойчивость, текучесть и податливость внешним воздействиям. Стремление властвующей элиты как можно дольше поддерживать сохранение массовых иллюзий заставляло конструировать новые мифы, все больше удалявшиеся от первоначального образа революции и облика ее творцов. Общее число работ о Ленине начало убывать после 1925 года, а особенно резкий спад наметился уже к концу 1926 года. Зато рос удельный вес работ, связывающих имя вождя с текущими политическими событиями и, особенно, с острой политической борьбой. Ленин и революция в пропаганде постепенно переставали быть «близнецамибратьями». Уже с 1927 года не предпринималось новых кампаний по пропаганде ленинизма. Более того, в ряде мест вечера памяти Ленина превратились в вечера отдыха: в отдельных учреждениях к официальной части были добавлены развлекательные программы. Придание официальной идеологии ярко выраженных мифологических черт во многом диктовалось ужесточением политического режима. Главным в структуре советских мифологем стал лозунг светлого, коммунистического будущего, который подкреплялся множеством символов и формул, среди которых была и знаменитая идея электрификации России. Коммунистическая власть «являлась» российским городам и селам в электрическом свете, как предвестница будущей светлой жизни, а электричество при этом становилось наглядным средством агитации за советскую власть. Но идеологический и мифологический камуфляж на деле скрывал глубинный процесс утверждения административно-командной системы. Последнее обстоятельство весьма неоднозначно влияло на процесс трансформации политической культуры различных слоев населения. 140 Неоднозначное отношение к власти в целом и к конкретным носителям властных функций, формировали в общественном сознании своеобразную картину мира в виде комплекса интуитивных и неосознанных представлений о советской реальности. Одной из фундаментальных характеристик этой картины мира было чувство потери четких ориентиров, незащищенности в сложном и малопонятном мире новых людей, идей и политических принципов. Все вышеуказанное способствовало формированию таких качеств «нового сознания», как: коллективное «идолопоклонство», обожествление «светлого будущего» и рассмотрение настоящего и прошлого поколений как материала для унавоживания почвы в целях выращивания этого будущего, стремление встретить наступление земного рая очищением земли от «вредных насекомых». Лакмусовой бумажкой подобной трансформации во многом выступает отношение основной массы населения Советской России к властным институтам и, особенно, к вождям. Отношение к Советской власти и в двадцатые годы было неоднозначным у разных слоев населения. В 1922 году Всесоюзная ассоциация инженеров считала, что «власть доверия не заслужила, а мы – наука и техника – пользуемся доверием». На состоявшемся в мае 1922 года съезде врачей выдвигалось требование введения местных самоуправлений как свободно избираемых и строящихся снизу форм самоорганизации населения. Геологи на своем Всероссийском съезде, проходившем в это же время, договорились до полной «контры» заявив о гражданском бесправии, в котором пребывает весь русский народ. В 1924 году группа беспартийных студентов МГУ выпустила брошюру-воззвание с протестом против политических гонений, а в 1928 году в Екатеринодаре проходил процесс по делу «Первомайской группы», члены которой выступали за свободу слова, печати и собраний. Возможно, этим определялось и распространенное сочувствие интеллигенции к оппозиционерам. Впрочем, представления о центральной власти не оставались неизменными на протяжении двадцатых годов и в рабочей среде. Сводки ОГПУ за относительно благополучный 1925 год зафиксировали такие высказывания рабочих: «Рабочему живется сейчас много хуже, чем при Николае II» (Покровск), «за границей рабочим живется лучше, чем в СССР» (Кострома), «Коммунистическая партия несет не свободу, а кабалу» (Урал). В рабочей среде политика укрепления «диктатуры пролетариата» за счет самого пролетариата вызывала, по меньшей мере, недоумение: «Каждый год новые лозунги. Ведь их даже не запомнишь всех. Только возьмемся все дружно за одно, проглядим другое». Особенно бурную реакцию среди рабочих вызвала 141 инспирированная партийной верхушкой кампания по проведению «режима экономии», широко развернувшаяся с 1926 года и ставшая символом «строительства социализма» для одних и «антисимволом» для других. Недовольство политикой коммунистической власти подпитывалось теми привилегиями, которыми пользовался новый номенклатурный класс на различных ступенях аппаратной лестницы. По одному из анонимных писем из России в редакцию «Социалистического вестника» (Берлин) явственно прослеживается трансформация образа «всероссийского старосты» М.И. Калинина (1875-1946) - совсем недавно «изо всех честнейшего» вождя – в глазах рабочих. Речь идет о рабочем собрании в Подольске в 1928 году, где Калинину удалось вырваться из толпы только с помощью конных чекистов. Один из старых рабочих прямо высказал Калинину в лицо: «Тяжело приходится тебе, Михаил Иванович! В деревне - под мужика рядишься, о его избе да сохе печалишься, на заводе - товарищами рабочих называешь, все вспоминаешь, как у станка стоял. А думки то твои не с нами, рабочими и крестьянами, а в Кремле с твоими компаньонами». Когда же Калинин сослался на свое высокое положение Председателя ЦИК, его прервали неуважительными возгласами: «Кто тебя выбирал?», «Когда уже сменишься?». Несомненно, в целом положение вождей в этот момент сильно пошатнулось. С одной стороны, причиной тому стали острые внутрипартийные дрязги («драка пауков в узкой партийной банке», по выражению философа и историка эмигранта Н.Н. Валентинова), а с другой - разочарование в справедливости высшей власти. Чернорабочий Думенко в письме секретарю ЦКК ВКП(б) Е.М. Ярославскому (1878-1943) и секретарю ЦК партии В.М. Молотову (1890-1986) в ноябре 1927 году обвиняет власть в монархизме, направленном на то, «чтобы рабочий и крестьянин были рабами, казенными и феодальными». Если говорить об отношениях между представителями местной власти и населением, то они становятся более понятными через дихотомическое восприятие людьми центральной и местной власти. Нередко первая в письмах характеризуется как «своя», радеющая за то, чтобы «устроить социализм, т.е. царство божье на земле», в то время как местное начальство - сродни «полицейским держимордам» старого режима, которые, к тому же, тянутся «из социалистического рая в капиталистический ад». Дело здесь не только и не столько в идеологической окраске подобного противопоставления. Отнесение всех бед на счет местных властей - характерная примета властных отношений 20-х годов. Подобные настроения были не только и не столько результатом наивности сельских жителей, якобы принимавших за местные перегибы то, что на 142 самом деле выражало суть большевистской политики в деревне, сколько сознательной игрой на противоречиях местной и центральной власти. При этом последняя, как правило, идеализировалась или, по крайней мере, на нее не возлагалась ответственность за безобразия, хаотичность и неэффективность в действиях мелкого низового начальства. Подобное отношение определяло и электоральное поведение сельских избирателей. Что же касается выборности местного руководства, то население не питало больших иллюзий. Может быть, поэтому в основе выборов ноября-декабря 1921 года лежали скорее покорность и индифферентность населения в восприятии Советской власти, чем сознательная политическая ориентация. Но затем положение меняется. Если сначала избирательные кампании, проходящие под лозунгом организации и укрепления низовых органов Советской власти, демонстрировали повышение удельного веса коммунистов в волостных Советах, то уже в 1924 году рост избирательной активности в сельских районах привел к непрогнозируемой активизации кулачества и совершенно незначительной заинтересованности бедняцкой массы в результатах выборов. Дело в том, что сравнительно быстрое хозяйственное возрождение аграрного сектора повлекло за собой и нежелательные для власти последствия: рост самосознания земледельцев и их политическую активность. Об этом свидетельствуют выборы в сельские советы в 1924-1925 гг., на которых крестьяне в большинстве своем не только проголосовали за своих зажиточных односельчан и крепких середняков, но и выступали с требованием создания своей крестьянской партии и с критикой существующего строя. Нэповская политика в значительной степени учитывала традиционно- патриархальные основы жизни большинства населения, вместе с тем включая в себя и многочисленные элементы нового строя. Нэп, в котором столь тесно переплелось «старое» и «новое», имел свою собственную логику, не всегда согласовывавшуюся с политическими чаяниями большевистского руководства. Не удивительно, поэтому, что постепенно мощная тенденция к авторитаризму подавила стремление к демократизации, чему в немалой степени способствовали сами местные власти. Так, в июне 1925 года, выступая на сессии Тверского губисполкома, его председатель В.А. Алексеев отмечал, что «если муж жену любит и ревнует, тогда он ее бьет, а если не любит, то и не бьет, так и у нас: если крестьянин любит власть, значит, ругает ее». Подобные «бытовые» определения сущности власти как нельзя лучше отражали процесс формирования административно-карательной системы, для которой был 143 неприемлем сам принцип самоуправления. В этой властной пирамиде Советы всех уровней фактически выводятся с политической арены, просто дублируя партийные решения. Крестьяне под мощным социально-экономическим давлением государства довольно быстро утрачивали свои политические иллюзии. Уже во второй половине 1920-х гг. скрытие истинных доходов от налоговых органов, «самораскулачивание» и миграция в города, отказ от пашенной земли и сельскохозяйственных угодий стали сочетаться с такими формами сопротивления крестьянства политике властей, как срывы общественных собраний, распространение антибольшевистских листовок, порча общественного имущества, поджоги, избиения общественных и партийных работников и даже покушения на убийства. Однако это недовольство не вылилось в жесткую конфронтацию с властью, что рождало у правящего режима уверенность в том, что коренная ломка сельской жизни пройдет без особых эксцессов. 8. «Военная тревога» 1927 года как фактор свертывания нэпа Руководители страны утверждали, что население твердо поддерживает Коммунистическую партию и Советскую власть, а между тем в середине 20-х годов слежка, по словам начальника Секретного отдела ОГПУ Т.Д. Дерибаса (1883-1938), велась более чем за двумя миллионами человек. «Единение» власти и народа, декларируемое официозной печатью, обретало свою плоть только в своеобразной форме поиска внешнего и внутреннего врага. На протяжении всего межвоенного периода советская пропаганда традиционно культивировала в умах людей представления о том, что за «выживание» первого социалистического государства надо бороться. Успеху пропаганды со второй половины 20-х годов способствовало ухудшение международного положения. Милитаризация общества протекала на фоне глобального процесса складывания новой социокультурной и политической идентичности – человека «советского типа». Война стала неотъемлемой частью этой идентичности, а разрыв отношений с Великобританией был расценен как настоящая «военная тревога» и реальная опасность нового похода Антанты. 1927 год стал периодом резкого роста сопротивления рабочих масс «Редкому Случаю Феноменального Сумасшествия России» (возникла и такая расшифровка аббревиатуры РСФСР): в феврале в «колыбели революции» бастовали Трубочный, 144 Балтийский и Патронный заводы, одна за одной проходили рабочие демонстрации с требованиями свободы слова, печати и свободных перевыборов завкомов и советов. «Нам масло надо, а не социализм», - единодушно заявили собравшиеся на кооперативную конференцию путиловские рабочие, Ухудшение материального положения в связи с «военной угрозой», заставляло рабочих с мрачным видом шутить: «Говорят, отменили букву «М» - мяса нет, масла нет, мануфактуры нет, мыла нет, а ради одной фамилии - Микоян – букву «М» оставлять ни к чему». Лозунг «догнать и перегнать» для многих давно превратился в лозунг «дожить и пережить». В то время как пресса продолжала вещать об «улучшении благосостояния народа», введение в промышленных центрах страны нормированного распределения товаров первой необходимости все больше озлобляло население. При этом в обществе в целом нарастали настроения обманутых ожиданий, которые ярко проявились в 1927 году при обсуждении Манифеста ЦИК к десятилетию революции. В определенной степени разочарование в революции было вызвано этим «комплексом не сбывшихся ожиданий». На фоне усиливающегося недовольства новой экономической политикой набирали силу уравнительные тенденции. Идя навстречу пожеланиям значительной части (прежде всего, малоквалифицированных) рабочих в 1928 году была проведена тарифная реформа, которая нивелировала оплату квалифицированного и неквалифицированного труда. Вряд ли верны заявления, что народные массы не желали социализма, так как эгалитаристское настроение народа не подлежит сомнению. Это же уравнительное настроение было характерно и для периода нэпа, сыграв далеко не последнюю роль в его свертывании. При этом власти делали все, чтобы окарикатурить образ нэмпана в глазах народа. Нелепая фигура толстого человека во фраке и в котелке сделалась непременным атрибутом театрализованных шествий. Не были редкостью на демонстрациях и трамвайчики, везущие в гигантском гробу «русский капитализм». Неудивительно, что в глазах обывателя предприниматели представали в столь же карикатурном облике. Политика «валить с больной головы на здоровую» в поисках «стрелочника» мало способствовала решению стоящих перед страной насущных задач. Более того, она загоняла вглубь одни противоречия нэпа и выпускала на поверхность другие. Дефицит инженерно-технических кадров не делал старого специалиста желанным гостем на государственных фабриках и заводах. Рабочих, особенно низкооплачиваемых, раздражало многое: независимое поведение заводских интеллигентов и их оклады, заметно превышавшие заработок рабочего. Немалая доля 145 ответственности за разжигание антиспецовских настроений лежала на печати. Если верить газетным статьям, то спецы на производстве только и делали, что занимались вредительством. Укоренившийся в советском новоязе термин «спецы» нес не только профессиональную, но и значительную отрицательную идеологическую нагрузку. В итоге негативная социальная энергия находила свой выход у широких слоев населения, прежде всего, в готовности «войны» с нэпманом и кулаком. В некоторых районах в 1927 г. беднота открыто заявляла, что сначала расправится с местной буржуазией и лишь потом отправится сражаться с мировой контрреволюцией. Подобные настроения активизировали слои населения, стремящиеся к восстановлению своего статуса периода Гражданской войны (демобилизованные командиры и красноармейцы, бывшие красные партизаны и др.) и позволяли сталинскому руководству достаточно эффективно манипулировать ответственность за контрреволюцию». массовым собственные Обстановка сознанием просчеты «управляемого на и перекладывать «внешнюю кризиса» и и всю внутреннюю «контролируемой напряженности», в создании которых львиная доля вины возлагалась на спецов и «новую буржуазию», обеспечивала переход от относительно «нормального» развития нэповского периода к социально-психологической и политической мобилизации «большого скачка». Несмотря на все старания, 10-летие Октября не стало символом единства власти и народа, не говоря уже о сплоченности общества в целом. «Обновленческий» заряд революции все больше смещался в сторону усиления репрессивной практики. Юбилейные торжества быстро сменились «буднями», наполненными поисками «врагов народной власти». Революция входила в свой последний этап, на котором «пожирание» своих творцов превращалось в ритуальное жертвоприношение. Революционная символика, все больше окрашиваясь в культовые, кровавые (в прямом и переносном смысле) тона, постепенно вытеснялась имперской символикой, а мифологема мировой революции – идеологией национал-большевизма. 146 Глава 9. «Тоталитарная» модель и культовое сознание (1930-е годы) В политической культуре «большого скачка» или, по выражению писателядеревенщика Василия Белова, «великого перелома станового хребта народа» можно увидеть истоки и противоречия формирующегося культового сознания сталинской эпохи. Однако, у этого процесса есть и другая сторона. Можно в целом согласиться с мнением А.К. Соколова, что «большевистская концепция построения социализма, включая индустриализацию, урбанизацию и культурную революцию, имела огромную социальную поддержку. Под флагом строительства социализма в стране происходила трансформация революционной и разрушительной энергии, охватившей российского общество в начале ХХ в., в созидательную». Однако это высказывание требует уточнения. Всеобщего энтузиазма в осуществлении планов первых пятилеток не было, хотя отдельные слои, особенно молодежь, активно включились в строительство нового общества. Скорее, люди смирились, в глубине души надеясь на осуществление очередной красивой сказки. 1. Индустриализация и политическая активность масс Стандартизированный энтузиазм – вот точная характеристика социальнопсихологической обстановки тех лет. Люди поддерживали и одобряли те или иные начинания власти, но на самом деле зачастую это была только внешняя видимость. В первой половине 1930-х годов именно производственные собрания стали рассматриваться как центры борьбы за реализацию сталинского курса. А в середине десятилетия поддержка стахановского движения становится «алиби» политической благонадежности. Р. Майер в своем исследовании доказал, что стахановцы, получившие право вмешиваться в деятельность дирекции, по замыслу партийных идеологов были призваны изменить структуру власти на предприятиях. Кульминацией наступления стахановцев стали реанимированные XVII съездом партии «контрольные рейды», которые с 1936 года активно проводились под руководством ЦК ВЛКСМ для устранения «саботажников» на производстве, а также создание товарищеских судов и института «стахановских инструкторов». Любое противодействие со стороны хозяйственников становилось поводом для репрессий. Тем самым стахановское 147 движение на долгие десятилетия подорвало авторитет и власть руководителей производства. Несмотря на все пропагандистские кампании, политические настроения периода индустриализации были в целом неблагоприятны для большевиков. Уже к 1929 году рабочие сделали для себя вполне определенные выводы по поводу Советской власти «Рабочие с плачем работают под гнетом». «При Николае мы и наши дети питались в сто раз лучше чем теперь, а получали меньше, теперь же дошли до того, что картошки и той стало недостаточно, а при социализме и совсем, по-видимому, не будут давать есть», - такие разговоры среди рабочих были подслушаны одним из информаторов на заводе имени Степана Халтурина в этом же году. Особенно резкие настроения проявились в текстильной промышленности, где заработная плата была ниже, и где в больей степени применялся женский труд. Недовольства, связанные, прежде всего, с экономическими проблемами, неизбежно принимали политическую окраску. Озлобленные люди не церемонились в выражениях, и информаторы были вынуждены корректировать это в своих отчетах: «Доправились подлецы (площадная брань) заставляют издыхать с голоду». В 1933-1935 гг. в рабочей среде все чаще будет звучать мысль, что «у Советской власти так и делается, что рабочие без хлеба сидят, а коммунисты и жиды обжираются». Отсюда оставался один шаг до открытого столкновения. Однако призывы «стрелять коммунистов» в рабочей среде были крайне редки и не находили отклика. Хотя рабочие были на грани срыва, до открытых столкновений дело не дошло. Вспыхнувшая в 1932 году в Иваново-Вознесенске забастовка рабочих и служащих против житейских тягот не переросла в открытое противостояние. Антисемитские высказывания рабочих также встречались крайне редко и были направлены не столько на евреев, сколько на коммунистов-евреев, находящихся, по их твердому убеждению, в привилегированном положении. Иногда рабочие в открытую заявляли о своем недоверии партии. Особое отношение было к лидерам ВКП(б). Хотя большая часть рабочих эту тему вообще старались не затрагивать, но это молчание говорит не о поддержке, а скорее о недоверии вождям. В целом к лидерам партии рабочие относились как к новым правителям, при которых мало что изменилось: «при царе флаг был трехцветный, а теперь красный». К концу 1920-х гг. исчезла критика Ленина: к недавнему вождю рабочие стали относиться более уважительно. Хотя и имя Сталина в рабочей среде употреблялось в отрицательном контексте очень редко. Дело в том, что за предшествующие годы власти удалось необычайно повысить статус рабочего человека: 148 пролетариям, несомненно, льстило, когда их называли самым передовым классом и «надеждой человечества». Свою роль в том, что основная масса рабочих вполне лояльно относилась к режиму сыграли также демографические факторы. Рабочее пополнение первых пятилеток рекрутировалось, главным образом, из сельской местности и в основном за счет поколения, выросшего при новой власти и получившего в процессе социализации (школа, пионерская организация, комсомол) «идеологическую недовольства. прививку» Помимо против своеобразной любых форм социальной выражения «терапии» социального важную роль в формировании политической культуры рабочего класса играли и «хирургические» методы. Сюда следует отнести широко распространенную в двадцатые годы практику выбрасывания за фабричные ворота неугодных заводской администрации работников, а также репрессивные меры органов госбезопасности по отношению к рабочим, так или иначе поддерживавшим партийную оппозицию. 2. Коллективизация и жупел «кулака» в массовом сознании Наоборот, сплошная коллективизация и раскулачивание вызвали различные формы гражданского неповиновения в сельской местности. В многочисленных источниках встречается цифра 90% сельского населения, не поддерживавшего так или иначе большевиков. Наряду с требованиями смены власти зажиточным и средним крестьянством, раздавались упреки и со стороны бедняков. В целом же настроения крестьян были самыми противоречивыми. Документы показывают непризнание большинством крестьян искусственно навязываемой классовой градации своего сословия. Очень многие, в том числе и кулаки, всего несколько лет назад с оружием в руках защищали советскую власть и теперь рассматривали ее как родную, часто справедливо обвиняя во всех трудностях только большевиков. Анализ крестьянской корреспонденции позволяет говорить, что среди селян, особенно неимущей и малоимущей их части, были и сторонники объединения в коллективы. Для многих из них колхоз мыслился как предприятие, где они будут жить как рабочие: трудиться по 7 часов в день, получать зарплату и иметь социальные льготы. Сельские низы имели в коллективизации свой собственный интерес – пользовались имуществом зажиточных крестьян, занимали их избы, становились начальниками над своими односельчанами. Тогда как среди крестьян-середняков отношение к колхозам было, по меньшей мере, 149 негативное. Проблема коллективизации в сознании крестьян тесно смыкалась со свободой, хотя большинству было жаль терять нажитое тяжелым трудом. Особенно категорично против колхозов были настроены женщины. Впрочем, крестьян больше волновали не политика партии, не планы построения социализма и не борьба с оппозицией, а налоговое обложение и землеустройство, причины свертывания кооперативной торговли и недостаток промтоваров. Даже вопросы войны и мира волновали сельских жителей не под углом защиты социалистического Отечества или помощи другим народам, а в связи с тем, что придется идти в армию и оставить семью без средств существования. Наличие таких противоречивых настроений было одной из причин того, что крестьяне в 1928-1929 гг. резко выступая против большевиков, так и не начали массовой вооруженной борьбы против Советской власти. Самой распространенной формой протеста были не мятежи, убийства, поджоги или саботаж, а жалобы в различные инстанции. Для начала второй пятилетки было характерно, что единоличник вышел из подчинения партийно-хозяйственных руководителей на местах и демонстрировал свои преимущества перед колхозами. В то же время в 1933 – первой половине 1934 гг. внимание местных руководителей к проблеме объединения единоличников в колхозы было ослаблено. Считалось, что процесс завершения коллективизации пойдет «самотеком», однако в июле 1934 года на совещании в Кремле Сталин объявил об очередном «наступлении» на единоличников. В итоге значительная часть единоличных хозяйств за этот период «раскрестьянилась» - порвала связь с сельским хозяйством, перешла в город или же была репрессирована. О пассивном сопротивлении крестьян колхозам говорит и тот факт, что только в 1931 году более 4 млн селян (всего за две пятилетки эта цифра составила 12 млн) покинули деревню и перебрались в город. Эти опасные симптомы свидетельствовали, что крестьяне мало интересуются социализмом и не очень-то верят большевикам. Тем не менее, сначала крестьяне обходились в основном без террора и занимали выжидательную позицию. Тяжелое положение вызвало первую реакцию – обращение за помощью к властям. Затем, почувствовав, что большевики загоняют их в угол, в крестьянской среде в 1929 году все чаще стали раздаваться антисоветские лозунги и даже иногда призывы к вооруженному восстанию. Секретные донесения работников ОГПУ из деревни этого периода иногда воспринимаются как сводки из районов, охваченных всеобщим гражданским неповиновением. Причем подобные настроения отмечались повсеместно, а не только среди кулачества. По свидетельствам современников, недовольство населения 150 Советской властью приближалось к состоянию времен Гражданской войны. Резко возросло и количество антисоветских выступлений. Причем в сводках ОГПУ речь шла о серьезных проявлениях недовольства (избиения и убийства активистов), а мелкие случаи (угрозы, срывы собраний и мелкий имущественный ущерб) в конце двадцатых годов ОГПУ даже не регистрировало. Однако в большинстве своем крестьяне не поддерживали такую линию в надежде, что их не тронут. Несмотря на то, что кулацкий террор был ответной мерой на усилившееся наступление власти, из кулака сотворили жупел, который глубоко внедрился в сознание основной массы как сельского, так и городского населения. Едва ли не половина шедшей снизу корреспонденции была посвящена именно вредительству и злоупотреблениям в колхозах, совхозах и МТС. Речь, таким образом, идет о своеобразном феномене массовой политической культуры. Уже в 1929 году сводки «Об отношении к продовольственным затруднениям» отмечали угрозы со стороны толпы в очередях у булочных. Распространенным явлением было массовое хождение по разным учреждениям, которое сопровождалось возмущенными выступлениями и угрозами в адрес большевиков и Советской власти. Одновременно вспыхнула вражда к кулачеству, и раздавались лозунги конфискации у них хлеба. 3. Интеллигенция как «потенциальный враг» советской власти. Положение интеллигенции при Советской власти было самым сложным, так как власти никогда не забывали, что это «бывшие люди» и социально-чуждые элементы. Поэтому истинные настроения интеллигенции до сих пор остаются не вполне ясными. Очень редко кто вел дневник, письма были короткими, мало и откровенной мемуарной литературы. А «когда очевидцы молчат, то, по определению известного писателя и публициста И.Г. Эренбурга (1891-1967), рождаются легенды». Так родилась легенда, что почти вся старая интеллигенция приняла Советскую власть и даже активно с самого начала сотрудничала с большевиками. Неоспоримо то, что многие старые специалисты не желали, чтобы большевистский режим потерпел крах, так как считали, что только большевики способны превратить Россию в великую державу. Но в большинстве своем интеллигенция молчала и лишь иногда, в очень узком кругу единомышленников, выражала отношение к происходящему. Но и это молчание было для власти опасным, так как интеллигенция в их глазах являлась опасным 151 потенциальным противником. Главным содержанием политических настроений интеллигенции, в том числе занятой в сфере образования, было видение корня зла в существующем режиме и олицетворявших его коммунистах. Так, студенты 1-го МГУ в начале 1930-х гг. писали лектору записки явно антисоветского содержания: «Провались в преисподнюю такой социализм». Были случаи, когда студенты ставили вопрос об отмене политических предметов или резком сокращении их объема. Однако открытой борьбе с большевиками интеллигенция предпочла пассивность в политической жизни, наивно надеясь, что все вернется на круги своя очень быстро и само собой. Отчеты отмечали, что «массового недовольства интеллигенции настоящим положением не отмечается, но вместе с тем из большинства районов материалы характеризуют пассивность». Катастрофически обстояло дело и с политической грамотностью интеллигенции, которая не хотела вникать в политические игры коммунистов. Непримиримое отношение к общественной работе отразилось на поведении интеллигенции в Советах, основными характеристиками которого стали пассивность, безразличие и низкая посещаемость заседаний. Но даже те служащие, которые приходили на подобные мероприятия, далеко не всегда поддерживали происходящее, что иллюстрировали подаваемые в президиум записки. Другими словами, самой массовой формой неприятия Советской власти было моральное сопротивление (включая феномен «внутренней эмиграции»), основой которого оказалась дореволюционная культура с ее ценностями человеческого общежития. Такая оппозиция, по сути имевшая оборонительный характер, на деле ограничивала возможности власти и затрудняла осуществление ее замыслов. Анализируя примеры морального сопротивления, мы сталкиваемся с сознательным противопоставлением власти Родине, с восприятием власти как «чужой» при сохранении лояльности по отношению к собственному народу. 4. «Тайно напряженное общество» Вместе с нарастанием трудностей и лишений в стране наступало отрезвление значительной части людей от «социалистического порыва». Возникла даже своеобразная ностальгия по нэпу. Можно сделать вывод, что перерастание неприятия перемен постепенно переросло у значительных социальных слоев в пассивное сопротивление режиму: нежелание принимать участие в общественных мероприятиях, рост антисоветских настроений и выход из партии. А политические 152 настроения дрейфовали от критики отдельных мероприятий власти к критике режима в целом. Сталинскому режиму сопротивлялась вся страна, включая членов партии, но речь здесь идет о пассивном сопротивлении, когда люди вели себя не так, как хотелось властям. Многочисленные добровольные выходы из партии (по подсчетам С.А. Шинкарчука, 80% выбывших из партии в годы первых пятилеток ушло из ее рядов добровольно или механически) и задолженность по членским взносам были не столько свидетельством несогласия с политикой партии, сколько проявлением аполитичности. Лишь в единичных случаях у властей не было проблем с явкой на демонстрации разного рода. В начале 1930-х годов причинами отказа выходить на демонстрацию, были недовольство материальным положением, житейские проблемы, ссылки на плохую погоду и общее безразличие к проводимым мероприятиям – «надоело каждый год одно и то же». Не изменилось положение и во второй половине десятилетия, хотя и выросла посещаемость демонстраций. Впрочем, это было вызвано отнюдь не усилением политической активности, а ростом контроля со стороны властей. Однако и в это время люди правдами и неправдами старались увильнуть от утомительной и бессмысленной обязанности. В сводках из года в год отмечались случаи, когда рабочие исчезали на полпути, не дойдя до площади, или отказывались нести портреты вождей и флаги. Не больше энтузиазма проявляли люди и на многочисленных митингах и собраниях, которые часто срывались из-за отсутствия кворума. Если же кворум набирался, то частым явлением было глухое молчание залов или чисто формальные выступления вынужденных ораторов. Когда в середине 30-х годов стали разбираться с каждым, не явившимся на то или иное мероприятие, то наиболее часто встречающимися объяснениями стали болезнь, дети или выходной день, а политических мотивов не было. Правда, изредка рабочие проявляли активность на собраниях, но чаще всего это проявлялось в обилии вопросов и записок в президиум. При этом большинство из них было связано с материальным положением и, особенно, с продовольственными затруднениями. Даже если задавались вопросы о политике партии, то неизменно в той или иной степени связывалось с опасениями по поводу снижения жизненного уровня. Но было и сопротивление иного рода - не совсем пассивное, но и не активное. Люди сочиняли стихи, частушки и поговорки, распевали песни, писали на стенах, распространяли листовки, отправляли недовольные (чаще всего анонимные) письма в советские и партийные органы. Не случайно, в середине тридцатых годов материалы о 153 деревенских частушках уже проходят в отдельных сводках ОГПУ под грифом «Совершенно секретно». Наряду с частушками, в документах карательных органов отложились стихи, и даже целые поэмы антисоветского содержания. Хотя, конечно, подобное было редким явлением. Большее распространение получили надписи на стенах в общественных местах (столовых, курилках и туалетах), среди которых преобладали надписи на тему продовольственных затруднений, иногда с политическим подтекстом. Чаще всего попадались короткие фразы типа «Долой Сталина», «Сталин насилует», «Коммунисты подлецы» и т.п. Если волна листовок антисоветского содержания, содержавших призывы против колхозов и коммунистов, прокатилась в деревне в 1929-1930 гг., то в городе эта форма протеста достигла пика в 1933-1934 гг. В почтовых ящиках люди находили листовки в основном примитивного стиля с призывами «Долой Сталина» и «Долой Советскую власть». Хотя среди них встречались серьезные и обстоятельные документы с анализом деятельности власти и даже программой действий, включая ликвидацию руководства компартии. 5. Конституция «победившего социализма» и культовые настроения Принятие Конституции 1936 года для многих жителей Союза прошло незамеченным. Однако кампания по обсуждению проекта Конституции привела не только к возрождению настроений типа «сейчас и прежде», но и вызвала к жизни целый ряд утопических программ (антиутопий) по преобразованию общества в духе Евгения Замятина (1884-1937), Джорджа Оруэлла (1903-1950) и Олдоса Хаксли (1894-1963). Например, проект регулирования здоровья граждан, вопросов демографии и их сексуальной жизни со стороны государства с позиций классовой борьбы. Так как Конституция декларировала построение социалистического общества, это подтолкнуло широкомасштабную кампанию по идеологическому обеспечению новой задачи - построения коммунизма. Впрочем, следует признать, что реальные достижения в области техники, науки и культуры ассоциировались у многих людей с торжеством социализма. Поэтому и сталинскую Конституцию 1936 года широкие массы рассматривали как «венец» народовластия. Обсуждение Конституции в какой-то мере можно рассматривать и как часть общей кампании сталинского руководства, направленной против местных администраторов, их некомпетентности, бюрократизма и неспособности претворять в жизнь указания руководящих органов. За короткий срок 154 обсуждения конституции, по официальным данным, более 15 тысяч депутатов местных советов в 21 крае и области лишились своих мандатов. Но обсуждение Конституции «победившего социализма» показало, сколь пестрым и разноголосым было советское общество середины 30-х годов. Его однородность - очередной пропагандистский миф режима. Жизнь людей проходила в двух плоскостях: они поддерживали, одобряли и участвовали, но, возвратившись домой, жили другой жизнью. Когда они делали вид, что принимают новую систему, им после страшных потрясений предыдущих лет просто хотелось нормальной спокойной жизни. Проблема «любви и ненависти» народа к власти в закрытом обществе состоит также в том, что миллионы людей приняли новую жизнь, искренне верили в декларируемые ценности и в то, что строят счастливую жизнь. Именно при Сталине наиболее эффективно действовала советская мифологическая система. Так, известный румынский религовед и писатель Мирче Элиаде (1907-1986) отмечал: «Не знаю, какого мнения о себе был Сталин, но почитайте поэтов: они видели в нем солнце или «первого или единственного». … Миф о Сталине несет в себе тоску по архетипу». Французский критик и литератор Ролан Барт (1915-1980) признавал, что «долгие годы Сталин как словесный объект представлял в чистом виде все словесные черты мифологического слова». То есть в нем был и реальный Сталин, и его ритуальное прославление, и, наконец, Сталин сакрализованный. На глазах людей строился новый мир, и многие действительно воспринимали свершавшееся как личный и общественный долг. Тем более что подлинно информацией о подспудных процессах они не располагали. Партия в глазах большинства населения представала как некое организующее начало, связанное с укреплением государства. К тому же ряд положений официальной идеологии совпадал с ценностями и представлениями масс. Широкие слои населения видели в советской власти «свою», народную власть, в противовес прежней – «чуждой» для них. П.Н. Милюков на склоне лет утверждал, что советский народ, не зная другого режима, примирился с недостатками советского и оценил его преимущества. Тем не менее, до сегодняшнего дня нет единства в ответе на вопрос – насколько велика была поддержка населением большевистского режима? Если она высока, то не было ли это связано с накалом социальных иллюзий? А если низка, можно ли рассматривать, в общем-то, терпеливое отношение к нелюбимой власти как результат широкомасштабного насилия и вековых стереотипов покорности власти как таковой? Открытым остается и вопрос о страхе, как общем стимуле поведения в эпоху массовых репрессий. 155 6. Особенности политической культуры 1930-х годов Основы советской политической культуры как некоего достаточно цельного социокультурного феномена сложились к середине 1930-х гг. Во многом это было связано с тем, что в сознательную жизнь входило поколение, воспитаннее на революционных ценностях – «дети революции, верившие в светлые идеалы», по определению известного русского писателя Анатолия Рыбакова (1911-1998). Не вызывает сомнений вывод российских ислледователей, что предпосылками формирования «нового» политического сознания стали: отсутствие в стране глубоких демократических традиций, преобладание крестьянства, утопические надежды части интеллигенции на скорое коммунистическое преобразование мира, а также конспиративная политическая культура правящей партии. Система культивировала такие черты политической культуры, как: полный разрыв с прошлым и традицией и установку на формирование принципиально нового бытия, утопизм и биполярную модель мира, мифотворческий дух вместо исторического сознания. Одной из ментальных черт человека «тоталитарного» общества стало ощущение определенной комфортности от того, что за него думает власть, а ему не надо принимать самостоятельных решений, и в своих чувствах и поступках он солидарен с многочисленными себе подобными. Историк и культуролог М.Я. Гефтер (1918-1994) подчеркивал изначальную раздвоенность этого «нового» человека, который «заявился в грязи новостроек, в пепле и крови «классовых врагов». Но нет ничего более далекого от истины, чем объявить его на этом основании исчадием зла. Он был неизвестностью – не в последнем счете для самого себя. От «военно-коммунистического» предтечи он унаследовал пафос обновления Мира, но уже без веры в короткий срок и без преувеличенного самоотречения. Его акцент на «мы» не означал уже истошного отрицания «Я». Его политическая активность была ориентирована на ближние дела и в силу этого на тех партийных функционеров, которые этими делами непосредственно ведали». Более того, в основной массе рядовых коммунистов партийность рассматривалась как служба власти, стране и собственным интересам одновременно. СССР в 1930-е годы являл собой, по выражению французского писателя и нобелевского лауреата Андре Жида (1869-1951), сочетание «самого лучшего и самого худшего». Для иностранного наблюдателя середины десятилетия, прежде всего, бросалось в глаза социальное нивелирование и после долгой нужды довольство тем, 156 что есть в магазинах. Если, по мнению писателя, всеобщее счастье достигалось за счет обезличивания каждого, то ожидание «светлого будущего» и перекрытая связь с заграницей порождали некий «комплекс превосходства». Конформизм и сервилизм сочетались с обоготворением Сталина, ростом помпезности и преследованием инакомыслия во всех сферах. Действительно, имя Сталин в материалах XVIII съезда партии (1939 г.) встречается более 2000 раз. Сдвиги в политической жизни общества во второй половине 1930-х гг. и, прежде всего, утверждение в обществе марксизма-ленинизма в сталинской интерпретации, идеологии вождизма и культового сознания, усиление государственно-патриотических начал и соответствующее оформление государственных традиций и символов, неразрывно связанных с именем Сталина, отразили смещение акцентов с мертвого вождя на живого. При этом, возвращение к государственно-патриотическим устоям способствовало консолидации общественного мнения в стране и примирению с режимом. Формирование нового советского патриотизма в первой половине 1930-х гг. проходило под лозунгом «вобрать в себя лучшие традиции русской истории». Наиболее массовой аудиторией для средств патриотической и во многом милитаристской пропаганды в эти годы становится советская молодежь. На рубеже 1920-30-х годов происходит формирование нового понимания войны как войны империалистической. Не менее важную роль в формировании представлений о войне сыграла и односторонняя интерпретация Гражданской войны с позиций «красных». Представления о ней как о войне справедливой, классовой и отечественной (по определению «Краткого курса») стали элементом самоидентификации советского общества в 1930-е гг., культивировавшего психологию «осажденной крепости». Еще одной важной характеристикой политической культуры тридцатых годов стало формирование образа врага, как внутреннего, так и внешнего. «Кругом враги» в этой ауре и в духе веры в непогрешимость Сталина, по мнению одного из ведущих специалистов в области исторической имиджелогии А.В. Голубева, формировалось юное поколение. Парадоксально, но значительная часть рабочих поддерживала партию в борьбе с вредительством. Отчасти причиной тому была ложная информация. Одновременно в практику постепенно вошло, чтобы в каждом выступлении прозвучали обвинения врагов народа. Чем большую ненависть к «врагам народа» раздували в массах, тем больший фимиам курился фигуре Вождя и вождей. Реалии «Большого террора» 1937-1938 гг., более известного под названием «ежовщина», показали, с одной стороны, что от репрессий не был застрахован никто. Например, для успокоения 157 общественного мнения в стране было расстреляно 10 руководителей Наркомата земледелия, якобы за организацию голода 1932 года в стране. Не минула чаша сия и самого «железного наркома» Н.И. Ежова (1895-1940). С другой стороны, репрессивная практика второй половины 1930-х годов наглядно продемонстрировала наличие в обществе не только пишущих доносы, но и тех, кто не боялся поднять свой голос в защиту «врагов народа». Ответом на репрессивную политику эпохи сталинизма стали знаменитые «шесть заповедей безопасности советского человека»: 1) не думай; 2) если подумал, не говори; 3) если сказал, не записывай; 4) если записал, не печатай; 5) если напечатал, не подписывай; 6) если подписал, откажись. Далеко не все аспекты формирования культовых настроений оказались освещенными в данном разделе. Окончательно не прояснена природа такого явления 1930-х годов как массовый энтузиазм и его роли в упрочении «культа личности». На сегодня открытым остается вопрос о совместимости в сознании народа лозунга «Если враг не сдается, его уничтожают» и традиционного для российского менталитета сочувствия к «обиженным» властью. Исследователям сталинизма предстоит ответить и на вопрос о ГУЛАГе как феномене политической культуры. 158 Глава 10. Власть и общество в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.) Как уже указывалось, советское общество накануне войны было в целом подвержено психологии «осажденной крепости» или непреходящему предчувствию войны. Проявлением подобной психологии, согласно выводам современных историков, являлись: подозрительное отношение к внешнему миру («Весь мир против нас»), заведомая готовность к конфронтации, а также чувство дежурной тревожности и бдительности. Лозунг «капиталистического окружения» выступал в качестве катализатора периодических чисток реальных и вымышленных противников режима внутри страны. То есть советское общество оказывалось осажденным не только извне, но и изнутри собственным режимом (эффект «двойной осады»). Это вело к распространению в обществе чувства агрессии – защитной психологической реакции, чье действие было направлено не на истинный источник опасности (властные структуры), а на некий вторичный объект – «врагов народа». Однако, не имея возможности полностью реализоваться в пределах страны без ущерба для системы, агрессивность была сориентирована на внешний мир, когда все внутренние неурядицы связывались с происками внешнего врага. В этих условиях будущая война представлялась своего рода спасательной индульгенцией: чтобы уберечься от несправедливой расправы, необходимо было продемонстрировать свою преданность режиму в самой критической ситуации – на войне. Другими словами, мысль о будущей войне на время становится некой сверхценной идеей. Официальная оптимистическая триада «малой кровью, могучим ударом и на территории противника» дополнялась мифом о гуманной, доблестной и созидательной войне. А представления о «справедливых и несправедливых войнах» рационализировали агрессию, объяснив ее внешнеполитическую направленность претворением мессианских задач первого пролетарского государства. Накануне войны в СССР появляется тип человека, обеспокоенного долгим миром и нетерпеливо ожидающего будущую войну. Это была генерация людей, о которых нарком обороны Ворошилов сказал, что советский народ «не только умеет, но и любит воевать». Однако нападение Германии на Польшу вызвало противоречивую реакцию советского общества. Наряду с сочувственным отношением к полякам и даже обращениями к правительству «выехать в Польшу, чтобы принять участие в борьбе 159 польского народа за свою жизнь, свободу и культуру», были равнодушно следившие за агонией Польши и даже позволявшие себе позлорадствовать над ее трагедией. Тем не менее, заявления Кремля о нейтралитете в войне мало влияли на коллективные предчувствия серьезных событий на западной границе, которые определялись как антифашисткой пропагандой предыдущих лет, так и с коминтерновской инерцией. Поразительно, но в этих ожиданиях существовал даже антисоветский подтекст: «Бог нам войну посылает, может быть, власть переменится и жизнь будет легче». При этом вероятная война, в силу привитых пропагандой представлений, не сопрягалась с очевидной опасностью. Когда 17 сентября 1939 года Красная Армия вторглась на территорию Польши, о польском фронте мечтал не только каждый советский командир, но и многочисленные добровольцы. Самый сокровенный смысл грядущей войны, как это представлялось в конце 1930-х гг., состоял в окончательном уничтожении капиталистического окружения. Судя по документам, территориальные амбиции советских солдат можно свести к достижению «варшавского» и «берлинского» меридианов. Одни заявляли о необходимости оказать помощь трудящимся всей Польши, другие призывали разгромить Германию. После подписания договора о дружбе и границе с Германией 28 сентября 1939 года отказ от «варшавского» меридиана (советская граница устанавливалась гораздо восточнее демаркационной границы) вызвал непонимание в войсках. Равное недоумение и даже осуждение, судя по сводкам, вызвала и передача Литве города Вильно. Успех в Польше компенсировал части советского общества информационно проигранную операцию советских войск в Монголии, о которой пресса писала так, что ничего нельзя было понять. Но даже эта легкая победа была представлена народу в отретушированном виде. Подвиг в глазах населения становился доступным, а так как не требовал обязательного самопожертвования (жертвы были невелики), то война стала рассматриваться как почетный ратный труд. В итоге еще больше закрепилось представление о непобедимости Красной Армии, которое Константин Симонов (19151979) окрестил «романтическим ощущением войны». Подобные мобилизационные настроения в армии и обществе мнению увязывались с планами советизации мира. Реминисценция имперских настроений осенью 1939 года («Варшава раньше принадлежала России и надо взять ее») дополнялась нетерпимостью к «несоветским» народам. Приобретенное в Польше «романтическое ощущение войны» не исчерпает себя в финских снегах. Авторитетный российский историк С.С. Секиринский продемонстрировал как персонаж армейской печати финской кампании 1939-1940 гг. 160 Василий Теркин, заимствованный из одноименного романа П.Д. Боборыкина (18361921) и наскоро «сработанный» группой литераторов с участием А.Т. Твардовского (1910-1971), затем перерос в героический символ, чья народность не вызывает сомнений. Хуже то, что ветераны очередного «освободительного» похода, служившие в западных округах, продолжали мыслить категориями «нового типа войны» и встретили июнь 1941 года с «польским» коэффициентом психологической готовности к войне. 1. Отечественная война: единение власти и народа Ученые по-разному оценивали и оценивают роль войны в развитии человека. Одни считали, что войны вырабатывают такие качества, как мужество, смелость, солидарность и взаимовыручку, способствуют его совершенствованию. Другие придерживаются противоположной точки зрения, утверждая, что войны ухудшают генофонд человека, провоцируют дух массовых убийств и другие преступные наклонности. Третья группа, стремясь преодолеть крайности двух предыдущих подходов, полагает, что влияние войны на общество неоднозначно: с одной стороны, военный фактор способствует развитию интеллектуальных способностей человека, а с другой, приглушает гуманистические чувства. Известный русский религиозный философ В.С. Соловьев (1853-1900) отмечал и то обстоятельство, что в традициях русской ментальности было смотреть на войну как на христианский подвиг. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что общественное сознание и политическая культура военной поры определялись не только атмосферой тех лет, но и уровнем общей и политической культуры, наличием и полнотой информации, гражданской позицией, жизненным опытом, национальными и региональными особенностями и другими факторами. Если стабильность режима 1930-х гг. во многом достигалась путем принятия специальных мер, включая репрессии и «образ врага», то нападение фашистов качественно изменило положение, что выразилось в единстве правительства и подавляющей части народа и в росте патриотических настроений. Оргинструкторский отдел ЦК ВКП(б) в аналитической справке «О ходе мобилизации и политических настроениях населения» от 28 июня 1941 года отмечал, что «настроение у мобилизованных бодрое и уверенное, случаи уклонения от мобилизации единичны». Патриотический пафос был общим и для представителей власти и для народа. Известный историк и публицист Русского Зарубежья С.П. Мельгунов считал, что не 161 народ пошел к власти, а власть пошла с народом, так как на какое-то время их интересы совпали, но это не означало внутреннего примирения народа с властью. Тем не менее, те, кто рассчитывал на внутренний разлад в советском обществе как на залог быстрой победы, ошибся. Исключительно массовый характер в годы войны приняло движение за добровольное вступление в ряды действующей армии и за создание из числа добровольцев различных народных формирований. По неполным данным в народное ополчение и другие добровольческие формирования в годы войны вступило не менее 4 млн человек, из них 2 млн сражались на фронте летом и осенью 1941 года. Всего же за годы войны от патриотов поступило свыше 20 млн заявлений с просьбой о добровольном зачислении в армию. Массовый героизм народа рождала справедливость войны против захватчиков. Одним из проявлений высокой гражданственности людей было и то, что даже вопросы, относившиеся к быту и другим сторонам жизни, часто имели общественную направленность. С началом войны оживились религиозные настроения среди населения, а благодаря патриотической позиции церкви резко возрос ее авторитет. При этом священнослужители и миряне не ограничивались молебнами о даровании победы Красной армии и принимали активное участие в сборе денежных средств и драгоценностей для постройки боевой техники, посылок на фронт, в уходе за ранеными и детьми-сиротами. Руководство страны получало немало писем с фронта с одобрением такой деятельности духовенства и верующих. Не удивительно, поэтому, что начало Великой Отечественной войны ознаменовалось прекращением антирелигиозной пропаганды. Более того, конфессии стали мощнейшим ресурсом Советской власти в достижении победы над Германией и инструментом формирования положительного образа СССР за его пределами. В условиях войны особое значение имел моральный дух армии, в формировании которого важную роль сыграла совокупность факторов: убежденность в справедливом характере войны, вера в способность государства отразить нападение врага, а также наличие духовных и моральных ценностей, ради которых солдаты готовы отдать свою жизнь. По мнению одного из ведущих специалистов в области военной антропологии Е.С. Сенявской, важным моментом в поддержании духа войск стало обращение к героическим примерам, целенаправленно представляемым как образец для массового подражания. В литературе отмечается беспрецедентная роль обладавшего монополией на СМИ государства в формировании подобных символов. Поэтому созданные в те 162 годы символы представляли собой причудливое сочетание реальных фактов и вымысла, подлинных событий и пропагандистских штампов. В обстановке «культа личности» культ отдельных героев становился естественным, служа первому. Героисимволы служили опорой системе, потому что главным качеством, которым их наделяла пропаганда, была преданность системе. Конечно, знаменитая формула «За Родину, за Сталина!» возникла не «по инициативе снизу», а целенаправленно насаждалась идеологическими структурами. Но символы всесоюзного масштаба дополняли в сознании людей их собственный опыт: подвиги друзей-однополчан или личные трагедии. 2. Между патриотизмом и коллаборационизмом: массовые настроения в годы войны Изучать и учитывать состояние массового сознания по широкому кругу проблем властям позволяют вопросы, которые граждане задавали на лекциях и беседах, собраниях и семинарах, на вечерах вопросов и ответов. Последние, наряду с едиными политднями, широко практиковались в годы войны, как на производстве, так и по месту жительства. Вряд ли продуктивно выяснять, какие формы патриотизма – советского или просто «отечественного» - проявились в годы войны. Советский патриотизм в известной степени был идеализирован, но он не был вымыслом. По мнению одного из лидеров меньшевистской эмиграции Ф.И. Дана (1971-1947), патриотизм советских людей держался на идее социального освобождения, рожденной революцией. Люди действительно совершали подвиги за Родину. Не менее весом был и подвиг тыла. Боле того, постепенно менялось отношение к стахановцам в лагерях, которых стали считать «настоящими патриотами». Значим, в том числе, и героизм «тихий» - способность людей сохранять человеческое в самых экстремальных условиях. То есть героизм был главным поведенческообразующим началом. Будущий американский президент генерал Дуайт Эйзенхауэр (1890-1969), побывавший в 1945 году в Москве и Ленинграде, написал так: «Повсюду мы видели свидетельства простой и искренней преданности Родине – патриотизм, который обычно выражался словами: «Это все для Матери-Родины». Об этом же писал в своих мемуарах премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1874-1965). Министр внутренних дел фашистской Германии Генрих Гиммлер (1900-1945) в 1945 году разослал под грифом «секретно» обзор советских мероприятий по успешной обороне Ленинграда в качестве 163 образца. Хотя с начала 1944 года в СМИ и выступлениях идеологических работников более настойчиво напоминалось о революционных традициях и примерах героизма из истории партии и опыта Красной Армии, в сознании и поведении населения сказались как исторические традиции единения в борьбе против захватчиков, так и новые социальные черты, выработанные в предвоенные годы. С другой стороны, документы свидетельствуют, что в первые недели и даже месяцы Великой Отечественной войны вместе с патриотическим порывом и единением имели место корыстные и шкурнические мотивы, слухи и панические настроения, неприкрытый антисоветизм и предательство, страх, растерянность и усталость. Приближение противника осенью 1941 года и слухи об эвакуации правительства породили среди части москвичей панику, проявлениями которой были факты уничтожения партийных документов отдельными членами партии, избавление от бюстов вождей и почетных грамот. Существуют данные, что в критические дни октября 1941 года в партийной организации города были уничтожено свыше 1 тысячи партбилетов и кандидатских карточек. Неоправданный оптимизм сводок Совинформбюро, умолчание и попытки поддержать довоенные пропагандистские мифы дезориентировали общественное сознание и побуждали самостоятельно искать объяснения. Незнание подлинной обстановки на фронте, противоречивые и ошибочные сообщения в средствах массовой информации вели к тому, что люди в первые дни войны нередко высказывали надежду на то, что «через неделю все будет кончено» и «воевать будем на их территории». Даже настроенные более пессимистично считали, что понадобится три-четыре недели или «до зимы все будет кончено». Но военные реалии в течение недели развеяли «шапкозакидательские» настроения. Люди стремились понять причины военных неудач, получить ясные и убедительные ответы на вопросы типа «Была ли наша страна экономически и в военном отношении подготовлена к ведению войны против Германии?». Причем такие вопросы возникали не только в 1941 году, но и в 1942-1944 гг. Имели место и случаи, когда люди, оказавшись в экстремальной обстановке, называли ошибки и просчеты руководства своими именами. Ободренные зимним наступлением 1941-1942 гг. и оптимистическим приказом Сталина от 1 мая 1942 года добиться в этом году «окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев», люди выражали недоумение и чувствовали разочарование ввиду неутешительных вестей с фронта в 1942 году. В этом же году, до 164 начала наступательных операций советских войск под Сталинградом, фронтовые особые отделы отдельно отчитывались о реакции личного состава на издание и реализацию печально знаменитого сталинского приказа № 227. Помимо одобрения приказа, были и такие мнения, как у красноармейца 5-й гвардейской кавалерийской дивизии: «Приказ выпущен вредительский. В нем говорится «не отступать ни на шаг», это для того, чтобы всех людей уничтожить». В те годы антифашистские настроения советских людей достигли большого накала. Определяющим моментом отношения советских людей к немцам был, прежде всего, факт вероломного нападения, зверства и насилия в отношении населения оккупированных территорий. На протяжении всей войны доминирующей чертой массового сознания было неприятие идеологии, политики и морали оккупантов, ненависть к ним. Установка на воспитание ненависти к фашизму, отождествлявшемуся с жестокостью и злом, с насилием и цинизмом, угрозой всей человеческой цивилизации, была оправдана и необходима, так как выступала как норма поведения, важнейшее нравственное требование, метод борьбы и способ укрепления уверенности и оптимизма. Одним из средств воспитания патриотизма и ненависти к врагу была переписка тыла и фронта. В действующей армии практиковали распространение анкет «За что я мщу фашистам», «Личный счет мести» и т.п. Полученная из анкет информация о злодеяниях фашистов обсуждалась на собраниях личного состава и сообщалась в печати, что еще больше усиливало ненависть к врагу. Антифашистская направленность была характерна и для устного народного творчества – припевок, частушек и прочих форм. Однако в разные периоды войны в этой устойчивой установке общественного сознания были свои особенности. В результате почти полного прекращения антифашистский пропаганды на протяжении полутора предвоенных лет в первые дни и даже недели некоторые граждане заявляли, что немцы – культурнейшая нация Европы, у которой следует поучиться организации промышленности и транспорта, и мирным гражданам их нечего бояться. Другие высказывали соображения, что немцы ведут войну против коммунистов, евреев и руководителей. Даже встречались утверждения, что Гитлер несет хорошую жизнь. Сохранялась наивная вера в классовую солидарность и сознательность немецких, итальянских и других трудящихся стран фашистского блока. На протяжении 1941-1944 гг. в разных регионах страны и в разных аудиториях граждане неизменно спрашивали о судьбе заключенного в Моабит председателя компартии Германии Эрнста Тельмана (1886-1944) и положении КПГ, 165 интересовались: «Почему рабочий класс не восстает против Гитлера?». Однако суровая действительность и нередко личный опыт быстро показали несостоятельность подобных мыслей и предположений. Анализ информации, поступавшей в партийные комитеты, показывает, что наряду с положением на фронтах и в разных районах страны, союзными отношениями и производственными делами, общественное сознание уделяло внимание вопросам социальной справедливости. Рабочие были недовольны увлечением руководителей самоснабжением продуктами и товарами, состоянием торговли, эвакуацией семей и поспешным бегством отдельных руководящих работников в тыл. В ряде случаев в оценках проявлялись не только моральное неприятие и скрытое осуждение, но и открытая ненависть к руководителям и коммунистам, прямое и открытое осуждение социально-экономической политики и ряда действий Сталина. В большинстве случаев неудовлетворенность связывалась с работой конкретных должностных лиц и исполнителей, и лишь немногие люди, судя по документам, связывали переживаемые трудности с политикой руководства и существующим строем. Но естественные настроения недовольства тяжелейшими бытовыми условиями характеризовались в информационных сообщениях в руководящие партийные инстанции как «провокационные и антисоветские слухи» и «панические, враждебные отношения». Уже в первые месяцы войны в агитационно-пропагандистской работе преобладали темы Отечественной войны 1812 года и борьбы против немецких захватчиков в 1918 году. Именно эти исторические мотивы прозвучали в речи Молотова 22 июня и в выступлении Сталина 3 июля 1941 года. В рекомендациях Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), опубликованных в июле 1941 года, важное место отводилось докладам, лекциям и беседам о героическом прошлом страны. В Карелии возрождались традиционные народные состязания, соревнования в силе и ловкости, народные хоры и лыжные праздники. В Чечено-Ингушетии в 19411943 гг. старики выезжали на фронт с подарками, выступали на массовых митингах и на собраниях, встречались с жителями горных и равнинных районов. В начале 1943 года Главное политическое управление Красной Армии направило специальную директиву о воспитании патриотизма на примерах героического прошлого русского народа. В различных изданиях политуправлений фронтов особо выделялся раздел об этике поведения русского офицера. Обращение к прошлому было апелляцией к национальной гордости и служило делу общенародного объединения против врага. В октябре 1942 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ об упразднении 166 института политкомиссаров и введении единоначалия в армии. Вслед за этим в армии было отменено социалистическое соревнование, и единственной обязанностью солдат стала служба Отечеству, как делали это их предки. Еще раньше стали создаваться гвардейские и казачьи части, а учрежденный в 1943 году орден Славы был преемником Георгиевского креста. По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 года армия и флот получили новую форму, также вводились погоны и офицерские знаки различия. В августе 1943 года правительство приняло решение о создании суворовских военных училищ, в июне 1944 года – нахимовских военно-морских училищ. Поворот к более полному воспроизведению истории страны, возрождение традиций и исторической преемственности общественное сознание в целом восприняло с большим удовлетворением и пониманием. Однако у части населения это вызывало вначале недопонимание, удивление и замешательство. Ортодоксально настроенные граждане воспринимали это как сдачу классовых позиций. Отдельных граждан не устраивало возрождение в армии офицерских званий, особенно полковника и генерала. Другие открыто выражали скрытое неодобрение в связи с тем, что Сталин наденет новый мундир с погонами. Война несла в себе полифонию самых разнообразных психоментальных проявлений, связанных с поведением человека в экстремальной ситуации: героизма и трусости, верности и предательства, жертвенности и корыстолюбия. Она заставила народ размышлять и сомневаться, открыто говорить о тех проблемах, о которых раньше нельзя было даже думать. Менталитет различных социальных и региональных групп менялся по мере развертывания боевых действий. У определенной части населения, настроенной антисоветски, коллаборационизм был значителен, так как они питали иллюзии, что немцы их избавляют от большевизма. Однако когда на оккупированных территориях установился репрессивный режим, ментальность и этой части общества стала меняться. Коллаборационисты не только не получили поддержки большинства населения на оккупированной территории, но и встречали с его стороны всяческое противодействие. Отечественные исследователи пришли к выводу, что в различных охранных, карательных частях, РОА и других националистических формированиях могло быть около 200 тыс. человек, из них в боевых формированиях – не более 100 тысяч. Очевидно, что причину предательства следует искать в деспотизме сталинского режима, однако сводить все причины к этому - значит упрощать проблему. Часть репрессированных и несправедливо обиженных людей не смогли понять, что сталинизм и Отечество - не одно и то же. Среди сотрудничавших с фашистами были и 167 такие, которые сознательно пошли на предательство. Третьи сделали этот шаг из беспринципности и трусости. Немало людей пошло на службу к противнику от отчаяния, не выдержав жесточайших условий плена. При этом часть из них надеялась, что удастся перейти к своим. Участники событий и анализ публикаций, воспоминаний и вопросов, заданных гражданами на вечерах вопросов и ответов, лекциях и беседах, показывают, что проблемы взаимоотношений союзников были в центре общественного сознания. Эти вопросы лидировали в количественном отношении среди других и далеко не всегда отражали официальные позиции. Как отмечалось в выступлениях граждан и в печати, важными побудительными мотивами борьбы была растущая надежда на счастливую жизнь после войны, на то, что наградой народу будет «окрепшая дружба со всеми народами мира». Создание антигитлеровской коалиции и расширение контактов с внешним миром, ранее воспринимавшимся преимущественно враждебным, способствовали преодолению абсолютизации классового подхода. В условиях войны крепло чувство принадлежности к единому человечеству, и сознание народа укреплялось общечеловеческими ценностями, интерес к которым заметно усилился. «Открытие» Европы для советского солдата способствовало преодолению искаженных представлений о союзниках и отказу от части идеологизированных мифов и стереотипов. Людей интересовали не только советско-англо-американские отношения, но и отношения с другими союзными государствами, их прошлое, настоящее и будущее. В центре внимания вполне естественно были: положение на фронтах, сотрудничество союзников в различных сферах, проблемы устройства послевоенного мира. В большинстве оценок чувствовалось одобрение объединения усилий в борьбе с фашизмом и стремление узнать больше о жизни друг друга. То есть наблюдается постепенная диффузия советских ценностей. Однако в сознании населения наблюдалось, как стремление еще больше доверять союзникам («Не лучше ли ввести к нам союзные войска?»), так и подозрительное отношение к ним как результат предшествующего исторического опыта. Встречались размышления о том, что Черчилль был вдохновителем интервенции 1918-1920 гг. и не подведет ли он в общей борьбе с гитлеризмом? Нередко подозрительность и недоверие сочетались, и были порождены полным незнанием и непониманием существа антигитлеровской коалиции, а также разочарованием непоследовательной политикой союзников по вопросу открытия второго фронта. Можно было встретить в сознании людей и враждебное отношение к союзникам: 168 «Будем ли мы воевать с Англией и Америкой? Какая часть буржуазных государств будет принадлежать нам после войны?». В мае 1943 года был распущен Коминтерн, а с января 1944 года вместо «Интернационала» стал исполняться новый государственный гимн, отличавшийся откровенно патриотической направленностью. Часть верных мировой пролетарской революции граждан восприняли роспуск Коминтерна как предательство или вынужденную уступку, осуществленную под давлением союзников, к которым относились враждебно. Следует признать, что военные испытания внесли в сознание людей определенную переоценку старых лозунгов и представлений, активизировали процесс становления гражданственности. Как отмечал философ-эмигрант Г.П. Федотов, «…Война принесла с собой апологию мести и жестокости. Но та же война разбудила ключи дремавшей нежности к поруганной родине … На маске железного большевицкого робота 20-х годов постепенно проступают черты человеческого лица». Действительно, общим и объединяющим всех фактором была опасность, стремление остановить врага и возвратить потерянное. Это было не только самосознанием народа, но и чертой его образа жизни. Характерной приметой военного образа жизни становились коллективная жизнь, напряженный труд, взаимовыручка и взаимодействие. Как суровая необходимость воспринимались населением введение нормированного распределения продуктов, увеличение налогов и регулирование трудовых отношений. В 1943-1944 гг. в общественном сознании усиливаются надежды на справедливость, доверие и гуманность отношений. Первоначально даже у части депортированного населения существовало мнение об ошибочности происходящего и вера в торжество справедливости, так как люди связывали насилие с именем наркома внутренних дел Л.П. Берии (1899-1953) и надеялись, что, узнав об этом, Сталин восстановит справедливость. Хотя большая часть депортированных стала прозревать значительно быстрее. Одновременно наблюдается рост критических настроений снизу, преодоление абсолютного единомыслия и всеобщего безгласия. Впрочем, многочисленные факты свободомыслия и критического отношения к действиям властей, по мнению современного исследователя Н.Д. Козлова, не обесценивают патриотизм и массовый героизм. Наоборот, они подтверждают осознанный характер последних. Анализ мнений, вопросов и высказываний, относящихся к 1942-1944 гг., позволяет говорить о 169 том, что в общественном сознании, особенно среди интеллигенции, укрепляется понимание и ожидание изменений и преобразований после войны в сторону демократизации жизни. Больше конкретности об ожидаемых изменениях выражалось в часто повторявшемся вопросе, допустимо ли после окончания войны повторение нэпа? Высказывались мнения, что колхозы будут скоро распускать, а власть переменится. Культ вождя в общественном сознании смягчался: это видно по содержанию периодических изданий (особенно в 1941-1942 гг.), когда частота ссылок на его авторитет и гениальность сократилась в несколько раз. Хотя элементы «стихийной десталинизации» на начальных этапах войны были сведены на нет ростом культовых настроений на завершающем ее этапе. 170 Глава 11. Политическая культура периода «холодной войны» (вторая половина 1940-х – первая половина 1980-х гг.) Конечно, политическую культуру столь длительного отрезка советской истории, наполненного разноплановыми событиями и олицетворяемого столь непохожими лидерами (И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов и К.У. Черненко), трудно привести к «общему знаменателю». Тем не менее, политические настроения послевоенного сорокалетия во многом определялись атмосферой «холодной войны», чья ментальность, по определению М.Я. Гефтера, «возникла еще ранее ее самой». В этом контексте особое значение приобретает изучение того наследства, которое нам оставило советское общество, прежде всего, умонастроений и поведенческих стереотипов. По твердому убеждению известных российских историков В.С. Лельчука и Е.И. Пивовара, сущностным элементом «холодной войны», определяющим политическую культуру «верхов» и «низов», являлось противоборство двух систем. Лейтмотив всего этого был крайне прост: страну окружают враги, поэтому надо воспитывать бдительность, ненависть к врагу и повсеместно разоблачать «агентов империализма». «Железный занавес» способствовал тому, что тема двух противоположных лагерей прочно вошла в разговоры на бытовом уровне самых широких слоев населения. Системе, достигшей в годы правления Сталина своей зрелости, был необходим «образ врага», формирование которого началось сразу после войны. Сначала это были США и Великобритания, а затем исключительно американский «империализм», заменивший собой поверженный нацизм. «У каждого зрелого тела все должно быть хорошо внутри, однако извне у него обязательно должен быть сильный враг. Этот враг был и у нас, да не какая-нибудь Югославия, а самый гнусный, самый коварный, ну и, конечно, самый обреченный – Америка!», - в этом рассуждении одного из лидеров «городской» прозы Василия Аксенова метко схвачена особенность политического сознания советского общества тех лет. 171 1. Между великими свершениями и несбывшимися надеждами Послевоенный период стал одним из ключевых этапов развития советского общества. Именно после победоносного завершения войны сформировался комплекс надежд и ожиданий, и, прежде всего, на либеральную трансформацию сталинского режима. Послевоенная специфика, по мнению Е.Ю. Зубковой, вносила свои коррективы в систему сформировавшихся в предвоенные и военные годы ценностей и влияла на характер отношений между народом и властью. Народ был готов принять любые, даже самые непопулярные решения верховной власти, если она оправдывалась интересами обороны страны. Но ценой достигнутого военного могущества страны стало разорение российской деревни и падение нравственного уровня сельского населения. По мнению современного исследователя послевоенной деревни В.П. Попова, деревню в повиновении держали страх и строгая регламентация жизни. В трудные голодные годы крестьянство особенно остро ощущало потребительское отношение к селу со стороны власти, сконцентрированной в городах. Еще один авторитетный исследователь крестьянской проблематики В.Ф. Зима показал, что недоверие и растущее недовольство властью автоматически распространялось и на жителей городов. Более того, анализ слуховой культуры этого времени показывает слияние в массовом сознании двух основных слухов: о роспуске колхозов и партии коммунистов. Миф о враждебном окружении дополнялся мифологемой о наличии «пятой колонны» внутри страны. Атрибутом политического режима, перманентно насаждающего чрезвычайные меры, продолжал оставаться ГУЛАГ. Политика репрессий раскалывала советское общество, помогала формированию образа врага и одновременно выделяла слой населения, в массе своей поддерживающий эту политику и в значительной мере заинтересованный в ее сохранении. Сегодня очевидно, что и после победы над фашизмом страна находилась в состоянии «войны» между народом и навязанной ему системой власти. Еще при жизни Сталина появился анекдот, в котором по аналогии с коньяком вождя называли «маньяк три звездочки», имея в виду три золотых звезды Героя Советского Союза, которыми он себя наградил. Не случайно, послевоенный период в научной литературе презентуется как «разрушительно-воинствующий» этап советского диссидентства. Сегодня под диссидентством понимается сочетание инакомыслия с инакодействием, не 172 подразумевающее конкретной политической ориентации. Это, скорее, совокупность мыслей и поступков, не соответствующих идеологии, нормам и ценностям советского общества, направленных на изменение или, только в крайней случае, подрыв советской системы. Советское диссидентство, прежде всего, проявлялось в форме социальных движений без четкой организационной структуры, единого центра и общей идеологической платформы. Современные исследования показывают, что в целом советское диссидентство, являющееся очевидным симптомом кризиса системы, не выступало против Советской власти как таковой, а преследовало цель ее усовершенствования путем создания условий для реализации на практике провозглашенных самим руководством прав и свобод. Основными формами выражения несогласия стали: самиздат и тамиздат, митинги и демонстрации, голодовки и пр. В 1947 году в Воронеже была создана группой молодых людей нелегальная антисталинская организация «Коммунистическая партия молодежи», участники которой ставили задачу распространение в массах «марксистско-ленинских норм партийной демократии». Однако в программной декларации имелся секретный пункт, согласно которому в случае невозможности отстранения Сталина от власти демократическим путем не исключалась возможность его насильственного смещения. Центрами оппозиции (в основном духовной) режиму были крупные промышленные и научные города, прежде всего Москва и Ленинград, однако единичные эпизоды инакомыслия наблюдались чуть ли не в каждом населенном пункте, даже в провинциальной глубинке. Если в глазах власти инакомыслие выступало как ересь и ревизионизм, то со стороны обывателей (особенно в провинции) любые формы инакомыслия расценивались со стороны как аномалия, таящая в себе скрытую опасность. Но все же определяющим фактором политической культуры этого периода стало не диссидентство, а нонконформизм, определяющий несогласие на ситуативно-бытовом уровне. Феноменом политической культуры населения стала «двуликость» мыслей, слов и поведения. С одной стороны, на социокультурные и политические нормы влияла «вещная» ментальность («пришла страна Лимония, сплошная Чемодания»), а с другой, война повысила у советских людей чувство личного и группового достоинства. Фронтовики (потенциальные «неодекабристы») фактически превратились в новый социум, а милитаризированное сознание огромного числа демобилизованных солдат, возвратившихся в гражданское общество, оказало на него заметное влияние. Можно сказать, что адаптация к мирной жизни военного поколения выступала своеобразным 173 поиском новой идентичности. В социуме, ориентированном на выживание, сочетались эйфория победы («Победителей не судят!») и горечь утрат, пафос восстановления и усталость. Война сделала своеобразную прививку антисоциальных правил поведения и привела, по выражению знаменитого швейцарского психолога и психиатора Карла Юнга (1875-1961), к определенной «мутации поведенческих реакций огромных масс людей». Огромная волна преступлений была спровоцирована голодом 1946-1947 гг. В целом по СССР число хищений всякого рода имущества повысилось в 1947 году почти на 50% по сравнению с 1946 годом. А случаи бандитизма, разбоя и грабежа были в 2 раза чаще. Характерно, что по всем видам правонарушений доминировали самые низкооплачиваемые группы трудящихся – рабочие и колхозники. По времени голод совпал с демобилизацией из армии миллионов военнослужащих. На долю победителей выпало немало проблем материально-бытового плана, поскольку постановления правительства о трудоустройстве демобилизованных выполнялись неудовлетворительно. Десятки, если не сотни тысяч вчерашних фронтовиков были безработными. Для того чтобы устроиться на работу, они скрывали свои ранения и инвалидность, так как было распоряжение не принимать на работу инвалидов II группы. Некоторые из них умерли от голода и болезней, другие нищенствовали, а третьи становились на путь преступлений. Однако весьма эффективное использование сталинским режимом различных средств воздействия на сознание граждан (от пропаганды до террора) вело к формированию в массовом сознании образа «жизнь-сказка», в котором Сталин выступал символом веры в «высшую» справедливость. Подобные настроения опирались на отторжение экстремальности и в целом лояльное отношение к режиму. Надежды на лучшую жизнь трансформировали «великие стройки коммунизма» в сознании людей в новый символ «светлого будущего». Иллюзия единства власти и народа в послевоенный период создавалась показной (ритуальной) политической активностью как способом выживания. Взятый руководством страны курс на замещение номенклатурных должностей лицами преимущественно с высшим и средним техническим образованием, на повышение уровня культуры и политической компетентности региональных лидеров превращал в глазах общества правящую элиту в наиболее образованную часть общества. Последнее обстоятельство, несомненно, повышало авторитет власти в целом. Иллюзию соучастия во власти поддерживало развитие в начале 1950-х рабочих инициатив по осуществлению новых форм 174 управления предприятиями. На идею единства народа и вождя работала и задача совместного противостояния внешним и внутренним врагам. Однако выборы 1946 года показали наличие в политическом сознании «двух мнений»: «всенародного одобрения» и сомнений в демократическом характере выборов. У части общества проявились либеральные иллюзии на возможность трансформации режима. Послевоенные реалии продемонстрировали рост религиозных настроений, традиционную для политической культуры аполитичность и доминирование представлений о власти как о некой абстрактной силе - «они». В действительности вопросы политики интересовали лишь малую часть населения, остальных волновали заслонявшие политику вопросы элементарного выживания. Правда, иногда «политика» искусственно выступала на первый план, когда в ходе организованных властью кампаний «простые люди» осуждали «несознательных» философов и языковедов или возмущались «формализмом» в музыке. 2. Политическая «оттепель»: ожидание перемен Изменение политического «климата» после смерти Сталина было не столь резким и последовательным, как это видится теперь. Например, многим, слушавшим на похоронах Сталина выступление Берии, импонировала его твердая, напоминающая умершего вождя речь. В свою очередь волна беспорядков и грабежей, вызванная выпущенными Берией по амнистии уголовниками, подталкивала людей к привычной мысли о необходимости «твердой руки». Даже предельно дозированная информация о преступлениях Сталина и его подручных, многих советских людей повергла в шок. Тем не менее, главной ментальной подвижкой «оттепели» стало постепенное исчезновение страха в обществе. Вместе с новым курсом Н.С. Хрущева (1894-1971) уходил страх, а нонконформизм проникал во все поры советского общества. Частичная легализация инакомыслия привела к тому, что с людских глаз постепенно сходила социальная катаракта, делавшая мир «королевством кривых зеркал». Оживилась духовная жизнь общества, когда барды, чье творчество отходит от канонов официальной идеологии, стали кумирами. На какое-то время поэты становятся «больше, чем поэты». Профессор истории МГУ С.С. Дмитриев в дневниковой записи от 20 ноября 1961 г. замечал, что свое недоверие люди открыто или полуоткрыто выражали, читая, например, у памятника А.С. Пушкину такие стихи: «Не верьте министрам, не верьте попам…». 175 Важным побудительным моментом в развитии инакомыслия и формирования будущих диссидентов стал ХХ съезд партии. Свой вклад в изменение общественного сознания внесла и реабилитация осужденных. Для этапа «политической контркультуры» в развитии диссидентства (1956-1964 гг.) был характерны феномен «внутренней эмиграции», сознательное противопоставление власти Родине и восприятие власти как «чужой» при сохранении лояльности по отношению к народу. По-новому вчитываясь в произведения классиков, участники студенческих кружков в ряде вузов страны пытались сформулировать нетрадиционное видение прошлого, настоящего и будущего страны. Одним из самых известных неформальных объединений периода «оттепели» стал кружок аспиранта исторического факультета МГУ Льва Краснопевцева, в рамках которого происходили бурные политические дебаты по политической теории и практике, завершившиеся сроками заключения для их участников. В 1960 году был подвергнут аресту Александр Гинзбург – составитель подпольного журнала «Синтаксис». В теплотехнической лаборатории АН СССР молодой ученый Юрий Орлов, предвосхищая лозунги перестройки, заявил, что гарантией неповторения культа личности должны стать «гласность и демократизация как партии, так и общества». Следует еще раз подчеркнуть, что подавляющее число членов подобных объединений не ставило под сомнение основ системы, думая лишь об ее обновлении. Даже известный ленинградский ученый Револьт Пименов, подготовивший в середине 1950-х гг. рукопись «Судьбы русской революции», не вышел за рамки ценностей социалистической системы. В 1950-60-х гг. активизируется и «антисоветская деятельность» национальных и религиозных оппозиционеров. Хотя если до конца 1950-х гг. национальные оппозиции заявляли о себе довольно радикальными методами, то с 60-х годов методы борьбы становятся более мирными и легальными. В Прибалтике акцент смещается с подпольных формирований на самиздат, количество изданий которого резко увеличилось. На Западной Украине к середине 1950-х гг. подпольные методы борьбы ушли практически полностью в прошлое, и эстафета перешла к литературным кругам. К середине 1960-х годов радикальное крыло национальной «фронды» на Украине фактически сходит на нет. Общая либерализация режима сказалась и на оживлении деятельности церкви. С 1950-х гг. в стране наблюдается активизация религиозности и некоторое укрепление (прежде всего материальное) положения РПЦ. Число верующих не только не уменьшалось, а, наоборот, увеличивалось, в том числе за счет молодежи, обратившейся к вере. С другой стороны, то, что с конца 50-х годов православное 176 руководство идет на более тесное сотрудничество с властью в связи с усилением репрессивных мер с ее стороны, в свою очередь, стимулировало создание оппозиции внутри самой церкви. Центром религиозного диссидентства становится Московская патриархия (священники Д. Дудко, С. Желудков, Г. Якунин и др.), чья деятельность тесно переплеталась с правозащитной тематикой. Первые реформаторские шаги послесталинского «коллективного» руководства породили в обществе надежды на смягчение давления со стороны власти. Так, крестьянство поддержало курс председателя Совета министров СССР Г.М. Маленкова (1902-1988) на проведение целой системы популярных мер в сельском хозяйстве. В свою очередь, Хрущев, объявивший себя наследником Ленина, возродил мифологему «революционного обновления» и довел ее до высшей точки – строительства коммунизма. Конечно, в конкретные цифры Программы партии никто не верил, но зато каждый нашел в ней желаемое для себя. Но непоследовательность, неоднозначность и незавершенность политических шагов послесталинского руководства, парадоксы хрущевской «оттепели» и реформаторства (например, кукурузная эпопея и «рязанская афера») порождали в массовом сознании негативные оценки. Советскому обществу «не было дела» до того, как принималось то или иное решение. Его больше интересовали результаты. Для устойчивости в новой политической иерархии был необходим высокий реальный авторитет руководителей, который мог возникнуть только в условиях опоры в политической жизни на демократические процедуры. Но поколение руководителей, на которое падала «тень Сталина», было не готово к этому в принципе. В результате сложилась весьма противоречивая ситуация в политической сфере: разрушение устоев «культа личности» осуществлялось «культовыми» методами. Хотя «культовое» отношение «снизу» уже не было решающим в 1950-х гг. Хрущев, создав на месте культа Сталина свой «культик», подорвал возможности мифа для легитимации власти. Лозунг «Догнать и перегнать Америку!» так не стал национальной идеей, а события в Новочеркасске стали очевидным признаком кризиса власти. Повышение с 1 июня 1962 года цен на мясо, масло, молоко и молочные продукты вызвало массовое и резкое неприятие. Если в одних случаях выплескивалось пассивное раздражение («Болтун Хрущев, где твое изобилие?»), в ряде мест (Челябинск, Бердск Новосибирской области) раздавались призывы к активному протесту. Своего апогея недовольство достигло в городе Новочеркасске Ростовской области, где оно выплеснулось на улицы. После расстрела митинга рабочих электровозостроительного завода по городу прошла волна 177 арестов. Эти залпы прозвучали тревожным диссонансом тому, что еще вызывало народную веру в официальную пропаганду. Тем не менее, разоблачение культа личности Сталина и политическая реабилитация способствовали повороту к правам и свободам, к элементарной возможности для трудящихся более откровенно обсуждать проблемы политической жизни страны. Особенно активным, по мнению известного российского историка А.А. Данилова, участие граждан в обсуждении важнейших документов было на волне относительной демократизации советского режима в конце 1950-х - начале 1960-х гг., когда развитие общественных начал в деятельности государственных и негосударственных организаций было провозглашено одним из приоритетов власти. Первым крупным шагом на этом пути стало обсуждение проекта новой Программы КПСС, проходившее в канун XXII съезда. Другим, не менее важным и даже более полным по составу участников стало растянувшееся на 1962-1964 гг. обсуждение проекта новой Конституции СССР. Особенность этого обсуждения советскими гражданами состояла в том, что некоторыми из них были предложены собственные проекты нового Основного закона страны. Например, в проекте ленинградского учителя В.В. Покровского, состоявшем из 127 статей, предполагалось введение поста Президента СССР. Обширным был и круг вопросов, поднятых в письмах граждан. Некто Тарасов из Касимова предлагал закрепить в самом названии проекта направленность Конституции на построение коммунизма в СССР, а Бубеннов из Ростова-на-Дону - переименовать СССР в Союз Советских Коммунистических Республик. По-разному предлагалось определить особую роль правящей партии в жизни страны. Кроме предложений констатировать ее в отдельной статье, предлагалось сформировать специальные государственные органы. Например, заменить Верховный Совет СССР Верховным Административным Советом, состоящим из трех равноправных частей: Палаты партии, Палаты Союза и Палаты Национальностей. Вносились также предложения, направленные на изменение основ избирательной системы. Житель Калинина Баженов справедливо критиковал «систему единственного кандидата», превращающую выборы в формальность и снижающую чувство ответственности депутатов, а юрист Салихов из Минска указывал на необходимость закрепления в Конституции положения о непривлечении к уголовной ответственности за убеждения. В целях гарантий соблюдения конституционных прав и свобод рабочий Новокузнецкого алюминиевого завода Рудаков предлагал создать специальный 178 Охранный конституционный комитет. То есть предложения граждан по вопросам государственного строительства, с одной стороны, отражали сложившуюся в стране ситуацию, а с другой – содержали элементы либерально-демократической политической модели, основанной на разделении властей, общественном контроле за ними, реальном соблюдении гражданских прав и свобод, демократической системе выборов. При этом сравнения с западными образцами чаще всего были не в пользу советской модели. В проектах и письмах граждан столкнулись две крайние позиции в вопросе будущего национально-государственного и административного устройства страны. С одной стороны, отмечалась тенденция закрепить сложившуюся особую роль Центра, а с другой – попытки повысить статус не только союзных республик, но и автономий и даже некоторых административных регионов РСФСР. Предлагалось внести изменения и в государственную символику. Так, инженер Киселев из Пензы предлагал наряду с серпом и молотом в новом гербе страны изобразить циркуль, символ мирного атома или искусственного спутника Земли, чтобы подчеркнуть усиление роли интеллектуального труда. Анонимный корреспондент из Кировской области предлагал ввести в государственный флаг цвета радуги, так как «кровавый цвет флага – жестокий цвет». Персональный пенсионер союзного значения, участник революции из Симферополя предлагал «принять трехцветный флаг: красный – революционный период, синий – период строительства социализма, белый – период мира, период коммунизма». По существу, речь шла о возврате к дореволюционному флагу России, новым было только объяснение символики цвета. Е.И. Пивовар выделяет ряд социальных процессов хрущевского периода, которые существенно повлияли на трансформацию политической культуры: «1. Глубинные противоречия между задачами дальнейшей модернизации советского общества и сущностными чертами самой советской системы. 2. Развертывание НТР, приводящее к углублению неразрешимых противоречий между передовыми сферами отечественной экономики и отсталостью большинства ее секторов. 3. Революционные сдвиги в процессе урбанизации, революция в образовании и вместе с тем отсутствие доступа к информации для большинства населения страны. 4. Складывание в передовых западных странах общества потребления и ситуация псевдопотребительского общества в СССР». 179 В своей совокупности эти факторы многое объясняют в трансформации политической культуры хрущевского периода. Еще сохраняется как черта советской ментальности энтузиазм, нашедший свое место в целинной эпопее. Но поддерживать долго этот «накал» не удалось. Конечно, основания для гордости за свою страну были (первый спутник, первый полет человека в космос), но все попытки сверху, на волне романтико-социалистического энтузиазма возродить веру в коммунистические идеалы не опирались на адекватную социально-психологическую почву. Общество в целом с иронией отнеслось к новой программе партии, обещавшей уже через 20 лет построение коммунистического общества. Еще более скептически был воспринят «Моральный кодекс строителя коммунизма» (или как его называли Евангелие от Ильичева – секретаря ЦК, руководившего тогда идеологией). В сознании людей все больше доминирует недоверие к официальной пропаганде, истории и статистике. Народ не только пытался раскрыть власти глаза на свое положение, но и на нее саму. Например, в послании Хрущеву от «коммуниста-доброжелателя», датированном 1961 годом, давался совет вернуться к народовластию, чтобы сам народ мог влиять на политическую жизнь. 3. Политическая культура эпохи «застоя» Конечно, само понятие «застой», выпестованное внутри горбачевского аппарата, как антипод «революционной перестройке» и ее оправдание, требует уточнения. Если в экономике все больше обнаруживалась тенденция к стагнации, то в сфере политики и морали наблюдался явный откат назад в сравнении с периодом «оттепели». Политическое словоблудие и разложение власти, утрата нравственных ценностей и повсеместное падение нравов наглядно свидетельствовали о глубоком кризисе советского общества. Усилившаяся тенденция к ресталинизации при Ю.В. Андропове (1914-1984) привела к разработке для некоторых городов, а в столице к утверждению «Кодекса жителя коммунистического города», в соответствии с которым требовалось «покончить» со стяжателями и тунеядцами, под которыми понимались и диссиденты. Но ресталинизация общества порождала не только элементы энтузиазма и утопизма, но и карьеристское сознание прихлебал и доносчиков. Двоемыслие и двоедушие становились социальной нормой. Люди без запинки отвечали о преимуществах советского образа жизни, а между собой вели другие разговоры. 180 Существенно повлияли на процесс эрозии советского конформизма события «Пражской весны» 1968 года, под влиянием которых политическое сознание общества все больше менялось. Если в годы хрущевской «либеральной весны» власть уже не так боялись, но относительно ее имелись еще какие-то иллюзии, то потом ее и не боялись, и не любили. В эпоху «советского конформизма» был разрушен не только идеал служения власти людям, оправдывающий самые завышенные требования власти, но и идеал государственного служения. В ряду основных характеристик «человека советского» сохранялись представления о собственной исключительности, патерналистская ориентация на государство, иерархичность и имперский характер, однако все больше усиливалось «стремление быть как все и не выделяться». Свои штрихи в потрет советского общества внесла война в Афганистане, не только усилившая милитаризм сознания советских людей, но и породившая морально опустошенное, искалеченное войной поколение. Все более свои социоментальные приоритеты расставлял «дефицит». Продавщица специальной секции ГУМа в социальной иерархии стояла выше заведующего кафедрой в университете. А это в корне ломало представления о соотношении власти и богатства в российской политической жизни. Некоторое ослабление «железного занавеса» способствовало изменению взгляда советских людей на западное общество и поколебало принципиальное положение советской идеологии о преимуществе советской системы перед западным образом жизни. Более того. Страна через импорт активно осваивала не только западную продукцию, но и многие черты западной политической культуры. Даже одеваться в «фирму» значило создать себе некий рейтинг престижности. О прозрении советских людей свидетельствует подборка типичных вопросов, задаваемых в 1970-х – начале 1980-х гг. лекторам отдела пропаганды ЦК КПСС на местах: «Можно ли говорить в настоящее время о зрелом социалистическом обществе, если не решены еще многие важные вопросы, связанные с жизненным уровнем советских людей?»; «Почему при всех преимуществах социализма больше людей уезжает из социалистических стран в капиталистические, чем наоборот?»; «Почему у нас не меняются руководящие партийные и советские кадры по 35-30 лет?» и т.п. Недоверие к официозу вело к увеличению дистанции между властью и народом, росту нонконформизма и расширению инакомыслия. По этому поводу вынужденно эмигрировавший скульптор и график Эрнст Неизвестный верно заметил: «… В своей советской жизни я не встречал недиссидентов. Ни разу. Недовольными были все. Даже 181 мои друзья-милиционеры одно время были недовольны, что у них отняли палки. И они немного были тоже диссидентами». Приход к власти Л.И. Брежнева (1906-1982) стал новым этапом в развитии диссидентства. Периоды развития диссидентского движения («общенародное движение» 1965-1971 гг. и «сокращение и политическая поляризация» в 1971-1985 гг.) не только расширили масштабы «самиздата» и «тамиздата», но и разнообразили формы «инакодействия»: митинги и демонстрации, организации и фонды, голодовки и другие проявления протеста. Диссидентское движение не только стало реакцией на ужесточение политического режима, но отразило качественные изменения в общественном сознании, все более тяготеющем к плюрализму и свободе в выражении своих убеждений. Самым важным в этом процессе стало превращение правозащитного движения (Инициативная группа защиты прав человека в СССР, Комитет прав человека в СССР, Хельсинские группы) в ядро диссидентства. Рождение правозащитного движения совпало с процессом над писателями Андреем Синявским (1925-1997) и Юлием Даниэлем (1925-1988). В связи с этим в 1965 году в Москве на Пушкинской площади состоялась демонстрация, инициатором которой стал сын Сергея Есенина А.С. ЕсенинВольпин. Активную роль в расшатывании основ системы играл «самиздат» и особенно «Хроника текущих событий». Но следует признать, что правозащитная активность была обращена более к Западу, чем к руководству страны и, еще менее, к общественности. Так же «далеко от народа» находилось социалистическое и социалдемократическое направление, представители которого призывали к возрождению истинно ленинского наследия. В 1972 году Брежнев заявил о полном решении национального вопроса в «тех аспектах, в каких он достался нам от дореволюционного прошлого», но это не сняло проявлений национализма в республиках. Новыми чертами стала активизация движения за национальную независимость, за возвращение депортированных народов в места обитания и за эмиграцию. Хотя движение советских депортированных народов и стремившихся к эмиграции характеризовалось явной аполитичностью. Характерной приметой времени стало формирование русской национальной оппозиции, лидеры которой (писатель А.И. Солженицын, математик И.Р. Шафаревич и публицист Г.М. Шиманов) отстаивали идеи богоизбранности и религиозности русского народа и открыто заявляли о неприятии социализма. С приходом Брежнева власть пыталась найти компромисс с церковью, хотя серьезные намерения советское руководство стало высказывать только с середины 182 1970-х годов. Но уже с конца 1960-х гг. обостряются отношения между Патриархией, которая все больше склоняется к диалогу с властями, и религиозными диссидентами. В итоге в 1976 году была создана первая религиозная организация правозащитного характера – Христианский комитет защиты прав верующих в СССР, а в деятельности возникшего в результате раскола у евангельских христиан-баптистов Совета церквей ЕХБ все больше прослеживаются антисоветские мотивы. Тесное сотрудничество сектантов с правозащитниками привело к образованию в 1980 году правозащитной организации пятидесятников. Несмотря на очевидные отличия, можно говорить о единой сталинскобрежневской модели политической культуры. Хотя во втором случае реализация этой модели была, скорее, фарсом. Стареющий Брежнев вызывал в массах анекдотичный образ «бровеносца с потемках». Период правления ставленника номенклатуры Брежнева во многом выпадает из мифологического пространства. Привычная мифологема предлагала выхолащивалась «коллективный беспощадно: разум», а вместо вместо всемогущего создания Хозяина царства она всеобщей справедливости и благоденствия – возможность насладиться реалиями «развитого социализма». В это время миф окончательно превращается в псевдомиф, получая свою оппозицию в лице диссидентства. На кухнях и в курилках муссировались новые мифы о некоем «истинном марксизме», загубленном номенклатурой, и об «истинной западной демократии». С другой стороны, возрождались старые мифы об особом пути России, на котором социализм – лишь временное испытание. Но «оппозиционная» мифология была в зачаточном состоянии, и в эту лагуну ворвался М.С. Горбачев со своей идеей «перестройки». 183 Глава 12. «Новое мышление» для страны и мира: политическая культура периода «перестройки» Несмотря на то, что завершение «холодной войны» было декларировано российским руководством только в январе 1992 года, период второй половины 1980-х – начала 1990-х годов можно рассматривать как время перехода от политики конфронтации к сотрудничеству. Освобождение под международным давлением «узников совести», изменение политики в области эмиграции и поездок за границу, реальные шаги в разоружении, «бархатные революции» в странах Восточной Европы и вывод войск из Афганистана стали важным фактором изменения общественного мнения внутри страны. По твердому убеждению В.В. Согрина, советское общество следовало в фарватере горбачевской идеологии, расходясь с ней в лучшем случае в нюансах и тактике, но не в стратегическом выборе. Помимо вышеуказанного международного аспекта, специфику периода «перестройки» определяет попытка Горбачева соединить социализм с демократией и рынком. Заступив в 1985 году на пост Генерального секретаря ЦК КПСС с твердым намерением дать обществу «больше социализма», уже в 1987 году, обнаружив банкротство советской модели модернизации, он бросил в массы лозунг «Больше демократии!», открыв тем самым дорогу модернизации политической системы «снизу». Усиление необходимости политических преобразований во многом объясняется неудачей экономических реформ. Быстро ухудшавшаяся обстановка в сфере потребления привела к тому, что немедленный переход к рынку стал преподноситься массовому сознанию как выход из тупика, а партийно-государственная система - как бюрократическое препятствие на пути к «процветанию». Гласность в общественно-политической области начиналась с разоблачения преступлений сталинизма. В 1987 г. была создана Комиссия Политбюро ЦК партии по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 1930-40-х – начала 1950-х гг. Новый этап гласности обеспечил приянтие и введение в действие с 1 августа 1990 г. Закона о печати, отменившего цензуру и вводившего демократические условия работы СМИ. Однако, вскоре гласность, исчерпав потенциал «пробуждения общества», стала превращаться в орудие острой политической борьбы. Переход от политики дозированной гласности к ликвидации «белых пятен» в истории привел к сведению истории страны к истории сталинских 184 репрессий. Гласность открыла запретные шлюзы в массовом сознании. В душах людей боролись разные чувства – от желания перемен до въевшегося многолетнего страха. В период перестройки менталитет советского общества продолжал расщепляться на разные составляющие. Одни приветствовали перемены, связывая с этим утверждение гуманистических норм. Другие, наоборот, тяжело переживали инфляцию традиционных ценностей. В целом процесс гласности оказался нерегулируемым и приобрел массово-стихийный характер. Начавшись с критики истории советского государства, сталинского «тоталитаризма» и массовых репрессий, советского бюрократизма и командно-административной системы управления, процесс затронул всю советскую систему, а главным объектом критики стала КПСС. Это способствовало падению ее авторитета в массах, ускоренному размыванию советской идеологии, распространению либеральных идей, переоценке взглядов на социализм в целом и ускорению перехода к политическому либерализму. Мощный обличительный поток объявлял все 70 лет Советской власти черным периодом в истории России и призывал к новому революционному перевороту, к поискам нового, «капиталистического рая». Радикалы, вышедшие на политическую сцену в 1989 году, а в 1990 году возглавившие российский политический процесс, как и Горбачев, видели панацею в усвоении россиянами либерально-демократических ценностей, но в отличие от президента СССР, безраздельно отдали свои симпатии капитализму западного типа. Однако, следует признать, что примитивно-утопическое западничество («народный капитализм») радикалов соответствовал ожиданиям масс и их уровню политической культуры. Прекращение глушения западных радиоголосов, рост численности неподцензурных изданий (если до 1987 года таких изданий было не более 20, то к 1990 году их количество возросло до 780) и возрастание влияния СМИ на политические установки основной массы населения СССР превращали инакомыслие в массовый феномен. Эта «вседозволенность» и выбила фундамент из-под оставшихся диссидентов. Во второй половине 1980-х гг. повторилась ситуация начала ХХ в., когда интеллигенция, имея в целом смутную программу деятельности, всю свою энергию выплеснула в безудержной критике прошлого и настоящего. Если сами оппозиционеры в начале перестройки были более благодушны и оптимистичны в отношении преобразований, то в конце 1990-х гг. практически общей для большинства инакомыслящих становится позиция скепсиса, апатии и невостребованности. Значительно упал и интерес к диссидентам в обществе. В целом российское общество в 185 выработке своей позиции по отношению к диссидентам прошло несколько этапов. Если в 1985-1988 гг. отношение к ним было настороженным, то в 1989-1993 гг. из них стали упорно лепить героев. Однако «бунт шестидесятников», начатый при Хрущеве против сталинизма и за «социализм с человеческим лицом», при Горбачеве закончился совсем не тем, на что они рассчитывали. «Перестройка» дала оппозиции шанс начать конструктивную политическая деятельность. сила, с Но которой диссиденты следовало не бы состоялись считаться. как Они серьезная оказались невостребованными как внутри страны, так и со стороны Запада, который ранее активно их поддерживал с целью оказать воздействие на руководство СССР. Мы видим, что со времени «перестройки» в общественном сознании четко формируются установки, иллюстрирующие то, от чего обществу предстоит избавиться, но созидательная часть спектра была представлена весьма туманно. С одной стороны граждане поддерживали идею перманентных реформ, но с другой стороны, советский опыт заставлял относиться к реформам как к очередной кампании «сверху». Радикальные компоненты политических представлений основной массы населения (максимализм, неумение идти средним путем и отсутствие меры) определяли не только феномен негативного голосования, но и настроения «политической бури и натиска». Общество в конце 1980-х бурно политизируется: на улицы и площади городов выходят массовые манифестации отнюдь не под верноподданническими лозунгами. Митинги становятся фактически перманентными. С трибун XXVIII съезда КПСС ораторы клянутся в верности делу социализма, а в стачечном комитете шахтерского Донецка рядом с портретом Ленина висит рисунок закованного в наручники и с собачьим ошейником рабочего, на которых написано «КГБ», «МВД», «Мафия» и «КПСС». Надписи на плакатах митингующих говорят сами за себя: «Коммунизм не пройдет», «КПСС – клан паразитов», «Не верьте Горбачеву» и т.п. С началом «перестроечных» годов значительно усилилось разнообразие социально и политически значимых акторов «гражданского общества» в СССР. С 1987 года усиливается активность политических кружков и клубов, именовавшихся тогда «неформалами», чья деятельность стала прелюдией к появлению политических партий. В мае 1988 года появляется первая откровенно оппозиционная КПСС политическая организация – Демократический союз Валерии Новодворской. Возникшие в 1988 году первые независимые общественно-политические организации и партии, а также созданные в Прибалтике народные фронты формировали в массовом сознании непривычные установки. А историко-просветительское общество «Мемориал», в числе 186 организаторов которого были известные писатели и политики (Алесь Адамович, Юрий Афанасьев, Григорий Бакланов, Василь Быков, Евгений Евтушенко, Борис Ельцин, Дмитрий Лихачев, Андрей Сахаров и Александр Солженицын), способствовало сглаживании разрыва исторической памяти. В свою очередь, раскрепощенное историческое сознание активно участвует в формировании новой многоликой политической культуры. Хотя в период «перестройки» целевые установки «социалистического плюрализма» очерчивались политическим плюрализмом в рамках, установленных руководством КПСС, процесс реализации определенных XIX партийной конференцией реформ, так же как и гласность, вышел из-под контроля организаторов и привел к непредвиденным последствиям. В КПСС, неготовой к радикальным преобразованиям, фактически возник раскол на платформы, и начался выход радикально настроенных коммунистов, прежде всего интеллигенции, из ее рядов. Сократилась и доля рабочих в партии. Набирают силу национальные движения и создаваемые на их основе политикоорганизационные структуры. Яркую политическую окраску приобретает рабочее движение. То есть во взаимоотношениях власти и общества наступает новая качественная фаза. В феврале 1990 года расширенный пленум ЦК КПСС принял решение об отказе от руководящей роли партии, переходе к многопартийной системе и введении поста президента СССР. Внеочередной Съезд народных депутатов в марте этого же года узаконил изменение 6-й статьи Конституции СССР. Начавшаяся дезинтеграция государства вела к организационному распаду политического пространства СССР: возникла Компартия России, легальный статус обрели антикоммунистические в своем большинстве силы. Радикалы в депутатском корпусе создали свою Межрегиональную группу, отрыто требуя углубления реформ, отмены монопольной власти КПСС и либерализации общества. В конце 1980-х гг. требование многопартийности было самым модным политическим лозунгом того времени, так как именно с деятельностью новых партий связывались надежды на лучшую жизнь. Крушение социалистического мифа и феномен завышенных ожиданий широких слоев населения способствовали распространению либеральных идей под лозунгом «Больше капитализма!». Публичный отказ от официальных стандартов, лозунгов и символов советской идеологии соседствовал с утратой доверия к большинству политических институтов и лидеров. Подрыву основ официальной идеологии и смене 187 политических ориентиров способствовали также криминализация советской экономики и заметная активизация частнособственнических настроений. Выборы на I съезд народных депутатов (май-июнь 1989 г.) явились прорывом в демократическом развитии страны, а трансляция заседаний съезда стала поистине «общенародной программой». Но после первых взрывов энтузиазма, когда стало очевидно, что привычный строй жизни распадается, произошла реанимация советской мифологии, которая в данных условиях приобрела безоговорочно консервативный характер. Публикация в марте 1988 г. в «Советской России» статьи Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» стала одним из ярких проявлений этого. Постепенно, по мере того, как перестройка заходила в тупик, эти взгляды обретали все больше сторонников, а в восприятии представителей «партийно-патриотического движения» Горбачев превратился в символ предательства «идеалов социализма». В отсутствии культуры политического диалога столкновение сторонников «столбовой дороги капитализма» и коммунистов-консерваторов еще больше раскалывало общество. Уже в конце «перестройки», когда многократно возросла политическая активность населения, по мнению ряда современных историков и политологов, в СССР начало формироваться политическое ядро «гражданского общества» западного типа. Активизировались такие структурные элементы политической культуры, как познавательные (независимая пресса и СМИ, бесцензурная литература), так и поведенческие (политические установки, типы, формы, стили общественно- политической активности и политического поведения). Если в 1920-е и в 1960-е годы общественный активизм тяготел к политическим и четко очерченным формам самосознания (обязательны декларации и манифесты, программы, жесткое членство в организациях), то для второй половины 1980-х годов стал характерным стиль неформальных добровольных объединений, для которых было важно, прежде всего, общее мировосприятие и которые с подозрением относились к любой «организованности». То есть наибольший вес среди форм политического поведения получила «диффузная активность», не соотносящая себя определенно ни с какой целевой установкой. Лакмусовой бумагой проявления политической культуры периода «перестройки» стал «путч» ГКЧП, одной из причин которого, по свидетельству Б.Н. Ельцина, стало достигнутое на секретной встрече Горбачева с Ельциным и руководителем Казахстана Н.А. Назарбаевым соглашение о том, что после 188 подписания нового союзного договора от занимаемых государственных постов будет освобожден ряд высших руководителей. Об этом знал председатель КГБ В.А. Крючков. Принятие ГКЧП «Обращения к советскому народу» и «Постановления № 1» свидетельствует о том, что он ставил своей целью нелегитимным путем восстановить в СССР твердую власть консервативного характера и предотвратить распада единого государства, осуществлявшийся также с нарушением законности. Следует заметить, что во время августовского путча 1991 года только несколько сотен тысяч человек активно выступили против ГКЧП, тогда как остальные были пассивны и молчали. Впрочем, и численность сторонников «путчистов» была невелика. Главным поведенческим императивом стало ожидание. Трагикомичный случай имел место в августовские дни в провинциальном Мелитополе: начальник отдела кадров одного из учреждений по мере развития событий 4 раза снимал со стены и водружал обратно потрет М.С. Горбачева. В массовом сознании выступление ГКЧП воспринималось как верхушечное «восстание» бывших фаворитов генсека за восстановление «чистого» социализма, что затушевало расхождения в области государственного строительства. В силу скоротечности роспуск союзных структур, запрещение деятельности компартии и Беловежские соглашения слились в сознании миллионов в единый и неразрывный ряд событий. Разогретое политическое сознание масс не успевало за перипетиями политического процесса. В этих нестабильных условиях российский миф власти, даже в его мутационном варианте, сыграл мощнейшую стабилизирующую роль, начиная с 1985 года. Именно благодаря ему Российская Федерация в 1990-е годы не превратилась в поле крупномасштабной гражданской войны. С другой стороны, не было ясного понимания того, что развитие политического регионализма и регионального самосознания имело обратную сторону медали. Возникшие национализм и сепаратизм обрели масштабы не столько как путь и средство демократизации, сколько как способ сопротивления ей и консервирования прежних отношений. Жизнь показала, что распад СССР оставил особенно тяжкий след в сознании народа, что некоторые политологи называют рецидивом имперского сознания. Сползание современного российского общественного сознания к иррационализму и очередному витку мифотворчества оказалось лишь поверхностным проявлением тех глубинных потрясений, через которые прошло общество в конце 1980-х – начале 1990-х годов. 189 Глава 13. Политическая культура современной России 1. Особенности «транзитного» типа политической культуры По выражению М.Я. Гефтера, «распад СССР превратил Россию из старинного наименования в реальность, обладающую специфической плотью». К этому можно добавить – и специфической политической культурой, которая по своей типологии относится к «транзитному» типу, то есть переходному от одного состояния к другому. По мнению К.С. Гаджиева, кажущееся отсутствие гражданской культуры в современной России есть просто определенная форма таковой. Политическая культура России включает в себя разнородные пласты и множество элементов, которые с трудом укладываются в рамки традиционных типологий. Большинство политологов и социологов согласны, что для нее характерны следующие черты: 1) многослойность, то есть совмещение элементов традиционно-российских (этатизм и авторитаризм, персонификация солидаризм политики, и анархизм коллективизм, и мессианизм нигилизм), и советских (коммунистический эсхатологизм и вождизм, «баррикадное сознание» и уравнительность) и западно-модернистских (индивидуализм и ориентация на успех, ценность прав и свобод человека); 2) гетерогенность, заключающаяся в сосуществовании множества этнонациональных, региональных, конфессиональных и иных субкультур; 3) фрагментарность, проявляющаяся в неопределенности, незавершенности и разорванности установок и ориентаций; 4) конфликтность, то есть отсутствие базового консенсуса в обществе по базовым социально-политическим проблемам. При этом конфронтация преломляется через «двойной реванш» - по отношению к революции и сталинизму; 5) антииномичность, проявляющаяся в антиномиях типа «этатизм – анархизм», «архаизм – футуризм», «консерватизм – радикализм» и т.п. Однако самобытность и отличия российской политической культуры от культур западных демократий этим не исчерпываются. Дело в том, что в культуре каждого 190 народа наличествует некий набор социально-психологических качеств, образующих ее устойчивое ядро. Одна из отличительных черт россиян — это высокий уровень межличностного доверия, на который не оказал существенного влияния даже экономический спад 1990-х гг. Практически все виды политических субкультур, представленные в современном российском обществе (исключением можно считать только западно-либеральный тип), опираются, прежде всего, на морально-этические нормы. С другой стороны, толпа зевак, собравшаяся 4 октября 1993 года поглазеть на штурм Белого дома – тоже одно из проявлений нашей политической культуры: восприятие трагедии как балаганного фарса, злорадство в отношении потерпевших поражение, садистское наслаждение зрелищем смерти и разрушения. Очевидно, что формы борьбы законодательной власти с исполнительной, поведение различных партий, блоков и организаций, а также основной части населения в 1992-1993 гг. определялись существующими традициями страны. Общество современной России, как и раньше, остается объектом политики, а не ее субъектом. Несмотря на его политизированность, очевиден дефицит политических знаний. По убеждению Е.Б. Шестопал, большинство населения связывает демократию с ростом экономического благополучия и с равенством всех перед законом. Но при этом большинство россиян затрудняются сказать, что такое «демократия». Согласно опросам, люди разных возрастов оценивали ценности демократии по-разному: в младших возрастах отмечались такие критерии как свобода, права человека и личная независимость, тогда как в конце списка находились – участие граждан в управлении и ответственность. Чем старше были опрашиваемые, тем более существенным они считали ответственность и равенство. Общественное мнение в России, как и на Западе, приветствует свободу слова, вероисповедания, политический плюрализм, свободную конкуренцию политических партий на парламентских выборах и т.п. Однако российское общественное мнение делает больший акцент на том, что демократия должна не только обеспечивать соблюдение естественных человеческих прав, но и гарантировать достойный уровень жизни и широкие социальные права человека. С учетом этого, понятным становится то, что в российской политической культуре доминирует демонстративная иррациональность, предельно четко выраженная бывшим премьером страны В.С. Черномырдиным: «Хотели как лучше, получилось как всегда». Наблюдается и архаизация образа страны – активные попытки восстановить монархически-православную систему ценностей. 191 Содержание и своеобразие социально-психологического измерения политической культуры современной России определяется сочетанием широко распространенных негативных установок по отношению к нынешней власти и сравнительно высокого уровня субъективного политического интереса с низкой оценкой возможности рядовых граждан воздействовать на политику и неудовлетворенностью жизнью. Это понятно, так как у российских граждан не сложился опыт отстаивания своих интересов, а надежды на социальный рост и индивидуальный успех переключают внимание гражданина с политической на экономическую сферу. Тем не менее, анализ данных ИСПИ РАН показывает, что доля лиц, активно интересующихся политикой (7-10%), в России в 1990-х гг. была близка к аналогичным пропорциям в южноевропейских и латиноамериканских странах. Тогда как доля лиц, в минимальной степени проявляющих интерес к политике, в странах Запада, как правило, в несколько раз выше, чем в нашей стране (7-13%). Наоборот, доля тех, кто пассивно, но с некоторым интересом следит за политической жизнью, в России составляет 70-80%, что в среднем в 2-2,5 раза выше, чем на Западе. 2. Расколотая культура расколотого общества Сегодня не вызывает сомнений доминирование в середине 1990-х гг. либерального дискурса. Главным генератором и хранителем либеральных идей, согласно современным исследованиям, является российский мегаполис, населению которого присущи специфические ценностные ориентации: приоритет принципа свободы над принципами равенства и порядка; понимание равенства и справедливости как равенства возможностей, а «порядка» - как «стабильности»; значительная степень толерантности и терпимости по отношению к постоянно проживающим в данном городе вне зависимости от их этнической принадлежности; ощущение «центральности» своего положения, которое порождает «державность» сознания жителей; значительная степень политизированности и та или иная степень оппозиционности к любой власти. Напротив, политическое сознание населения провинции характеризуют следующие черты: приоритет принципов «порядка» и «равенства» перед принципом «свободы»; доминация идей «уравнительного» равенства; меньшая толерантность по отношению к любой инаковости; абсолютизация власти, патернализм и отсутствие политической инициативы. 192 Нынешний цивилизационный сумбур привел к тому, что в массовом сознании смешались мифологемы «народа-богоносца» и «тупого быдла», идеи коммунистического реванша и прорыва к рынку любой ценой. Однако отказ общественных настроений, вследствие несбывшихся надежд на быстрый выход из экономического коллапса, привел к принципиальному антилиберализму массового сознания. Многочисленные социологические исследования, выяснявшие отношение россиян к происходящим в стране переменам и их установки к политическим институтам показали, что в конце 1990-х гг. наблюдались разочарование в демократических идеалах и всплеск патерналистских установок. Практически лишился своих легитимных прав в поле политики такой тип политического сознания как «демократизм». Этот тип преобразовался в политическую позицию правозащитных деятелей. Фактически наблюдается ситуация, когда социальные группы с демократическими установками стали переориентироваться на более консервативные ценности. Проведенные в 1990-е гг. социологические исследования зафиксировали крайне низкий уровень доверия населения к политической системе современной России. Престиж державности в общественном сознании, наоборот, оказался достаточно высоким (почти 70% опрошенных), как в столице, так и в провинции. В конце 1998 г. по данным Российского независимого института социальных и национальных проблем, более 60% опрошенных требовали наведения в стране элементарного порядка, а почти 50% населения России были готовы принять «нового Сталина». Это дало основание многим ученым считать, что подъем демократических настроений был лишь временным эпизодом, в целом не подрывающим авторитарную традицию российской политической культуры. Тогда как другие ученые полагают, что эти тенденции обусловлены разочарованием россиян в результатах проводимых реформ. Дело в том, что в России совершенно иные основы политической лояльности масс. Очевидно, что в российском массовом сознании 1990-х гг. власть выступает инстанцией субъектности и ответственности, то есть именно она «во всем виновата». Люди не чувствуют себя ответственными за страну и правительство, но не перестают ожидать от государства заботы и опеки. В основе политической культуры России остается сложившаяся на протяжении веков подданическая политическая культура, исходящая из решающей роли государства в реформировании всей общественной системы. Поддержка гражданами политического режима оказывается в зависимости от степени удовлетворения их конкретных потребностей со стороны властей. Основная 193 масса населения в ходе реформ 1990-х гг. ждала не просто увеличения степени свободы, а, прежде всего, улучшения жизни. Для этих людей демократия приобретала смысл тогда, когда она способствовала улучшению жизни, усилению порядка и законности. Поэтому низкие оценки деятельности органов власти и демократических институтов в России сопровождалось неверием в их будущее. А негативный консенсус между властью и обществом основывался на модели «вы можете проводит свою политику, но не вторгаться в нашу частную жизнь». При этом парадокс состоит в том, что хотя большинство населения России не поддерживало в 1990-х гг. курс реформирования, но в то же время категорически отвергало возврат к прежнему партократическому режиму. Согласно исследования Фонда общественного мнения в 1997 году более половины опрошенных заявили, что возврата назад не может быть. Ностальгия о «светлом» прошлом чаще всего связывается с социальными гарантиями советской поры. Ценностным обоснованием контрреформ, по мнению политолога Б.В. Межуева, в настоящее время служит идейный комплекс «социалистов-реставраторов». Хотя откровенных «социалистов-реставраторов» в стране не более 10% (коммунистические ценности сохраняются, прежде всего, у пожилой части населения.), но характерную для этого комплекса установку на «социальную справедливость» в 1991-1995 гг. разделяли согласно данным Института социологического анализа более 40% опрошенных. Тогда как радикально-либеральную установку признавали чуть более 30%. Описанному типу традиционализма современной России присущи, кроме антиэлитаризма, последовательный антииндивидуализм, требование оправдания личных интересов и личных прав служением обществу или государству. Парадигмальной для этого идейного комплекса является фигура Петра I, остающегося в сознании россиян самой популярной фигурой. Многие рядовые люди не верят, что могут существенно повлиять на деятельность государства, так как действующая ныне политическая система реализует принципиально новую модель взаимоотношений населения и государства: граждане могут реально влиять на власть только в момент выборов. По данным Центра социально-политического анализа социальных и политических проблем, во второй половине 1990-х гг. 60% населения считало, что «нами управляют те, у кого больше богатства и власти». Не удивительно, что критика действующей власти чаще всего осуществляется в виде лозунгов негативной окраски типа «воров в тюрьму». Таким образом, в настоящее время в России распространен разорванный тип массового политического сознания, в котором сосуществуют противоположные и 194 взаимоисключающие ориентации: желание перемен и страх перед ними, готовность к компромиссу и нетерпимость, потребность в свободе и привычка к покорности, экономическая свобода и требования социального регулирования. Современные исследователи (в частности Б.Г. Капустин и И.М. Клямкин) выделяют в массовом сознании несколько типов: «традиционно советский» (с неприятием индивидуальной свободы); «нелиберальный индивидуализм» (признание ценности свободы когда реальный собственный интерес ограничен не правом а индивидуальным произволом); «либеральный», делящийся на подвиды – экономико-либеральный и социальнолиберальный. С этим можно согласиться, но важнее другое. В современной России речь идет не только о степени политической поляризации и разнице политических предпочтений, но и о качественно различных культурных типах (субкультурах). Сегодня имеет место не просто кризис ценностей и политических традиций, но и процесс ресоциализации, когда происходит усвоение новых официальных ценностей. В качестве таковых сегодня все больше предлагаются идеи защиты государства, учета региональной и исторической специфики страны и патриотизма. 3. Образ власти в политическом сознании россиян В последние годы в кругу мифологических представлений «низов» традиционные категории «справедливости» и «силы» власти сохраняют более высокий статус, чем профессионализм и компетентности. Любопытной особенностью современного мифотворчества на «властные» темы являются неизменные этические запросы и претензии «низов» к «верхам» в не слишком логичном сочетании с российским мифом об «изначальной аморальности» власти. Недоверие к власти – некая константа, выражающая отстранение людей от власти. Однако патернализм «верхов» на словах и их социальное безразличие на деле последние 10 лет болезненно воспринимались «низами» как фальшь и предательство, что для русского человека хуже, чем строгость или даже жестокость власти. Сохраняющийся миф о разделении власти и управления (аппарата) и сегодня определяет персонализм политической жизни России и преобладание моральных оценок политики и политиков. Основными типами восприятия личных качеств депутата в глазах избирателей выступают: честность, человечность, преданность избирателям, компетентность и интеллигентность. Избиратели отдают свои голоса в основном за лидеров политических партий и в меньшей степени или вообще никоим 195 образом не связывают свой выбор с программами этих партий. Ситуация, когда первостепенную роль играет личность политика, в свою очередь, создает благоприятные условия для популизма и демагогии. И еще один парадокс «лукавости» (по определению Ю.А. Левады). Только 3% опрошенных в марте 1999 года полагали, что на выборах в нашей стране побеждают «более достойные», а 83% респондентов считали, что «более ловкие». Сразу после выборов в Думу 50% опрошенных оценили их как «не очень честные» или «совсем не честные». Тем не менее, 55% опрошенных (против 27%) выразили удовлетворение результатами выборов: «можно терпеть» или «не самое худшее зло». Значительная избирательная активность на президентских выборах и резкое ее снижение при выборах депутатов законодательных и местных органов власти свидетельствуют, что в России власть традиционно олицетворяется ее верховным началом. Ориентацию на центральные фигуры государства определяет, в числе прочих факторов, неразвитость парламентаризма. Верховная власть в постперестроечной России в мифах СМИ и в общественном сознании – неограниченна и бесконтрольна. Можно предположить, что «непредсказуемость» Ельцина и «загадочность» Путина – своего рода мифологический сигнал, говорящий, что цель политического лидера – общее благо. Способность власти изменять курс рассматривается в обществе как свидетельство о наличии административного ресурса. Еще одной мифологической чертой образа власти в нашей стране является патриархальность, проявляющаяся через «династичность» или семейственность. Наследием патриархального мифа в целом остается уважение к «герусии» - старцам у власти и критическое отношение к «молодым реформаторам». Тем не менее, новый образ власти созидательного прагматизма, власти с «социальным лицом» с опорой на мифологемы служения и ответственности, с августа 1999 года обрел свою символическую фигуру в лице В.В. Путина. Если с 1992 по 1998 гг. «индекс надежды» на каждый последующий год колебался в пределах 13-20%, то на 2000 год подскочил до 28%. Доля респондетов, испытывающих страх и отчаяние, уменьшилась более чем в 3 раза, зато увеличилась доля тех, кто испытывал эмоциональный подъем. 196 4. Избирательская и протестная активность: спады и подъемы При проведении избирательных кампаний и референдумов последних лет проявилась поверхностность и иррациональность людей при принятии решения о том, как голосовать, политическая инфантильность, некая наивность и даже доверчивость. Для многих главным оказывается сам процесс голосования (ритуал), а не смысл происходящего – выбор. Анализ массовых опросов, проведенных Центром эмпирических исследований Санкт-Петербурского университета осенью 1998 года, показал, что одной из причин абсентеизма является неудовлетворенность современной политической системой. Политической апатии населения способствует хаос в мыслях, отсутствие у большинства людей четко сформулированных интересов и взглядов, чувство недоверия и страха, оценка политики на основе сиюминутных интересов, ориентация больше на ярких лидеров, нежели на глубокие идеи. Политическая инертность населения также определяется послевыборными разочарованиями, а главное общим недоверием к самому институту выборов. Многие россияне считают, что проведение выборов бессмысленно и бесполезно, так как выборные лидеры все равно не обладают реальной властью и потому ничего не решают. По данным Научно-исследовательского центра «Контур» летом 1997 г. 56% опрошенных считали, что реальную власть осуществляет мафия, 23% - чиновники, 16% - российский капитал и только 15% - президент. Кроме того, более половины опрошенных не верили, что их «голос» сможет хоть как-то повлиять на результаты выборов. Почти 20% респондентов были убеждены, что «результаты все равно подтасуют». Таким образом образовался разрыв между идеалами представительного правления, гражданской политической культурой и политической индифферентностью населения. В этом, по мнению современных политологов и социологов, состоит явное нарушение принципа представительности политического режима. Уровень доверия избирателей к основным политическим институтам (президенту, правительству и парламенту) постепенно снижался с 1993 года. Не последнюю роль в этом (кроме коррупции) сыграла оценка избирателями поведения людей, находящихся у власти, в том числе проблема привилегий. В целом уровень активности избирателей в России на общенациональных выборах и референдумах вполне сопоставим с показателями, зафиксированными в традиционных демократических странах. Однако на протяжении 1990-х гг. наблюдался ряд 197 настораживающих явлений. Например, чувство гражданского долга умалялось ощущением бессмысленности участия в выборах. По данным опроса ВЦИОМ 19941995 гг. даже наиболее известные общенациональные партии пользовались поддержкой довольно узкого круга россиян. Судя по всему из-за достаточно неустойчивых партийных предпочтений в России не симпатии к партии способствуют согласию с ее позицией по тому или иному вопросу, а наоборот, позиция по определенному вопросу может способствовать увеличению числа сторонников партии. Можно согласиться с выводом политолога Д.В. Гудименко, что особенность политической культуры посткоммунистической России заключается в том, что партии занимают периферийное положение в общественном мнении и в общественной жизни. Можно говорить об отсутствии массового интереса к ним или даже об открытом пренебрежении со стороны народа, особенно в провинции. Что тут говорить о различных организациях и ассоциациях политической направленности, в отношении которых до сих сохранятся стереотип сознания, что негосударственные организации не являются конкурентными или равносильными государству органами. В июне 1994 года только 7% респондентов РНИСиНП воспринимали деятельность ассоциаций по интересам как эффективный канал связи между обществом и властью. Протестная активность населения демонстрирует разрыв между декларациями россиян о готовности к участию в протестных акциях и фактическим участием в политических действиях. Данные статистики показывают, что в 1992-1996 гг. уровень протестной активности россиян был сравнительно невысок. Так, по данным Госкомстата, в 1995 году в забастовках приняли участие более 489 тыс. человек, что не так уж много, если учесть, что в России около 70 млн. человек в трудоспособном возрасте. К тому же характер массовых акций протеста определяли не политические, а социально-экономические требования. Хотя в связи с многомесячными невыплатами заработной платы в 1996-1997 гг. наметился некоторый рост готовности к участию в таких действиях, в действительности доля участников митингов, собраний, забастовок и прочих форм массовой протестной активности невелика. Лишь малая часть россиян рассматривают митинги и демонстрации как эффективное средство политического воздействия на власть. По данным опросов, большинство россиян не ощущают того, что рядовые граждане способны воздействовать на правительственную политику посредством членства в общественных объединениях и политических партиях, а также участия в митингах и собраниях и иных 198 политических акциях. Те есть, как и в прошлые годы, политика отдана гражданами на откуп политикам. 5. Державность или регионализм? Российским населением власть зачастую не только персонифицируется, но и не рассматривается как единое целое: в восприятии граждан возникают обособленные ориентации на федеральный центр и регионы. Практика показывает, что эти восприятия могут носить порой диаметрально противоположный характер. Увеличение значимости регионального фактора в российской политике в последние годы обуславливает интерес исследователей к анализу не только «формальных» измерений региональной политической жизни (результаты выборов, «расклад» сил на местном уровне), но также и «субъективных» ценностных предпочтений населения провинции и мегаполисов. Регионы недостаточно исследовать в традиционном ключе, деля их «красные» и «реформаторские». Региональные исследования показывают, что тотальная политизация 1989-1993 гг. уступила место определенной политической апатии. С 1994 года происходит замена политизированного восприятия действительности более прагматичным взглядом, что проявилось в доминировании местной, региональной проблематики. Хотя 1998 год дает пример очередной активизации политической жизни российской провинции, тем не менее, приверженность тем или иным политическим ценностям вполне уживается с ценностями «территориальными», «почвенными». В провинции высока степень властного патернализма, единоличный правитель когда местный данной руководитель территории, рассматривается наделенный как практически неограниченными полномочиями. Власть в провинции отличается высокой степенью статичности и авторитета. Отсюда традиционное голосование населения «за начальство» и «по указанию начальства». Общественное мнение провинции крайне негативно воспринимает нарушение руководителями принципа сакральности власти, возрастного и профессионального цензов. Высокая степень патернализма приводит к тому, местные жители практически не заинтересованы в реализации своих гражданских прав. Участие в выборах рассматривается как некая почетная обязанность и возможность продемонстрировать предпринимательской свободы свою также лояльность крайне руководству. неодобрительно Введение воспринимается населением провинции, особенно в сельской местности. В большинстве депрессивных 199 регионов «красного пояса» велико желание восстановить «статус-кво» советского периода, когда не наблюдалось большого разрыва в доходах граждан. Население некоторых «островков социализма» (например, Липецкой и Ульяновской областей) до недавнего времени связывало свое благополучие с тем, что их руководителям удалось не допустить на своей территории радикальных экономических и политических реформ. В политической сознании населения российских регионов весьма сильна националистическая компонента. Если в «красном поясе» и на Юге России националпатриотизм имеет «розовый» оттенок, то на Севере, на Урале, в Сибири и в Приморье национал-патриотические силы предпочитают дистанцироваться от коммунистов и либо выступать самостоятельно, либо поддерживать «партию власти». В провинции выше эффективность компрометирующих сведений, достаточно болезненно воспринимается нечестность и политическая нечистоплотность. При этом провинция, где традиционно создавался образ распределяющего, руководящего и интегрирующего Центра как некой последней инстанции, привыкла к своему подчиненному статусу по отношению к Центру. 6. Неинституциональные факторы формирования политической культуры Особенности отношения гражданина к государству в России обусловливают специфику его политического поведения. В России испокон веков правительство, которое не решается употребить, где нужно, власть, не пользуется достаточным уважением. Отказ от жесткого контроля сверху часто воспринимается как признак слабости и стимулирует сепаратизм и другие формы политического «отклоняющегося поведения». Российское общество, не привыкшее к свободе, не приемлет политического вакуума, и властные полномочия, от которых отказывается государство, неизбежно перенимают другие, подчас нелегитимные структуры. В отечественной истории, даже в ее критические периоды, влияние криминальной среды на политические процессы было минимальным. Но ситуация резко изменилась с 1985 года, когда взаимный интерес финансово-экономических и традиционно-уголовных пирамид друг в друге и их определенная интеграция привели к необычайной криминальной экспансии в стране в целом. Но этот рост был бы невозможен без соответствующих условий: вовлечения криминальных верхов в политику и встречного движение новой политической элиты, нуждающейся в неофициальной поддержке. 200 Свою роль сыграло и расширение социальной базы криминалитета, вплоть до формирования особой криминальной субкультуры. Это наглядно проявляется в популяризации жаргона, нанесении татуировок и делинкветном фольклоре, особенно в молодежной среде. Активное вхождение в жизнь социума преступных группировок определенным образом влияет на «размывание» системы ценностей государства и общества, а значит, и на трансформацию политической культуры. К числу неинституциональных факторов также относится маргинализация определенной части населения России, которая сопровождается безразличием к своим и чужим интересам и ценностям, наряду с разрывом с традицией. С позиций политической культуры маргинализация является порождением процесса падения авторитета традиционных ценностей по отношению к политике и результатом неопределенности новых ценностных ориентиров. Одной из причин маргинализации выступает сформировавшаяся в прежние годы иждивенческая позиция обывателя. В условиях современной России важным фактором консервации иждивенчества стала безработица. С другой стороны, утрата занятости ведет за собой изменение социального статуса, что непосредственно воздействует на преобразование установок и ценностных ориентаций личности. На политическую культуру, помимо маргинальности, влияет и «социальная память». Именно социальная память и лежащий в ее основе социальный опыт, побуждает сегодня определенную часть граждан держаться подальше от власти и сторониться активного участия в политическом процессе. Трансформация политической культуры во многом предопределяется степенью деформации социальной памяти. В результате в политическом процессе современной России повышается конфликтность. В рамках реальной угрозы терроризма и распада государства на первый план в иерархии ценностей вышли человеческая жизнь, единство России и безопасность государства. То есть военно-политическая составляющая стала вполне реальным «агентом влияния» в процессе трансформации политической культуры. Также существует прямая зависимость между материальным положением граждан и уровнем их политической культуры со степенью поддержки официальной власти. На политическую культуру заметное влияние оказывает и новая стратификация российского общества. Рост децильного коэффициента (соотношение доходов 10% наиболее обеспеченной части населения и такой же доли наименее обеспеченных) неизбежно приводит к люмпенизации части населения, к возникновению деструктивных политических субкультур. Есть еще один безусловный фактор 201 (психологический), суть которого состоит в том, что огромное множество россиян не понимает или не желает рынка или демократии. Еще один фактор – соотношение политики, морали и этики, так как в политической сфере значимость этического начала сегодня велика. 7. Молодежная субкультура В результате воздействия множества факторов как исторического (отдаленного или близкого), так и современного плана политическая культура нынешнего российского общества внутренне противоречива. Как уже указывалось, в ней представлено множество субкультур: авторитарная и демократическая, элитарная и массовая, либеральная и консервативная, социалистическая и буржуазная. Кроме того, возрастные особенности определили формирование специфической молодежной субкультуры, которая весьма податлива к влиянию средств массовой информации. Данные опросов свидетельствуют о достаточно высокой степени информированности молодежи, прежде всего, студентов о политической борьбе в современной России через средства массовой коммуникации, включая Интернет. Тогда как более половины молодежи не интересуется телевизионными информационно-политическими программами. Согласно социологическим исследованиям, в последнее время в социальнополитических ориентациях молодых людей доминируют следующие ценностные позиции и тенденции: 1) превращение политической сферы жизни и политической активности в сугубо инструментальную ценность, для большинства молодых людей связанную с решением и собственных жизненных задач; 2) преимущественная ориентация на политические партии и движения демократического толка и принятие демократии как ценности; 3) утверждение в сознании молодых россиян гражданственности и патриотизма как значимых ценностей; 4) резкий спад в молодежном сознании экстремистских тенденций, ориентация на устойчивое развитие и стабильные ценности. Однако эти характеристики требуют уточнения. Действительно, примерно три четверти студентов вузов, опрошенных в России, согласны с утверждением, что люди, критикующие образ жизни, принятый в их обществе, имеют право выразить свои 202 взгляды публично и должны иметь шанс быть услышанными. Но российское студенчество, это далеко не вся молодежь. Исследования политической культуры выявило в молодежной среде, по крайней мере, три ведущие тенденции. Первая характерна для молодых людей, занимающихся мелким бизнесом, которые ориентированы на деловую хватку и корпоративность, нарушение правовых и политических норм. Вторая тенденция проявляется в деятельности молодежных объединений (например, «люберов»), исповедующих «культ физической силы», оружие и зачастую примитивные социалистические идеалы. Наконец, третья тенденция обнаруживается в среде большей части молодежи, ориентирующейся на продвижение по социальной и служебной, лестнице, получение необходимого для этого образования и, следовательно, лояльное отношение к политической власти и правопорядку. Исходя из всего вышесказанного, можно ли сегодня говорить о каком-то определенном или ведущем типе политической культуры для российского общества? Большинство исследователей едины во мнении: переходное состояние самого общества определяет и переходный характер его политической культуры. С другой стороны, в современной литературе говорится о формировании единой российской политической культуры (как путь становления гражданского общества) из того мозаичного поля, которое имеется в настоящее время. Однако, политическая культура российского общества переходного периода не может быть отнесена к «культуре граждан» или «культуре участия», так как ориентации, являющиеся отличительными признаками этих типов культур, слабо распространены в российском обществе. Российское население в своем большинстве не ставит политику в число своих приоритетных интересов в жизни, что в принципе соответствует подданническим мотивам гражданской политической культуры. Более того, происходит постепенное вытеснение характерной для прежней эпохи активистской модели поведения населения элементами подданничества. При этом данные опросов указывают на относительно высокий уровень интереса к политике, что не характерно для аполитичных культур. Неким прототипом гражданского общества служит кластер, представленный в разной степени оппозиционными политиками – от Григория Явлинского до Геннадия Зюганова. Чаще всего применительно к политической культуре нынешней России используется термин «авторитарно-коллективистская». Утвердилось мнение, что в России представлены все типы политической культуры и все виды субкультур, однако доминируют патриархально-подданническая и подданническо-активистская. Однако этим отнюдь не исчерпывается характеристика современной политической культуры 203 российского общества. Думается, правы те, кто считает, что Россия, ассимилирующая образцы западной культуры, может принадлежать к Европе, но ее гражданское общество в обозримом будущем останется не только незавершенным, но и будет иметь изначально русские черты. В политической культуре России столько специфического, уходящего корнями вглубь истории и в нынешнее состояние страны, что можно по праву говорить об ее особом генотипе. 204 Заключение Пришедший к власти в конце 1999 года В.В. Путин столкнулся с острой проблемой превращения современной модернизации в органическую, приобщения к ее осуществлению и, главное, результатам широких слоев населения. В настоящее время с переменным успехом идет иногда скрытая, иногда явная борьба разнонаправленных политических тенденций регионализации, различных (демократизации глобализации политических и и авторитаризма, изоляционизма), субкультур. При этом централизации наблюдается федеральный и столкновение центр создает политическую систему, в которой все больше блокируются механизмы «выпуска пара» и эффективной обратной связи власти с обществом. Кроме того, свертывание сферы публичной политики ведет к опасности того, что протестная активность общества может быть реализована в традиционных для российской политической культуры разрушительных формах. В современной литературе выделяют следующие «тоталитарные» пережитки, сохраняющиеся в современной России: размытость и туманность понятия «демократия», патерналистское отношение к государству, деструктивная критика политических оппонентов, стремление к переписыванию истории, псевдорадикализм, популизм и обилие лжелидеров. Одновременно наметился ряд позитивных тенденций: постепенная смена общинно-патриархального начала ориентацией на нужды формирующегося гражданского общества, формирование отношения к плюрализму как необходимому качеству политического процесса, тенденция к консенсусности общества, толерантность граждан России и сохранение высокого уровня межличностного доверия, распространение идей защиты государства и патриотизма, учет региональной и исторической специфики страны. Опросы общественного мнения последнего десятилетия показывают, что на место прежнего государственного патриотизма, объявляющего высшей ценностью государство, заступает новый демократический патриотизм, признающей в качестве основной ценности благополучие и достоинство человека, которые, в свою очередь, служат основой величия государства. На глазах рушатся, пусть и медленно, имперские архетипы. В настоящее время все чаще утверждается, особенно средствами массой информации, что на основе радикальных преобразований в обществе в направлении его 205 капитализации в сознании человека уже произошла замена коллективистских установок на индивидуалистические, а идея справедливости вытеснена идеей свободы. Такие выводы, вероятно, преждевременны. Целесообразно говорить лишь о тенденции складывания предпосылок подобного процесса. Современный политический процесс в Российской Федерации приобрел некоторую стабильность и устойчивость, что не могло не отразиться в сознании населения. Хотя нередко этот «круг стабильности» рассматривается как ложный, в силу того, что политические инициативы исходят из федерального центра, а позитивные ответы всего лишь симулируются эрзацами «гражданского общества» на местах. Ряд отечественных исследовательских институтов отметил заметный рост доверия к институтам власти в целом и к президенту, в частности. Особенно это проявилось в связи с выдвижением национальных проектов, затрагивающих насущные проблемы россиян. Но при этом сохраняется совмещение и напластование в сознании людей элементов старой и новой политических культур, делающее ее смешанной и фрагментарной. Также прослеживается пространственная и временная неравномерность политико-культурной эволюции, которая в мегаполисах проходит более форсированно, чем в провинции. Все это диктует необходимость серьезной модификации мировоззренческих, оценочных и поведенческих ориентиров людей, то есть всех компонентов политической культуры. Преодоления конфронтации субкультур выступает условием выполнения политической культурой функции консолидации общества и его переустройства на демократической основе. Очевидно и то, что в России необходимы преобразования, ведущие к росту удовлетворенности граждан условиями своей жизни и вытекающему из этого увеличению доверия масс к властным институтам. И последнее замечание. Устойчивое развитие общества в условиях его трансформации немыслимо без политической культуры, основанной на позитивных ценностях, воспринимаемых большинством граждан страны. Российское общество, прошедшее очередной переломный этап своей истории, должно, прежде всего, определиться, согласно каким ценностям и целям стоит жить дальше. 206 Список рекомендованной литературы I. Учебники и учебные пособия Андреева Г.М. Социальная психология. М.: «Аспект-пресс», 1996. 375 с. Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. М., 2002. С. 234-266. Бодиско В.Х. Глава 5. Дневники и письма // Профессионализм историка и идеологическая конъюнктура. Проблемы источниковедения советской истории. М., 1994. С.158-197. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. М., 1997. С. 434-448,457-488,591592. Гаджиев К.С. Политология: Учебник для высших учебных заведений. М., 2003. С. 312-346. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Глава 13. Политическая культура // Их же. Политическая психология. Ростов-на-Дону, 1996. С. 363-392. Гудименко Д.В. Глава XIV. Политическая культура России // Гаджиев К.С., Гудименко Д.В., Каменская Г.В. и др. Политическая культура: теория и национальные модели. М., 1994. С. 313-349. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / Под общей ред. А.К. Соколова. М.: РОССПЭН, 2004. 744 с. Кабанов В.В. Источниковедение истории советского общества. Курс лекций. М.: РГГУ, 1997. 388 с. Каменец А.В., Онуфриенко Г.Ф., Шубаков А.Г. Политическая культура России. Учебное пособие для всех. М.: Изд-во Брандес, 1997. 141 с. Кулешов С.В., Медушевский А.Н. Россия в системе мировых цивилизаций: Учебное пособие. М., 2001. С. 318-347,385-438,456-502, 509-590. Мухаев Р.Т. Политология: Учебник для студентов юридических и гуманитарных факультетов. Изд. 2-е, доп. М., 2002. С. 256-277. Наше Отечество. Опыт политической истории. Часть I. М.: Терра, 1991. 390 с. Политология. Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 448-495. Политология: Учебник для вузов / Под ред. М.А. Василика. М., 2001. С. 363-405. Политология: Учебное пособие для вузов / Научн. ред. А.А. Радугин. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 96-123. II. Документальные публикации и хрестоматии Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 19181932 гг. / Отв. ред. А.К. Соколов. М.: РОССПЭН, 1997. 328 с. Голоса крестьян: Сельская Россия ХХ века в крестьянских мемуарах. М.: Аспект Пресс, 1996. 413 с. О политических настроениях населения г. Москвы в связи с уменьшением нормы выдачи хлеба // Служба безопасности. 1993. № 3. С. 32-33. Об отчетной кампании Ленинградского Совета (По секретным архивным документам) / Публ. подг. М.В. Шкаровский // Отечественная история. 1992. № 5. С. 131-142. Общество и власть: 1930-е годы. Повествование в документах / Отв. ред. А.К. Соколов. М.: РОССПЭН, 1998. 352 с. Орлов И.Б. Ридер «Политическая культура России ХХ в.». М.: ГУ-ВШЭ, 2005. 202 с. 207 Первые правозащитные организации Российской Федерации в 20-е годы / Публ. подг. С.И. Голотик // Отечественная история. 1995. № 4. С. 159-178. Письма во власть. 1917 - 1927. Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и большевистским вождям. / Публ. подг. А.Я. Лившин и И.Б. Орлов. М.: РОССПЭН, 1998. 664 с. Письма во власть. 1928-1939: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и советским вождям. / Публ. подг. А.Я. Лившин, И.Б. Орлов и О.В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2002. 528 с. По агентурным данным ... (о политических настроениях советских писателей) // Родина. 1992. № 1. С. 92-96. Смерть Ленина: народная молва в спецдонесениях ОГПУ / Публ. Л. Кошелевой и Н. Тепцова // Неизвестная Россия. ХХ век. Кн. четвертая. М., 1993. С. 9-24. Советская повседневность и массовое сознание. 1939-1945. / Публ. подг. А.Я. Лившин и И.Б. Орлов. М.: РОССПЭН, 2003. 472 с. «Студенты просят, чтобы органы НКВД навели в институте большевистский порядок» / Вступ. ст., подг. текста и коммент. Т.И. Хорхординой и В.Ю. Романовой // Новый исторический вестник. 2002. № 1(6). С. 140-174. III. Монографии и сборники статей Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. М.: РОССПЭН, 2004. 488 с. Богданов К. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПБ.: «Искусство - СПБ», 2001. 438 с. Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М.: РОССПЭН, 1997. 376 с. Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943-1948 гг. М.: ИРИ РАН, 2001. 215 с. Ватлин А.Ю. Коминтерн: первые десять лет. Исторические очерки. М.: РИЦ «Россия молодая», 1993. 144 с. Власть и оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия. М., 1995. С. 11-346. Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека. М.: Изд-во «МИК», 1994. 336 с. Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М.: «Янус-К», 1998. 168 с. Глебова И.И. Политическая культура России. Образы прошлого и современность. М.: Наука, 2006. Губанов В.М. Русский национальный характер в контексте политической жизни России: Монография. СПб.: Изд. Центр СПбГМТУ, 1999. 202 с. Дмитриев А.В. Социология политического юмора: Очерки. М., 1998. С. 45104,111-125,204-221,250-258. Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945-1953. М.: РОССПЭН, 1999. 229 с. Иванова Г.М. ГУЛАГ в системе тоталитарного государства. Монография. М.: МОНФ, 1997. 228 с. Ильина И.Н. Общественные организации России в 1920-е годы. М.: ИРИ РАН, 2000. 216 с. Кабанов В.В. Между правдой и ложью: (Отечественные мемуары ХХ века). М.: ИРИ РАН, 2004. 284 с. Канищев В.В. Русский бунт - бессмысленный и беспощадный. Погромное движение в городах России в 1917-1918 гг. Тамбов: Изд-во ТГУ, 1995. 162 с. 208 Кашеваров А.Н. Государство и церковь. Из истории взаимоотношений Советский власти и Русской Православной Церкви, 1917-1945 гг. СПб.: СПб. ГТУ, 1995. 138 с. Козлов Н.Д. Общественное сознание в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). СПб.: ЛОИУУ, 1995. 140 с. Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. 350 с. Кондакова Н.И. Война, государство, общество 1941-1945. М.: Изд-во МГФ «Ветеран Москвы», 2002. 480 с. Королева Л.А. Исторический опыт советского диссидентства и современность. М.: МОСУ, 2001. 216 с.; Королева Л.А. История советского диссидентства (40-80- гг.). Пенза; М., ПФ МОСУ, 1998. 199 с. Крапивин М.Ю. Противостояние: большевики и церковь (1917-1941 гг.). Волгоград: Перемена, 1993. 100 с. Кринко Е.Ф. Жизнь за линией фронта: Кубань в оккупации (1942-1943 гг.). Майкоп, 2000. 242 с. Лельчук В.С. Апогей и крах сталинизма. Страницы российской истории. Часть первая. М.: ИРИ РАН, 1998. 248 с. Лившин А.Я., Орлов И.Б. Власть и общество: диалог в письмах. М.: РОССПЭН, 2002. 208 с. Магомедов Р.Р. Идея мировой революции во внутренней политике советского руководства и в общественном сознании россиян (1917-1925 гг.). М., 1998. 290 с. Магомедов Р.Р. От мировой революции к построению социализма в одной стране. М., 1999. 195 с. Миронов О.О., Горовцов Д.Е. Гражданин России. Историко-правовой очерк. М.: МАДИ (ТУ), 1997. 130 с. Могильнер М. На путях к открытому обществу: кризис радикального сознания в России (1907-1914 гг.). М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. 56 с. Назаретян А.П. Психология массового стихийного поведения. М., 1997. С. 11-14. Назаров М.М. Политическая культура российского общества 1991-1995 гг.: опыт социологического исследования. М.: «Эдиториал УРСС», 1998. 176 с. Павлова И.В. Механизм власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. 460 с. Павлюченков С.А. Военный коммунизм в России: власть и массы. М.: Русское книгоиздательское товарищество, 1997. 272 с. Пеньков В.Ф. О политической культуре российского общества. Тамбов: ТГУ, 1996. 123 с. Пеньков В.Ф. Политический процесс и политическая культура. К вопросу о методологии и практике политологического исследования в современной России. М.: Издательский дом «NOTA BENE»; Тамбов: Изд-во типографии «Пролетарский светоч», 2000. 168 с. Петрова П.К. Антифашистские комитеты в СССР: 1941-1945 гг. М.: ИРИ РАН, 1999. 340 с. Петровичева Е.М. Земства Центральной России в период Думской монархии (1906 – первая половина 1914 гг.). М.: МПГУ, 2001. 200 с. Петровичева Е.М. Земства Центральной России в период первой мировой войны. М.: МПГУ, 2002. 126 с. Пивоваров Ю.С. Политическая культура. Методологический очерк. М.: ИНИОН РАН, 1996. 80 с. 209 Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб.: АОС, 2001. 224 с. Поршнева О.С. Менталитет и социальное поведение рабочих, крестьян и солдат России в период I мировой войны (1914 - март 1918 г.). Екатеринбург: УрО РАН, 2000. 416 с. Пыжиков А.В., Данилов А.А. Рождение сверхдержавы. 1945-1953 годы. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. С. 156-207. Разуваев В.В. Политический смех в современной России. М., 2002. С. 106110,179-250. Рукавишников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. М., 1998. С. 90-94, 163-194. Семиряга М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М.: РОССПЭН, 2000. 863 с. Сенявская Е.С. Психология войны в ХХ веке: Исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 1999. 383 с. Согрин В.В. Либерализм в России: перипетии и перспективы. М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. 40 с. Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985-1994: От Горбачева до Ельцина. М.: Прогресс-Академия, 1994. С. 8-108. Соловьев А.И. Культура власти современного российского общества. М., 1992. С. 21-25. Тихонова В.А. Политическая культура российского общества: социальнофилософский аспект: Монография. М.: МГУКИ, 2001. 186 с. Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России / Пер. с англ. СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997. 285 с. Турицын И.В. Власть и пресса в советской России: Проблема взаимоотношений и взаимовлияния в 20-е годы. М.: Изд-во МПГУ «Прометей», 1998. 250 с. Фатеев А.В. Образ врага в советской пропаганде. 1945-1954 гг. М.: ИРИ РАН, 1999. 261 с. Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М.: Республика, 1992. 268 с. Шестопал Е.Б. Глава 4. Субъективная сторона политики // Ее же. Политическая культура Психологический профиль российской политики 1990-х. Теоретические и прикладные проблемы политической психологии. М., 2000. С. 90-119. Шинкарчук С.А. Общественное мнение в Советской России в 30-е годы (по материалам Северо-Запада). СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995. 143 с. Яров С.В. Горожанин как политик. Революция, военный коммунизм и нэп глазами петроградцев. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1999. 319 с. Яров С.В. Крестьянин как политик. Крестьянство Северо-Запада России в 19181919 гг.: Политическое мышление и массовый протест. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1999. 168 с. Яров С.В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 1917-1923 гг. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 1999. 223 с. Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Countries. Princeton, 1963. Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia. Terror, Propaganda and Dissent, 19341941. Cambridge, 1997. Dissent in USSR: Politics, Ideology and People. London, 1976. Fitzpatrick Sh. Everyday Stalinism: ordinary life in extraordinary time. N.Y.: Oxford, 1999. 210 Fitzpatrick Sh. Stalin’s Peasants: The Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivisation. NY-Oxford, 1994. Freeze G.L. From Supplication to Revolution. A Documentary Social History of Imperial Russia. Oxford, 1988. The Civic Culture Revised/ Ed. by Almond G., Verba S.. Boston: Little Brown, 1980. Tucker R. С. Political Culture and Leadership in Soviet Russia. From Lenin to Gorbachev. Sussex, 1987. IV. Статьи Авдиенко Д.А. Политические диспозиции как элемент политической культуры // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб., 2001. С. 11-16. Аксютин Ю.В. Надписи на избирательных бюллетенях как выражение общественных настроений в СССР // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 84-88. Аксютин Ю.В., Розина О.В. Общественные настроения 1954-1964 гг. По письмам «снизу вверх» // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 97-102. Алексеев А.Б. Патриотизм и его влияние на политическое поведение народа России // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб., 2001. С. 17-22. Алехин Д.В. Начало Первой мировой войны и ее восприятие в Тамбовской губернии // VIII Державинские чтения. Тамбов, 2003. С. 144-146. Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. 1992. № 4. С. 122-134. Андреев В.М. Беспартийные конференции крестьян: замысел и реальность (1919-1920 гг.) // Власть и общественные организации в России в первой трети ХХ столетия. М., 1993. С. 89-99. Аннинский Л. «Внутри мифа». Патологии современного мифологизированного сознания // Мифы и мифология в современной России. М., 2000. С. 112-125. Антоненко С. От советского к постсоветскому образу – мутации мифа власти в современной России // Мифы и мифология в современной России. М., 2000. С. 188-211. Артемов Г.П. Типы рациональности и трансформации российской политической культуры // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб., 2001. С. 23-30. Артемова А.Г. Политическая культура и электоральное поведение // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб., 2001. С. 31-38. Архипов И.Л. Общественная психология петроградских обывателей в 1917 году // Вопросы истории. 1994. № 7. С. 49-58. Асташов А.Б. Русский крестьянин на фронтах Первой мировой войны // Отечественная история. 2003. № 2. С. 72-86. Багдасарян В.Э. К 200-летию министерств. Почему в России не любят министров? // Армагеддон. М., 2003. Кн. тринадцатая. С. 3-6. Багдасарян В.Э., Макаров Ю.Я. Менталитет «подпольного человека» русской революционной семиосферы: теория суицидальной психопатологии // Духовность, Сергиев Посад. 2002. Кн. вторая. С. 15-22. Баталов Э. Культ личности и общественное сознание // Суровая драма народа: Ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 1989. С. 14-28. 211 Безгин В.Б. Политические настроения крестьянства в середине 20-х годов // Нэп: Экономика, политика, идеология: Тезисы докладов и сообщений научной конференции. Тамбов, 1991.С.37-39. Безнин М.А., Димони Т.М. Крестьянство и власть в России в конце 1930-х 1950-е годы // Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.). Материалы международной конференции. М., 1996. С. 155-166. Бровкин В.Н. Большевики и крестьянство России в 1921-1925 гг.: лицом к деревне, лицом к поражению // Россия в ХХ в.: история и историография: Сб. научн. ст. Екатеринбург, 2002. С. 67-76. Булдаков В.П. Истоки и последствия солдатского бунта: к вопросу о психологии «человека с ружьем» // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М. 1997. С. 208-217. Булдаков В.П. К изучению психологии и психопатологии революционной эпохи (Методологический аспект) // Революция и человек. Социально-психологический аспект. М., 1996. С. 4-17. Быкова С.И. Феномен Сталина: Эволюция образа лидера в представлениях советских людей в 1930-е гг. // Россия в ХХ в.: история и историография: Сб. научн. ст. Екатеринбург, 2002. С. 76-91. Великанова О.В. Образ Ленина в массовом сознании // Отечественная история. 1994. № 2. С. 175-185. Великанова О.В. Функции образа лидера в массовом сознании. Гитлеровская Германия и советская Россия // Общественные науки и современность. 1997. № 6. С.162-173. Волобуев О.В. Постсталинский тоталитаризм: власть и оппозиция // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 88-90. Гаджиев К. Антиномии между авторитаризмом и демократией в политической культуре России // Актуальные проблемы Европы: Пробл. - темат. сб. 1997 (2): Политическая культура и власть в западных демократиях и в России. М., 1997. С. 96140. Галили З. Меньшевики и вопрос о коалиционном правительстве: позиция «революционных оборонцев» и ее политические последствия // Отечественная история. 1993. № 6. С. 15-27. Гальперина Б.Д. Февральская революция и права солдат. Опыт источниковедческого исследования // Вопросы истории. 2000 № 10. С. 55-69. Ганелин Р.Ш. Государственная Дума и правительственная власть в перлюстрированной переписке кануна 1917 года // Отечественная история. 1997. № 1. С. 150-158. Герасименко Г.А. Трансформация власти в России в 1917 году // Отечественная история. 1997. № 1. С. 60-76. Гимпельсон Е.Г. Советские управленцы: политический и нравственный облик (1917-1920 гг.) // Отечественная история. 1997. № 5. С. 44-54. Голубев А.В. Феномен сталинизма в контексте мирового исторического процесса // Отечественная история. 1993. № 5. С. 215-217. Горинов М.М. Будни осажденной столицы: жизнь и настроения москвичей (1941-1942 гг.) // Отечественная история. 1996. № 3. С. 3-28. Гороховская Е.А., Желтова Е.Л. Советская авиационная кампания 20-х гг.: идеология, политика и массовое сознание // Вопросы истории естествознания и техники. 1995. № 3. С. 63-78. 212 Гусейнов Г. Идеологема «расстрел» // Отечественные записки. 2002. № 3(4). С. 299-306. Данилов А.А. Борьба КГБ с инакомыслием в середине 1960-х – начале 80-х гг. // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 103-106. Данилов А.А. Участие граждан в конституционной реформе начала 60-х гг. // Армагеддон. 2000. Кн. 6. С. 197-203. Дегтев С.И. Крестьянство и формирование низовых властных структур деревни в 20 гг. // Власть и общественные организации в России в первой трети ХХ столетия. М., 1993. С. 127-146. Долинин В.Э. НТС в Ленинграде. 1950-70-е гг. // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 92-97. Дьячков В.Л., Есиков С.А., Канищев В.В., Протасов Л.Г. Крестьяне и власть (опыт регионального изучения) // Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.). Материалы международной конференции. М., 1996. С. 146-154. Дьячков В.Л., Протасов Л.Г. Война ХХ века и российская государственность // Россия в мировых войнах ХХ века. Материалы научной конференции. Москва. 26-27 сентября 2001 г. М.; Курск, 2002. Евсеева Е.Н. СССР в 1945-1953 гг.: экономика, власть и общество // Новый исторический вестник. 2002. № 1(6). С. 179-214. Евсеева Е.Н., Красовицкая Т.Ю. СССР в 1945-1953 гг.: духовная жизнь // Новый исторический вестник. 2002. № 1(6). С. 214-230. Ермаков В.Д. Махновщина: некоторые социально-бытовые аспекты повстанческого движения крестьян Украины // Социс. 1991. № 3. С. 76-87. Ершова Е.В., Орлов В.С. Конституция 1936 года и первые выборы в Верховный Совет СССР: свет и тени. По материалам Тверского края // Тверская земля в прошлом и настоящем. Сборник научных трудов. Тверь, 1994. С. 116-126. Ершова Э.Б. Творческая интеллигенция в однопартийной системе (20-30-ые годы) // Столетие РСДРП: Материалы межвузовской научной конференции, 1-2 апреля 1998 г. М, 1999. С 237-246. Есиков С.А., Канищев В.В. «Антоновский нэп» (Организация и деятельность «Союза трудового крестьянства» Тамбовской губернии. 1920-1921 гг.) // Отечественная история. 1993. № 4. С. 60-72. Жилин А.П. К вопросу о морально-политическом состоянии русской армии в 1917 г. // Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории. М., 1994. С. 127165. Жиркова Т.М. Письма крестьян как источник изучения подмосковной деревни в условиях демонтажа НЭПа // Проблемы истории Московского края. Тезисы докладов региональной конференции, посвященной 90-летию образования Московской области. М., 1999. С. 58-59. Захаров А.В. Массовые праздники в системе тоталитаризма // Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989. С. 289-295. Захаров А.В. Народные образы власти // Полис. 1998. № 1. С.23-26. Заховаев А.А., Меметов В.С. Советская власть и интеллигенция в 1917-1924 гг. // Проблемы методологии истории интеллигенции: Поиск новых подходов. Межвузовский сборник научных трудов. Иваново, 1995. С. 61-72. Здравомыслов А.Г. Власть и общество в России: кризис 90-х годов // Общественные науки и современность. 2000. № 6. С. 25-34. 213 Зезина М.Р. Шоковая терапия: от 1953-го к 1956 году // Отечественная история. 1995. № 2. С. 121-135. Зима В.Ф. Послевоенное общество: голод и преступность (1946-1947 гг.) // Отечественная история. 1995. № 5. С. 45-59. Зимон Г. Будущее из прошлого. Элементы политической культуры в России // Актуальные проблемы Европы: Пробл. - темат. сб. 1997 (2): Политическая культура и власть в западных демократиях и в России. М.: ИНИОН, 1997. С. 141-187. (статья 1995 г.) Иванов А.А. Тамбовская деревня в годы Первой мировой войны // Вопросы аграрной истории Центрального Черноземья XVIII-XX вв. Межвузовский сборник научных трудов. Липецк, 1991. С. 58-66. Иванова А.Н. Государственная власть в менталитете русских крестьян // Царизм и российское общество в начале двадцатого века. Материалы Пятой Международной научной конференции. М., 1998. С. 70-72. Иванова Т. «Ай, да славный, Красный Питер...» Городская частушка времен революции и гражданской войны // Родина. 1994. № 7. С. 61-65. Игонин А.В. Крестьянство и чрезвычайные органы партии (политотделы МТС на Ставрополье в 1933-1934 гг.) // Крестьянство и власти в России (1917-1994). Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции. Ростов-на-Дону, 1994. С. 50-51. Ильюхов А.А. Роль солдат в революции 1917 г., или кто «делал» революцию в Смоленской губернии // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1998. С. 95-106. Иоффе В.В. Ленинград. История сопротивления в зеркале репрессий (1956-1987) // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 76-84. Ипполитов Г.М. Морально-психологическое состояние офицеров Добровольческой армии период ее формирования (ноябрь 1917 – февраль 1918 гг.): к постановке проблемы // Армагеддон. М., 2001. Кн. девятая. С. 75-94. Ипполитова А.Г. О взглядах Русского Национального Единства: текстологический анализ документов организации // Армагеддон. М., 2002. Кн. двенадцатая. С. 177-191. Историческая память населения России (материалы «круглого стола» в РАГС при Президенте Российской Федерации 20 ноября 2001 г.) // Отечественная история. 2002. № 3. С. 194-202. Исхакова О.А. Форма государственного правления в России в свете реформ политической системы начала ХХ века (Историография проблемы) // Россия: идеи и люди. (Памяти Б.А. Томана). Сборник научных трудов. Вып. VI. М., 2001. С. 78-83. К 90-летию издания сборника «Вехи» // Армагеддон. М., 1999. Книга четвертая. С. 3-6. Как изменить политическую культуру общества // Мировая экономика и международные отношения. 1990. № 2. С. 51-57. Канищев В.В. «Мелкобуржуазная контрреволюция»: сопротивление городских средних слоев становлению «диктатуры пролетариата» (октябрь 1917 – август 1918 г.) // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1998. С. 174-187. Канищев В.В. «Мятежный обыватель» (обобщенный портрет «рядового» участника антисоветских восстаний в провинциальных городах Центра России летом 1918 г.) // Общественно-политическая жизнь российской провинции. ХХ век. Вып. 2. Тамбов, 1996. С. 48-51. 214 Канищев В.В. Политические настроения средних слоев провинциальных городов Центра России во второй половине 1918 г. (По материалам НКВД) // Общественнополитическая жизнь российской провинции. ХХ век. Вып. 2. Тамбов, 1996. С. 51-56. Карапетян Л.А. К вопросу деятельности анархистов на Кубани // Известия ВУЗов: Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 1997. № 1. С 3-13. Карнишин В.Ю. Прелюдия Февраля: влияние Первой мировой войны на массовые настроения провинциального общества // Февральская революция и судьба демократии в России. Ставрополь, 1997. С. 43-45. Кириллов В.М. Сопротивление крестьян Нижнетагильского округа политике коллективизации // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 25-28. Кирьянов Ю.И. Крайне правые партии и общество // Политические партии и общество в России 1914-1917 гг.: Сборник статей и документов. М., 1999. С. 162-180. Кирьянова Е.А. Авторитарная политическая система и колхозное крестьянство в 1930-е годы // Российская государственность: этапы становления и развития. Тезисы и материалы научной конференции. Ч. III. Кострома, 1993. С. 67-72. Климович Г.С. Сопротивление в ГУЛАГе (заметки бывшего узника) // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 64-66. Ковалева А.С. О взаимоотношениях между российской либеральной буржуазной оппозицией и правительством в ходе первой мировой войны // Первая мировая война: история и психология: Материалы российской научной конференции, 29-30 ноября 1999 г. СПб., 1999. С. 101-108. Козлов В. Феномен доноса // Свободная мысль. 1998. № 4. С. 100-112. Козлов О.В. Агитационно-пропагандистская работа в частях Красной Армии в первые годы Советской власти // Государственно-патриотическая идеология и проблемы ее формирования. Материалы межвузовской научной конференции 5 февраля 1997 года. Смоленск, 1997. С. 79-82. Козлов О.В. Политическое просвещение: ликбез и культурно-массовая работа // От революции к революции. Люди. События. Мнения. Вып 1. Смоленск, 2000. С. 84172. Колоницкий Б.И. «Демократия» как идентификация: К изучению политического сознания Февральской революции // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1997. С. 109-118. Колоницкий Б.И. «Политическая порнография» и десакрализация власти в годы Первой мировой войны (слухи и массовая культура) // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1998. С. 67-81. Кондрашин В. К вопросу о крестьянском движении в Советской России в 19181921 гг. // Дискуссии по истории Отечества. Сборник статей. Симферополь, 1997. С. 83101. Константинов С.И. Влияние взаимосвязи мировой и гражданской войн на психологический раскол российского общества // Человек и война (Война как явление культуры). Сборник статей. М., 2001. С. 181-189. Короткова Н.В. Гражданская культура как система политических ценностей // Гражданская культура в современной России. Сборник научных работ грантодержателей МОНФ / Отв. ред. Е.Б. Шестопал. М., 1999.С. 15-32. Костогрызов П.И. Втягивание гражданского населения Урала в военные действия в 1917-1918 гг. // Человек и война (Война как явление культуры). Сборник статей. М., 2001. С. 227-237. 215 Куда идет Россия? 10 лет реформ. Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1995. № 4. С. 198-210. Кудюкина М.М. Крестьянство и власть во второй половине 20-х годов // Власть и общество России. ХХ век: Сб. научных трудов. М.; Тамбов, 1999. С. 271-280. Кудюкина М.М. «Мужик вам наплюет на вашу политику...»: отношение крестьян к власти во второй половине 20-х годов // Россия XXI. 1997. № 3/4. С.160-180. Кудюкина М.М. Органы управления в деревне: сельсовет и сход. 1926-1929 гг. // Историческое значение нэпа. Сборник научных трудов. М., 1990. С. 109-128. Кужба О.А. Избирательные кампании и общественно-политическая жизнь крестьянства Тверской губернии в 1921-1925 годах // Тверская земля в прошлом и настоящем. Сборник научных трудов. Тверь, 1994. С. 80-98. Кузнецов И.А. Фонд писем «Крестьянской газеты»: источниковедческий аспект // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1999. № 2. С. 70-84. Кулешов С.В. Размышления о советском менталитете // Сталин. Сталинизм. Советское общество: К 70-летию В.С. Лельчука. М., 2000. С. 337-363. Кулешов С.В. Смешное в истории: опыт социокультурной реконструкции // Отечественная история. 2002. № 3. С. 163-169. Кулешова Н.Ю. Сталинское руководство конца 30-х годов: пропаганда в духе революционной наступательной войны в Красной Армии // Столетие РСДРП: Материалы межвузовской научной конференции, 1-2 апреля 1998 г. М., 1999. С. 287296. Куликова Г.Б., Ярушина Л.В. Власть и интеллигенция в 20-30-е гг. // Власть и общество в СССР: политика репрессий (20-40-е гг.). Сборник статей. М., 1999. С. 90122. Кутырева Л.В. Жалобы как источник по истории крестьянства Урала (Опыт контент-анализа) // Количественные методы в исследованиях по истории советского рабочего класса и крестьянства: Сб. научн. трудов. Свердловск, 1991. С. 50-70. Лаптева Е.В. Протест в советской культуре 1970-х – начале 80-х гг. Как предмет исследования англо-американской советологии // Тоталитаризм в России (СССР) 19171991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 133-135. Левада Ю.А. Homo Post-Soveticus // Общественные науки и современность. 2000. № 6. С. 5-24. Левандовский А. Миф как средство легитимация власти в России (XIX-XX вв.) // Мифы и мифология в современной России. М., 2000. С. 129-167. Левин М. О Сталине // Политическая наука современной России: Тенденции развитии: Пробл.-темат. сб. М., 2000. С. 123-145. Левкиевская Е. Русская идея в контексте исторических мифологических моделей и механизмы их сакрализации // Мифы и мифология в современной России. М., 2000. С. 67-91. Ливен Д. Русская, имперская и советская идентичность // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М., 1999. С. 288-310. Лившин А.Я. Власть и управление в массовой психологии (1917-1927 гг.) // Из истории государственного управления в России. Сб. ст. Симферополь, 1998. С. 87-112. Лившин А.Я., Орлов И.Б. Власть и народ: «сигналы с мест» как источник по истории России 1917-1927 годов // Общественные науки и современность. 1999. № 2. С. 94-104. Лившин А.Я., Орлов И.Б. «Серп и молот на престоле»: Революция, власть и воля в российском менталитете // Мнемозина: Исторический альманах. Выпуск 1. М., 1999. С. 117-131. 216 Липсет С.М. Политическая социология // Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. М., 1972. С. 64-98. Литвак К.Б. Политическая активность крестьянства в свете судебной статистики 1920-х годов // История СССР. 1991. № 2. С.129-142. Лобачева Г.В. Отражение монархических воззрений русского народа в паремиологических материалах второй половины XIX - начала ХХ веков // Проблемы политологии и политической истории. Межвузов. сб. научн. трудов. Вып.3. Саратов, 1994. С.3-10. Лукьянова Л.А., Нечаев М.Г. Религиозное движение и борьба за права человека СССР в 1960-е – 80-е гг. // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 114-116. Люкс Л. Возвращение истории? Россия в поисках преемственности // Актуальные проблемы Европы: Пробл. - темат. сб. 1997 (2): Политическая культура и власть в западных демократиях и в России. М.: ИНИОН, 1997. С. 188-198. Люкшин Д.И. «Общинная революция» 1917 года: логико-семантические проблемы социальной изоморфности // ACTIO NOVA 2000 (сборник научных статей). М., 2000. С. 484-506. Лялин В.Е. НЭП и законность // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: Межвузов. сб. научн. тр. Вып. VI. Воронеж, 1996. С. 36-38. Магомедов Р.Р. К вопросу о влиянии продовольственной политики большевиков на политические настроения казачества Оренбургской губернии весной 1918 года // Казачество Оренбургского края XVI-XX веков. Оренбург, 1992. С. 28-43. Магомедов Р.Р. Отношение крестьян Оренбуржья к хлебной монополии в 1920 г. // Социально-экономическое и экологическое развитие Южного Урала в XIX-XX веках. Оренбург, 1991. С. 131-152 Магомедов Р.Р. Революция в умах // Ментальность российского общества: новые подходы. Армавир, 1995. С. 76-89. Матвеева Л.Д. Комитеты общественной безопасности: к вопросу о формировании органов власти на Южном Урале в 1917 году // История России ХХ века: актуальные проблемы. Уфа, 1998. С. 28-33; Матвеева Л.Д. Революция 1917 года в зеркале отечественной историографии // Проблемы и перспективы современных технологий сервиса: межвузовский сборник научных трудов. Уфа, 1998. С. 90-93. Межуев Б.В. Возможности применения понятия «гражданской культуры» к российской политике // Гражданская культура в современной России. Сборник научных работ грантодержателей МОНФ / Отв. ред. Е.Б. Шестопал. М., 1999С. 33-43. Мещеркина Е.Ю. Послесловие. Продолжение устной истории // Томпсон П. Голос прошлого. Устная история / Пер. с англ. М., 2003. С. 346-360. Миронова Т.В. Крестьянские письма как исторический источник по изучению общественного сознания крестьян 20-х гг. // Источниковедение ХХ столетия: Тезисы докладов и сообщений. М., 1993. С. 137-138. Миронова Т.П. Тоталитарное государство и крестьянство в 20-х - начале 30-х годов// Тоталитаризм и личность. Пермь, 1994. С. 28-30. Морозов Н.А. Сопротивление в особых лагерях Коми АССР (1953-1956 гг.) // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 66-68. Назаров О.Г. Внутрипартийная борьба в ВКП(б) летом 1928 г. // Армагеддон. М., 2000. Кн. седьмая. С. 139-147. Нестерова С.В. Некоторые особенности политической культуры в современной России (психологический аспект) // Гражданская культура в современной России. 217 Сборник научных работ грантодержателей МОНФ / Отв. ред. Е.Б. Шестопал. М., 1999. С. 78-99. Никонова О.Ю. Инструментализация военного опыта в СССР в межвоенный период // Человек и война (Война как явление культуры). Сборник статей. М., 2001. С. 376-398. Никонова О.Ю. Советское общество и польская кампания 1939 г.: «романтическое ощущение войны» // Человек и война (Война как явление культуры). Сборник статей. М., 2001. С. 399-418. Обухов Л.А. Крестьянство Урала и борьба за власть в 1918 г. // Революция и человек. Социально-политический аспект. М., 1996. С. 147-159. Обухов Л.А. Рабочее движение против большевистской диктатуры на Урале в 1917-1918 гг. // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 8-14. Орлов Б. Общинно-патриархальное начало как основа политической культуры в России // Актуальные проблемы Европы: Пробл. - темат. сб. 1997 (2): Политическая культура и власть в западных демократиях и в России. М., 1997. С. 62-95. Орлов И.Б. Государство человеку - волк?: Власть в массовом сознании периода Октябрьской революции и гражданской войны // Академик П.В. Волобуев. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи. М., 2000. С. 470-482. Орлов И.Б. Коммунистическая совесть плюс коммунистический расчет: МОПР во второй половине двадцатых годов // Армагеддон. М., 2001. Кн. девятая. С. 95-100. Орлов И.Б. Местная власть в 1920-е годы // Сталин. Сталинизм. Советское общество: К 70-летию В.С. Лельчука. М., 2000. С. 125-140. Орлов И.Б. Парадоксы российской психоментальности: массовое сознание эпохи НЭПа // Армагеддон. М., 1999. Кн. первая. С. 59-66. Орлов И.Б. Проблема формирования единой российской политической культуры и становление отечественного гражданского общества // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб., 2001. С. 7-10. Орлова Л.Я. Проблема формирования российской политической культуры и государственно-правовое пространство России // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб., 2001. С. 115-119. Оськин М.В. Влияние крестьянского менталитета на состояние русской армии к Февралю 1917 года // Научно-практическая конференция памяти Демидовых: сборник материалов. Тула, 1998. С. 101-104. Оськин М.В. Общественное сознание крестьянства на фронте в Первой Мировой войне // Труды научной конференции студентов и аспирантов «Ломоносов-99». История. М., 1999. С. 91-93. Петрусенко Н.В. Монархия в политической культуре России начала ХХ в.: (опыт анализа взглядов Конституционно-демократической партии) // Новый исторический вестник. 2002. № 1(6). С. 65-75. Плотников И.Е. Крестьянские волнения и выступления на Урале в конце 20-х начале 30-х годов // Отечественная история. 1998. № 2. С. 74-92. Поветьев В.В. Слухи в Тамбовской деревне в период Первой мировой войны // Война и общество. Материалы международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов 25 февраля 1999 г. Тамбов, 1999. С. 23-24. Подпрятов Н.В. Борьба против Советской власти в Восточном Туркестане в 1917-1921 гг. // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 14-16. 218 Покровский Н.Н. Источниковедческие проблемы истории России ХХ века // Общественные науки и современность. 1997. № 3. С.95-104. Попов А.В. Вопрос о земле в требованиях крестьян и решениях Советов крестьянских депутатов Владимирской губернии в 1917 г. // Власть и общество России в первой трети ХХ века. М., 1994. С. 152-153. Попов А.В. Религиозное сознание российской интеллигенции и причины поражения умеренных социалистических партий в 1917 г. // Интеллигенция: проблемы гуманизма, народа, власти. Материалы к международной конференции. Улан-Удэ, 2124 сентября 1994 г. Ч. 1. М.; Улан-Удэ, 1994. С. 94-98. Попов Н.Н. Человек в российских войнах ХХ века // Человек и война (Война как явление культуры). Сборник статей. М., 2001. С. 28-37. Поршнева О.С. Российский крестьянин в Первой мировой войне (1914 – февраль 1917) // Человек и война (Война как явление культуры). Сборник статей. М., 2001. С. 190-216. Поршнева О.С. Социальное поведение российского крестьянства в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.) // Социальная история. Ежегодник. М., 2000. С. 57-83. Почепко В.В. Влияние средств массовой коммуникации на политические ориентации жителей и студентов Санкт-Петербурга во время предвыборной компании 1995 года // Исследования политики и культуры современной России: Сборник научных трудов. СПб., 1997. С. 5-9. Почепко В.В., Эль-Атмани М. Отражение президентской предвыборной компании 1996 г. средствами массовой информации Санкт-Петербурга и политические предпочтения студентов СПбГАХПТ // Исследования политики и культуры современной России: Сборник научных трудов. СПб., 1997. С. 9-12. Прищепа А.И. О начальном периоде диссидентства в СССР (на примерах Урала) // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 56-64. Протасов Л.Г. Социальный облик новобранцев периода Первой мировой войны в Черноземном центре // Формирование и развитие социальной структуры населения Центрального Черноземья. Тамбов, 1992. С. 60-62. Пушкарев Л.Н. Словесные источники для изучения ментальности советского народа в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории. 2001. № 4. С.127134. Розенберг У. Государственная администрация и проблема управления в Февральской революции // 1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: от новых источников к новому осмыслению. М. 1997. С. 119-130. Розенталь И.С. Большевики и российское общество // Политические партии и общество в России 1914-1917 гг.: Сборник статей и документов. М., 1999. С. 10-32. Розенталь И.С. Массовые представления о власти: Москва, начало ХХ века // Армагеддон. 1999. Кн. 4. С. 69-84. Российский старый порядок: опыт исторического синтеза («Круглый стол) // Отечественная история. 2000. № 6. С. 43-93. Саляхова О.Х. Советское общество в условиях сталинского режима // Региональная политика в ХХ в.: Российский и зарубежный опыт. Материалы студенческой научной конференции. Тверь, 1998. С. 102-103. Самохин К.В. Первая мировая война в восприятии тамбовского крестьянства по сведениям уездных исправников о политическом настроении населения // VI Державинские чтения: Материалы научной конференции преподавателей и аспирантов (февраль 2001 г.). Тамбов, 2001. С. 11-12. 219 Секиринский С.С. От книги про дельца до «книги про бойца» // Отечественная история. 2002. № 1. С. 191-195. Селянинова Г.Д. Российская интеллигенция в поисках альтернативы красному и белому в годы гражданской войны // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 31-35. Сенявская Е.С. Героические символы: реальность и мифология войны // Отечественная история. 1995. № 5. С. 30-44. Сенявская Е.С. Образ врага в сознании участников Первой мировой войны // Вопросы истории. 1997. № 3. С. 140-145. Сенявская Е.С. Психоистория на примере изучения психопатологии участников российских войн ХХ в.: исследовательские методы и их возможности // ACTIO NOVA 2000 (сборник научных статей). М., 2000. С. 507-540. Сигачев Ю.В. Общественные настроения в период Сталинградской битвы // Армагеддон. 1999. Кн. 5. С. 104-109. Сирота Н.М. Специфика российской политической культуры // Проблема формирования российской политической культуры и государственно-правовое пространство России // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб., 2001. С. 163-168. Смирнова В.К Анархисты и советская власть на Дону в начале 1918 г.: соратники или враги? // Лосевские чтения: Материалы научно-теорет. конф. «Цивилизация и человек: проблемы развития». ЮРГТУ (НПИ), 4-5 мая 2001 г. Ростовна-Дону, 2001. С. 133-136. Согрин В.В. Второе пришествие либерализма в Россию (Опыт историкополитологического анализа) // Отечественная история. 1997. № 1. С. 105-117. Согрин В.В. Реалии и утопии новой России // Отечественная история. 1995. № 3. С. 3-16. Соколов А.К. Социальная история России новейшего времени: проблемы методологии и источниковедения // Социальная история. Ежегодник, 1998/99. М., 1999. С.59-60. Соломатина Е.Д. Особенности эволюции русского либерального сознания в начале ХХ века // Международный сборник научных трудов «Человек и общество: на рубеже тысячелетий». Вып. 6-7. Воронеж, 2001. С. 158-161. Соломатина Е.Д. Социально-политические и психологические основы российского либерализма в начале ХХ века // Материалы научно-практической конференции «Преодоление кризиса в экономике страны». Воронеж, 2002. С. 186-188. Соломатина Е.Д. Структура российского либерального политического сознания в начале ХХ века // Труды научно-практической конференции «Проблемы региональной экономики и подготовки специалистов торгово-экономического профиля». Воронеж, 2000. С. 122-124. Столяров Д.Ю. Трансформация гражданской культуры в России: от чего к чему? // Гражданская культура в современной России. Сборник научных работ грантодержателей МОНФ / Отв. ред. Е.Б. Шестопал. М., 1999С. С. 44-57. Сукало А.А. Криминальный мир и его влияние на современные политические процессы в России // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб., 2001.С. 169-177. Суни Р.Г. Сталин и сталинизм, власть и авторитет в Советском Союзе, 1930-1953 // Политическая наука современной России: Тенденции развитии: Пробл.-темат. сб. М., 2000. С. 32-48. 220 Суслов А.Б. Реализация программных установок западно-сибирскими повстанцами // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 20-22. Сыч А.И. О некоторых социально-психологических последствиях Первой мировой войны // Вопросы истории. 2001. № 11-12. С. 109-113. Сюткина А.П. Институциональный аспект политической культуры: формирование институтов политической демократии // Гражданская культура в современной России. Сборник научных работ грантодержателей МОНФ / Отв. ред. Е.Б. Шестопал. М., 1999. С. 59-77. Талеров П.И. Анархический менталитет революционного народничества // Менталитет россиянина: история проблемы. Материалы 17-й Всероссийской заочной конференции. СПб., 2000. С. 26-31. Тарусов В.Н. Массово-политическая работа среди трудящихся Москвы и Московской губернии в годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1920 гг.) // Россия: идеи и люди. (Памяти Б.А. Томана). Сборник научных трудов. Вып. VI. М, 2001. С. 104-112. Ташпеков Г. Деревенская частушка 30-х годов ХХ века. Опыт классификации // Дискуссии по истории Отечества. Сборник статей. Симферополь, 1997. С. 139-149. Телицын В.Л. К истории антибольшевистских выступлений на Урале в первые послереволюционные годы: некоторые события и факты // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 6-8. Телицын В.Л. «Письма во власть»: заметки на полях прочитанной книги» // Армагеддон. М., 1999. Кн. третья. С. 194-203. Телицын В.Л. Октябрь 1917 г. Крестьянство: поведенческий императив и хозяйственная обусловленность // 1917 год в судьбах России и мира. Октябрьская революция: от новых источников к новому осмыслению. М., 1998. С. 143-158. Телицын В.Л. Русская революция 1917 года: деревня против города или перманентная война // Академик П.В. Волобуев. Неопубликованные работы. Воспоминания. Статьи. М., 2000. С. 347-355. Телицын В.Л. Урал 1917-1921 гг.: красный террор и общинная самозащита // Право, насилие, культура в России. Региональный аспект (первая четверть ХХ века). М.; Уфа, 2001. С. 180-209. Терентьев П.П. Политическая культура и российский парламентаризм: исторический аспект // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб., 2001. С. 178-180. Тищенко Ю.Е. Рост политической активности среди молодежи как важный фактор в формировании российского гражданского общества // Политическая культура России: история, современное состояние, тенденции, перспективы. Сборник научных статей. СПб., 2001. С. 181-184. Токарев В.А. Война и труд: стереотипы гражданской войны в организации трудовых отношений в СССР в 1941-1945 гг. // Человек и война (Война как явление культуры). Сборник статей. М., 2001. С. 419-441. Третьяков Н.Г. Из истории ликвидации Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 г. («Красный бандитизм») // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 17-19. Турицын И.В. Выборы представительной власти: социокультурный конфликт 20-х гг. // Советский менталитет: источники и тенденции развития (Социальный и 221 педагогический аспекты): Материалы межвузовской конференции. Вып. 1. Армавир, 1994. С. 32-34. Турицын И.В. Двадцатилетний юбилей революции 1905-1907 гг. и общественное сознание в переходный период // Первая российская революция и парламентаризм в России: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Ставрополь, 1995. С. 75-77. Турицын И.В. Народ и власть: становление политических аспектов советской ментальности // Советский менталитет: социальные этюды. Армавир, 1995. С. 41-51. Тяжельникова В.С. Советская песня и формирование новой идентичности // Отечественная история. 2002. № 1. С. 174-181. Уортман Р. Николай II и образ самодержавия // История СССР. 1991. № 2. С. 119-128. Фенько А.Б. Архетипы российской политической культуры // Гражданская культура в современной России. Сборник научных работ грантодержателей МОНФ / Отв. ред. Е.Б. Шестопал. М., 1999. С. 100-120. Филиппова Т.А. Либерально-консервативный синтез и менталитет элиты (Россия в эпоху поздней империи) // ACTIO NOVA 2000 (сборник научных статей). М., 2000. С. 409-425. Филиппова Т. Мифы «верхов», мифы «низов». Природа контакта // Мифы и мифология в современной России. М., 2000. С. 168-187. Фомин В.Н. Антисоветское «Тунгусское восстание» в годы НЭПа на Северовостоке России в 1924-1925 гг. // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 22-25. Хаген М. фон. Сталинизм в свете постсоветской исторической рефлексии // Политическая наука современной России: Тенденции развитии: Пробл.-темат. сб. М., 2000. С. 167-184. Хеймсон Л. Об истоках революции // Отечественная история. 1993. № 6. С. 3-15. Цакунов С.В. Нэп: эволюция режима и рождение национал-большевизма // Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал: В 2 т. Т.1. От вооруженного восстания в Петрограде до второй сверхдержавы мира. М., 1997. С. 57119. Чехлов В.Ю. Движение белорусских националистов: истоки, идеология, практика (1941-1944 гг.) // Армагеддон. М., 2000. Кн. восьмая. С. 86-101. Шаруненко Н.А. К вопросу о трансформации политических режимов // Исследования политики и культуры современной России: Сборник научных трудов. СПб., 1997. С. 21-32. Шатилов А.Б. Политико-культурное измерение жизни российских регионов («провинция» и «мегаполисы») // Гражданская культура в современной России. Сборник научных работ грантодержателей МОНФ / Отв. ред. Е.Б. Шестопал. М., 1999. С. 149-166. Шеврин И.Л. Общественно-политическая активность уральского крестьянства в 20-е годы // Социальная активность уральской советской деревни. Свердловск, 1990. С. 44-53. Шевцов А.В. Сельские советы России и ЦЧО в преддверии и ходе коллективизации (вторая половина 1920-х – начало 1930-х годов) // Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук: Межвузов. сб. научн. тр. Вып. VI. Воронеж, 1996. С. 44-46. 222 Шелохаев В.В. Либералы и массы в годы первой мировой войны // Политические партии и общество в России 1914-1917 гг.: Сборник статей и документов. М., 1999. С. 77-88. Шестопал Е.Б. Введение // Гражданская культура в современной России. Сборник научных работ грантодержателей МОНФ / Отв. ред. Е.Б. Шестопал. М., 1999.С. 7-13. Широкорад И.И. Центральная печать СССР в начальный период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) // Армагеддон. М., 1999. Кн. вторая. С. 99-107. Шишкин В.И. К характеристике общественно-политических настроений и взглядов участник Западно-Сибирского мятежа 1921 г. // Гуманитарные науки в Сибири. 1996. № 2. С.55-62. Шубин Н.А. Общественные организации и государственные структуры в первую мировую войну: опыт сотрудничества в снабжении фронта // Армагеддон. М., 1999. Кн. третья. С. 78-93. Шуткова Е.Ю. Молодежная оппозиция сталинизму в послевоенное время // Тоталитаризм в России (СССР) 1917-1991 гг.: оппозиция и репрессии: Материалы научно-практических конференций. Пермь, 1998. С. 71-73. Щербань Н.В. Раздумья о недавнем прошлом: поиски новых подходов // Отечественная история. 2002. № 3. С. 100-114. Шишкин В.И. К характеристике общественно-политических настроений и взглядов участник Западно-Сибирского мятежа 1921 г. // Гуманитарные науки в Сибири. 1996. № 2. С.55-62. Щербинин П.П. Повседневная жизнь россиянок в период Первой мировой войны 1914-1918 гг. // Женщина и война в поэзии и повседневности в период Первой мировой войны 1914-1918 гг. Тамбов, 2001. С. 18-37. Яров С.В. Кронштадтский мятеж в восприятии петроградских рабочих (по неопубликованным документам) // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 539-554. Dittmer L. Political culture and political symbolism // World politics. New Haven, 1977. Vol. 29. № 4. Fitzpatrick Sh. Signals from Below: Soviet Letters Denunciation of the 1930s // Jornal of Modern History. 1996. Vol. 68. № 4. V. Энциклопедии и словари Лебина Н.Б. Энциклопедия банальностей: Советская повседневность: Контуры, символы, знаки. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2006. 444 с. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. СПб.: ФолиоПресс, 1998. 704 с. Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост. Ю.И. Аверьянов. М.: Изд-во Московского коммерческого ун-та, 1993. С 264-266. Сарнов Б.М. Наш советский новояз. Маленькая энциклопедия реального социализма. М.: «Материк», 2002. 600 с. 223