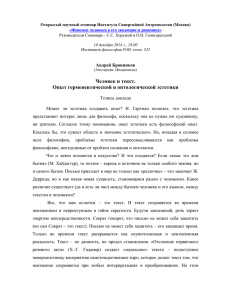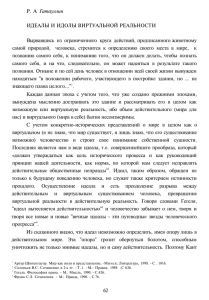С. Б. НИКОНОВА ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И
advertisement
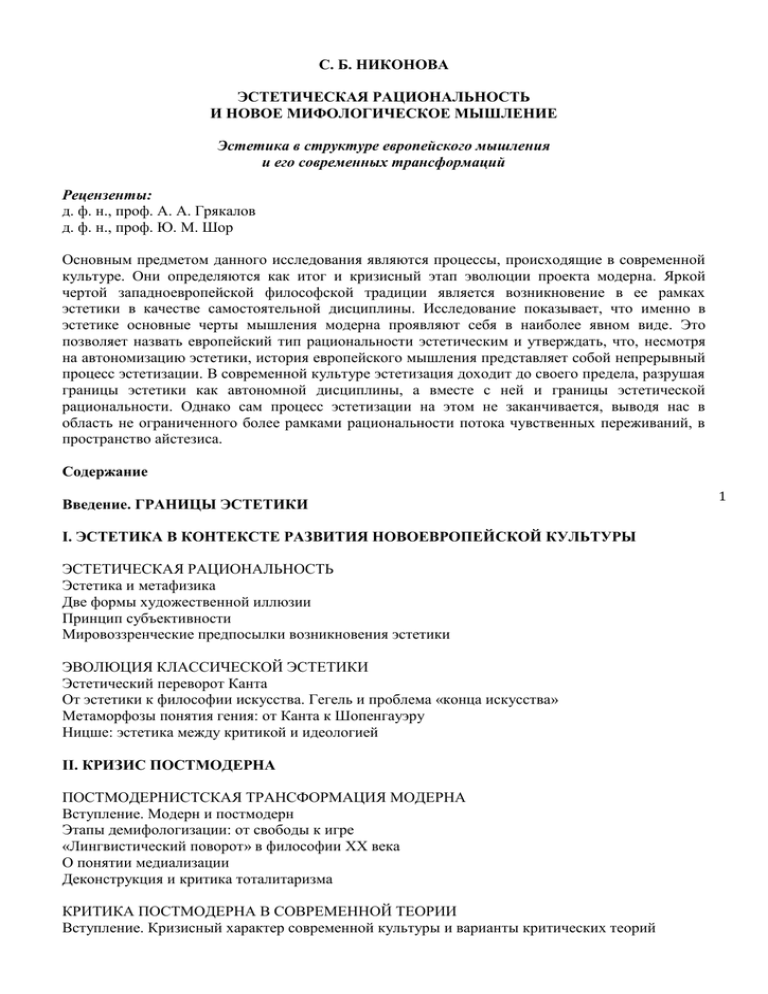
С. Б. НИКОНОВА ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И НОВОЕ МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ Эстетика в структуре европейского мышления и его современных трансформаций Рецензенты: д. ф. н., проф. А. А. Грякалов д. ф. н., проф. Ю. М. Шор Основным предметом данного исследования являются процессы, происходящие в современной культуре. Они определяются как итог и кризисный этап эволюции проекта модерна. Яркой чертой западноевропейской философской традиции является возникновение в ее рамках эстетики в качестве самостоятельной дисциплины. Исследование показывает, что именно в эстетике основные черты мышления модерна проявляют себя в наиболее явном виде. Это позволяет назвать европейский тип рациональности эстетическим и утверждать, что, несмотря на автономизацию эстетики, история европейского мышления представляет собой непрерывный процесс эстетизации. В современной культуре эстетизация доходит до своего предела, разрушая границы эстетики как автономной дисциплины, а вместе с ней и границы эстетической рациональности. Однако сам процесс эстетизации на этом не заканчивается, выводя нас в область не ограниченного более рамками рациональности потока чувственных переживаний, в пространство айстезиса. Содержание Введение. ГРАНИЦЫ ЭСТЕТИКИ I. ЭСТЕТИКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ Эстетика и метафизика Две формы художественной иллюзии Принцип субъективности Мировоззренческие предпосылки возникновения эстетики ЭВОЛЮЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ Эстетический переворот Канта От эстетики к философии искусства. Гегель и проблема «конца искусства» Метаморфозы понятия гения: от Канта к Шопенгауэру Ницше: эстетика между критикой и идеологией II. КРИЗИС ПОСТМОДЕРНА ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕРНА Вступление. Модерн и постмодерн Этапы демифологизации: от свободы к игре «Лингвистический поворот» в философии XX века О понятии медиализации Деконструкция и критика тоталитаризма КРИТИКА ПОСТМОДЕРНА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ Вступление. Кризисный характер современной культуры и варианты критических теорий 1 Бодрийяр: симуляция, эстетизация, катастрофизм Ваттимо: эстетика и дереализация Гумбрехт: интенсивность опыта присутствия Зерзан: эстетическая утопия возвращения к непосредственности природы III. ВАРИАНТЫ ПРОРЫВА ГРАНИЦЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ И ТОТАЛЬНАЯ ЭСТЕТИЗАЦИЯ Эстетизация истории Эстетика возвышенного «Субмедиальная подозрительность» и новая апофатика «Бог как орнамент», или эстетическая религия СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО Об определении искусства в современном мире Искусство и эстетика Музыка и пределы новоевропейской парадигмы «Эффект реальности»: кино и искусство Вместо заключения. НОВОЕ МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ? 2 Введение ГРАНИЦЫ ЭСТЕТИКИ Одной из характерных черт современной культуры является распространение эстетического дискурса за свои традиционные пределы. Он проникает буквально во все сферы жизни, включая даже весьма далекие от философии и от любого теоретического рассуждения виды деятельности, такие как медицина или парикмахерское искусство. Ситуация, в которой становятся возможны, к примеру, «эстетическая» стоматология или «эстетическая» хирургия, направленные не на излечение страдающих органов, а на совершенно независимое от лечебной практики улучшение внешнего вида (причем это оказывается не прихотью высокопоставленных особ, но более-менее массовым предприятием), является довольно специфичной. Внимание к качеству внешней формы – к эстетическому качеству, к тому, что воспринимается, вполне согласно с кантовским определением эстетического суждения, «до всякой логики» и «без понятия», – в современном мире доходит до высочайшей степени. Дизайн жизненного пространства, следование тенденциям моды, фактический культ красоты в массовой культуре «общества потребления» выходят далеко за рамки всего, с чем можно было столкнуться в прежние времена. За два с половиной столетия, прошедшие со времени оформления эстетики как самостоятельной философской дисциплины, почти непрерывно повышалась и ее философская значимость. В последние десятилетия теоретические исследования буквально наполнены эстетической терминологией. И в то же самое время, возможно, именно теперь эстетика более чем когда-либо демонстрирует свою полную размытость и неопределенность. Можно предположить, что в целом интерес к эстетике обусловлен тенденцией видеть в ней связь с чем-то глубинным, изначальным, а именно с чувством в самом широком смысле. «То, что имеет отношение к чувственно воспринимаемому» – таково буквальное значение термина. И это позволяет ему быть почти бесконечно податливым, способным привлечь всех – и тех, кто 3 желает определить с его помощью высочайшие порывы человеческой души, и тех, кто предпочитает распространить его далеко за пределы человеческого мира, в царство природы, противостоящей на уровне чувства излишней рассудочности человеческих действий; и тех, кто дает эстетическую оценку великим творениям классического искусства, и тех, кто в эстетическом видит определяющее основание современной массовой культуры. Уже из этого перечисления видно, что в современном состоянии эстетики, так же как и в употреблении термина «эстетический», наблюдается некоторая двойственность. С одной стороны, современная теория изобилует манипуляциями с этим словом, с другой – все чаще можно слышать о том, что как дисциплина эстетика является скучной и устаревшей, старые теории вызывают зевоту, никто уже не хочет посвящать себя их изучению. Кафедры эстетики пользуются популярностью, однако студенческие и диссертационные работы пишутся на них о чем угодно, кроме самой эстетики. Кажется, что если разговор ведется об искусстве, о красоте или о каких-либо формах образности, но не в строго историческом, культурологическом или искусствоведческом ключе, то этого достаточно, чтобы можно было назвать исследование работой по эстетике. Стоит обратить внимание и еще на один аспект проблемы. С тех самых пор как речь зашла об эстетике как о самостоятельной дисциплине, все чаще и чаще стали раздаваться и глубокие сетования на упадок эстетического качества жизни, на ее оскудение в плане красоты, на ее измельчание. С почти циничным гневом это выразил К. Н. Леонтьев в своем знаменитом отрывке: «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пуническое войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал, индивидуально или коллективно, на развалинах всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!»1 «Прошлое величие» удивительным образом описывается здесь в эпитетах блеска, красоты, изящества, возвышенности, художественности, словом, в эстетических эпитетах. А противопоставляется ему «безобразный буржуа» в «комической одежде» с идеалом «позорной прозы». Большая часть этого, казалось бы, морального упрека выстраивается в эстетической риторике, так, будто красота – и, быть может, даже в большей мере, чем это предполагалось несколько формальным кантовским определением, – по некой глубинной метафизической истине своей являлась бы подлинным «символом нравственности». Тем более интересно, что этот упрек Леонтьева относится к тому самому времени и к тому самому общественному укладу, который породил – впервые в истории человеческой мысли – эстетику как самостоятельную, полноправную философскую дисциплину, а еще более – к тому времени, когда она постепенно стала завоевывать первые позиции в философском дискурсе. Он относится к тому времени, когда само искусство окончательно освободилось от своей служебной и функциональной роли, когда красота стала цениться ради самой красоты, а не ради того, что можно обнаружить где-то вне ее или за ней, когда на пороге уже стоял модерн с его эстетическим и формалистическим порывом, с его внедрением искусства в жизнь и стиранием границы между жизнью и искусством. Поскольку Леонтьев отнюдь не одинок в своих сетованиях, возникает вопрос: как при таком господстве эстетического в то же время создается ощущение его истребления, упадка? В качестве еще одного подтверждения и одновременно объяснения этой ситуации часто приводят слова С. С. Аверинцева: «Отсутствие науки эстетики предполагает в качестве своей предпосылки и компенсации сильнейшую эстетическую окрашенность всех прочих форм осмысления бытия (как, напротив, выделение эстетики в особую дисциплину компенсировало ту деэстетизацию миропонимания, которой было оплачено рождение новоевропейской “научности” и “практичности”). Пока эстетики как таковой нет, нет и того, что не было бы эстетикой»2. Выделение эстетики в отдельную дисциплину рассматривается здесь как симптом 4 упадка эстетического. Приводя пример из совершенно другого теоретического пласта, можно вспомнить также упрек, который Р. Рорти высказывает в адрес Канта, в чьей системе эстетика впервые отчетливо выводится в независимую, и как будто бы уступающую по своей значимости другим, более «серьезным» (а именно науке и морали), область исследования3. По мысли Рорти, вынесение красоты и искусства в отдельную сферу «эстетического» губительно для них не только потому, что ставит их в подчиненное положение, но и потому, что, лишаясь их благотворного воздействия, все другие стороны жизни становятся утилитарными и механистичными. Но попробуем взглянуть на эту проблему в другом ракурсе, проанализировав контекст, в котором Аверинцев высказывает уже цитировавшееся критическое предположение. Не стоит ли искать истоки эстетики в структуре определенного способа мышления, который способен не только к порождению подобной дисциплины, но и в принципе к тому, чтобы относиться к миру эстетически? Что такое эстетика? – вот вопрос, которым хотелось бы задаться в первую очередь. Что мы имеем в виду, когда определяем нечто как «эстетическое»? К чему применимо такое определение и какие требования оно предъявляет к своему предмету? Аверинцев рассуждает об этом следующим образом. Термин «эстетика» был введен лишь в XVIII веке А. Баумгартеном. Соответственно ни в византийские, ни в античные времена никакой подобной дисциплины в теоретическом арсенале этих столь богатых эстетическими проявлениями культур не было. И тогда возникает подозрение: «Если рождение идеи не всегда совпадает с рождением термина, то не могут же они разойтись на тысячелетия! А это означает, что как Платон и Аристотель, так и их позднеантичные и средневековые последователи обходились не только без термина “эстетика”, но, что гораздо существеннее, и без самого Леонтьев К. Н. Письма о восточных делах // К. Н. Леонтьев. Византизм и славянство: сборник статей. М., 2007. С. 440. 2 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004. С. 38. 3 См.: Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / Пер. с англ. И. Хестановой, Р. Хестанова. М., 1996. С. 10. 1 понятия эстетики. Этот факт включает далеко идущие импликации. Не только к общественному функционированию, но и к внутреннему строю древних и средневековых эстетических учений принадлежит то, что они осознают и оформляют себя не в качестве эстетики. Они не “примитивнее”, чем такая эстетика, для которой внутренне необходимо осознать себя самое в качестве особой дисциплины; они по сути своей – иные»4. Из чего можно вслед за Аверинцевым сделать вывод: эстетика отражает строй новоевропейской мысли. Античность, Средневековье, Новое время по-разному воспринимают красоту и искусство. Это связано с тем, что и в целом системы мировосприятия античности, Средневековья и Нового времени различны в своих основаниях. Различия проявляют себя в возникновении тех или иных философских дисциплин, тех или иных стилей и жанров искусства, тех или иных терминов и тех или иных способов действия. И в таком случае существенной является специфика отношения к красоте, характерного для Нового времени и нашедшего отражение как в новоевропейской мысли, так и в новоевропейских жанрах искусства. Ничего, подобного такому отношению к ней, а стало быть, и такому мировосприятию, не существовало в предшествующие эпохи. Для Аверинцева главная задача состояла в характеристике отличительных черт этих эпох в противовес кажущемуся «само собой разумеющимся» европейскому мировоззрению. Но верна и обратная процедура: выявление этих отличий позволяет уловить специфику самой новоевропейской культуры и установить, таким образом, границы эстетики. Однако вернемся еще раз к вопросу о раздвоенности между возникновением эстетики, а также эстетизацией современной культуры, с одной стороны, и печальной констатацией ее деэстетизации и упадка эстетического с другой. Если сравнить современную эстетизацию жизни с упоминаемой Аверинцевым эстетической насыщенностью, которая была характерна для эпох, предшествующих возникновению эстетики как отдельной дисциплины, можно увидеть существенное отличие. Сопоставляя, скажем, античный культ телесной красоты с современным, мы не смогли бы, думается, не обратить внимания на удивительную виртуализированность последнего, его зацикленность на видимости 5 в том смысле, что о внутреннем качестве практически не идет речи. Отсылки к «грубой реальности», к животным инстинктам, пожалуй, только подчеркивают отсутствие некой плотности, стоявшей, как кажется, за древним взглядом на телесную красоту. В современном мире за эстетическим блеском поверхности можно найти разве что механическую тяжесть материи. Это ли не предмет печали для критика современной культуры? Не состоит ли в таком случае причина указанной раздвоенности в том, что каким-то образом новоевропейский тип мировоззрения устраняет содержательную плотность, стоявшую за красотой прежде? И это проявляется в одном из главных тезисов эстетики: эстетическое суждение субъективно. А тогда то качество, на исчезновение которого сетуют, не является собственно эстетическим. Исчезает, скорее, то, что могло бы составить (и некогда, вероятно, составляло) более глубокую основу для удовольствия от субъективного восприятия: метафизическое основание, стоящее за удовольствием от прекрасной формы. Критика метафизики, произведенная новоевропейским мышлением, возможно, имеет наиболее непосредственное отношение к возникновению эстетики как дисциплины, к эстетизации культуры и, одновременно, к утрате чего-то существенного, что наделяло прежде глубоким смыслом и даже божественностью блеск чувственно воспринимаемой красоты и величественные творения искусства. М. Хайдеггер полагал, что там, где возникает эстетика как отдельная наука, невозможен подлинный художественный опыт: переживание делает невозможным искусство 5. Это утверждение также направлено на критику современности, современной жизни, современного искусства, чуждых непосредственности, подлинности. Для Хайдеггера, – как, кстати, ранее и для Гегеля, обосновавшего появление эстетики только после конца искусства, – возникновение эстетики свидетельствует об упадке последнего. Между тем саму эстетику он распространяет далеко за пределы новоевропейской культуры, интерпретируя значение этого термина как 4 5 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 35. См. об этом: Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. М., 1997. C. 335. «знание о поведении человека, основанном на чувстве и восприятии, а также о том, что это поведение определяет», и как «рассмотрение чувствования человека в его отношении к прекрасному, рассмотрение прекрасного, поскольку оно находится в отношении к чувствованию»6. Поэтому для Хайдеггера эстетика – это «точное наименование» способа вопрошания об искусстве и прекрасном в ракурсе чувствования: «Философское размышление о сущности искусства и прекрасного уже начинается как эстетика»7. Но и здесь он оказывается вынужден поэтапно проследить изменение эстетики на протяжении истории европейского мышления –от греческой метафизики, через становление в XIX в. того, что он, вслед за Ницше, называет «эстетическим человеком», к ницшеанской воле к власти, понятой как искусство. Это история, совпадающая для критического взгляда Хайдеггера с историей «забвения бытия». И предел этого «забвения», по Хайдеггеру, оказывается весьма непосредственным образом связан с оформлением эстетики как науки, с осознанием эстетики как не просто самостоятельной, но, возможно, центральной сферы человеческой жизни и мысли. Здесь вновь акцентируется двойственность, диссонанс возможностей: подлинного эстетического переживания и его теоретического осмысления в эстетике как науке; существования эстетики как науки, одним из главных предметов которой является прекрасное в искусстве, и существования самого искусства. Это указывает на явную противоречивость эстетического способа мысли. В работе с говорящим названием «Трагедия эстетизма» П. П. Гайденко размышляет о возникающем в рамках этого нового образа мысли конфликте между вдохновением и иронией, стремлением к достижению универсальной гармонии и фатальным распадом ее в исторической перспективе. Характеризуя трагизм этой ситуации в отношение художника, она предполагает: «…даже когда его воображение в минуту вдохновения создает целостный и законченный образ, он знает, что этот образ – лишь сон, лишь сказка»8. Эта рефлексивная двойственность, по мысли Гайденко, позволила романтизму создать исторический подход к искусству и к культуре в целом9. Романтическая позиция характерна тем, что, принимая как реальность противоречивое, принимая как этапы исторического развития то, что некогда яростно противостояло друг другу, 6 она не принимает все это всерьез, но лишь как игру, с некоторым отстранением, как некую виртуальную возможность, стирая границу между реальным и воображаемым, и, таким образом, делая воображаемым всё. Интересный вывод, однако, состоит в том, что историческое исследование культуры, взвешенное наблюдение несходных, сменяющих друг друга во времени позиций, их отстраненная (и в этом смысле как бы «игровая») оценка возможны лишь там, где эстетическое суждение приобретает статус субъективности, теряя свои метафизические основания. Это указывает на связь субъективного эстетического суждения с объективным научным исследованием и с развитием исторического подхода к культуре. Тогда, «переворачивая» первый из приведенных тезисов Аверинцева, скажем так: где может возникнуть эстетика как отдельная дисциплина, сама мысль становится эстетической, эстетическое суждение оказывается всепроникающим. Тогда же и опыт искусства распространяется повсюду, так что вся человеческая жизнь, как об этом писал еще Ницше, начинает выстраиваться «по принципам искусства», и, как на этом настаивает Рорти, искусство и литература становятся «преемниками науки». Безусловно, возникший в XVIII в. новый термин «эстетика» можно применять огромным количеством способов и использовать для характеристики великого многообразия проблем. Но нас в данном случае будет интересовать лишь один из аспектов его понимания, который представляется важным не упустить из виду, дабы избежать неопределенности и излишней размытости в применении этого термина. Наша цель состоит в попытке определить исторические границы эстетики, рассмотрев предпосылки ее формирования как философской дисциплины в контексте новоевропейской культуры и эволюцию, которую она прошла в рамках этой культуры за два с половиной столетия. Хайдеггер М. Ницше / Пер. с нем. А. П. Шурбелева. СПб., 2006. Т. 1. С. 79. Там же. С. 80. 8 Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. О миросозерцании Серена Кьеркегора. М., 2007. С. 129. 9 Там же. С. 134. 6 7 То, что является для нас проблемой, – это не слово «эстетика» и даже не предмет эстетики, но сам способ мысли, который связан с возникновением представления об автономии эстетического суждения. В этом способе мысли, учитывая декларированную в трудах создателей эстетики субъективность эстетического суждения, мы подчеркнем как существенную черту центральное положение субъекта. Но поскольку данная черта характеризует новоевропейское мышление в целом, а в эстетике акцентирована с особой силой, то, как нам кажется, изучение эстетики способно дать ключ для понимания специфики новоевропейского типа мышления, а изучение эволюции эстетической мысли по направлению к современному моменту – ключ для понимания границ и перспектив развития современной культуры. Провести соответствие между данным способом мысли и порожденными им эстетическими концепциями, проследив в них истоки развития современной культуры, – вот первая задача данной работы. И если подобная задача содержит какой-то критический элемент, то состоит он – в кантовском смысле слова – в ограничении: в возможном историческом ограничении действия новоевропейской субъективистской парадигмы мышления, которую мы, исходя из принятой нами точки зрения и обозначенных выше оснований ее принятия, решились назвать эстетической рациональностью10. Это переводит нас ко второй задаче и к основной гипотезе этого исследования. Предположение состоит в том, что обозначенный нами тип рациональности в настоящее время сам сталкивается со своими историческими границами и, возможно, подходит к своему концу, или, по крайней мере, осознает, что предчувствие завершения является его неотъемлемым структурным элементом. В этом контексте повышение актуальности эстетического дискурса выступает как итог подобного столкновения и осознания (это было бы естественно, если основания европейской рациональности действительно, как мы предполагаем, можно определить как эстетические). Кроме того, анализ оснований и пределов эволюции этого типа рациональности способен указать и на возможные доминанты тех новых форм мышления, которые начинают свое развитие в современном мире. Раскрытие признаков перехода, характеристика процессов 7 трансформации явно доминирует в современных теоретических поисках. Философская мысль все в большей мере посвящает себя осмыслению той культурной и исторической ситуации, в которой она себя находит, а также возможных путей ее развития. Анализу этих процессов и той неоднозначной роли, которую играет в них эстетика, посвящена основная часть данной работы. Потому еще раз оговоримся, что эстетика в данном случае столь важна для нас не с точки зрения обзора существовавших и существующих взглядов на красоту, искусство и чувственное восприятие, словом, на то, что принято рассматривать как предмет самой дисциплины эстетики. Она важна для нас как проявление особого типа мышления, ориентированного на этот предмет, причем достаточно специфически его определяющего. И важна она с точки зрения непрерывности ее развития, совпадающего с развитием этого типа мышления, а также с точки зрения ее исторической эволюции в его рамках. Она важна для нас с точки зрения ее собственных границ. А обнаружение этих границ требуется для предположения возможностей того, что находится за ними. Как нам кажется, подробное теоретическое исследование европейской эстетики не столько в многообразии ее течений, сколько в единстве основных доминант ее развития, может быть полезно для анализа современной ситуации и понимания тех процессов и явлений, с которыми мы сталкиваемся вокруг себя, когда, оторвавшись от книги, выходим на улицу. Попытку такого исследования нам и хотелось осуществить на этих страницах. Выражение «эстетическая рациональность» использует Т. В. Адорно в своей «Эстетической теории», однако в несколько другом смысле. Адорно применяет этот термин для характеристики искусства модерна. Он называет таким образом стремление модернистского искусства к тому, «чтобы каждое художественное средство – и само по себе, и по своей функции – было столь четко определенным и целенаправленным, чтобы сделать то, на что уже не способны традиционные средства» (Адорно Т. В. Эстетическая теория / Пер. с нем. А. В. Дранова. М., 2001. С. 54). Таким образом Адорно также устанавливает связь между модернистской рациональностью и эстетикой, но в более частном аспекте, для решения внутренней проблемы искусства модерна. 10 I. ЭСТЕТИКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЭСТЕТИКА И МЕТАФИЗИКА Однако прежде чем перейти к основному предмету нашего анализа, следует хотя бы бегло остановиться на определении специфики и оснований того типа рациональности, который мы обозначили как «эстетический». Для этого, с некоторой долей схематичности, неизбежной ввиду широты рассматриваемого контекста, попробуем рассмотреть предпосылки возникновения эстетики как самостоятельной дисциплины в европейской мысли Нового времени и отличие «эстетического» подхода к красоте от тех, что характеризовали, вероятно, предшествующие эпохи. Если говорить о специфике новоевропейской мысли, то стоит вспомнить о том, что она начинается, согласно Декарту, с сомнения, в то время как античная мысль начиналась, по словам Аристотеля, с удивления. Удивление, столь ценимое в последней и столь выделяющее ее среди всех остальных, можно истолковать как восхищение перед гармонией космического порядка, восхищение, которое позднее, в философии Ницше, было проинтерпретировано как восторг перед красотой и гармонией несмотря ни на какие ужасные перипетии существования, так что опираясь на опыт греческой античности, Ницше смог сделать свой знаменитый вывод о том, что мир может быть оправдан только как эстетический феномен. Европейская эстетическая теория со времени своего возникновения в XVIII в. так много черпала из искусства, мифа, всей структуры античной философии, что сам собою напрашивается вопрос: отчего же греки, систематично и полно структурировавшие философскую мысль, тем не менее не уделили в ней ни одного специального раздела тому, о 8 чем так много, так плодотворно говорили, и что, казалось бы, было доминантой и центром их мировосприятия – красоте, – и не создали ничего подобного новоевропейской эстетике? Невыделенность эстетики в античной мысли при таком внимании ко всему, что представляется «эстетическим» – к совершенству формы, телесной или умопостигаемой, – является основанием для того, чтобы, как в уже приведенной формулировке С. С. Аверинцева или в знаменитой трактовке А. Ф. Лосева, характеризовать всю античную философию как эстетику. И если следовать этому подходу, то определение специфики античного отношения к красоте (а соответственно, и отличие его от новоевропейского) следует искать, в первую очередь, не столько в поэтике или риторике, хотя эти дисциплины, казалось бы, ближе подходят к тому, чему посвятила себя европейская эстетика, но на более глубоком уровне античной мысли, отражающем строй античного мироощущения: в структуре греческой метафизики. Если же полагать, что эстетическое суждение происходит из своего рода восхищения – то следует в первую очередь обратиться к Платону, в чьей философии нам представлен восхитительный гимн красоте11. Должно быть, вершиной платоновских рассуждений о красоте является диалог «Пир». Красота здесь напрямую связана с любовью, страстным стремлением – в том числе, с философией как любовью к мудрости. Понимание и красоты и любви у Платона Л. Шестов (чья собственная мысль не избежала влияния ницшеанского эстетизма), критикуя платоновскую систему, не мог сдержать восторга перед ее изначальным порывом, посетившим Платона «в счастливую минуту молодого вдохновения», и состоявшим «именно в том, что идея есть квинтэссенция реальности… [о которой] образы видимого бытия дают лишь слабое представление» (Шестов Л. Potestas Clavium (Власть ключей) // Л. Шестов. Сочинения в 2-х тт. М., 1993. Т.1. С. 224). Хотя возможно, эта интерпретация скорее созвучна трактовке платоновского царства идей, даваемой А. Шопенгауэром: как неких первичных объективаций вещи-в-себе, чистых представлений вне давления причинно-следственного детерминизма бренного существования. И неслучайно Шопенгауэр эту трактовку Платона выстраивает от начала и до конца в русле эстетики: для постижения идей здесь требуется не глубина морального действия или философской рефлексии, но незамутненный взгляд художественного гения. 11 очень специфично. Красота не является для него побочным или сопутствующим свойством любви или ее предмета: она отражает самую его сущность. Любовь как безрассудное, бессознательное влечение отвергается Платоном. Любовь – это любовь к совершенному, самому по себе или же обнаруженному в индивидуальном, а не к индивидуальному как таковому. Концентрироваться не только на одном прекрасном теле, но даже на одной прекрасной душе, или на одной из прекрасных наук любовь просто не имеет права. Хорошо хранить верность другу, но любовь не может обрести в единичном своего истинного предмета и должна продолжать стремление к нему пока не достигнет своего предела. В речи Сократа из «Пира» рассуждение Платона совершает стремительный переход от любви к благу, от блага к бессмертию, а от бессмертия – к красоте. Любовь – это стремление к благу, и не просто к благу, но к вечному обладанию благом, а потому всегда стремление так же и к бессмертию. Бессмертное, вечное, неизменное бытие, вечное пребывание, вне превратностей бренного мира – вот цель рассуждения Платона, давшая столь влиятельный импульс метафизической и религиозной мысли на многие века. И как ни странно, красота оказывается тем необходимым условием, без которого не может быть достигнуто бессмертие, то есть бесконечное постоянство в обладании благом. Здесь возникает знаменитая тема «рождения в прекрасном». Однако почему родить – как в простом биологическом, так и в высшем духовном смысле – можно только в прекрасном? Безобразие препятствует рождению – а значит и бессмертию. И это неудивительно, ведь в безобразии, для Платона, нет главного условия бытия: порядка, гармонии. Безобразное непостоянно и случайно, оно есть результат отклонения от правила, дефект формы, нарушение закономерности, а значит оно является недостатком бытия, и безобразная вещь – вещь не вполне бытийствующая. Что же есть в этом случае красота, с которой начинается, по Платону, движение к познанию высшей истины, и почему оно начинается именно с нее? И почему, в итоге, сама высшая истина представляется как нечто наиболее прекрасное? По сути дела, красота для Платона – это напоминание об идее, свидетельство подлинного бытия. Красота в вещах, в телах – это наибольшее соответствие идее, наилучшее ее подобие. А поскольку идея – это и есть сущность 9 вещи, то красота – наибольшее соответствие сущности, то есть совершенство. Платоновские идеи, понятые как идеальные формы, есть сами по себе нечто прекраснейшее, а материальные вещи могут быть прекрасны лишь постольку, поскольку напоминают их. То есть красота – это не «чувственное явление идеи», как определял ее впоследствии немецкий идеализм: прекрасна сама сверхчувственная метафизическая истина, слабым подобием которой является красота, видимая в материальных вещах. В качестве подлинной сущности вещей идеи представляют собой истину мира. Это прообраз, основание бытия, основание порядка в мире; они придают хаотической материи форму, создают космос из хаоса, они есть благо в высшем смысле слова: податель бытия. Значит, чем вещь больше походит на свою идею, тем она прекраснее. И чем она прекраснее – тем она ближе к истине и благу. Таким образом красота вообще – это неотъемлемый атрибут истины и блага. Красота, наблюдаемая в материальных вещах – самый непосредственный путь к познанию истины и блага. Потому для Платона нет сомнений в близости любви к прекрасному и любви к мудрости. Истинное познание может начинаться с восхищения прекрасными телами: ведь они напоминают идею, причем не просто какую-то идею вроде знаменитых «стольности» и «лошадности», послуживших предметом античной критики в адрес Платона, а наиважнейшую из идей: красоту как таковую, то есть умозрительную и непревзойденную красоту истины самой по себе. Едва ли где-то и кем-то красота была описана с большим пафосом и восторгом, возведена на более величественный пьедестал. Но, с другой стороны, уже здесь хорошо заметно: красота есть неотъемлемое свойство метафизической истины, истины бытия, возможно, Бога; это сияние Блага, или же «цветение бытия», по вдохновенному выражению неоплатоника Плотина. Но она не есть нечто самостоятельное, нечто такое, что могло бы быть рассмотрено как отдельное от бытия свойство. Проблематика прекрасного полностью поглощается учением об истине бытия. Платону не понадобилось отдельное учение о красоте, должно быть, именно потому, что истина бытия и его красота для него полностью совпадали. Вещи настолько прекрасны, насколько они истинны. Красота – это свечение в них их идеальной сущности, их совершенство, поскольку именно истина прекрасна. А прекрасна она постольку, поскольку истинна. Или постольку, поскольку она сама и есть бытие (которое есть благо, поскольку дает всему быть). Потому нет смысла выделять красоту как какое-то отдельное, независимое качество и исследовать его специально. Исследовать отдельно можно благо, но не красоту12. Они же, истина и благо, проявляют себя в искусстве и делают его прекрасным, одновременно придавая моральный пафос античной поэтике. Как свойство источника бытия всех вещей и подателя блага в мире красота есть нечто побочное, хотя в самих вещах она напоминает этот источник и в высшей степени способствует, через восхищение, правильному устремлению мысли к божественной истине мира. Так понятая красота – это свойство бытия, и, выражая это в более сухих терминах, рассмотрение ее относится к сфере онтологии. Еще раз обратимся к анализу различия античного, средневекового и новоевропейского мировосприятий, произведенному С. С. Аверинцевым. Определяя специфику новоевропейской эстетики, он отсылает к кантовскому определению бытия: «…бытие, как утверждал Кант, не есть предикат, но лишь логическая связка при предикате, решительно ничего не прибавляющая к положительному содержанию этого предиката»13, – так пишет он, ссылаясь на «Критику чистого разума»14. Причем, замечает Аверинцев, Кант говорит это «в тоне спокойнейшей самоочевидности», между тем как «то, что было “ясно” Канту, вовсе не было “ясно” предшествующим эпохам мысли; скорее для них было “ясно” как раз обратное»15. Можно сказать, что проблема устранения бытия теснейшим образом связана с эстетикой. Фактически, как автономная дисциплина эстетика может возникнуть лишь в момент упадка онтологии. Свое самостоятельное существование она начинает с того, что во всеуслышание заявляет о полной субъективности качества, которое раньше полагалось неотъемлемой частью бытия – и не просто бытия, а самой сути бытия, сокровенной истины бытия. И несмотря на «спокойнейшую самоочевидность» кантовского тона, можно сказать, что здесь проявляет себя уже отмеченная нами известная черта новоевропейской мысли: начинать все с сомнения. Высказывая критическое сомнение в том, что бытие есть нечто большее, чем 10 логическая связка при предикате, Кант ставит непреодолимое препятствие на пути того потока метафизического восхищения, который придавал жизнь и смысл всей предшествующей Новому времени философии. ДВЕ ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИЛЛЮЗИИ Итак, эстетика как философская дисциплина возникает в XVIII в. Термин вводится немецким философом А. Баумгартеном по образцу традиционных греческих названий философских дисциплин для обозначения новой области, которую он счел достойной тщательного философского исследования: до-логического уровня познания, или познания, основанного на чувственном восприятии. Причем эстетика создается Баумгартеном как раздел гносеологии – как «низшая гносеология», дополняющая более традиционный ее уровень, посвященный анализу познания на основе понятий, то есть рационального познания. Уже у Баумгартена эстетика применяется к исследованию красоты и к анализу искусства, сталкиваясь при этом с некоторой неопределенностью, включенной в само словосочетание «чувственное восприятие». Однако в данном случае нас интересует сам изначальный порыв и его специфика по отношению не только к предшествующим взглядам на красоту и искусство, но ко всей структуре мышления предшествующих эпох. «Чувственное восприятие», независимо от Сходное с этим объяснение дает исследователь неоплатонизма Дж. Рист относительно того факта что Плотин, вслед за Платоном много внимания уделивший рассуждениям о красоте, тем не менее называет свое Единое Благом, но не называет его Красотой: «Единое желательно рассматривать как Благо, так как Плотин полагает Благо чем-то более универсальным, чем Красоту… Следовательно, хотя мысль Плотина характеризовалась как философия Любви и Красоты, он не имел времени для эстетики» (Рист Дж. М. Плотин: путь к реальности / Пер. с англ. Е. В. Афонасина, И. В. Берестова. СПб., 2005. С. 79). 13 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 42. 14 Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 361-362. 15 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 42. 12 того, идет ли речь о восприятии посредством органов чувств, об аффектах или даже о воображении, не слишком высоко оценивалось их мыслью. «Чувства нас обманывают», – почти стандартное предостережение любого древнего философа, теолога или моралиста. Тело с его органами чувств могло мыслиться в стиле Платона – как «оковы души», или, напротив, как нечто неотъемлемое и гармонически с ней единое. Но все же едва ли кто-то придавал самостоятельную значимость любым формам до-рационального восприятия, рассматривая его как уровень своеобразного «недо-мыслия». Оговоримся, впрочем, что если говорить об иррациональном, то следовало бы различать дорациональное и сверх-рациональное, граничащее с мистическим, поскольку последнее являет собою ступень, высшую по отношению к понятийной (даже если предполагается, что понятийную можно просто перескочить в неком божественном экстазе). И то, и другое можно окрестить словом «чувство», возвышая (или, скорее, «романтизируя») таким образом всю чувственную сферу. Однако подобное возвышение оказывается более характерным для эстетической мысли последних двух столетий, чем для воспеваемых ею старинных времен с их «подлинным» нерассудочным восприятием мира. Но прежде чем задаться вопросом, как же случилось так, что чувственное восприятие стало казаться достойным специального исследования, и почему это случилось именно в сверхрационализированную эпоху Просвещения, провозглашавшую полное торжество и превосходство разума, в том числе и (хотя бы желаемое, если не действительное) над чувствами, стоит задуматься о том, почему же прежде бытовала столь радикальная в отношение чувств точка зрения, и как она совместима с тем буйством художественной фантазии, которую демонстрировало человечество, начиная от самых истоков своего развития. Или, чтобы не растекаться мыслию столь широко, стоит задуматься хотя бы о том, почему, к примеру, роскошной телесности греческого искусства сопутствует становящаяся постепенно все более утонченной и уносящейся за пределы видимого философия, которая последовательно противопоставляет (к недовольству ницшеанцев) миру «видимому» мир «истинный»: невидимый, не воспринимаемый чувствами, умозрительный мир, вплоть до – в конечном итоге 11 – мира, постижимого лишь путем мистического экстаза? Как представляется, в структуре античной философии можно усмотреть нечто такое, что делает всю ее, включая наиболее «материалистически» настроенные течения, отчасти метафизической (в том смысле, которого мы коснулись в предыдущем параграфе). Если, скажем, Гераклит, утверждавший, что все непрерывно изменчиво, Парменид, утверждавший, что движения вообще не существует, или Демокрит, полагавший, что существуют лишь атомы и пустота, по своим убеждениям относительно истины мира кажутся совершенно взаимоисключающими, то одна деталь в их подходах может быть вполне отмечена как общая, причем настолько общая, что дальнейшие различия, возможно, уже не так существенны. Эта деталь хорошо проявляется во фрагменте, приписываемом Демокриту: «Лишь в общем мнении существует сладкое, в мнении – горькое, в мнении – теплое, в мнении – холодное, в мнении – цвет, в действительности же существуют только атомы и пустота»16. Казалось бы, он не говорит здесь ничего особенно странного, и даже напротив, намекает на относительный субъективизм восприятия. Но вот эта структура рассуждения – «мы видим / а на самом деле» – определяет строй метафизической мысли: мы видим все устойчивым – а на самом деле все непрерывно изменяется; мы видим все изменчивым – а на самом деле все неподвижно… Причем знание того, что есть «на самом деле» во всех случаях дается только умозрением. Почему же чувства нас обманывают? Это легко понять на простом примере. Скажем, если бы следовало на скорую руку нарисовать человека, протягивающего вам книгу – как это можно было бы нарисовать? Скорее всего, как сделал бы и ребенок: нарисовать схематичного человечка, в одной руке держащего прямоугольник, возможно даже с надписью, сообщающей, что за книгу он вам вручает. В этом нет никаких сложностей и никаких вопросов, хотя, конечно, без дополнительных объяснений остается непонятным, что книга протягивается именно вам. А теперь следует представить себе, как это выглядит для нашего зрительного восприятия: книга или листок, протянутые непосредственно ко мне, то есть к воспринимающему субъекту (и 16 Цит. по: Лосев А. Ф. История античной эстетики. Ранняя классика. М., 2000. С. 531. значит всегда вперед по направлению к моей точке зрения)? Именно к такому изображению стремится живописная традиция, развитие которой начинается в эпоху Возрождения. Причем изображение предполагает сложные ракурсные сокращения, призванные отразить видимую картину, в которой простой и понятный прямоугольник книги сменяется достаточно сложной конструкцией, сильно искаженной пространственным удалением… И в итоге, только при достаточно большом мастерстве художника мы сможем все-таки понять, что именно он здесь изобразил. Хотя, конечно, ни в обычной жизни, ни даже при взгляде на уже готовую и технично выполненную картину у нас таких вопросов не возникает. Сознание немедленно достраивает изображение до целого, и мы уже прекрасно знаем, что перед нами не какая-то узкая изогнутая полоска, а прямоугольный предмет. От этого достраивания трудно отвлечься – настолько трудно, что простого наблюдения здесь оказывается недостаточно и требуется специальное обучение и разработка сложных правил. Необученные этим правилам люди упорно рисуют параллельные линии, уходящие от них в пространство, параллельными (то есть в согласии эвклидовой геометрией, не пересекающимися). А ведь именно параллельных линий, должно быть, мы меньше всего наблюдаем в окружающих нас предметах. Однако знаем мы об их наличии достаточно хорошо (достаточно, чтобы это могло быть принято как аксиома), и это знание, данное нам рассудком, настолько естественно, что сосредоточиться на ощущении, воспринимать только чувственный опыт оказывается крайне тяжело. Это могло бы быть, пожалуй, предметом некой медитативной практики. А в итоге такая способность обретается искусством только в рационализированной Европе на пороге Нового времени. Однако, судя по всему, до-возрожденческие художественные традиции совершенно не заботились о том, чтобы приблизиться к подобной «реалистичности», и даже, напротив, противостояли ей17. И недаром: ведь приведенный пример указывает скорее не на то, что нас обманывает изображение, а на то, что нас обманывает сама видимость. Вместо узнаваемого предмета наше восприятие предоставляет весьма искаженный образ, на основе которого только благодаря сознанию, памяти – словом, благодаря усилию разума – нам удается быстро обрести знание того, что же это было «на самом деле». 12 Так что же лучше: хаотичный чувственный опыт или упорядоченный мир знания? Подумав и осознав эту разницу, можно быстро прийти к выводу, что последний со всех точек зрения лучше, и даже просто практически полезнее. Говорят, эпоха Возрождения началась в тот момент, когда поэт Петрарка поднялся на гору Мон-Ванту в Провансе не с какой-либо иной целью, но лишь затем, чтобы полюбоваться прекрасным видом18. Здесь опять мы сталкиваемся с интересным парадоксом: та долгая эпоха19, которая провозгласила в итоге своего развития почти тотальный практицизм, которая превратила познание из чистого поиска истины в обретение могущества над природой, которая развила экономику, основанную на понятии выгоды, начинается с совершения действия, единственной характерной чертой которого является его полная бесполезность, полная практическая незаинтересованность, направленность лишь на одно – на чистое эстетическое созерцание. Если мы взглянем на китайское живописное искусство – а это, возможно, единственная традиция, кроме европейской, которая придавала в живописи первостепенное значение пейзажу, Хотя античное искусство в этом смысле отличается от многих других своей повышенным стремлением к подражательности, почерпнутой из наблюдения – так что вызывает резкую критику со стороны того же Платона, определенно предпочитавшего греческому искусству схематизм египетского (См. об этом: Панофски Э. IDEA. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма / Пер. с нем. Ю. Н. Попова. СПб., 2002. С. 17). 18 На деле, в этой ставшей знаменитой истории смущение поэта было вызвано отнюдь не бесполезностью действия, но прочитанными здесь же, на горе, словами из «Исповеди» Августина, винившего тех, кто слишком много предается созерцанию прекрасных видов, в забвении самого себя (человека). Гуманизм Петрарки как бы одновременно и смущается, и подкрепляется этим эстетическим порывом, – как возрожденческий пейзаж становится тем важнее, что являет собой фон для субъективности портрета. 19 Мы имеем в виду эпоху, могущую быть названной «Новым временем», соединяя Возрождение скорее с ней, чем со Средневековьем постольку, поскольку именно Возрождение порождает тот антропоцентрический принцип, который становится доминантой всего последующего развития. Далее, впрочем, мы надеемся показать, что основания Нового времени следует искать в еще более ранних веках. 17 – то мы увидим, что при всей тонкости подмечаемых деталей, при всей динамичности композиций и живости образов, в ней полностью отсутствует единство перспективы. Это лучше всего заметно при изображении панорамных видов: горы и воды чередуются, дороги уходят в бесконечность, и их стороны не сближаются, как если бы земля виделась сверху, между тем все предметы прорисованы в обычном боковом ракурсе. Единственный способ изобразить удаление в пространстве здесь – это туман, пропадание четкости, между тем как самая существенная часть европейской картины, горизонт, отсутствует. Китаевед Дж. Роули, однако, отмечает еще одно интересное свойство китайской живописи: художник предпочитает не рисовать с натуры20. Сходное отношение к природе отмечает в античной живописи знаменитый искусствовед Э. Гомбрих. Вопреки устойчивому, сложившемуся со времен Возрождения, мнению, что греческий художник шел в своих художественных открытиях «от природы», направляясь от наблюдения над ней к созданию возвышенного идеала, Гомбрих полагает, что такой путь характеризует не античную, но только сложившуюся в Европе со времен Возрождения традицию, лишь позднее спроецированную на античность. Относительно античности он выдвигает гипотезу, согласно которой, напротив, греческая пластика, отталкиваясь от египетских образцов, скорее оживляет, благодаря своей наблюдательности, египетский схематизм, тем самым обращая схему в прекрасный идеал21. Одновременно и по отношению к поиску истины необходимость слепого следования заданным нормам уступает место философскому стремлению к ней в процессе совершенствования. Ритуал заменяется размышлением – но не наблюдением. Новый виток искусства в эпоху Возрождения определяется началом изображения с точки зрения наблюдателя. Тот же Гомбрих отмечает этот переход в ранневозрожденческих картинах, в первую очередь, у Джотто, обращая внимание на то как он, при достаточной иконописности манеры и задолго до открытия закона прямой перспективы, совершает некий восхитительный переворот и начинает рисовать библейские сцены так, как если бы он был их наблюдателем. В результате на его картинах появляется нечто, абсолютно недопустимое в иконописи или любой средневековой, всегда достаточно символической, живописи: к примеру, Гомбрих обращает внимание на изображение на первом плане в сцене оплакивания Христа нескольких фигур со 13 спины22. Закон прямой перспективы, выведенный и впервые примененный в XV в., только доводит эту назревающую идею до математической формулировки. Но по сути, перспективное изображение основано на эффекте обмана: изображении трехмерного пространства на плоскости. Пространство, которое оно создает – это иллюзорное пространство. Прежняя изобразительная традиция стремилась всеми силами избегать обмана, в который нас ввергают чувства (и даже такую живопись Платон находил излишне погруженной в подражание вещам!) Но правда, к которой стремилось искусство, а еще сильнее – философия искусства, – это правда понятия, правда знания, истины как таковой. Искусство, если оно чегото стоило, должно было изображать мир в целом, как он есть, независимо от точки зрения художника, но лишь с точки зрения истины. Художник же, следующий закону перспективы, не стремится к изображению истины понятия. В то же время, он стремится к изображению истины опыта, истины наблюдения. Но для того, чтобы соответствовать ей, он изображает оптическую иллюзию. Можно сказать, что изображение с точки зрения наблюдателя – это некая форма лжи, ведь она искажает понятия, идет вопреки знаниям о предметах, создает иллюзии. Однако, с другой стороны, если мы изображаем в соответствие с понятиями, – не приписываем ли мы миру свою понятийную структуру, после уже не сомневаясь в соответствии между миром и нашим знанием о нем? Это также форма лжи. Сосредоточение же на наблюдаемом, воспринимаемом чувствами, критично по своей природе: оно отвергает то, что кажется очевидным нашему разуму во имя опыта, всегда изменчивого и готового к опровержению любых общих утверждений. Изображение с точки зрения наблюдателя всегда относительно. Никакие принятые на веру общие принципы не См.: Роули Дж. Принципы китайской живописи / Пер. с англ. В. В. Малявина // Китайское искусство. Принципы. Школы. Мастера. М., 2004. 21 См.: Гомбрих Э. История искусства / Пер. с англ. В. А. Крючковой, М. И. Майской. М., 1998. С. 75-97. 22 Там же. С. 202-203. 20 сковывают движение меняющейся точки зрения. Мы более не имеем отчетливого, наиболее «истинного» понятийного представления о предметах и о их «глубинной сути». Нужно отметить и тот банальный факт, что изображение, опирающееся на понятия, всегда «нереалистично»: непохоже на то, что мы видим. В то же время изображение с точки зрения наблюдателя далеко не всегда похоже на то, что мы знаем. Не имеем ли мы дело с двумя формами обмана: одной – ставящей видимость на место умопостигаемой истины, и другой – ставящей умозрительную схему на место реалистичного изображения? Схематизм умопостигаемой истины представляется критическому сознанию антропологически обусловленным продуктом субъективных желаний, возведенным в ранг независимой реальности. Новые принципы живописи были направлены против, как теперь стало казаться, мифического представления о возможности знать предзаданную истину саму по себе, без отношения к субъекту. Начиная с возрожденческого гуманизма субъект полновластно вступает в свои права по отношению к истине, вере, и даже божественному откровению. ПРИНЦИП СУБЪЕКТИВНОСТИ В работе «Философский дискурс о модерне» (1985), посвященной анализу оснований мировоззрения Нового времени – модерна в широком смысле слова, – а также его тупиков и противоречий, Ю. Хабермас говорит: «Принцип субъективности определяет… формирование культуры модерна»23. Это определение он выстраивает на основе гегелевской системы: «Первое, что Гегель открывает в качестве принципа нового времени – это субъективность. Исходя из этого принципа, он объясняет как превосходство мира модерна, так и его кризисное состояние: этот мир испытывает себя одновременно и как мир прогресса, и как мир отчужденного духа. Поэтому первая попытка сформулировать понятие модерна имеет единое начало с критикой модерна»24. И если эстетика как философская дисциплина является порождением Нового времени, если такую огромную значимость она приобретает для самоопределения модерна, то что же является 14 главной чертой, которая отличает современное эстетическое суждение от древнего, доэстетического? Едва ли это могла бы быть какая-то иная степень восхищения красотой или степень способности создавать прекрасные произведения искусства. Существенно различие самой структуры суждения: эстетическое суждение субъективно. Красота платоновских эйдосов, красота космического порядка, красота божественного мироустройства ни в коем случае не субъективна. Как мы уже видели, она принадлежит бытию, она есть свойство бытия, неотъемлемое настолько, что нет смысла даже отдельно ею заниматься. Но красота новоевропейской эстетики не принадлежит бытию, она есть лишь результат оценки. Создавая «учение о чувственно воспринимаемом», Баумгартен не намеревался приписать чувственно воспринимаемому какой-либо метафизический субстанциальный смысл, он создавал раздел гносеологии, а не онтологии, речь шла о структуре восприятия. Конечно, речь шла и об эстетическом объекте, но объект – лишь оборотная сторона субъективности. И если эта новая наука обращается к красоте, то отличается она, в первую очередь, именно тем, что переводит ее из ведения онтологии в ведение гносеологии. Но можно сказать, что эта процедура – переведение в ведение гносеологии – характерна для всей структуры новоевропейской мысли. Этот переход хорошо описан М. Хайдеггером в работе «Европейский нигилизм» как смена «метафизических позиций»25. Метафизические позиции определяются Хайдеггером на основании отношения познающего субъекта и познаваемого мира (истины). В этом смысле, структура субъективного мышления прослеживаются им начиная с классической античности. Хайдеггер всю историю метафизики называет историей «забвения бытия», и судьбой метафизики, с его точки зрения, является нигилизм, проистекающий из разделения мира на мыслимый и воспринимаемый, идеальный и материальный, так что главный Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. с нем. М. М. Беляева, К. В. Костина, Е. Л. Петренко, И. В. Розанова, Г. М. Сиверской. М., 2003. С. 18. 24 Там же. С.17. 25 Хайдеггер М. Европейский нигилизм / Пер. с нем. В. В. Бибихина // М. Хайдеггер. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993. С. 63-176. 23 вопрос метафизики, в конечном счете, формулируется Хайдеггером как вопрос о ничто. Смена позиций отмечает стадии этого «забвения», следуя которым нигилизм стремится к своему пределу. И радикальный переворот здесь принадлежит Декарту, поскольку в его размышлениях впервые бытие отчетливо уходит на второй план по отношению к мышлению. Хайдеггер находит существенную разницу между метафизической позицией античности и метафизической позицией Нового времени, сопоставляя наиболее «субъективистский» на вид образец античного утверждения (а именно, тезис Протагора: «Человек – мера всех вещей») с истоками новоевропейского субъективизма в философии Декарта. Здесь очень четко видно, чем метафизическая позиция античного софиста отличается от метафизической позиции основателя новоевропейского рационализма. Для Протагора, как и для античных скептиков, бытие – данность, пусть и непостижимая для человека, но где-то там, в своей собственной истине, внеположная и однозначная. Для Декарта бытие уже не есть данность, но скорее относительное следствие, которое должно быть доказано (и неизвестно еще, как показала позднейшая критика картезианства, может ли оно вообще быть доказано). Интересно, что Декарт повторяет в своих рассуждениях знаменитый мыслительный ход, несколькими столетиями раньше предложенный Ансельмом Кентерберийским: онтологическое доказательство бытия Бога. И в этом повторе, а скорее, в порожденном им критическом отклике, также можно углядеть существенное различие: Ансельм с кульминационной отчетливостью все еще принимает бытие как данность – и радикальный пафос направленной против него критики выявляет, что бытие не может быть принято как данность. Для Декарта бытие – предмет доказательства. Критика, направленная против него выявляет, что бытие не может быть также и доказано. Декартовский субъект удостоверяет мир, и без его субъективного акта мир остается недостоверным. Протагор мог сомневаться, как позже скептики, в том, что истина когда-либо может быть познана человеком – но никто из них не сомневался в том, что она есть. Декарт начинает с методологического сомнения во всем, хотя в конце концов приходит к положительному результату относительно существования мира. Однако этот новый мир – это мир, попавший в перспективу субъекта, который осознает, что его удостоверяющий взгляд 15 нужен миру для подтверждения существования. Истина нуждается в субъекте, чтобы стать истиной. Это уже существенный шаг к тому, чтобы признать, что истина существует только в человеческих высказываниях и «где нет предложений, нет и истины»26. Переворот, совершенный Декартом, делает бытие предметом удостоверения через акт самосознания, то есть зависимым от мышления. Этот переворот может быть назван гносеологическим. С этого момента вся мысль и вся удостоверяемая ею система мира обращается на субъекта и систему его познавательных способностей27, то есть попадает в ведение гносеологии. И до тех пор, пока не возникает сомнение в целостности и первичности картезианского акта самосознания, формирующего субъективность, мысль остается в рамках этой системы. Однако чтобы такое сомнение возникло, нужно было совершить еще ряд шагов. Вторая, следующая за декартовой, позиция западноевропейской субъективистской мысли, согласно Хайдеггеру, – это позиция Канта. Здесь истина мира самого по себе признается непознаваемой (вещь в себе), но мир явлений полностью упорядочивается и, можно сказать, Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. С. 24. Но нельзя забывать, что Хайдеггер выступает против любой метафизической «истины», которая всегда есть истина познания, и, таким образом, ее основания всегда тяготеют к субъективизму. И выступает на том же основании, на каком религиозный философ Л. Шестов критикует метафизическую «власть ключей» от царства Божия, от истины мира, которую забирают себе философы и богословы, тем самым заставляя истину быть чем-то человеческим, совпадающим с требованиями человеческого сознания, к которому она может, как полагает Шестов, не иметь ровно никакого отношения: Бог вовсе не обязан соответствовать рамкам человеческого мышления, его пути неисповедимы. В каком-то смысле, картезианское сомнение просто проявляет то, что было заложено в метафизическом понятии «истины» с самого начала: ее зависимость от мышления. Оно как бы приподнимает некую идеологическую завесу, которая заставляла думать, что субъективное сознание здесь выполняет только вторую роль, скрывая тот факт, что эта истина есть всецело его собственное порождение. И потому начало тотальной субъективизации не может не рассматриваться Хайдеггером одновременно как шаг в сторону полного забвения бытия, и как шаг в сторону прояснения оснований, шаг спасительный, первый шаг возврата. 27 Включая также восприятие, оценку, то есть не обязательно рассудочную сферу. Главное, что все эти способности существуют как результат самосознания – этого первичного акта мышления картезианского «Я». 26 создается продуктивной деятельностью сознания. Мир явлений, в некотором смысле, – это мир иллюзии. Однако он совершенно объективен. Это мир, постигаемый наукой, испытуемый и изменяемый субъектом. При это научная деятельность никак не соотносится с тем, что можно назвать опытом присутствия, опытом бытия. Подобное развитие мысли мы можем найти в «Логико-философском трактате» Л. Витгенштейна, где он говорит: «Если бы даже были получены ответы на все возможные научные вопросы, наши жизненные проблемы не были бы затронуты этим… В самом деле, существует невысказываемое. Оно показывает себя, это – мистическое»28. Критика разума, производимая Кантом, направлена на то, чтоб определить границы познаваемости, ограничить притязания разума на познание вещи в себе. Но само присутствие, существование, бытие мира в системе Канта оказывается принципиально недоказуемым, неопределимым – будь то существование Бога или существование мира, человека, вещей вокруг него. С другой стороны, мы можем видеть, что кантовская система дает субъекту и безграничную свободу – свободу творить мир явлений. Субъект выступает как созидатель мира, как его центр, как то, из чего исходят все перспективы. Что и предуготавливает дальнейшее развитие философской мысли. Полагание объективности мира есть шаг к осознанию, к предельной конкретизации, актуализации внутренней свободы полагающего. Сущность является, – утверждает Гегель, устраняя, таким образом, мистический смысл из кантовской критики (устраняя непостижимость вещи в себе), но, с другой стороны, акцентируя мистический смысл самой субъективности. Так радикально атеистический интерпретатор Гегеля А. Кожев определяет человека, понятого как абсолютный дух 29, через непрерывное отрицание: мыслить собственное существование значит мыслить ничто30. Субъект – точка отсчета, ноль системы координат, точка пустоты, никогда не поддающаяся определению, поскольку встречает себя всегда только в собственном отражении, всегда в форме отчужденной объективности, подобно портрету, являющему себя впервые в европейской живописи на фоне пейзажа. Субъект есть взгляд, но никогда не то, что созерцается, пусть даже в отражении. Это некий разрыв внутри системы упорядоченного мироздания (которое и есть не более, чем сам этот взгляд в его 16 объективации). Мир – объективация взгляда смотрящего, субъект же – чистая негативность. И из этого уже можно вывести третью существенную позицию, выделяемую Хайдеггером: позицию Ницше, для которого субъект выступает не как удостоверитель или созидатель, но как властитель. Это субъект властвующий, утверждающий себя через акт творчества, субъект, осознавший относительность своего взгляда и настаивающий на подчинении всего мира этому относительному и временному взгляду как новой абсолютной истине, или же осознавший, что «абсолютная истина» – его собственное произвольное изобретение. У Ницше субъективность достигает своего предела, завеса полностью поднимается, субъект объявляет себя властителем мира (а точнее можно сказать, обнаруживает себя таковым и мужественно признает это), проявляет себя как воля к власти, как самоутверждение, как свободное творчество. Он буквально воплощается как творец, как художник. Хайдеггер выделяет фразу Ницше из «Воли к власти»: «Явление “художник” прозреваемо легче всего»31. Воля к власти в первую очередь раскрывает себя как искусство: «Искусство есть самая прозрачная и самая знакомая форма воли к власти»32. Но Ницше и сам еще в «Рождении трагедии» называл уверенность научной мысли в возможности познать мир до самых глубин и пробиться к истине некой «метафизической химерой», которая «придана науке в качестве инстинкта и ведет ее снова и снова к тем пределам, где наука должна перейти в искусство, что, в Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Пер. с нем. М. С. Козловой, Ю. А. Асеева // Л. Витгенштейн Философские работы. Часть I. М., 1994. С. 72. 29 «Гегель доказывает, что “абсолютный Дух” или тотальность раскрытого Бытия, есть не вечный Бог, творящий Мир из Ничто, но Человек, отрицающий навечно данный природный Мир, в котором он сам рождается и умирает в качестве исторического человечества» (Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля / Пер. с франц. И.Фомина. М., 1998. С. 198.) 30 Там же. С. 199-200. 31 Хайдеггер М. Ницше. С. 70. 32 Там же. С. 72. 28 сущности, и является целью этого механизма»33. Это означает для него, что больше нет той метафизически утверждаемой истины, к которой можно двигаться. В науке, в мышлении, в любой сфере деятельности акцентируется сам процесс, а не результат, лишь само произвольное творчество субъекта, и все, что он создает, а значит, весь мир, понятый как воля к власти, – субъективен. Рассуждение о воле к власти непрерывно развивается у Ницше в русле эстетики. Но эстетика, так быстро ставшая в XIX в. по преимуществу философией искусства, таким образом проявляет себя как центральный элемент всей системы новоевропейской мысли. В эстетике этот переворот впервые, и возможно, поначалу довольно скромно, заявляет о себе, выведя одну из важнейших сфер бытия, красоту, в область субъективного суждения. Но завершением этого пути стала бы полная субъективация всех сфер бытия: все должно быть показано как результат субъективного суждения. Что и происходит у Ницше. А таким образом все показывается как искусство, все эстетизируется. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭСТЕТИКИ Но если где-то искать истоки этого нового субъективистского подхода к знанию, этой новой «метафизической позиции», то, возможно, следует обратиться к основаниям западноевропейской культуры, уходящей своими корнями в Средневековье. Среди важных вех в становлении западноевропейской рациональности хотелось бы обратить внимание на знаменитый схоластический «спор об универсалиях», обособивший два противостоящих направления: реализм и номинализм. Влияние этого спора для последующей мысли столь существенно, что отголоски его – и не только имплицитное воздействие, но и конкретные терминологические отсылки – можно встретить в философских рассуждениях самого разного характера вплоть до наиболее современных. Причем наиболее резкие критические течения в своих обоснованиях чаще апеллируют к номинализму: так даже Ж.-П. Сартр в своей программной работе «Экзистенциализм – это гуманизм», этом манифесте творческой 17 индивидуальности, открыто отсылает к схоластическим истокам; номиналистическими также называют себя радикальные ответвления аналитической философии34. Такое предпочтение неудивительно, так как реалисты в логической терминологии излагали, по сути, принципы античной метафизики, тщательно перерабатывая их для современной им проблематики и перетолковывая античную парадигму с точки зрения применения к анализу богословских понятий. Постепенно греческое созерцание, восхищенное «усмотрение форм» переводится в гносеологическую терминологию. Идеальные формы превращаются в общие понятия, но по-прежнему стоит вопрос о порядке их соотношения с вещами – материальными наблюдаемыми вещами, предметами опыта. Античная метафизика предоставляет здесь два основных варианта ответа, сформулированных соответственно Платоном и Аристотелем и отражающих большую и меньшую степень недоверия к чувственному опыту. По Платону вещи вообще мало достойны какого-либо познания, являют собой лишь искаженные, а главное безнадежно бренные копии вечных первообразов, которые только и составляют истинное бытие, подлинное благо, красоту и стержень всего мира. Что касается Аристотеля, то он, как известно, не столь чужд опыту. Он полагает вещи вбирающими в себя свои формы и являющимися их непосредственным воплощением. Это не мешает ему признавать материю лишь «возможностью», для которой форма есть подлинная действительность, исток и заветная цель воплощения. Стать самим собою здесь значит: стать тем, что заложено изначально, актуализировать свою сущность. И это цель, которая, даже при наличие большой познавательной динамики, включенной в структуру античной мысли, обеспечивает умиротворенность и статичность искомому ею космическому порядку. Именно с этим спорит Сартр в упомянутой уже работе, в экзистенциалистском порыве отрицая какую-либо изначальную предопределенность становящегося. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Пер. с нем. Г. Бергельсона // Ф. Ницше Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 199-200. 34 См. напр.: Goodman N., Quine W. V. Steps toward a Constructive Nominalism // Journal of Symbolic Logic. Vol.12, №4 (Dec. 1947). P. 105-122. 33 Очевидно, что и Платон, и Аристотель, несмотря на серьезное разногласие между ними, исходят из одного и того же метафизического убеждения: убеждения в том, что индивидуальные вещи, данные в опыте, находятся в некоторой зависимости от истины как таковой, что сущность их вне-временна, неизменна и предшествует им в порядке бытия. Средневековые реалисты придают этой проблеме более гносеологическое звучание, и их утверждение, таким образом, сводится к следующему: знание об индивидуальных вещах невозможно, всякое знание есть знание общих понятий. Действительно, как бы глубоко мы ни уходили в поисках собственно индивидуального – мы никогда не вырываемся за пределы концептов (в чем, пожалуй, именно с реалистами согласилась бы и современная философия языка). Следовательно, делают они вывод, теоретический уровень познания предшествует опытному: чтобы получить какой-либо упорядоченный опыт, нам нужна уже наличествующая понятийная схема (и здесь они вновь не расходятся ни с Кантом, ни с позднейшими исследователями вплоть до самых радикальных постмодернистов). Следовательно, общие понятия на самом деле существуют до всех индивидуальных вещей – ведь мы способны воспринимать упорядоченный мир! Трудно было бы не согласиться также и с этим: мрачные размышления ХХ столетия о «тюрьме языка», о его подавляющей структуре вторят тому же самому. Но с одним различием: реалистам эта ситуация отнюдь не казалась катастрофической, а напротив, обнадеживающей, дающей прочные основания для мышления и выстраивающей прямой путь к Богу. В отличие от современного скепсиса, они вполне уверены в том, что если мы способны воспринимать упорядоченный мир, то мир действительно упорядочен. Но фактически, вывод здесь делается из принципов мышления к принципам бытия самого по себе, после чего таким образом выведенные принципы бытия принимаются как данность и как исходная посылка мышления. И делается этот вывод так непосредственно, так риторически открыто, что, должно быть, именно потому впервые начинает вызывать серьезные подозрения. Можно сказать, что номинализм воплощает в себе подозрительность в отношение подобного метафизического подвоха. Но помимо множества логических и гносеологических сложностей реалистического подхода, 18 пытающегося показать, что общие понятия в нашем познании всегда предшествуют опыту, то есть сложностей, которые, на поверку, оказываются так или иначе разрешимы, у номиналистов есть и более существенная – теологическая – причина с ним спорить. Ведь мы не просто усложняем схему познания через предположение, скажем, всеведущего вневременного Бога, Мирового Разума или формы всех форм, который содержит в себе понятия всех вещей и на все времена. Но, что немаловажно, мы отказываем этому Богу в значительной части его могущества. Конечно, с одной стороны, реалистическая позиция позволяет объяснить всеведение Бога, возможность божественного предвидения, предопределенность событий. Но она ущемляет нечто более существенное: неисповедимость, божественный произвол, изменчивость Божества. Старая метафизическая схема как бы включает в себя также и Бога в качестве исправно и автоматически действующего механизма, подчиненного извечным законам. Личностный, грозный Бог Ветхого Завета, как и милосердный, воплотившийся в смертном человеке Бог Нового Завета явно в такую модель невместимы. Потому вопреки распространенной традиции поиска истоков всех позднейших нововведений исключительно в античной мысли, можно предположить, что номиналистический переворот не имеет и не мог бы иметь античных аналогов. Это явление, взращенное христианством, возникшее на почве сформировавшейся в рамках христианства и оторванной от античных корней культуры. Так известный философ и исследователь средневековой мысли Э. Жильсон полагает, что номинализм доводит до рационального осмысления анти-античный индивидуалистический пафос христианской парадигмы и совершает окончательную «деэллинизацию» теологии35. То есть можно сказать, здесь проявляется специфическая черта нового культурного типа, его ядро, основание новой формы рациональности. Номинализм утверждает онтологический и гносеологический приоритет индивидуальных вещей перед общими понятиями. Номиналистическая мысль полагает единственную реальность Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV века. / Пер. с фр. С. С. Неретиной. М., 2005. С. 494. 35 в индивидуальных вещах, а также видит в них единственный источник опыта. Это идет вразрез со старой, получившей полное идейное оформление у Платона схемой, согласно которой чувственный опыт вводит нас в заблуждение, заслоняя собой интеллектуальное созерцание чистых идей, отвлеченных от каких-либо привходящих деталей и искажений материи. Жильсон дает замечательную трактовку номинализма, достигшего своего полного оформления и освобождения от внешних влияний в философии У. Оккама36. По его мнению, оккамовский номинализм, отрицающий за «универсалиями» какую-либо реальность, дает прекрасную почву для развития скептицизма, эмпиризма и экспериментальной науки. Но это приветствие эксперимента возможно здесь и невозможно в платонической картине мира потому, что устранение универсалий, непризнание существования даже видов и даже в Боге, отвержение любых «априорных дедукций», делает самого Бога гораздо более похожим на абсолютное и неисповедимое библейское божество, нежели на аристотелизированный «Чистый Интеллект» реалистов: «Вселенная, где даже в Боге между его сущностью и творениями не возникает умопостигаемой необходимости, является чем-то заведомо случайным не только в своем существовании, но и в своей умопостигаемости. Нечто, разумеется, происходит в ней тем или иным образом, регулярно повторяясь, но это только состояние вещей. Нет ничего, что, если бы Бог пожелал, не могло быть иным. Оппозиция Оккама греко-арабскому нецессетаризму находит свое завершение в радикальной “случайности”, которая заключается в рассмотрении проблем с точки зрения абсолютной власти Бога»37. Можно сказать, что «бритва Оккама» отсекает в сфере познания все лишние «сущности» – все врожденные идеи, припоминания, если угодно, даже Бога в качестве мирового принципа, – оставляя познание по сути безосновным, или же основанным только на вере. Соответствие между знанием и миром, между понятием и индивидуальной вещью также становится предметом веры. В сфере опыта мы совершенно вольны и не связаны никакими предуказаниями, предзаданными условиями. Но опыт случаен. И потому власть Бога, дающая этой случайности непостижимую основу, абсолютна. И даже если мы скажем, что Бога нет – тем сильнее будет власть этого несуществующего основания всего, этой отсутствующей причины. 19 В мире случая схематизм логической необходимости не действует, остается лишь колебание между хаосом случайных событий и абсурдной верой в их согласованность. Номинализм ведет к явственному разделению «истин разума» и «истин веры», к их независимости друг от друга. А по сути, с одной стороны – к свободе экспериментальной науки, основанной на опыте о чувственно воспринимаемом, с другой стороны – к мистической вере, не сводимой ни к каким формам выражения и направленной на непроявленную, непостижимую, а возможно, отсутствующую основу мира. Вера движется в сторону погруженности вовнутрь, погруженности в субъект, где отношение устанавливается между индивидом и Абсолютом минуя всеобщее. И хотя эпоха Возрождения отвергла все схоластические изыскания, она не отвергла главного принципа: принципа опоры на индивидуальное, а также принципа внимания к чувственному (в искусстве, в жизни) и к экспериментальному (в науке), зародившегося еще в Средние века. И неудивительно, что Возрождение заканчивается взрывом религиозного движения: Реформацией, пытающейся, фактически, внедрить в религиозную практику номиналистические принципы, так что протестантская религия соединяет в себе одновременно предельный рационализм формы и предельный мистицизм содержания веры. На уровне же познания пропадает соответствие между непостижимой истиной «там вовне» и индивидуальным опытом субъективного сознания. И потому субъективное сознание оказывается совершенно свободным. Декарт в начале своих «Размышлений» беспокоится: а что если некий злокозненный обманщик обманывает меня всякий раз, даже когда я пытаюсь к двум прибавить три? И этим повторяет, казалось бы, умиротворяющие и освобождающие от суждений сомнения античных скептиков (раз истина недоступна, рассуждали они – то не о чем и беспокоится, не стоит к ней и направляться). Ну и пусть себе обманывает! – восклицает, вопреки им, Декарт. Никакого значения для субъективной ценности знания это более не имеет. 36 37 Там же. С. 484. Там же. С. 494. Этот способ отношения к миру, мышления о мире, выработавшийся к Новому времени, способ, отводящий столь важную роль опыту, получаемому посредством чувственного восприятия, несмотря на его рационалистический пафос, можно назвать эстетическим по своей сути. Его можно назвать эстетической рациональностью – как бы ни было странно сопоставление этих двух терминов в одном словосочетании. «Эстетической» не в смысле ее слишком сильной приверженности красоте, но в смысле опоры на чувственное восприятие, доверия к чувствам столь значительного, что даже отец рационализма Декарт пишет: мы не можем заблуждаться в чувствах, так как мы не можем ошибиться в том, чувствуем мы или нет. Неудивительно, что именно здесь появляется эстетика как отдельная дисциплина, а также и искусство приобретает совершенно особый статус. Как мы помним, Хайдеггер говорил, что там где есть субъективное переживание – нет подлинного искусства, и следовательно, где есть эстетика – нет искусства. Также мы отмечали, что в этом он, отчасти, вторит Гегелю, полагавшему, что искусство как нечто «высшее» осталось в прошлом, но именно в этом видевшему исток для возникновения эстетики, а следовательно, осмысления искусства как искусства. Потому, вопреки Хайдеггеру, можно сказать, что только теперь имеет возможность появится собственно искусство: искусство, воспринимающееся исключительно как искусство, искусство как предмет эстетического переживания, незаинтересованного и независимого, искусство как автономная сфера38. И тогда, если мы хотим понять основания тех проблем, с которыми сталкивается эстетика в современном мире, а также тех проблем, с которыми сталкивается в современном мире искусство и вся современная культурная ситуация в целом, кажется, что начать можно именно с анализа развития эстетической теории, тех вех, которые прошла на своем пути классическая эстетика. 20 Ср.: «Процесс автономизации искусства, вне всякого сомнения, служит определяющим признаком его модерности… Прежде всего это понятие определяется тем обстоятельством, что искусство перестает быть искусством по заказу и вследствие этого развивается эстетический дискурс… решающим при этом является формирование нового и интенсивного эстетического самосознания…» (Лиссман К. П. Философия современного искусства. Введение / Пер. с нем. А. В. Белобратова. СПб., 2011. С. 13); «Эстетический режим искусства… разнося вдребезги барьер подражания… утверждает абсолютное своеобразие искусства и в то же время уничтожает любой прагматический критерий этого своеобразия… Эстетическое состояние есть момент… когда форма испытывает сама себя» (Рансьер Ж. Разделяя чувственное / Пер. с франц. В. Лапицкого, А. Шестакова. СПб., 2007. С. 25-26). 38 ЭВОЛЮЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ КАНТА По сравнению с мятущейся неупорядоченностью современного мира философия Канта кажется столь уравновешенно классической, что часто ее революционный характер ускользает из виду. Сухость стиля, систематичность изложения, моральный пафос и пунктуальность рисуют портрет философского гения Просвещения. Но возможно именно в ней с не меньшей силой, чем в бурных событиях Французской революции, с которыми создание кантовской системы практически совпадает по времени, воплотился бунтарский дух этой эпохи. И даже в контексте нынешнего состояния мысли кантовский переворот выглядит достаточно радикальным, расшатывающим сокровенные устои метафизического мышления, выработанного тысячелетиями, и даже на риторическом уровне крайне смелым. Так весьма любопытным, и не в последнюю очередь именно в риторическом плане, представляется построение целого раздела системы – и это тот самый раздел, в котором речь идет, в частности, об эстетической способности суждения – в модусе «как если бы», придающем ему странный оттенок иллюзорности. По Канту, красота не принадлежит предметам, но воспринимается «как если бы» принадлежала; суждение не является всеобщим и необходимым, но высказывается «как если бы» всеобщее и «как если бы» необходимое; в конце концов, сам принцип способности суждения в целом основан на том, что хотя мы и знаем, что за единством многообразия эмпирических законов не стоит никакой воли и никакого рассудка (это «знание» юмовского типа: мы не знаем, стоят ли они за ним или нет, но, по крайней мере, не можем их обнаружить), но мы оцениваем его так, «как если бы» они там стояли. Интересным моментом является то, что свое знаменитое и столь часто критикуемое доказательство бытия Бога Кант высказывает тут же, в «Критике способности суждения», основывая его на том же принципе, а значит и оно высказывается им в модусе «как если бы»… 21 Однако в целом, видимо, тот факт, что речь по большей части идет об эстетике и искусстве, играет с этой иллюзорностью занятную игру: для классически настроенного сознания она скрывается за кажущейся незначительностью предмета, а современное сознание, более последовательное в своем признании тотальности иллюзии, отпугивается ограниченностью этой узкой сферой. Потому здесь нам хотелось бы показать, насколько существенной эстетика является для кантовской системы. В самом начале «Критики способности суждения», лишь приступая к определению заявленной способности, Кант указывает, что большая часть эмпирического опыта, та часть, которая устанавливает «единство многообразия эмпирических законов природы» структурирована по законам способности суждения39, и, соответственно, именно в способности суждения он видит основание возможности эмпирической науки: …Соответствие природы нашей познавательной способности априорно предпосылается способностью суждения для ее рефлексии о природе по эмпирическим законам природы, тогда как рассудок объективно признает это соответствие случайными; …без такой предпосылки мы не имели бы порядка в природе по эмпирическим законам и, следовательно, не имели бы путеводной нити для Оговоримся сразу, что, поскольку Кант выделяет два вида способности суждения, «определяющую» и «рефлектирующую», и первая, в качестве способности «мыслить особенное как подчиненное общему» (Кант И. Критика способности суждения // И. Кант. Соч. в 8-ми тт. Т. V. М., 1994. С.19), описывается им в «Критике чистого разума», то далее речь будет идти только о втором виде способности суждения, который является предметом третьей Критики. Первый вид способности суждения дополняет деятельность рассудка: «Если рассудок вообще провозглашается способностью устанавливать правила, то способность суждения есть умение подводить под правила, т.е. различать, подчинено ли нечто данному правилу… или нет» (Кант. И. Критика чистого разума. С. 120). И именно этого, как показывает Кант в третьей Критике, для понимания процесса эмпирического познания оказывается недостаточным. Введение рефлектирующей способности суждения обостряет номиналистический дух предъявляемого к пониманию этого процесса требования: она действует там, где «дано только особенное, для которого способность суждения должна найти общее» (Кант И. Критика способности суждения. С.19). 39 того, чтобы с помощью этих законов ставить опыт сообразно всему многообразию природы и для его исследования. Ведь легко можно предположить, что, несмотря на все единообразие вещей природы по общим законам, без которых вообще не было бы формы опытного познания, специфическое различие эмпирических законов природы и их действий все-таки могло бы оказаться настолько значительным, что наш рассудок не способен был бы обнаружить в ней постижимый порядок, делить ее продукты на роды и виды, чтобы пользоваться принципами объяснения и понимания одного для объяснения и понимания другого, и создавать из столь запутанного для нас (собственно говоря, лишь бесконечно многообразного, несоразмерного нашей способности постижения) материала связный опыт40. Таким образом сама возможность классификации предметов ставится Кантом в зависимость от рефлектирующей способности суждения, и именно в ней он видит первый и основной пример ее применения. Согласованность природы по эмпирическим законам Кант называет случайностью, причем «счастливой случайностью»41, которую мы, с одной стороны, вынуждены признать с необходимостью, с другой же, никаким способом не можем эту необходимость доказать. Мы как бы невольно ждем от природы и ищем в ней единообразия благодаря априорному свойству, которое заставляет «действовать, основываясь на принципе соответствия природы нашей познавательной способности»42, поскольку последняя имеет упорядочивающий, единящий характер. Но если возможность классификации вещей на роды и виды зависит от способности суждения, значит и сама возможность понятийного мышления о вещах связана с ней не меньше, чем с самой способностью формировать понятия. Рефлектирующая способность суждения представляет собой существенный момент кантовской теории познания, и в этом смысле можно было бы предположить, что главной целью Канта, намеревающегося через третью Критику соединить прежде разделенные в его системе сферы познания и желания, является телеология, обосновывающая возможность познания мира как гармоничной целостности. Способность суждения, соединяя две сферы, позволяет нам судить о предметах природы по законам нашей свободы, то есть видеть в них соответствие нашей способности к целеполаганию, что и наполняет постигаемый мир субъективной 22 целесообразностью. Однако, начиная свой анализ с эстетики, и даже посвящая именно ей большую часть изложения, Кант определенно указывает на основополагающий характер эстетической способности суждения. «В критике способности суждения, – пишет Кант, – наиболее существенна та часть, в которой содержится эстетическая способность суждения, так как только в ней находится принцип, который способность суждения совершенно априорно полагает в основу своей рефлексии о природе…»43 В эстетическом суждении этот принцип действует в чистом виде, и потому оно представляет собой наиболее чистое и самостоятельное применение способности суждения. Фактически, это значит, что эстетика нужна Канту лишь для того, чтобы обнаружить этот принцип в его чистом действии, и таким образом обнаружить основания нашего эмпирического познания. Но достаточно любопытным является тот факт, что способностью души, соответствующей рефлектирующей способности суждения в целом, а значит и телеологической способности суждения (которую он называет «рефлектирующей способностью суждения вообще»44), Кант называет чувство удовольствия и неудовольствия, а общее применение ее находит в искусстве, так, словно в момент составления своей общей схемы способностей про телеологию он забыл вовсе. С другой стороны, поскольку указанная способность уже во введении обнаруживается им как основа всего эмпирического познания, это может служить предположением скорее о том, что наука отчасти, как об этом позже скажет Ницше, уже у Канта начинает, где-то в глубинных своих основаниях, выстраиваться по принципам искусства. Кант И. Критика способности суждения. С. 25-26. Там же. С. 24. 42 Там же. С. 29. 43 Там же. С. 34. 44 Там же. С. 35. 40 41 Однако подобные «эстетические» основания науки можно увидеть и в античной мысли, где как некое чудо воспринималась упорядоченность космоса, для которой следовало найти некую правящую, первую, метафизическую причину. Возможно предположить, что Платон называл усмотрением идеального прообраза, идеальной формы вещи то же, что позже и по-своему Кант называет субъективным суждением о прекрасном. Усмотрение согласия в формах и, далее, в свойствах вещей связано с чувством удовольствия, восхищения перед нежданным соответствием. Это удовольствие сродни чувству благодарности за счастливый случай, за необоснованную гармонию. Кант пишет: В самом деле, хотя от совпадения восприятий с законами по общим понятиям природы (категориям) мы отнюдь не испытываем чувство удовольствия и не можем его испытывать, поскольку рассудок непреднамеренно действует здесь необходимым образом соответственно своей природе, то, с другой стороны, обнаруженная совместимость двух или нескольких гетерогенных эмпирических законов природы под охватывающим их принципом служит основанием очень заметного удовольствия, часто даже восхищения, причем такого, которое не исчезает и при достаточном знакомстве с предметом. Правда, мы больше не испытываем заметного удовольствия от постижения природы и единства ее деления на роды и виды, что только и делает возможными эмпирические понятия, посредством которых мы познаем природу по ее частным законам, но в свое время это удовольствие несомненно существовало; и лишь потому, что без него не был бы возможен даже самый обычный опыт, оно постепенно смешалось с познанием и как таковое уже не замечалось45. Как мы можем увидеть, различение деятельности рассудка совместно с определяющей способностью суждения, с одной стороны, и рефлектирующей способности суждения, принцип которой мы находим в эстетике, с другой, заключается в следующем: определяющая способность суждения подводит вещи под понятие, но то, что мы подводим разные вещи под одно и то же понятие – это и есть источник удивления от неожиданного соответствия природы нашей потребности в согласованности и целесообразности. И в первую очередь, эта возможность зависит от способности наблюдать некоторые хотя бы только формальные сходства в предметах. Способность видеть сходства в вещах сопряжена с некоторой степенью удовольствия, которое может забыться со временем, но это не значит, что его не существовало в 23 начале, и что первым порывом к созданию науки не было эстетическое созерцание. В целом можно предположить, что в способности суждения – и именно потому, что она не имеет конститутивного статуса в отношение каких-либо объектов, а только регулятивный – наиболее ярко выражается пафос критической мысли Канта. Кант отдает должное метафизике и критическую систему собирается предпослать построению рациональной метафизики на твердых основаниях. Но философская мысль отчетливо разделяется для него на метафизику и критику, где первая позволяет построить устойчивую картину мира, вторая же представляет собой как бы вечное подозрение, подкоп, поиск оснований, систематизацию картезианского методологического сомнения. Потому можно, конечно, сказать, что для метафизического измерения системы Канта эстетика есть лишь небольшая часть, узконаправленная способность, уступающая более существенным законодательным способностям познания и желания, конституирующим всю сферу возможных понятий о мире. Между тем для критической системы, для постоянной проверки оснований объективного мира на прочность, допущение регулятивной способности, согласующей внутренние структуры субъекта, но никак не высказывающейся об объектах, будет наиболее существенным46. Эстетическая способность отчетливее всего проявляет себя в суждении о прекрасном, в анализе же ее отчетливее всего проявляет себя критический характер всей системы. Достижением эстетики как новой дисциплины был отказ признать красоту объективным свойством вещей. Возможно этот до-кантовский прорыв определенным образом способствовал появлению его системы, не меньше упоминаемых им самим Юма и Руссо. Не случайно уже Там же. С. 28. (Курсив наш – С.Н.) Кант говорит: «…Эстетическая способность суждения ничего не привносит в познание своих предметов и, следовательно, должна быть причислена только к критике выносящего суждения субъекта и его познавательных способностей, в той мере, в какой они способны иметь априорные принципы, каким бы ни было их применение… что и есть пропедевтика каждой философии» (Там же. С. 35). 45 46 первая глава «Критики чистого разума» носит наименование «трансцендентальной эстетики», хотя еще весьма отличной от будущей рефлектирующей способности суждения, зато радикальным образом отказывающейся признать пространство и время, истолкованные в ней как основания чувственности, принадлежностью мира самого по себе. Метафизика, не базирующаяся на критике, вызывает у Канта подозрение. В начале «Критики чистого разума» он бросает упрек в адрес Платона, который «покинул область чувственного мира, потому что он ставит узкие границы рассудку, и отважился пуститься за пределы его на крыльях идей в пустое пространство чистого рассудка. Он не заметил, что своими усилиями он не пролагал дороги, так как не встречал никакого сопротивления, которое могло бы играть роль точки опоры для приложения его сил, чтобы сдвинуть рассудок с места»47. Выходя за некоторые пределы мы уже не встречаем препятствий собственной фантазии, мысль свободно парит, выстраивая мир по собственному желанию и полагая при этом, что отражает самую его истину, самую его суть. Сфера метафизики, в таком случае, – это сфера непрерывного заключения от желаемого к действительному, от представления о должном к представлению о сущем. Но поскольку именно способность суждения дает нам, по Канту, возможность оценивать предметы чувственного опыта, то есть предметы природы, по законам нашего желания, нашей целеполагающей способности, то, фактически, вся метафизика может быть описана как результат способности суждения и лежащего в ее основе эстетического удовольствия. То есть можно сказать, что метафизика есть постоянное эстетизирование, применение способности суждения без всякого сознания субъективности этого суждения. Субъективное суждение выдается в ней за истину мира. Обратим внимание, насколько до некоторого момента и Платон , и Кант движутся по одной и той же схеме, удивительным образом выстраивающейся вокруг эстетических категорий. И Платон, и Кант согласны, что знание в любом случае есть знание порядка, – но для Платона основания этого порядка находятся в самом бытии, а для Канта переход от мышления к бытию невозможен, и порядок привносится в наше видение мира через априорные формы чувственности и сетку категорий рассудка. И Платон, и Кант полагают, что в противном случае 24 физический мир был бы полным хаосом, – но для Платона этого хаоса нет благодаря существованию идей, и мы способны видеть порядок, а не являемся бессмысленными существами потому, что наша душа причастна миру идей; для Канта же упорядочивающая способность присуща самому сознанию, а бытие мира вне нас принципиально непознаваемо. И Платон, и Кант уверены, что стремление к видению порядка внутренне присуще нашему разуму: потому что разум и есть упорядочивающая способность – у Канта; потому, что разум причастен миру порядка – у Платона. Стало быть, совпадение вещей с этой нашей склонностью не может не вызывать в нас удовольствия и восхищения, особенно постольку, поскольку мы вовсе не имеем оснований ожидать от вещей этого совпадения. Но по Канту, удовольствие вызывает то, что своей упорядоченностью превышает схему рассудочных категорий, а стало быть не имеет объективной причины. А по Платону наша душа, закованная в материальное тело, едва ли могла бы рассчитывать на такой подарок от беспорядочной и грубой материи, почему он и возводится к нематериальному. И Платон, и Кант соотносят это удовольствие с понятием прекрасного. Здесь их пути вновь расходятся, так как для Канта оно остается сугубо субъективным и ведет к определению способности суждения, в то время как для Платона красота – напоминание об идее, понятие онтологическое, свидетельство подлинного бытия. То есть везде, где Платон заключает к истине бытия, Кант выявляет невозможность произвести такое заключение. Он осуществляет как бы внутреннюю критику метафизики: исходя из того же метафизического миропонимания, выявляет основания этого миропонимания. И интересно, что в основании этого миропонимания лежит восхищение красотой, неожиданностью совпадения наших желаний с тем, что мы наблюдаем в действительности, необъяснимая, почти мистическая случайность этого совпадения. Для Платона она является свидетельством явления Истины, и лишь в этом последнем пункте Кант выражает сомнение. 47 Кант И. Критика чистого разума. С. 36. Как уже говорилось, кантовская эстетика основывается на понятии удовольствия. Между тем само понятие удовольствия поясняется в «Критике способности суждения» лишь весьма бегло: «Но субъективное в представлении, которое не может стать частью познания, есть связанное с этим представлением удовольствие или неудовольствие»48. По сути, здесь не только отсутствует систематическое разъяснение данного понятия, но напротив, само чувство удовольствия как бы выводится за рамки систематизма, отсылает лишь к субъективному опыту, или к субъективности как таковой: к тому внутреннему остатку, который уже не может конституировать никакого объективного знания о мире. Но в контексте вышеизложенного мы могли бы сказать, что удовольствие, о котором говорит Кант, – это нечто вроде метафизического, религиозного или мистического восхищения, порождаемого обнаружением случайной и необъяснимой гармонии мироздания. В этом смысле оно оказывается скрытым ядром, механизмом всей системы. Однако то, что здесь отсутствует – это именно элемент восхищенности. Структура русского слова весьма показательна, т.к. подчеркивает порыв вовне, похищение чем-то высшим, внешним. Между тем кантовское удовольствие оказывается не устремляющим субъекта во вне, но замкнутым внутри субъекта. То, что для метафизики выступало как восхищающее, признается субъективной сферой вымысла, воображаемой сферой, фантазией или искусством (к которому, как мы помним, в первую очередь и применяется, по Канту, способность суждения). Ж.-Л. Нанси в работе «Кантовская система удовольствия» неслучайно, как представляется, – невзирая на знаменитый кантовский моральный ригоризм, на принижение всего, что связано со склонностью и принципом достижения счастья, – называет удовольствие «сердцем кантовской системы»49. Для него оно заключает в себе самую суть кантовской субъективистской морали. «Потому так много из того, – говорит Нанси, – что поставлено на карту, заключено в заключительной формуле из “Критики практического разума”: “звездное небо надо мной и моральный закон во мне” есть двойной объект и двойной источник “всегда нового и все более сильного удивления и благоговения”, которое одновременно “как бы уничтожает мое значение в качестве животной твари, которая должна отдать планете… ту материю, из которой она 25 возникла” и “бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа, через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животной природы”»50. Если учесть, что в сфере моральной свободы речь идет, фактически, о субъекте как о вещи в себе, то мы можем прийти к выводу об очень серьезном изменении, произошедшем в понимании морального долга. Этот долг более не отсылает ни к чему внешнему, но лишь к собственной автономии, которую Кант определяет достаточно парадоксальным образом: «каждое существо, которое не может поступать иначе, как руководствуясь идеей свободы, именно поэтому в практическом отношении действительно свободно» 51. Таким образом свобода определяется теперь не извне, но лишь через самосознание: быть свободным значит считать себя свободным, и это единственное, что позволяет действительно нести строжайшую ответственность за свои поступки. Рассуждения Канта об этой самоопределяющейся свободе субъекта как вещи в себе перекликаются не столько с более позитивными трактовками свободы воли в прежних теориях, но с высказываниями религиозных мистиков, таких, к примеру, как Мейстер Экхарт рассуждающий: «Порой я говорил, что в душе есть крепость; иногда – что это свет, и иногда я называл это искоркой. Теперь я говорю, что это не “то” и не “это” и вообще не “что-либо”. Это так же далеко от “того” и “этого”, как небо от земли». Мало того, Экхарт говорит: «В этой части душа подобна Богу». Не значит ли это, что «в этой части» она есть нечто извечное и несотворенное, и весь Бог пребывает в ней? Но, уточняет он, в самой душе нет такой силы, Кант И. Критика способности суждения. С. 30. Nancy J.-L. Kant’s System of Pleasure // Pli 8 (1999). P.161. (Перевод наш – С.Н.). 50 Ibid. (Цитаты по изд.: Кант И. Критика практического разума. СПб., 1995. С. 257). 51 Кант И. Основы метафизики нравственности // И. Кант. Критика практического разума. С.106. 48 49 которая могла бы заглянуть в эту «крепость», ни одна сила души не способна познать ее – «Ни даже Сам Бог!»52. Некогда Порфирий удивлялся высказыванию Плотина «Боги должны приходить ко мне, а не я к ним»53. Но все же высказывание Экхарта представляется еще более радикальным – поскольку, не ограничиваясь внешними действиями богов, он определяет внутри души то, что недоступно ни богам, ни даже единому абсолютному Богу. Это достаточно смелое и величественное определение внутренней силы того, что может быть названо субъектом. Также кантовский долг, основанный на самоопределяющейся свободе, как хорошо отмечает Нанси, является источником благоговения и удивления, источником удовольствия, значительно превышающего то, которое можно было бы получить, руководствуясь «гетерономией естественных причин», как Кант пренебрежительно называет принцип следования склонностям. Причем, что самое удивительное, это удовольствие проистекает из сочетания обнаруживаемой внутренней моральной свободы с безусловной ничтожностью собственного материального существования, то есть себя как индивида, несоизмеримого со звездным небом. Это «негативное удовольствие» наилучшим образом описывается Кантом в аналитике возвышенного из третьей Критики, то есть вновь в эстетическом контексте. Причем описывается как не самое значимое в отношение эстетического суждения в целом, уступающее в своей значимости более чистому и явственно проявляющему эстетическую способность суждению о прекрасном. Кант исключительно последователен в своей трансцендентальной линии размышления, то есть в направленности на определение способностей, а не на построение идеологической системы ценностей. Как при всей значимости телеологии он, при описании, отдает предпочтение эстетике, более чисто проявляющей способность суждения саму по себе, так и, несмотря на подлинно поэтический пафос аналитики возвышенного, он полагает суждение о прекрасном более фундаментальным в трансцендентальном плане. Но можно вспомнить, что позднее Гегель в своей эстетике еще более умаляет значимость категории возвышенного, пренебрегая им как простым подготовительным элементом. Конечно, Кант прав, что это чувство не так часто, как чувство прекрасного, встречается среди людей, и для него 26 нужна весьма большая внутренняя сосредоточенность. Но уж если вести речь об абсолютном духе, то можно было бы сказать, что это чувство неизменно и изначально сопровождает рефлексию абсолютного самосознания. Гегелевский субъект, поскольку он субъект и поскольку абсолютен, находится как бы в принципиально возвышенном состоянии. Чувство возвышенного для Гегеля есть простое следствие начала осознания, это «негативное удовольствие» есть побочный продукт негативной сути познающего субъекта. По прекрасному определению С. Жижека, для Гегеля «то, что Кант полагал всего лишь негативным представлением вещи-в-себе, уже есть сама вещь-в-себе – потому что эта вещь-в-себе есть не что иное, как радикальная негативность»54. А радикальная негативность – эта «ночь мира», или «чернота зрачка», каковые определения отмечает у Гегеля А. Кожев55 – и есть самая суть всевбирающей абсолютной субъективности, соединяющей в себе и феноменальный, и ноуменальный план в акте абсолютного самопознания, так что, перефразируя тезис Гегеля, дух есть не только субъект, но и субстанция, или мир в целом – как феномен и как вещь в себе. Разрыв между кантовской «животной тварью» и абсолютным духом минимизируется Кожевым так, что Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения / Пер. со средне-верхне-немецкого М. В. Сабашникова. СПб, 2000. С. 60-61. 53 Адо П. Плотин, или Простота взгляда / Пер. с франц. Е. Штофф. М., 1991. С. 45. 54 Жижек С. Возвышенный объект идеологии / Пер. с англ. В. Сафронова. М.,1999. С. 205. 55 Кожев цитирует гегелевские лекции, читавшиеся им одновременно с написанием «Феноменологии духа»: «Человек есть эта ночь, это пустое Ничто, которое целиком содержится в своей нераздельной простоте…: богатство бесконечного множества представлений, образов, ни один из которых не ведет прямо к духу, образов, которые сущестуют лишь в данный момент… Здесь существует именно ночь, внутреннее-или-интимное… природы: чистое личное-Я. Оно распространяет ночь повсюду, наполняя ее своими фантасмагорическими образами: здесь вдруг возникнет окровавленная голова, там – другое видение…; потом эти призраки внезапно исчезают. Именно эту ночь можно увидеть, если заглянуть человеку в глаза: (тогда взгляд погружается) в ночь, она становится ужасной…; (тогда) перед нами предстает ночь мира» (Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. С. 200). 52 последний и оказывается животным, осознающим свою смертность56, – или, что то же, животным, осознающим свои границы, или животным, обладающим самосознанием, и следовательно, животным, обладающим свободой, то есть тем самым, что соединяет в себе трепет перед «звездным небом» и автономию морального закона. Эта знаменитая экзистенциалистская трактовка, данная Кожевым, сколь бы спорной она ни могла представляться в историко-философском контексте, безусловно ценна тем, что раскрывает возможности гегелевской мысли, и в частности, тот момент, что Гегель отнюдь не противоречит Канту в трактовке возвышенного, но напротив, усиливает ее, видя в возвышенном фактическое описание структуры субъективности, источником величия которой является самоотрицание, негативность, Ничто, находимое внутри себя, а значит и внутри всего мира. Негативность, неуловимость, неопределимость субъекта, чей взгляд порождает в акте рефлексии и вбирает в себя без остатка весь мир, впервые отчетливо предстает как источник невыразимого восхищения, как источник движения в бесконечность, источник собственного существования и наиболее божественное, что может быть названо. Таким образом, кантовское удовольствие может быть охарактеризовано как удовольствие становящейся божественной субъективности, причем как таковое это негативное удовольствие, поскольку божественность проступает как внутреннее Ничто, как «ночь мира» или как та часть души, та «крепость», которая недоступна никакому позитивному взгляду. Но в таком случае самым тонким и лукавым моментом в кантовской системе будет то, что это удовольствие в самом чистом виде проявляет себя и определяется им как нечто почти случайное, нечто иллюзорное, существующее только в модусе «как если бы», как «свободная игра» способностей, нечто, подходящее не более чем для создания изящных предметов, которые нравятся «без понятия», орнаментов и прочих незначительных безделушек, словом, для чистого эстетического суждения, не слишком значимого в контексте столь серьезной и взвешенной метафизической системы… ОТ ЭСТЕТИКИ К ФИЛОСОФИИ ИСКУССТВА. ГЕГЕЛЬ И ПРОБЛЕМА «КОНЦА ИСКУССТВА» Значение и влияние кантовской философии, систематизацию и, одновременно, переворот, осуществленные ею в европейской мысли, трудно переоценить, – скорее всегда есть опасность недооценить все многообразие в ней сформулированного, не использовать его до конца. Кант стоит как бы на пороге двух эпох: рационального и уверенного Просвещения и творческого, мятущегося романтизма, его мысль характеризует момент перелома, которому сама же во многом и способствует. Кантовская критическая система открывает перед последующей мыслью двоякую возможность. С одной стороны, Кант намеревается «ограничить притязания разума», с другой, однако, радикальным образом их расширяет. Подводя итог размышлениям эмпириков, Кант утверждает критически, что вещь в себе, или истина мира «там вовне», непознаваема. При этом сознание выполняет не пассивную, но активную функцию в отношении познаваемого мира. Хотя речь идет только об упорядочивании, субъект получает в отношении мира почти безграничные полномочия. «Метафизическая позиция» уже с этого момента начинает меняться в сторону ницшеанского подчинения мира воле субъекта. Здесь можно видеть первую ступень того процесса, который превращает «факты» в «интерпретации», а реальность – в иллюзию. Итак, мы имеем дело, по крайней мере, с двумя тезисами: о непознаваемости вещи в себе (о границах разума) и об активности сознания (о творческой силе разума в отношении мира явлений). И непосредственно наследующая Канту традиция акцентирует второй из них. По словам исследователя немецкого романтизма Р. Сафрански: «Кант укоротил универсалистские притязания разума по субъективной мерке. В эпоху, учившую с наслаждением говорить: “Я”, это понималось, прежде всего, как возвышение субъекта. Огорчение… по поводу «Другими словами, Дух – это не воплощенный вечный и совершенный Бог, но то больное и смертное животное, которое трансцендирует себя во времени» (Там же. С. 169). 56 27 непознаваемости мира совершенно нетипично для той эпохи. Именно потому, что тогда открывали собственное “я”. Непознаваемость “вещи в себе” мало кого тревожила. У Канта романтическое поколение нашло то, что он, как он сам полагал, упразднил, а именно: возможность новой метафизики, метафизики субъективного “я”. Кант учил, что мы не можем объективно познавать мир, поскольку вынуждены оставаться в пределах субъекта. Романтическое поколение перевернуло это учение: если мы познаем самих себя, то познаем и весь мир. Мы конструируем мир из форм нашего духа. Сначала Фихте, а затем и Гегель поступали именно так»57. Говорят, Кант критически отнесся к солипсистской интерпретации, данной его философии Фихте. Однако его предостережение не могло быть принято во внимание, и идеалисты вывели на первый план новый, творческий элемент: человек творит мир, подобно Богу, посредством воображения, которое становится главной творческой силой, а также главным стержнем искусства для романтиков58. Вся философия в этом смысле есть философия искусства, каковой она, по сути, становится у Шеллинга, который, кстати, не говорит об эстетике. Гегель возвращается к термину «эстетика», вновь ограничивая сферу искусства: ведь в конце концов, в последнем важно для него именно то, что оно есть чувственное явление идеи. Но как бы то ни было, с этого момента эстетика становится философией искусства. И что еще важнее, пожалуй, только с этого момента. То есть с того момента, когда акцент переходит с эстетического восприятия на творчество. Эстетика Канта, хоть и применяется к искусству, не является по существу еще философией искусства. Канта интересуют познавательные способности, и его эстетика – эстетика восприятия. Но эта новая, романтическая «творческая» линия, оказывается настолько плодотворной и значимой, что на два столетия практически стирает самую возможность понять эстетику как-либо иначе, фактически меняет ее определение. Эстетика становится всецело эстетикой творчества и как дисциплина распространяет себя далеко за пределы одного лишь «чувственно воспринимаемого», легко применяясь практически к любой творческой активности человека. Она многое обретает в этом процессе, а именно, всю былую, метафизическую сферу «прекрасного», включая божественное, 28 доброе, истинное (учитывая только, что вся эта сфера теперь рассматривается с точки зрения глубины внутренних переживаний субъекта). Но кое-что и теряется. И это последнее есть, собственно говоря, понятийная определенность, которая остается незаметной как раз до тех пор, пока ограниченная сфера искусства не начинает постепенно как бы расползаться на все возможные проявления жизни на исходе XIX века, в эпоху модерна. Сама философия искусства, конечно, приводит к этому распространению. Не случайно Г.-Г. Гадамер ценит гегелевское акцентирование прекрасного в искусстве, лишь отблеском которого является прекрасное в природе, выше кантовского, по его мнению еще слишком расплывчатого представления об эстетическом наслаждении59. Распространенная на природу, кантовская эстетика, по мнению Гадамера, слишком широка. На этом различии – первичности природы как эстетического объекта для Канта, и искусства – для последующей традиции, – стоит остановиться подробнее. Занимаясь восприятием и определяя эстетическое суждение на основе удовольствия от представления до всякого понятия, Кант, фактически, не допускает возможности, при вынесении такого суждения, знать заранее, является ли данный объект предметом природы или произведением искусства. Так же, как не допускает возможности знать заранее, существует ли этот предмет реально или только снится, воображается, является ли он хорошим или плохим, вредным или полезным. Возможно стоит уточнить само понимание «предмета природы» в этом контексте, поскольку, как кажется, Сафрански Р. Гофман / Пер. с нем. В. Д. Балакина. М., 2005. С. 55. Английский исследователь М. Боура в исследовании романтической поэзии отмечает, что до романтизма воображение не было столь кардинальной точкой в поэтической теории: в XVIII веке на поэта глядели более как на «интерпретатора, чем творца, имеющего дело скорее с описанием красот уже известного, чем со странствием в незнакомое и невидимое». Между тем для романтика поэзия без воображения становится невозможной: «поэты… настаивают на том, что наиболее живая активность их духа есть воображение». (Bowra C. M. The Romantic Imagination. Oxford Univ. Press, 1961. P. 1, 3. Пер. с англ. наш – С.Н.) 59 Гадамер Г.-Г. Эстетика и герменевтика / Пер. с нем. В. В. Бибихина // Г.-Г. Гадамер Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 258-259. 57 58 предметом природы Кант называет не столько предмет «дикой» природы, но вообще любой чувственно воспринимаемый предмет, вошедший в столкновение с целеполагающим по сути своей субъектом, но так, как он схвачен воображением без понятия. Это может быть и произведение искусства, и измышленный образ: все, что только можно себе наглядно представить. И Гегелю нет нужды переосмысливать подобную концепцию. Но на ее основе его интересует уже другая, более конкретная проблема. Эстетика как таковая Гегеля не интересует – что он и оговаривает в начале своих «Лекций». Его интересует деятельность духа – движение к самопознанию через самоопределение посредством отчуждения себя в продуцируемых объектах. Дух познает себя в продуктах своей деятельности. И конечно же при таком подходе сама эстетическая оценка есть проявление творческой деятельности духа. Эстетическая оценка – уже своего рода искусство, только не проявленное полностью. Эстетическая оценка природы составляется по принципам художественного творчества. Это мы своей деятельностью творим пейзаж как прекрасный, это наша оценка, сама наша способность к оценке наделяет его красотой, каковой сам по себе он не обладает. Таким образом, принципы искусства оказываются первичными. Потому можно было бы сказать, вопреки Гадамеру, что не Кант расширяет эстетику до природы, но что Гегель сужает ее до искусства. Если бы таковое сужение не приводило к ее еще большему расширению в тот момент, когда само искусство теряет свою определенность и становится под вопрос60. Но в любом случае, Гегель решает в корне отличную от кантовской задачу. И эта задача, вероятно, все еще остается актуальной также и для самого Гадамера. Но интересно, как для него же понятая в качестве философии искусства эстетика (в той же самой небольшой работе «Эстетика и герменевтика», где он упрекает догегелевскую эстетику в расплывчатости), на протяжении всего нескольких страниц, оказывается просто не нужна – как некое излишнее допущение, дополнительный множитель, который можно просто сократить, термин, служащий скорее для выражения эмоции, нежели для обозначения какого-либо конкретного рода деятельности или мышления. Речь идет в ней о герменевтическом прочтении 29 искусства. А эстетическое переживание как-то попутно сопровождает ощущением наслаждения этот сложный интеллектуальный процесс. Вместо эстетики как дисциплины мы получаем лишь эстетическое чувство – сам ее предмет. Метод берется из другой области. На тех же основаниях многие формалистически настроенные мыслители второй половины ХХ в. попросту исключали, по возможности, слово «эстетика» из своего лексикона. Как уже говорилось, и сам Гегель к этому термину обращается как бы с неохотой и просто из-за того, что он уже стал привычным. Он посвящает свой анализ всецело и только искусству, со временем лишь все более властно утверждающему себя в качестве доминанты эстетической мысли, а если верить Ницше – то любой мысли вообще. Тем интереснее кажется тот факт, что свой труд он начинает с констатации не больше, не меньше, но конца искусства, по крайней мере, «со стороны его высших возможностей»61. Это последнее дополнение иногда рассматривают как смягчение тезиса о конце, но можно было бы увидеть в нем скорее его усиление: искусство не исчезает, оно может развиваться дальше, но в нем более нет чего-то существенного, серьезного, подлинного, и значит уже тогда оно, как скажет уже в конце ХХ в. о современном искусстве пессимист и радикальный критик Ж. Бодрийяр, становится «ничтожным»62. Конец искусства возвещался не в первый раз. По меткой мысли А. Данто «нарративы конца искусства» – регулярно повторяющийся мыслительный ход, имеющий отношение более к концептуальной сфере, чем к сфере самого искусства63. А на этот раз тезис был высказан, как К примеру, когда любой произвольно взятый предмет приобретает возможность, при некоторых обстоятельствах, стать произведением искусства, как это часто происходит в художественных экспериментах XX века. 61 Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Т. I. СПб., 1999. С. 88. 62 Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту / Пер. с франц. Н. Суслова. Екатеринбург, 2006. C. 165. 63 Danto A. Narratives of the End of Art // Danto A. Encounters & Reflections: Art in the Historical Present. Univ. of California Press, 1997. 60 мы видели, даже слишком «мягко», и искусство не было похоронено целиком64, – но никогда прежде он не имел такого влияния. Тезис множество раз подвергался отчаянной критике: как ошибка, как недопонимание сущности искусства, отсутствие прозорливости, просто ограниченность или незнание искусства. С другой стороны, литературовед Дж. Хартман в статье из сборника «Романтизм и сознание» (1970) высказывает предположение, что Гегель выразил в нем лишь отчаяние самих художников65. Причем отчаяние, отнюдь не утихшее со временем, но, возможно, уже в XX в. достигшее своей кульминации, итогом чего явилась, при изобилии художественных манифестов, утверждающих полную свободу и абсолютный приоритет искусства, неутихающая жалоба постмодернистских художников на непреодолимую запоздалость, лишающую их возможности просто, наивно, как в старые времена, творить произведения искусства. Потому на этой проблеме – на сформулированной Гегелем в начале его «Эстетики» проблеме «конца искусства», – стоило бы остановиться подробнее как на одном из определяющих моментов современного состояния и эстетики, и искусства, и мышления в целом. Итак, если подойти к вопросу со стороны перспектив и границ эстетики в ее новом качестве – а именно, в качестве исследования, в первую очередь, искусства, – то «конец искусства», согласно Гегелю, является, фактически, условием возможности развития этой дисциплины, поскольку только теперь может появиться рефлексия об искусстве. Эта рефлексия становится возможной в тот момент когда искусство не столько перестало существовать, но лишь перестало являться высшим, на что способен человеческий дух. Потому что тогда, когда оно было высшим, оно не осознавалось как искусство, вызывая божественный трепет и поклонение. Лишь теперь, когда дух продвинулся вперед, мы можем отстраниться от искусства так, чтобы отнестись к нему именно как к искусству, то есть эстетически, и осознать его как искусство66. Если принять как исторически достоверную гегелевскую схему развития искусства, то можно предположить, что во времена, когда искусство было подлинным, высшим проявлением духа, оно не могло быть понято как искусство или же названо искусством. То же, что называлось искусством, хотя и было созданием чего-то «искусственного», не было осознанным 30 индивидуальным творчеством. Скорее, это было ремесло: и действительно, искусство весьма долгое время, а пожалуй, почти до самой эпохи романтизма, понималось по большей части как высшая степень ремесла. Если же «высшее» являло себя именно в нем, это была скорее «хитрость разума», чем сознательное намерение художника67. Таким образом, состояние искусства «до философии» может быть лишь условно смоделировано постфактум как логическая необходимость развития духа на его прошедшей стадии. На этой стадии мы как бы сталкиваемся с некоторой «настоящей» жизнью искусства до того, как оно стало предметом рефлексии и оценки хотя бы со стороны самого художника. По отношению к подобной рефлексии искусство всегда есть безнадежно прошедший факт68. Но в Отметим также, что спустя несколько страниц Гегель говорит о появлении в Германии «подлинно живой поэзии» и с уверенностью объявляет, что Гете и Шиллер – его современники – первыми дали немецкому народу «подлинно поэтические произведения». (См.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Т. I. С. 96, 103). 65 См.: Hartman G. H. Romanticism and Anti-Self-Consciousness // Romanticism and Consciousness. Essays in Criticism. N.Y., 1970. P. 56. 66 В одном из ярких пассажей на эту тему Гегель говорит: «Можно, правда, питать надежду, что искусство и дальше будет расти и совершенствоваться, но его форма перестала быть высшей потребностью духа. Мы можем находить греческие статуи богов превосходными, а изображение бога отца, Христа и Марии достойными и совершенными, – это ничего не изменит: мы все же не преклоним колен». (Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике / Пер. с нем. Б. Г. Столпнера. Т.I. СПб., 1999. С.172). 67 Художник, таким образом, всегда оказывается в роли Пигмалиона, который создает статую, а после влюбляется в нее как в лучшее и высшее, что он когда-либо видел. Пигмалион же, если следовать логике Гегеля, и как это великолепно подмечает Дж. Х. Миллер, всегда оказывается в роли Нарцисса, влюбленного, сам того не зная, в самого себя (См.: Miller J. H. Versions of Pygmalion. Harvard Univ. Press, 1990. P. 4-5). 68 Позднее Н. Гартман также начинает свою «Эстетику» с сокрушений по поводу того, что эстетическое исследование ничего не может дать ни художнику для творчества, ни зрителю для наслаждения (а скорее может только помешать им), но предназначена лишь для мыслителя. «Эстетическая рефлексия, при всех обстоятельствах запаздывает. Она может начаться после того, как эстетическое созерцание и непосредственно получаемое наслаждение прекрасным совершилось». (Гартман Н. Эстетика / Пер. с нем. Т. С. Батищевой, А. В. Дерюгиной, Е. В. Касьяновой, М. К. Мамардашвили. К., 2004. С. 8). 64 то же время, это предположение показывает, что сам термин «искусство» в современном его смысле – это термин рефлексивный и возможный только как результат развития философии искусства, то есть термин, возможный лишь после конца искусства. Но, с другой стороны, теперь, когда искусство наполняется своим высоким значением и понимается, наконец, философией искусства как проявление высшего, оно выплескивается далеко за пределы ремесла, то есть простого формообразования. Тогда появляется мысль о возможности «подлинного» искусства, противостоящего ремеслу69. «Конец искусства», в этом смысле – это начало развития нового, подлинного, осознанного, глубоко индивидуализированного искусства. Гегель ограничивает искусство областью уже прошедшего, обозначая с его помощью первую стадию развития абсолютного духа, где дух уже начинает познавать самого себя, но еще только в отчужденных, внешних, материальных формах. Однако, нельзя не обратить внимания, что это есть начало и основа его движения к полному самосознанию, достигаемому, как говорит Гегель. в философии и науке. Впрочем, по словам Т. Иглтона, уже система Фихте вся окрашена эстетически, поскольку в ней «Я» приходится самому творить из себя собственное иное, чтобы иметь возможность для развития, хотя эта окрашенность нигде не приобретает конкретного выражения (поскольку Фихте не говорит об эстетике)70. У Шеллинга и Гегеля эта изначальная художественная, творческая определенность философского порыва приобретает выраженный характер. Но произведенное Гегелем в отношение искусства ограничение имеет ряд важных следствий. Одно из них соотносится с определением состояния самого искусства – не в качестве философского концепта, а в качестве художественной практики. Представление о конце искусства вводится Гегелем как логическое заключение его системы искусств, описанной как движение к идеалу и его распад. Развитие духа на его пути к самопознанию происходит через непрерывное отчуждение, объективирование себя в тех или иных формах, начиная с материальных, где красота есть чувственное явление идеи, то есть проявление высшего: в красоте, а точнее в создании прекрасных форм, дух познает высочайшее в себе самом. 31 Воспроизведем кратко логическую модель эволюции искусства по Гегелю. Начинается она со стадии, на которой неопределенная идея не может быть адекватно отображена в материи, еще слишком конкретной для нее. Материальная форма лишь намекает на нее, символизирует, но в то же время буквально взрывается абстрактностью идеи, на которую должна указать. Наиболее явственно отражающим эту потребность в указании на непредставимую еще идею жанром искусства для Гегеля выступает архитектура, которая лишь формирует пространство, создает то место, где обитает божество. Только на следующей стадии, которую он называет классической, достигается собственно идеал, и высшее понимается с той ровно степенью конкретности, какой позволяет достичь материальная форма. Этой стадии соответствует из художественных жанров скульптура, которая ставит статую божества в построенный архитектурой храм. Таким образом, классическое произведение – более уже не символ: оно воспринимается как само божество, и единственное отношение, которое возможно к нему в момент актуального существования этой стадии искусства – это отношение идолопоклонства, где божественное полностью и без остатка предстает в форме каменной прекрасной глыбы (обладающей идеальным, но непременно человеческим обликом: ведь именно человек познает здесь свое высшее). И далее, по мере движения самопознания, по мере конкретизации внутренних стремлений, происходит распад идеала: материя оказывается все менее способной к выражению внутренней сложности идеи, то Э. Гомбрих отмечает, что (несмотря на признание художника-творца, возникшее в эпоху Возрождения) идея «Искусства» с большой буквы, противопоставляемого тому, что до тех пор считалось «официальным» искусством, всегда имевшим успех и социальный заказ, появляется только после Французской революции. В это время искусство резко индивидуализируется, а доминантой художественного процесса становится бунт. Таким образом «подлинное» искусство противопоставляется не только высокой степени мастерства, но и любой массово признанной и успешной традиции. С XIX в. история искусства начинает восприниматься «как история горстки одиночек, имеющих смелость и настойчивость разбираться в себе, бесстрашно и критически относиться к традиции, тем самым открывая новые пути для развития искусства». (Гомбрих Э. История искусства. С. 504). 70 Eagleton T. The Ideology of the Aesthetic. Blackwell Publishing, 1990. P. 123-124. Ср. так же со словами Сафрански: «Фихте вывел из структуры самосознания, самого себя полагающего предметом, роль мирового творца, которая приписывается субъективному “я”». (Сафрански Р. Гофман. С.55.). 69 есть внутреннего мира человека. Она все в большей мере используется для создания иллюзии (живопись отражает начало этого процесса созданием иллюзорного пространства), все более разнообразной, все более динамичной (уже важен сюжет и характеры, а не просто полноценная пространственная форма; разнообразие колорита, а не реальная телесная наполненность). В конце концов, пространственность вовсе исчезает (в музыке как в непосредственном и непрерывном потоке чувства), и даже остатки материальной формы все более вытесняются значением и смыслом в постепенном переходе от поэзии к прозаическим жанрам литературы. Все эти извечно сосуществующие жанры и явления Гегель выстраивает в единую логическую последовательность развития, скорее концептуальную, чем имеющую отношение к реальной истории. Он описывает логику акта самосознания, совершаемого субъектом, скорее, чем реальную историю человечества. Достигнутая степень конкретизации высшего устраняет задачу создания прекрасной формы как задачу воплощения этого высшего. И, повторимся, в этот момент впервые искусство может быть понято как искусство, осознано и осмыслено, а также оценено эстетически. Задача же выражения высшего переходит в другие сферы. Можно было бы сказать, таким образом, что описанный «конец искусства» есть конец строго концептуальный, если бы странным образом он не коррелировал с реальным положением вещей в романтическом искусстве. И не случайно последняя стадия искусства в схеме Гегеля названа «романтической». Уже исходя из этого именования его можно с полным правом назвать одним из ведущих идеологов романтизма. Гегель описывал не только мыслительную абстракцию, не только логику мышления как такового, но и современное ему положение дел, а именно сильнейшую концептуализацию, имевшую место в искусстве романтизма, с извечной жалобой художника на грубость и недостаточность материи для выражения его внутреннего мира, его души, его скрытого замысла, на то, что «мысль изреченная есть ложь». Впервые так мало в искусстве зависело от правил, которые так бурно отвергались и ломались, и так много значения придавалась воображению, чувству, самовыражению, оригинальности взгляда, деталям опыта, социально-критической позиции, психологии, внутреннему голосу, историческим деталям, точности описания и т. д., как в художественной практике романтизма и последующих течений. 32 Расцвет формализма в эпоху модерна не опровергает, но скорее подтверждает провидческое наблюдение Гегеля: в формализме модерна, сознающего, что содержание произведения есть только производная от его формы, это знание предшествует процессу формотворчества. Первенство формы и особенности ее созидания сперва становятся предметом рефлексии, потом постулируются, манифестируются, обосновываются и только потом переносятся в реальное творчество (почему критики часто отмечают как достоинство художника и даже проявление его гениальности неспособность строго следовать собственному манифесту: художественное в нем, подлинно принадлежащее живому искусству – это то, что остается неосознанным, неотрефлексированным, то, что еще направляет его к его неведомому высшему). Формалистическое искусство – это, в то же самое время, всегда концептуальное искусство, хотя не содержание или сюжет (которые все более понимаются как элементы его структуры), но сама идея – то есть идея искусства, или того, чем, с точки зрения художника, должно быть искусство – предшествует в сознании художника формообразованию. В конце концов, это может сделать сам художественный процесс вторичным, ненужным иллюстративным дополнением теории, популяризацией концепции и не более. Художник становится теоретиком, искусство превращается в теорию искусства. Но романтическое искусство не только описывается Гегелем как последняя стадия искусства: по сути, оно само уже совершает ту процедуру, которая превращает искусство в философию. Романтизм открывает внутренний мир субъекта, который становится теперь осознанным центром и доминантой искусства. Гегель называет «романтическим» все европейское христианское искусство. И можно сказать, что с христианством внутренний мир действительно оказывается уже открыт, однако эпоха романтизма превращает это открытие в теоретический факт. При этом может вызывать удивление та наблюдательность, которую романтики проявляют по отношению к миру внешнему. Здесь нам хотелось бы сослаться на замечательную работу отечественного филолога Е. Г. Эткинда «“Внутренний человек” и внешняя речь», где он показывает, как меняется в литературе эпохи романтизма способ передачи внутренней речи героев. Если раньше любая речь строилась согласно канонам, традиционным формам, была риторически выверенной и снабженной скорее множеством отсылок к значимым источникам (таким, скажем, как библейский текст), раскрывающим символические смыслы описываемой ситуации, то теперь писатель стремится скорее к тому, чтобы передать тонкости индивидуальных переживаний на соответствующем, по его мнению, именно этому, выводимому им характеру языке, со всеми возможными ошибками, запинками, паузами и.т.п., которые могут так или иначе обозначить естественное течение потока сознания. Так же и внешняя речь персонажей в романтической и пост-романтической литературе приобретает особый индивидуализированный колорит71. Но при этом литература оказывается вынуждена создавать совершенно новую риторику, новые правила, направленные на как можно более точную фиксацию происходящего, на фиксацию, по сути дела, внешних проявлений – в той мере, в какой они способны передавать самые тонкие нюансы внутреннего. Но это значит, что не только романтическая, но и позднейшая, скажем, реалистическая наблюдательность зависит от наличия этого внутреннего центра – точки зрения субъекта, которую, в первую очередь и в наибольшей мере, она призвана выражать или объективировать. Развитие искусства в XIX в. неслучайно так плавно переходит от романтического погружения вовнутрь – через реализм – к новому и еще более радикальному витку странствий в потоках впечатлений и экспрессий. Обращаясь вновь к уже цитировавшемуся сборнику «Романтизм и сознание» отметим еще одно утверждение относительно искусства, соотнесенного с «радикальной субъективностью», как ее называет Х. Блум, полагающий также, что «романтическая пейзажная лирика, вопреки долгой критической традиции ее недопонимания, была анти-природной поэзией, даже у Вордсворта, который искал взаимопонимания или даже диалога с природой»72. Появление здесь этого, отмеченного в цитате стремления к природе, к общению с природой и изображению природы, как и, ранее, появление в возрожденческой живописи пейзажа, хорошо объясняется Дж. Х. Ван ден Бергом: пейзаж отстраняется от человека, замыкающегося в своей внутренней субъективности – и потому становится видимым73. Природа становится внешней постольку, поскольку появляется также и нечто внутреннее, нуждающееся в ней не как в чем-то совершенно незнакомом (и страшном, каковой 33 природа, вероятно, могла представать в архаические времена), но как во внутреннем ином, как в собственном инобытии, отчужденном вовне для того, чтобы через него (или же представив себя самому себе в этой «внешней» форме) понять самого себя. Движение духа к самопознанию происходило, по Гегелю, через отчуждение, объективирование себя в тех или иных формах, каждая из которых была временным самоотрицанием и, в конце концов, преодолевалась, отбрасывалась как «прошедшее». Внутренняя сущность идеи все конкретнее, сознательней и тоньше являла себя в этом процессе, не будучи, в то же время, ничем иным кроме того, чем она являлась. Поскольку сущность, как объявляет Гегель, – это то, что являет себя, и никакой вещи в себе не следует полагать за пределами явлений. История , таким образом, есть сущность в ее развертывании. Но одновременно, будучи подчиненной единой линии своего развертывания, она должна неумолимо прийти к своему полному осуществлению, достигнув наконец осознания себя, вернув себя самой себе. Но что, собственно, должно быть осознано? Являющаяся сущность, соединяющая все стадии истории, оказывается у Гегеля лишь бесконечной способностью к самоотрицанию, за пределами объективаций являющей собой лишь ничто, не могущее быть заполненным, но всегда принужденное к заполнению. В итоге система оказывается разомкнутой благодаря этому ничто, не могущему совпасть с собой, потому что все движение развития истории оказывается оправданным только ради достижения познания где-то там в конце – притом что это познание «там в конце» состоит в открытии того факта, что за пределами явлений, ничего, собственно говоря, нет. См.: Эткинд Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психопоэтики русской литературы XVIII-XIX веков. М., 1999. 72 Bloom H. The Internalization of Quest-Romance // Romanticism and Consciousness. Essays in Criticism. N.Y., 1970. P. 9. (Пер. с англ. наш. – С. Н.) 73 Van den Berg J. H. The Subject and His Landscape // Ibid. P. 62. 71 В этом случае можно лишь признать, что вся предложенная система выстраивается ретроспективно из уже достигнутого акта абсолютного самосознания, то есть из завершающей точки, исходя из которой встает вопрос о возможности обосновать начало процесса. Система строится, чтобы раскрыть причину возможности осуществить акт самосознания, а последняя должна корениться в том, чтобы где-то в начале было нечто, что должно было себя осознать. В конечном счете, это оказывается главной проблемой и камнем преткновения всей системы, чья цельность и действенность зависит от возможности обосновать собственные предпосылки74. Но в то же самое время изложение выстроено исходя из этих предпосылок, принимаемых, фактически, без доказательства, как будто бы история действительно развертывается от начала к своему закономерному концу. Словом, вся история, а не только искусство, у Гегеля заканчивается, потому, что мыслится заведомо как законченная. Мыслится же она как законченная постольку, поскольку вообще способна быть мыслимой (как некое осознанное единство). Так и искусство оказывается прошедшим потому, что способно быть названным искусством. Конец истории оказывается предреченным центральной позицией субъективного взгляда, задающего миру горизонт и границу. Сам же взгляд, как уже говорилось, оказывается той негативностью, тем разрывом, который ускользает от любой систематизации и, поддерживая систему в единстве, одновременно разрушает ее. То, что для Канта было источником невыразимого удовольствия (обоснованного мистическим допущением вещи в себе), для Гегеля оказывается встроенным источником распада, поскольку единственной вещью в себе является сам субъект (в гегелевском смысле слова «является»: объективирует себя; но если чем-то поддерживается единство и прочность системы – это тем, что он никогда не может быть явлен до конца). В работе «Случайность, ирония и солидарность» Р. Рорти ссылается на слова, как будто сказанные Кьеркегором: «Если бы Гегель предварил “Науку логики” фразой “Все это только мыслительный эксперимент”, он был бы величайшим из когда-либо живших мыслителей»75. Продолжая, Рорти пишет: «Сделав акцент на этой ноте, Гегель схватил бы свою конечность так 34 же ясно, как и конечность других. Это приватизировало бы его стремление к автономии и устранило бы соблазн считать, что он полагал себя причастным к чему-то большему»76. То есть субъект перестал бы здесь претендовать на статус субстанции, но остался бы только субъектом, а весь его мир, соответственно, – только индивидуальной проекцией его собственного мышления и воображения. Но это значит, что весь мир стал бы мыслиться не как некая логическая необходимость, а лишь только «как если бы» необходимость для данного субъективного сознания, находящего мир в качестве собственной истории субъективно (и значит, опять же, «как если бы») целесообразным. Исходя из такого предположения вся система, претендующая на то, чтобы заменить устаревшую метафизику, создав, по сути, ее новую, хотя и значительно утонченную и отрефлексированную в своих основаниях форму, стала бы всецело и только эстетической системой. Система стала бы «мыслительным экспериментом», а значит, приобрела бы статус вымысла, подобного произведению искусства – каковым, судя по всему, во Ср.: «В конце постепенного прогрессирования собственных функций интеллекта от восприятия к представлению и, наконец, к мышлению, интеллект сможет вновь обрести и узнать себя. Этот “анагноризис” имеет решающее значение в гегелевской истории духа, составляя ее фабулу и то единственное, на чем она может держаться. Так как если “действие интеллекта названо узнаванием” во всеохватывающем смысле, и если дух вверил свою судьбу и все свои шансы этой будущей возможности, то весьма немалую значимость имеет тот факт, будет ли там, в конце, нечто такое, что может быть узнано, когда придет время. “Главный вопрос нового времени связан с этим, - говорит Гегель, - а именно, с тем, возможно ли подлинное узнавание, то есть узнавание истины” (Энц., Т.3, § 445). Истина находится повсюду вокруг нас; для Гегеля, который в этом отношении такой же эмпирик, как Локк или Юм, истина есть то, что происходит, но как можем мы быть уверены, что узнаем ее, когда она появится? Дух должен узнать, в конце своей траектории – в данном случае, в конце текста – то, что было пред-положено в начале. Он должен узнать себя как себя, то есть, как Я. Но как мы узнаем то, что необходимым образом будет уничтожено и забыто, поскольку “Я” есть, по определению, то, что Я никогда не в состоянии сказать?» (Ман П. де. Знак и символ в «Эстетике» Гегеля / Пер. С. Б. Никоновой // Studia culturae. Вып. 4. СПб., 2002. С. 235-236). 75 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. С.140. (Рорти ссылается на “Journal” Кьеркегора, цитируемый В. Лурье в примечаниях к тексту Кьеркегора: Concluding, Unscientific Post-script, trans. Dawid Swenson and Walter Lowrie (Princeton, N.J.: Princeton Univ. Press, 1968). P. 558). 76 Там же. 74 всей своей изощренности она и представляется ироническому взгляду Кьеркегора. И этот вымысел держался бы на одном единственном основании: на невыразимом опыте субъективности, столкнувшейся с фактом своего собственного существования здесь и сейчас. Здесь, возможно, кроется еще одна причина произведенного гегелевским тезисом эффекта и того, что мысль о конце – о конце истории, конце искусства – стала навязчивой темой для последующих двух столетий. Тезис не был лишь частью философской модели, он отражал внутреннее состояние самого мышления, всеми силами пытающегося продолжить совершение акта самопознания и, одновременно, сохранить метафизическую веру в обусловленную извне закономерность его осуществления. По словам П. де Мана, все о чем мечтает художникромантик, это чтобы его «слова возникали как цветы», то есть сами по себе, как естественные объекты. Причина же его страдания и отчаяния заключена в сознание того, что слова не возникают как цветы, но должны найти начало в иной сущности. В итоге, говорит де Ман, слова поэта-романтика возникают из ничего в попытке возникать так, словно бы они были естественными объектами77. Дж. Хартман также говорит о начинающемся с романтизмом стремлении к созданию утопических проектов по возвращению к непосредственности, которой искусство как будто бы обладало до начала процесса самосознания. Однако, уточняет он, уже романтизм показывает, что самосознание не может быть преодолено, «и само стремление преодолеть его, вдохновляемое поэзией и воображением, – это часть живого диалектического движения по самосозиданию»78. По сути, искусство представляется как прошедшее ради веры в то, что некогда существовало подлинное, незамутненное ничем состояние искусства как такового, или же в то, что когда-то развертывалась подлинная история человечества, нетронутая рефлексией. В то же самое время, эта вера непрерывно подвергается критике со стороны сознающей себя субъективности, вынужденной настаивать на том, что эта история уже закончилась. МЕТАМОРФОЗЫ ПОНЯТИЯ ГЕНИЯ: ОТ КАНТА К ШОПЕНГАУЭРУ Итак, повышенное внимание новой формы субъективности по отношению к внешнему миру вообще, и в первую очередь, к тому миру, который непосредственно воспринимается чувствами, можно связать именно с формированием и осознанием мира внутреннего. Происходит как бы расслоение, при котором субъективное обращение к внешнему оказывается одновременно не только препятствием, но и единственной возможностью каким-то образом выразить скрытую глубину. Здесь не столько познание оказывается отражающим внешний мир, сколько внешний мир становится зеркалом, в котором субъективность созерцает саму себя. В свете этого закономерным представляется тот факт, что в течение XIX в. интерес к природе как первому источнику внешних впечатлений дополняется интересом к культуре – а точнее, к другой культуре, к культурным, социальным, антропологическим явлениям, отличным от тех, что оказывались традиционными для мыслящего слоя европейского общества. И значит, рассматривая становление новой сферы гуманитарных исследований, начавшееся в это время, нельзя упускать из виду, что поиск другого, интерес к другому, жажда другого здесь всегда есть жажда собственного другого, полагаемого в качестве инобытия субъекта. Но накал самоотрицания, часто проявляющийся в этой жажде, стимулируется также и теми утопическими мечтаниями, которые рефлексивный субъект стремится вложить в свое иное как в некое дорефлексивное, а потому непосредственное, подлинное, живое, то есть как бы «еще не завершенное» состояние. Одним из первых сигналов такого неистового самоотрицания можно обнаружить в философии А. Шопенгауэра, известной своим тотальным пессимизмом, отрицанием рациональности, а также интересом к Востоку – интересом, оказавшим довольно существенное влияние на пути развития последующей европейской мысли. Шопенгауэр не «открывал» восточную мысль, которая была достаточно хорошо известна до него и, мало того, всегда, по 77 de Man P. Intentional Structure of the Romantic Image // Romanticism and Consciousness. Essays in Criticism. N.Y., 1970. P. 69-70. 78 Hartman G. H. Romanticism and “Anti-Self-Consciousness” / Ibid. P. 49. (Пер. с англ. наш. – С. Н.) 35 мере знакомства с ней, вызывала достаточно большой интерес (и в целом была «в моде»). В философском плане уже Гегель признавал за восточной мыслью и восточной культурой большую ценность. Шопенгауэр в своем философском мироощущении обнаружил близость с рядом древнеиндийских течений, черпая вдохновение, помимо европейской мысли, также из Упанишад. В своей системе он развил по-своему и переинтерпретировал их положения, причем переинтерпретировал, возможно, почти до не узнаваемости. Однако даже более важно то, что он, фактически, провозгласил, что там, на Востоке, все самое существенное уже было сказано, и европейская мысль не породила ничего подобного этим глубинам мудрости. Тем самым он не только продолжил серию утопических мечтаний о «подлинном» другом, преодоленном и познанном рациональным субъектом Нового времени, но совершил весьма радикальный скачок, отказавшись от представления о метафизическом превосходстве разума и вообще об историческом прогрессе. Потому можно сказать, что современный этап в развитии европейской мысли, тот этап, что характеризуется непрерывными рефлексивными сомнениями в самих себе, поисками «других путей», вниманием к иррациональному и скрытому, пристрастием к нелинейным схемам мышления, начинается именно с Шопенгауэра. Эту новизну нам хотелось отметить, однако в настоящем исследовании мы не будем рассматривать всю концепцию Шопенгауэра в целом, но обратим внимание лишь на один небольшой ее момент, казалось бы, далекий от только что указанного интереса к «другому», но своеобразно и может быть еще более ярко проявляющий современность шопенгауэровской мысли, а именно, на учение о гении. Нет ничего удивительного в том, что новоевропейская парадигма мышления с ее пафосом субъективности, приветствующая проявления индивидуальности в искусстве, склонная к бунту против условностей и традиций, в том, что касается эстетики и философии искусства много внимания уделяет гению. Авторское творчество приходит на смену анонимному мастерству, а безымянные, непрерывно меняющиеся при передаче, пересказе, переписывании артефакты 36 строго фиксируются за одним, непосредственно произведшим их и далее располагающим всеми правами на них индивидом, так что проблема авторства становится актуальной во всех смыслах, включая художественные, моральные, экономические и т.д. Это естественно: ведь теперь не некая внешняя, неизменная метафизическая истина являет себя в искусстве под каким угодно именем или вовсе без имени. Сама истина приобретает субъективный характер. И то, что ценно в произведении теперь – это личное авторское переживание, его видение, его точка зрения. Но, с другой стороны, все это еще не повод к тому, чтобы рассматривать искусство непременно как искусство гения. Хотя бы потому, что гений предполагает нечто особенное и как будто бы, опять же, внешне определенное, превышающее простой индивидуализм позиции. Гений как некий руководящий дух или как божественный дар напрямую взывает к чему-то метафизическому, а может быть и мифологическому, над чем человек оказывается не властен, и что различает людей, а стало быть и произведения, между собой. Однако даже Кант, чья эстетика, как уже говорилось, еще не дошла до того пафоса творчества, какой приобрела в XIX в. философия искусства, уделяет огромное внимание проблеме гения. По знаменитому определению Канта «гений – это врожденная способность души, посредством которой природа дает искусству правила»79. Задержимся на этом определении, поскольку оно представляется весьма неоднозначным. Так, в качестве той внешней силы, которая обусловливает появление гениальности, для Канта выступает природа; гениальность – это «дар природы». И эта природа играет по отношению к искусству странную роль: она дает ему правила, что, по крайней мере, значит, что искусство не способно, с точки зрения Канта, организовать себя само. И действительно, Кант пишет: «Однако понятие изящного искусства не допускает, чтобы суждение о красоте его произведения выводилось из какого-либо правила, определяющим основание которого служит понятие, то есть чтобы в основу было положено понятие, которое указывало бы, каким образом это произведение возможно. Следовательно, изящное искусство не может само измыслить для себя правило, в 79 Кант И. Критика способности суждения. С. 148. соответствие с которым ему надлежит создать свое произведение»80. Это рассуждение полностью согласуется с общей критической линией кантовского анализа возможности эстетического суждения. О творчестве пока речи не заходит, просто ни при суждении, ни при создании прекрасного предмета мы равным образом не обладаем заранее никакими правилами, поскольку не основываемся ни на каком понятии. Ясно, что для вынесения суждения правилом выступает сам трансцендентальный принцип способности суждения, заставляющий нас выносить суждение так, «как если бы» понятие было, основываясь на свободной игре воображения и рассудка. И потому, но только уже в применении к искусству, Кант продолжает: «Но поскольку без предшествующего правила произведение искусства не может быть названо таковым, то правило должно быть дано искусству природой субъекта (в частности, посредством настроенности его способностей), другими словами, изящное искусство возможно только как продукт гения»81. Для начала, мы можем здесь видеть, что правило дается искусству не просто природой, но природой субъекта, то есть извлекается субъектом из самого себя. Но поскольку суждение действительно субъективно и не определено ничем, кроме свободной игры способностей, то именно от случайной настроенности способностей субъекта зависит то правило, которое он дает искусству, то есть, по сути, он дает его другим для восприятия. В этом смысле правило, даваемое гением искусству, возникает подобно тому, как формируется моральный закон. Последний не может быть порожден каким-либо иным образом, как будучи извлеченными субъектом из самого себя и данным всему миру в качестве безусловно всеобщего закона и непреложного требования (которое субъект предъявляет к себе самому и ко всему, что есть). В случае же искусства правило дается в качестве «как если бы» всеобщего закона, объединяющего индивидов на основе действия общего чувства. При этом в обоих случаях мы имеем дело с проявлениями полной автономии и входим в сферу ноуменальной свободы субъекта. Порыв гения, так же как и порыв морального субъекта, одновременно направлен против любых внешних правил. Но он дает новый, субъективный внутренний закон, который по отношению ко всем возможным внешним правилам выступает как абсолютный произвол. Это произвол гения. 37 Субъект выступает как некий гений и в случае морали, и в случае искусства. Но если мораль – сфера внутренней свободы субъекта, то искусство направлено на возможность стать предметом суждения вкуса. Это деятельность по намеренному созданию таких предметов, которые наилучшим образом способствуют возникновению чувства удовольствия от соответствия между этими предметами и нашим намерением видеть в них целесообразность. Или так: наше намерение видеть целесообразность воплощается в создании предметов, в наибольшей мере соответствующих этому намерению (хотя, по прежнему, безо всякой иной цели). Потому, по Канту, трансцендентальный принцип способности суждения применяется, в первую очередь, не к вынесению суждений, а именно к искусству. Гений же отличается от всех других способных к суждению и творчеству индивидов тем, что его продукты в наибольшей мере соответствуют требованиям общего чувства, почему он, осуществляя свой произвол, оказывается способен давать искусству правила. Если в морали мы имеем дело со сферой ноуменальной свободы субъекта, то в искусстве выходим в пространство интерсубъективности. И потому произвол гения сочетается с определением искусства как системы правил. Как мы видели, вывод о том, что искусство невозможно без правила, следует исключительно из описанной Кантом структуры трансцендентальных принципов. Но в то же время, он прекрасно накладывается на практику современного Канту искусства, которое умело сочетало в себе свободный пафос индивидуального порыва с разработкой системы правил и четких критериев вкуса, позволяющих в рамках этих правил и критериев создавать огромное количество блестящих произведений искусства. Эти правила были приспособлены к тому, чтобы во всех тонкостях выражать эмоции и переживания субъекта, но одновременно служить схемой и принципом, приводящими эти переживания и эмоции в изящную и способную к почти бесконечному варьированию в их рамках форму. Однако в дальнейшем развитии искусства мы можем увидеть, как перевес со стороны правил все больше и больше переходит на сторону 80 81 Там же. Там же. С.148-149. индивидуальной бунтующей свободы художника, все меньше думающего о правилах и все больше углубленного в автономный поиск. Начиная с романтизма произвол гения все более выходит на первый план, отметая правила. Но, как мы уже заметили, Кант говорил о структуре самой способности, лежащей в основе искусства, и ключевой тезис был в том, что искусство невозможно без правил. Покидая пространство правил, мы не просто погружаемся в сферу внутренней свободы, со всей ее внутренней сложностью и моральными борениями, но, по сути, покидаем сферу искусства. И таким образом, по мере того как гениальный произвол все больше бунтует против правил, все явственней разрушается то хрупкое равновесие, которое позволяло искусству, выражая внутренний мир субъекта, все же быть способным к созданию таких форм, которые могли бы служить предметом эстетического удовольствия. В какой-то момент философии искусства также приходится отказаться от мысли о том, что задачей искусства является создание прекрасных предметов, и о том, что деятельность, которая по-прежнему называется «искусством», имеет дело с созданием правил. Функция гения, соответственно, тоже меняется. В концепции гения, предложенной Шопенгауэром, мы можем увидеть подобное изменение отношения к искусству, причем такое изменение, которое граничит с исчезновением искусства вообще Несмотря на то, что Шопенгауэр теснейшим образом связывает искусство с представлением о прекрасном, и, кроме того, утверждает, что его эстетическое учение опирается, в частности, именно на Канта. Впрочем, уже то, что Шопенгауэр называет в качестве главных истоков своей философии Канта, Платона и Упанишады есть весьма значимый факт. Хотя бы потому, что указывает на абсолютную свободу в их толковании. Находя в них общее, он смотрит на них как бы с некой мета-позиции, позволяющей синтезировать то, что, казалось бы, логически почти несовместимо. То, что, отсылая к Платону и Упанишадам, Шопенгауэр тем не менее остается в рамках радикального субъективизма и следует сложившейся линии его развития, видно уже из слов, которыми он открывает свой «Мир как воля и представление»: «“Мир – мое представление” – такова истина, которая имеет силу для каждого живого и познающего существа, хотя только 38 человек может привнести ее в рефлексивное, абстрактное сознание; и если он действительно это делает, у него возникает философское мышление»82. Мало того, субъективность всего, что есть, более не составляет даже проблемы, принимается как нечто само собой разумеющееся, настолько, что вся человеческая мудрость кажется ему сводящейся к этой формуле. «Помимо представления мира нет», – говорит Шопенгауэр, утверждая, что тем лишь суммирует издревле существовавшую мудрость об относительности вещей, античную и восточную, которая здесь еще яснее. «Во всех… столь различных выражениях философствующих умов узнаем мы одно и то же основное воззрение – сознание неустойчивости, относительности всех вещей, которым приписывается в силу этого не истинное, а лишь кажущееся бытие. Мы же свели это свойство всех являющихся вещей, т.е. всех объектов субъекта, к их внутреннему и общему корню. Вопервых, вещи – лишь представления; следовательно, они обусловлены субъектом и уже поэтому лишь относительны – лишь явления, а не вещь в себе. Во-вторых, общею формою их служит закон основания, представляющийся в различных видах, но в сущности своей единый; он проявляется как время, пространство, причинность, мотивация, как основание познания»83. В определении прекрасного Шопенгауэр отталкивается частично от Канта, а частично – от Платона. У первого он берет принцип незаинтересованности эстетического суждения, у второго – то метафизическое восхищение, которое связано с философским познанием истины. И начинает он с противопоставления рассудочного познания эстетическому созерцанию. Первое, а с ним и вся наука, по Шопенгауэру, хорошо познает взаимосвязи и отношения вещей, но не выходит за пределы мира явлений. Его движущий механизм – закон основания, главный закон мотивации, а потому, фактически, наука бесполезна для истинного познания (о том же говорил и Платон, считая рассуждения о природе лишь ловкостью в наблюдении теней). Но есть вид познания, способный постичь границы мира явлений, постичь сущность мира и вещь в себе – волю. Причем способен он постичь ее именно потому, что может ограничить ее действие, 82 83 Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. I. М., 1993. С. 141. Шопенгауэр А. Введение в философию; Новые паралипомены; Об интересном: Сборник. Мн., 2000. С. 48-49. вырваться из-под ее власти, посмотреть на нее как бы из вне, на время угасить в себе волю. Это постижение начинается, по Шопенгауэру, с эстетического созерцания, как и у Платона восхождение к истине начиналось с восхищения прекрасными телами. Предметом эстетического созерцания являются представления – вечные чистые первообразы, созерцаемые вне отношений и мотивационных зависимостей, трактуемые им как тождественные платоновским идеям. Эти представления-идеи, полагает Шопенгауэр, есть непосредственная и потому адекватная объектность вещи в себе, в то время как отдельный предмет есть лишь косвенная ее объективация. Идея стоит между вещью в себе и явлением, в ней нет иной формы, кроме представления вообще, она не замутнена законом основания. Если бы мы не были индивидами ограниченными телом, полагает Шопенгауэр, мы бы познавали не последовательность и множественность событий во времени, а только чистые идеи. А в качестве индивидов мы, напротив, не обладаем познанием иным, чем по закону основания (познаем лишь отдельные явления и их взаимосвязи). Следовательно, «если вообще возможно подняться от познания отдельных вещей к познанию идей, то лишь благодаря происходящему в субъекте изменению… посредством которого субъект, познавая идею, уже не индивид»84. Перестать быть индивидом, собой, утратить свое Я, привязанность к своей ситуации – вот первое условие подлинного познания. Это познание совершенно незаинтересованно – так как «интересны» только отношения. Это познание есть чистое эстетическое созерцание. Разум, интеллект производен от воли, рожден ею и призван служить ей. Однако сам по себе он направлен лишь на «что» вещей, а не на их отношения (то есть их «где», «когда», «почему»). Таким образом он, по существу, противоположен воле. Производя его, воля создает свою же противоположность, через которую хочет достичь целостности и удовлетворения, однако достигает лишь самопреодоления, самоотрицания. Интеллект представляет собой способность к чистому созерцанию. А созерцающий индивид уже не есть индивид, так как его индивидуальность как раз и растворяется в созерцании. Созерцающий индивид становится «чистым субъектом познания». Он совершенно (хотя бы и временно) освобождается от диктата 39 воли. Происходит внезапная смена позиций: «возможный… но только в виде исключения, переход от обычного познания отдельных вещей к познанию идеи происходит внезапно, когда познание вырывается из служения воле и субъект именно вследствие этого перестает быть только индивидуальным, и есть теперь чистый, безвольный субъект познания, который уже не следит, согласно закону основания, за отношениями, а покоится и растворяется в устойчивом созерцании предстоящего объекта вне его связи с какими-либо другими объектами»85. Но способность к преобладанию такого способа созерцания, нарушающего естественный порядок вещей, противостоящего воле как сути мира – это особая, редкая способность. Тот, кто обладает ею, и есть гений. Обычный человек состоит на две трети из воли, а на треть – из интеллекта, говорит Шопенгауэр. Гений же – напротив, на две трети из интеллекта, и на треть из воли. И эта разница в соотношении дает такое же различие, как в химии различие между основой и кислотой86. Гениальность – необычное свойство, нарушение, отклонение от нормы. Гений подобен безумцу: в нем нарушен «здравый смысл», основа которого – последовательно идущая к удовлетворению воля. Потому он неадекватно воспринимает мотивационные связи и отношения. Потому вне своей созерцательной позиции, на уровне обычной жизни, гений может быть весьма неадекватен, даже излишне страстен, капризен, невоздержан, часто проявляет слабости, которые действительно приближают его к безумию. Впрочем, по Шопенгауэру, «наличие интеллекта, превосходящего обычный уровень, всегда, будучи аномалией, предрасполагает к безумию»87. Но еще больше, чем на безумца, в котором слепая воля не согласуется с интеллектом, гений похож на ребенка. Ребенок, еще не обретший взрослого опыта и взрослых качеств, однако в высшей степени способный к восприятию и к обучению, «взирает на мир как на нечто чуждое, как на зрелище, с чисто объективным интересом»88. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т.I. С. 293. Там же. С. 295. 86 Там же. Т. II. С. 410. 87 Там же. Т. I. С. 307. 88 Там же. Т. II. С. 425. 84 85 Итак, гениальность, по Шопенгауэру, – следствие преобладания интеллекта над волей. Ведь цели ставит воля, интерес определяет воля, воля же ищет пользу. Освобожденный от воли интеллект созерцает совершенно незаинтересованно, без какой-либо цели, безо всякой мысли о какой-либо выгоде или пользе. Бездарности бездарны потому, что их интеллект слишком связан с волей, что они не могут освободить свои творческие попытки от конкретных целей, их произведения всегда слишком «личные», слишком конкретные. Часто утверждается, что излишняя «интеллектуальность» вредит искусству, которое стихийно и иррационально. Шопенгауэр совершенно согласен с этим: так понятая «интеллектуальность», а именно рациональность, надуманность – как раз и есть плод воли, плод конкретно поставленных целей, выработанной концепции, которую надо лишь проиллюстрировать, некой морали, которую надо выразить. Все это чуждо чистому субъекту познания. Чистое, безвольное созерцание, а не познавательная научная деятельность есть основное свойство описанного им интеллекта. Гений – основа и стержень эстетики Шопенгауэра. И в первую очередь гений созерцает – созерцает мир как таковой. Он являет собой «чистое око мира». Далее же, как следствие, он может воспроизвести свое созерцание для других, то есть сотворить произведение искусства. Но определенно можно сказать: для Шопенгауэра гениальное созерцание уже и есть создание произведения (потому, должно быть, вновь не природа, а именно искусство составляет предмет его эстетики). Отстраненное, безвольное, свободное интеллектуальное созерцание отражает истину мира, его суть. Способность к такому созерцанию Шопенгауэр считает редким умением, к достижения которого не ведут ни желание, ни труд. Но, с другой стороны, речь идет лишь о таком умении: умении созерцать. Речи о техническом умении не заходит. Художественная деятельность, то есть деятельность по формированию материи, по созданию артефакта, как таковая ему совершенно неинтересна. Он как бы верит, что гениального созерцания вполне достаточно для гениального творчества. Нужно лишь отдаться созерцанию, раствориться в нем – и истина сама изольет себя во всей красе. Но тогда возникает вопрос: каким образом это гениальное созерцание, свойственное 40 единицам, может стать, говоря кантовским языком, всеобще сообщаемым через посредство создания произведений искусства? Здесь следует обратиться к шопенгауэровскому определению красоты. Ведь как и у Платона, представлениям достаточно быть созерцаемыми в своей чистоте, вне зависимости от закона основания и мотивационных отношений, чтобы вызвать чувство прекрасного. Если Кант определял эстетическое суждение как незаинтересованное, то Шопенгауэр лишь слегка переставляет акценты: не «прекрасное воспринимается незаинтресованно», но скорее: «то, что воспринимается незаинтересованно – прекрасно». Эстетическое суждение рождается из незаинтересованности. Эстетический восторг есть уже не результат «свободной игры способностей», но возникает как следствие ощущения освобождения от закона основания, выпадения из потока мотиваций. «Вещи кажутся тем прекраснее, чем больше мы сознаем только их и меньше самих себя»89 – говорит Шопенгауэр, выказывая удивительное для столь радикального пессимиста восхищение красотой мира. Дурна лишь воля, слепой порыв, разрушающий собственные произведения. Но эти произведения сами по себе прекрасны. Это, конечно, необычная метафизическая концепция: метафизический источник мира признается злом, притом что сам мир восхитительно прекрасен. Но любая вещь прекрасна сама по себе, – говорит Шопенгауэр. Все вещи прекрасны!90 Такое восклицание кажется достойным святого или мистика, подобного Франциску Ассизскому. Однако различие весьма существенно, как и отличие от метафизического восхищения Платона. Это отличие делает концепцию Шопенгауэра почти пределом эстетического субъективизма. Ведь одно дело – сказать, как христианский святой, что все вещи прекрасны, потому, что все они несут на себе печать творения Божьего, или сказать, как античный философ, что идеи прекрасны сами по себе потому, что они есть истина как таковая, и подобие им – совершенство, так как это соответствие истине мира, соответствие сущности. И совсем другое – сказать, что вещи просто прекрасны сами по себе. То, что наполняет их 89 90 Там же. Т. II. С. 402. Там же. Т. I. С. 323. восхитительной красотой – это не отсылка к какой-либо метафизической истине, а сам способ созерцания, сама незаинтересованность, дающая нам временное освобождение от потока желаний. Но в этом случае задача гения – отнюдь не давать правила, но скорее нарушать их. Чтобы вызвать искомое чувство в зрителе, в котором интеллект отнюдь не преобладает над волей, и потому он не может видеть все вещи в их чистоте и отстраненности, гений должен представлять вещи так, чтобы они были отделены от привычного контекста, в котором они теряются за теми интересами, которые с ними связаны. Способность гения, таким образом – это способность на время, посредством изображения, вырывать зрителя из его обыденного мира. Эта цель не имеет никакого отношения к форме искусства, но только к определенному взгляду, взгляду художественного гения. И для этого взгляда, как уже было сказано, все вещи прекрасны, без различия, поскольку все они способны выпадать из уз мотивационной зависимости: будь то прекрасный пейзаж или простая вещь повседневного окружения, восхитительное сочетание красок на холсте или пустой холст. Достаточно лишь посмотреть на них глазами художника – глазами чистого субъекта познания. И тогда если именно произведение искусства, создание гения, оказывается предметом эстетического созерцания для зрителя, то не потому, что обладает какими-то определенными формальными особенностями, но потому, что располагает его к чистому незаинтересованному созерцанию. То есть отличие произведения искусства будет, в конечном счете, сугубо институциональным – поскольку так повелось, что именно произведения мы воспринимаем как нечто извлеченное из мотивационных связей, а простые вещи вокруг – как предмет исключительного интереса по законам основания. Так понятому искусству, искусству как безмерному восхищению вне мотиваций, больше не нужна особая форма, ему нужен лишь особый художественный взгляд. «Художник» – не в высшей степени умелый ремесленник, но скорее образ жизни, способ познания. Кроме того, можно предположить, что если целью искусства является освобождение зрителя от привычных мотивационных зависимостей, то любые способы такого разрыва или, можно сказать, шока, произведенного на зрителя, могут сослужить ту же службу, что и изображение, а 41 может быть даже более эффективно. И, как можно видеть, с течением времени именно шок, нарушение принятых правил начинает играть в искусстве главную роль. Но в то же самое время так понятое искусство перестает существовать как искусство, и в первую очередь, технически: искусству как особой художественной практике, как высокой степени мастерства нечего больше сказать там, где, для особого взгляда, любая вещь является предметом эстетического восторга. А это значит, что гений как человек, обладающий редким умением, оказывается также ненужным: его функция как освободителя исполняется полностью и заканчивается в тот момент, когда его художественному жесту удается вместо прекрасного изображения вещей представить зрителю сами вещи в их шокирующей свободе и самодостаточности. НИЦШЕ: ЭСТЕТИКА МЕЖДУ КРИТИКОЙ И ИДЕОЛОГИЕЙ Из изложенных мыслей Шопенгауэра, фактически, следует то, что позже объявляет в «Рождении трагедии» Ницше: «Мир может быть оправдан лишь как эстетический феномен». Если действительно, как мы пытаемся показать, для новоевропейской рациональности свойствен некий особый эстетический способ мышления, то эта знаменитая фраза представляет собой апофеоз его развития. Ницше доводит до конца и возводит на новый, более осознанный, более декларативный уровень то, что содержится в шопенгауэровском эстетическом восхищении. Он обнажает основы. Буддийская мораль сострадания и печаль философской рефлексии отступают на второй план, проявляя то первое и главное, что представляет собой их фундамент. От своего страстного страдания субъективность, утратившая мир как данность и замкнутая на себе, находит отдохновение лишь в одном: в чистом эстетическом восторге. Неслучайно Ницше, взяв за основу пессимистическую концепцию Шопенгауэра, оказывается способен прийти к бесконечному оптимизму, стать противником всякой апатии и отчаяния, противником нигилизма, и в то же время достичь вершины нигилистической критики всех оснований и устоев. Так Хайдеггер в работах о Ницше показывает, как «европейский нигилизм» достигает в его философии своего предела. И в то же время он с не меньшим рвением показывает, как антинигилистична, как утвердительна по своему порыву, мысль Ницше, вся обращенная к жизненной силе и восторгу созидательного творчества. Итак, мир может быть оправдан лишь как эстетический феномен, потому что все остальное – мораль, наука, религиозная вера – является производным, наносным и случайным, потому что оно исторически изменчиво, а тщательная «генеалогия» наивысших человеческих ценностей выявляет их достаточно сомнительные истоки. Мир может быть оправдан лишь как эстетический феномен, потому что все остальное в своей серьезности чревато слишком большим количеством страданий, отвратительно и не может не вызвать глубочайшей апатии и нежелания жить. Мир может быть оправдан лишь как эстетический феномен, потому что одна лишь его эстетическая сторона в своей чистоте не вызывает ужаса и спасает для жизни там, где казалось бы, все остальное должно ее отвергнуть. «К генеалогии морали» – одна из тех работ Ницше, которые представляются наиболее обманчивыми для восприятия. Пользуясь словами литературоведа Х. Блума, она наиболее антитетична. Если подойти к ней только с одной, кажущейся наиболее очевидной стороны, можно увидеть, что Ницше производит здесь подавляющую критику традиционных моральных ценностей – милосердия, справедливости, терпения, самого добра, наконец, – показывая их низменные основания, а именно: жажду мести, злобу, коварство, насилие, лежащие в их исторической основе, как бы «сублимировавшиеся» в них на протяжении долгой кровавой истории борьбы «человеко-зверей» между собой, истории пыток, унижений и подавления. И в ходе этой критики он, по видимости, противопоставляет этим ценностям, имеющим столь низкое происхождение, некий благородный идеал вольного «господина», «сильного зверя», не задумывающегося о ценностях, но утверждающего их в своем свободном творческом акте благодаря переизбытку жизненной силы. Этот «сильный зверь» называет добро добром, потому что он называет добром себя и то, что он делает. Все остальное не имеет для него значения, кроме того, что столь же благородно и сильно как он сам. Рессентиментная мораль, основанная 42 на затаенной злобе и вырабатывающая понятие некого гигантского внешнего зла, против которого она выставляет свою слабость в качестве смирения, с ее тайным упованием на более сильного господина – Бога, – который придет в конце и осуществит справедливость (то есть накажет сильных), Ницше подвергает крайнему осуждению (а именно эту мораль он видит в основе религии, особенно в основе христианской церкви). Можно сказать, что критика направлена против морали вообще, что она призывает выйти «по ту сторону добра и зла» к чистому утверждению, к чистому проявлению жизненной энергии: сила не может не проявлять себя в качестве силы, а встать на сторону слабости – значит впасть в декаданс, упадок, встать против жизни, за смерть и вырождение. Потому какой бы грубой ни была сила, моральное ее осуждение всегда будет еще более отвратительным. Здесь можно увидеть, что критика морали производится Ницше с эстетических позиций: с позиции восхищения перед жизненной активностью, перед благородным и чистым самоутверждением, не знающим границ. Сильный зверь опасен для своих жертв, которые есть не более, чем его пища, но на то он и сильный зверь. «Белокурая бестия» прекрасна в своей мощной грации. Это завораживающий восторг, который, как известно, способен вызвать к жизни, и вызвал, достаточно опасные явления. «В “Голубом свете” я, словно предчувствуя, рассказала свою позднейшую судьбу: Юнта, странная девушка, живущая в горах в мире грез, преследуемая и отверженная, погибает, потому что рушатся ее идеалы — в фильме их символизируют сверкающие кристаллы горного хрусталя. До начала лета 1932 года я тоже жила в мире грез…»91, – так писала впоследствии об одном из своих лучших фильмов Лени Рифеншталь, классический и трагический режиссер Третьего Рейха. И даже значительно позже, когда, бесконечно далекая от политики, она устремляла свой интерес к жизни африканских племен или к подводному миру, ее обвиняли в фашизме за одно единственное: за излишний восторг перед телесной красотой, выставление напоказ в фильмах и фотографиях грациозной мощи тела – будь то тела немецких атлетов или 91 Рифеншталь Л. Мемуары / Пер. с нем. Ю. И. Архипова. М., 2006. С. 102. туземцев центральной Африки. Обвинения эти достаточно метки в том, что хорошо указывают: нацизм здесь, собственно, не при чем. Дело не в нацизме, а в эстетическом – в высшей степени эстетическом, поскольку направленном на сугубо чувственно воспринимаемую мощь – восторге. С другой стороны, саму эстетику никогда не обвиняли в фашизме, напротив того, как кажется, она по самой по сути своей противостоит ему. В эстетике есть нечто обманчивое, нечто двойственное: та мощь, которую, как кажется, воспевает в своих работах Ницше и которая сквозит в съемках Рифеншталь – это телесная мощь, мощь жизни. А эстетика – эстетика как дисциплина с самого начала противопоставляет себя непосредственной жизненной красоте, насыщенности, указывая не на тело, а на представление. Материальное наполнение остается для нее неинтересным постольку, поскольку она не заинтересована, что утверждал еще Кант, в реальном существовании своего предмета. Она осознанно иллюзорна. Или так: она признает свой предмет иллюзией. Но «жить в мире грез» – значит, по крайней мере, не осознавать его иллюзорности, относиться к нему некритически. Вот в чем опасность, которая приводит к фашизму. Эстетика выступает как критика уже постольку, поскольку осознает иллюзорность своего предмета. Однако Ницше, доведшего европейскую критическую мысль до крайней степени утонченности, Ницше, в котором черпают вдохновение деконструктивисты и дотошные лингвистические аналитики, менее, чем кого-либо, можно обвинить в недостатке критического сознания. И если Ницше говорит, что мир может быть оправдан лишь как эстетический феномен, можно предположить, что он имеет в виду как раз этот уровень осознанной иллюзии (способность сказать: «Это сон! Так пусть он длится»92), а не непосредственную «жизнь в мире грез». Теперь, вновь возвращаясь к «Генеалогии морали», мы можем проследить в ней и другую структуру: структуру последовательной антитетической критики. Итак, Ницше находит источник понятия «добра»: его произвели на свет «сильные», именуя свои действия (основанные на грубой силе) добром, и выводя из этого ряд ценностей: гордость, мужество, 43 благородство и т.п. При этом в их системе нет полноценного понятия зла, а лишь сугубо негативное: недостаток силы, плебейство. Понятие «зла», напротив, произведено «слабыми», подавленными, боящимися грубой силы, и в основе его лежит жажда мести. Жажда мести имеет место лишь там, где ввиду недостатка силы эта месть не может быть осуществлена (потому у сильных нет жажды мести: врага они могут вызвать на поединок и проявить то самое благородство, которое так ценится в мире). Однако, с другой стороны, слабость, помимо «зла», производит на свет осуждение грубой силы и следующие из него ценности справедливости, милосердия, терпения, которые в «морали слабых» представляют собой «добро» – добро определяемое также лишь негативно: как отсутствие зла в качестве насилия. В итоге мы имеем две системы ценностей, которые происходят из равно неприглядных источников (грубой силы и жажды мести). Они противоположны по направленности, но в итоге составляют, вперемешку, возвышенный арсенал любой моральной философии. Ввиду таких истоков итоговый набор моральных требований оказывается достаточно противоречивым и не могущем не вызывать заведомого внутреннего конфликта там, где они смешиваются, то есть в современном мире. Так, к примеру, требование смирения противоречит необходимости проявлять в то же время и чувство собственного достоинства, но даже сам переизбыток смирения может часто быть расценен как гордыня. Грань, по которой продвигается подлинное моральное чувство, оказывается очень тонкой и сбивчивой, это состояние напряжения и колебания. Утвердительный пафос Ницше держится, как одном из основных его положений, на том что нет истины, истинного положения вещей, но есть лишь всесметающий поток жизни. Истины, ценности – религиозные, научные, эстетические – стремятся к утверждению себя в своей бесконечной воле к власти, борются между собой, а в итоге ни одна не является вечной, все подвержены распаду. Но то, что для Шопенгауэра (и даже для Гегеля) было основанием для печали, для Ницше является основанием для радости: он приветствует эту смену форм, это многоцветие, приветствует то, что, за отсутствием окончательной и бесповоротной «последней» 92 Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. С. 147. истины, мы имеем дело со сверкающим потоком временных «заблуждений», где одно сменяет другое без конца и края. Это многообразие форм лучше, плодотворнее, интереснее и прекраснее, чем продвижение к одной единственной цели, после которой наступает тотальное ничто или тотальная скука. Односторонность была бы слишком блеклой. И это еще один плюс в пользу мира: в своем хаосе он многообразен и красочен, значительно красочней и многообразней, чем мог бы быть любой законченный порядок. Потому если что-то может оправдать многочисленные страдания, происходящие в мире, то это не то, что (как было у Гегеля), все они ведут к достижению высшего самосознания, а то, что они предоставляют возможность для бесконечных изменений, наполняя мир бессчетным количеством красок. Если это оправдание мира – то также только и исключительно эстетическое. И тогда можно сделать вывод, что восторг Ницше перед мощью «сильного зверя» – это действительно очень незаинтересованный, эстетический в собственном смысле восторг, а не восторг, погруженный в его телесную реальность. Этот зверь – лишь красивая вспышка в потоке иллюзий. Но ничего хорошего в нем нет: путать моральную оценку с эстетической здесь нельзя. Ницше вовсе отвергает моральную оценку ради эстетической (там, где идеология, в том числе и фашистская идеология, напротив, погружается в первую без остатка). Выйти «по ту сторону добра и зла» для Ницше не может значить: высоко оценивать аморальное, если только оно способствует жизни. Потому что это и было бы настоящей моральной оценкой. Выйти «по ту сторону добра и зла» – значит не оценивать с точки зрения морали вообще. С другой стороны, если Ницше впадает в такое риторическое упоение при описании сильного человеко-зверя, при описании «морали господ», то в этом все же может крыться его собственная моральная, а не эстетическая позиция. Он выступает против торжества «рессентиментной морали», подавляющей ценности свободной силы и ведущей сознание к тотальной апатии и отрицанию жизни. Но это не столько религиозная мораль христианства, но в первую очередь субъективистская мораль в стиле в высшей степени ценимого им Шопенгауэра. Это и есть та мораль, которая обладает изощренным умом, утонченной критическую способность, готовой 44 разрушить все, что есть живого и непосредственного в мире. И мало того, более чем кто-либо, Ницше сам принадлежит именно к этой линии мышления. И, подвергая критике все, он буквально впадает в жалось к этим былым «сильным», не думающим, глуповатым в своем прямолинейном благородстве героям. И тогда можно сказать, что его моральная оценка, хоть и окрашенная в тона эстетического восторга, – это скрытое, тайное сострадание к ним, не выдерживающим напора критики, причем, не в последнюю очередь, его собственной критики. Здесь мы вновь видим ностальгию рефлексивной критической субъективности по радостной непосредственности И она заставляет его восторгаться ими как телесными, жизненными, наполненными – именно потому, что эта телесность, жизненность, наполненность для его собственного сознания уже невозможна93. Таким образом мы можем сказать, что восторг, восхищение, сама высказываемая Ницше эмоция несет на себе отпечаток моральной оценки, становится фундаментом идеологии, в то время как эстетика в качестве теории, эстетика, незаинтересованная в реальности, чуждая живому присутствию и вовлеченности – это критическое признание того, что все есть иллюзия или что фактов нет, но только интерпретации. И таким образом, высказывание «мир может быть оправдан как эстетический феномен» означает, что он может быть оправдан лишь как многообразие иллюзий, многообразие интерпретаций. То есть мир может быть оправдан лишь В отношение двойственности риторики Ницше, одновременно подталкивающей к восторженно-идеологическому и рефлексивно-критическому прочтению, любопытны замечания А. В. Перцева по поводу перевода текстов Ницше. Тщательно разбирая название работы «Сумерки кумиров, или Как философствую молотом» он приходит к выводу, что такой вариант перевода даже на уровне заглавия в корне искажает мысль Ницше. Контекст, в котором поясняется основная задача сочинения – это не контекст пафоса и разрушения, но контекст иронии и критики. «Сумерки кумиров» – не низвержение старых истин, но тонкая ирония, в частности над романтически низвергательным вагнерианством, и кумиры здесь не кумиры , а уничижительные «божки», выставленные против вагнеровской «Гибели богов». Молот же, которым зачем-то следует бить «по животу больного», чтобы что-то там услышать – вовсе не молот, а врачебный молоточек. (См.: Перцев А. В. Фридрих Ницше у себя дома. (Опыт реконструкции жизненного мира). СПб., 2009. С. 19-26). 93 постольку, поскольку его на самом деле нет. (Пожалуй, если он действительно есть, все зло в нем едва ли может быть оправдано!) На таком эстетическом сознании фактического небытия мира, иллюзорности конечных форм, скорее, чем на восхвалении силы, держится ницшеанская идея сверхчеловека. Уже в «Рождении трагедии» она может быть выведена из определения трагического сознания, из диссонанса между «аполлоновским» и «дионисийским». Дионисийский поток – это жизнь как таковая, сметающая все формы и любую устойчивость аполлоновского порядка. Но и то, и другое начало тем ближе, по Ницше, к «метафизической» истине мира (о которой он еще говорит в этой ранней работе), что оба они есть степени иллюзии, что оба они не трезвы. Сновидение и опьянение – вот истина мира, а трезвость – главный источник заблуждений, или, можно сказать, трезвость и есть та самая «жизнь среди грез», без сознания того, что это грезы. И первая степень иллюзорности для него – это эмпирическая реальность, «которую мы, находящиеся в ее власти и с нею слившиеся, вынуждены воспринимать как воистину не сущее, то есть как беспрерывное становление во времени, пространстве и причинности»94 Задача критика – признать иллюзию и принять ее. Это и есть трагическое сознание, говорящее «да» сну, зная, что это сон, говорящее «да» жизни, зная ее бессмысленность, бренность и эфемерность. Как греческая трагедия соединяет в себе всесметающий дионисийский хаос и аполлоновскую форму, так и трагическое сознание не впадает в отчаяние, но настаивает на действии – в полном сознании бессмысленности любых действий (по крайней мере, если под «смыслом» иметь в виду нечто внешнее, незыблемое и вечное). Если знание убивает действие, а критика противоположна творчеству, то сверхчеловек – это некий невероятный критик-творец, сознающий и действующий одновременно. Это трагический герой, творящий заведомо временное, заведомо не на века. Перед лицом всесметающего хаоса он утверждает свою истину, зная, что это не более чем его мимолетная «интерпретация», но тем не менее утверждает ее здесь и сейчас как если бы вечную, всеобщую, необходимую. Трагическое сознание сверхчеловека – это, по сути, эстетическое сознание. Хотя Ницше не написал ни одной работы собственно по эстетике, едва ли возникает сомнение в том, что эстетика составляет существенную часть его философии, что последняя в целом является эстетической. И дело не в том, что он много говорит о художнике и искусстве. Эстетизм распространяется здесь на все – начиная с искусства и далее на все сферы жизни. Так, он говорит о последовательном развитии теоретизирующей науки до тех своих пределов, где она теряет уверенность в достижимости истинного познания, так что терпит крах ее оптимизм, основанный на «метафизической химере» осмысленности познавательного поиска. Теоретизирующее сознание замыкается на себе, из движения к результату превращается в чистый процесс, не имеющий внешнего выхода – и здесь начинает искать утешения в искусстве. Но оно не только ищет утешения, говорит Ницше: оно само превращается в искусство, начинает действовать по тому же принципу, что искусство, причем трагическое искусство. И это притом, что наука как раз на тот момент становилась все позитивнее, и что сам Ницше приветствует позитивизм с его опорой на опыт95. Каким бы научным и приземленным ни казался позитивизм, он лишь развивает эстетическое сознание, все дальше отрывая опыт от его метафизических корней, стирая разницу между физическим, психическим, лингвистическим. И так же в неком сверхчеловеческом порыве, описанном в «Так говорил Заратустра» Ницше готов сказать «да» вечному возвращению – не в качестве некого гегельянского развития, но именно возвращению, повторению всего мелкого, пошлого, банального, обыденного и некрасивого, возвращению маленького человека, возвращению всего, что, казалось бы, противостоит его возвышенному эстетизму. Мы имеем здесь дело вновь как бы с неким «диссонансным договором» между обмельчанием жизни и углублением ее эстетического трагизма. Только на пределе приземленности, Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. С.147-148. Вспомним про «петушиный крик позитивизма» из знаменитого пассажа «Как “истинный мир” наконец стал басней» из «Сумерек кумиров» (См.: Ницше Ф. Сумерки идолов, или Как философствуют молотом / Пер. с нем. Н. Полилова // Ф. Ницше. Сочинения в 2-х тт. М., 1990. Т. II. С. 572). 94 95 45 измельчания современного человека, он может проявиться в полной мере. И если Ницше говорит о начале «трагической эпохи» на пороге XX в. с его кризисом искусства, омассовлением культуры и столь много критикуемой общей вульгаризацией, закатом жизненной красоты, на который сетовал, как мы помним, К. Н. Леонтьев, то это не конец этой эпохи и не ошибка Ницше: скорее это ее тотальное распространение. В этом контексте прав, как нам кажется, С. Жижек, отмечающий, что определение трагического героя движется от героя, «делающего, поскольку не знает, что делает» (Эдип), далее героя «знающего, и потому неспособного перейти к действию» (Гамлет) к герою, который «прекрасно знает, что делает, и все же продолжает делать». Первый герой – герой классический, второй герой – герой модернистский, но третий герой, в этой его сверхчеловеческой характеристике, по Жижеку, есть герой постсовременности96. И если посмотреть на это таким образом, можно сказать, что эстетический сверхчеловеческий жест Ницше стал повседневностью, так что практически любое обыденное и банальное действие вынуждено начинаться с него и развертываться без всякого внешнего смысла. Вера в осознанно субъективную истину, преданность заведомой случайности, личному, ничем метафизически не подкрепленному выбору стали практически нормой, принимаемой настолько без раздумий, что сама она начинает заслуживать резкого критического противодействия. 46 См.: Мазин В. Жижек и его другие // С. Жижек. Хрупкий Абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие. М., 2003. С. 24. 96 II. КРИЗИС ПОСТМОДЕРНА ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕРНА Вступление. МОДЕРН И ПОСТМОДЕРН Согласно известным словам З. Фрейда, в истории мысли представлениям о центральном положении человека в мире было нанесено три удара. Первый – Коперником, сместившим местопребывание человека в пространстве из центра на периферию. Второй – Дарвином, разрушившим иллюзию об исключительности человека и доказавшим его родство с животными. Третий – самим Фрейдом, показавшим, что разум человека – не хозяин в своем собственном доме, а лишь производная иных, мощных бессознательных сил. Любопытно, что все три перечисленных Фрейдом «удара» относятся к той обширной эпохе, стержневым принципом которой обычно называют антропоцентризм, начиная с эпохи Возрождения, когда впервые человеку было придано достоинство и значение, которого он не имел ни в одной другой культурной традиции. Открытия Дарвина совершаются параллельно с развитием субъективистской мысли, а открытиям самого Фрейда сопутствует нарастающий экзистенциалистский пафос утверждения абсолютной творческой свободы человека, его вынесенности за пределы мира и, фактической, противоположности природе97. Но возможно, это говорит о том, что антропоцентризм сам по себе двойственен: человек, его разум, его чувства, его тело, здесь становится центром именно потому, что впервые становится проблемой. А значит, он ставится под вопрос. Критическая мысль, обращенная прежде на природу или на Бога (творца природы), обращается на сам познающий и природу, и Бога центр и немедленно начинает расшатывать его, чтобы добраться до оснований. К концу XIX – началу XX вв., в эпоху, получившую название «модерна», радикальная критика всех самоочевидностей – метафизики, религии, традиции, любых условностей – 47 достигает своего предела, направляя себя на того самого субъекта, который ее производит. И тогда на поверхность выходят его иррациональные истоки. Впрочем, поскольку уже кантовская критическая философия выстраивается в качестве критики разума, то есть того самого инструмента, с помощью которого она производится, то можно сказать, что модерн с его бунтарским порывом – это пиковая точка развития новоевропейского типа рациональности. Но как пиковая точка, он обозначает не только его кульминацию, но и его кризис. Рационализм в принципе, должно быть, имеет бунтарский, реформаторский дух, поскольку нацелен на осмысление всего посредством человеческого разума, вследствие чего предполагает самостоятельное, рефлексивное восприятие мира – в противоположность следованию Хотелось бы для сравнения привести здесь выдержку из знаменитой работы М. Шелера «Положение человека в космосе» (1927), легшей в основу развития философской антропологии – направления, которое, впрочем, было направлено не на противопоставление человека природе, но на раскрытие его связи с ней: «…Слово “человек” должно означать совокупность вещей, предельно противоположную понятию “животного вообще”... <…> Новый принцип, делающий человека человеком, лежит вне всего того, что в самом широком смысле, с внутреннепсихической или внешне-витальной стороны мы можем назвать жизнью. То, что делает человека человеком, есть принцип, противоположный всей жизни вообще, он как таковой вообще несводим к “естественной эволюции жизни”… Мы хотели бы употребить для обозначения этого… более широкое по смыслу слово, слово, которое заключает в себе понятие разума, но наряду с мышлением в идеях охватывает и определенный род созерцания, созерцание первофеноменов или сущностных содержаний, а кроме того – и определенный класс эмоциональных и волевых актов, которые еще предстоит охарактеризовать, например, доброту, раскаяние, почитание, и т.д., – слово дух. <…> Если главным в понятии духа сделать особую познавательную функцию, род знания, которое может дать только он, то тогда основным определением “духовного” существа станет его экзистенциальная несвязанность, свобода, отрешенность его – или его центра существования – от принуждения, от давления, от зависимости от органического, от “жизни”, ото всего, что относится к “жизни”, то есть в том числе его собственного, связанного с влечениями интеллекта. Такое “духовное” существо больше не привязано к влечениям и окружающему миру, но “свободно от окружающего мира” и, как мы это будем называть, “открыто миру”. У такого существа есть «мир»… И “носителем” духа является такое существо, у которого принципиальное обращение с действительностью вне него прямо-таки перевернуто по сравнению с животным». (Шелер М. Положение человека в космосе / Пер. с нем. А. Ф. Филлипова // М. Шелер. Избранные произведения. М., 1994. С. 134, 153-154). 97 традиционно принятым моделям. Но новоевропейский модерн доводит бунт до предела. В конце XIX – начале XX вв. бунт становится доминантой культуры. Это восстание против любых правил и ограничений, выразившее себя, в частности, в развитии многочисленных направлений искусства, резко порвавших с прежними принципами и приемами выражения. Потому именно с изменением в художественной сфере, в первую очередь, обычно связывают определения «модерна». Творческий дух, акцентирование индивидуальной активности коррелирует с сущностным бунтарством мировоззрения. Как мы уже видели, такие черты можно обнаружить в европейской культуре задолго до наступления художественного модерна – в романтическом прославлении творческой силы воображения, в перенесении акцента на творческую активность духа в немецком идеализме, в революционных движениях, все более направляющих себя на радикальное переустройство общества, в марксистском построении коммунистической утопии98.Однако радикальный переворот происходит в тот момент, когда этот творческий дух из ограниченного пространства искусства выплескивается во все сферы жизни и осознается в качестве их основания. Пафос модерна – пафос творчества, оригинальности, страх перед повторением. Здесь рационалистический субъективизм переходит в иррационалистический индивидуализм, утверждение естественных прав субъекта — в экзистенциальное переживание своего «здесь и теперь». Модерну сопутствуют либерализация, демократизация, эмансипация, устранение любых ритуально-традиционных различий, а также восстановление в правах человеческой природы, желаний, которые всегда индивидуальны и уникальны. Но становление индивида одновременно приводит к его стиранию. Фрейдовский психоанализ служит ярким примером этой двойственности: провозглашая отсутствие критерия «нормальности», он утверждает торжество уникальной личности, в то же самое время понимая ее, фактически, как набор симптомов. Противоречивость рассматриваемой эпохи можно увидеть и в том, что наряду с предельной либерализацией, со становлением принципа толерантности, а также наряду с яростным революционным порывом и как реакция на него развивается то, что получило название 48 тоталитаризма. Если девизом и началом модерна можно считать тезис Ницше о смерти Бога, явивший собой свидетельство тотальной критики и тотального бунта, то тоталитаризм – нечто вроде попытки «богостроительства», сотворения новой божественности, перенесенной в человеческий план, в план имманентного. В этом смысле тяга первой половины XX в. к построению тоталитарной утопии – не в меньшей мере итог и признак модерна, чем тяга к тотальной революции. Но можно сказать, что одновременно с крахом тоталитаризма, то есть с крахом построения утопии, буквально пытающейся внедрить в жизнь философию тождества бытия и мышления, заканчивается и модерн. За собою этот вихрь низвержения оставляет освобожденное от всяких преград пространство. Больше не с чем бороться, больше не против чего бунтовать. То, что получило название «постмодерна» не может быть резко противопоставлено модерну. Скорее, уже само это название говорит о том, что наступившая эпоха является продолжением модерна, его итогом, отталкивается от него и от него зависит. Должно быть неслучайно именно слово «постмодерн», имевшее ряд других применений, стало, в конце концов, обозначением ситуации в культуре второй половины XX в.: оно не только исторически обозначило, но и отразило, можно сказать, самую суть происходящих процессов. Формально хронологическое, казалось бы, название эпохи, следующей «после эпохи модерна», раскрывает ее сущностную постисторичность. А возможно не столько постисторичность, сколько отложенность в будущее по отношению к современности: странный временной парадокс пребывания после того, что сейчас. Стоит вспомнить знаменитый заключительный афоризм из марксовых «Тезисов о Фейербахе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, чтобы изменить его» (Маркс К. Энгельс Ф. Собрание сочинений. Изд. 2, Т. III. С. 1-4). Интересно также, что именно этот текст был использован С. С. Прокофьевым в его новаторской и, в итоге, запрещенной ввиду «чрезмерной сложности» кантате «К 20-летию Октября» (1937). 98 Наступление постмодерна связывают со знаменитым «пересекайте границы, засыпайте рвы». Но на деле сметение границ было уже осуществлено модерном. Печальная суть последующей эпохи должна была состоять как раз в том, что уже нечего пересекать. Или, возможно, она представляет собой осознание того факта, что уже нечего пересекать, что то, что казалось границей, четкой и ясной, уже давно не существует. Постмодерн как рефлексию модерна определяет Ж.-Ф. Лиотар и в рефлексии видит залог будущего нового модерна. Однако характеристикой этой рефлексивной эпохи оказывается чувство безнадежной запоздалости, чувство, что всё уже сказано, что остается только, играя, перебирать застывшие прошлые формы, составляя их в эклектические коллажи, стилизовать и иронизировать с высоты своего скептического усталого взгляда над былыми порывами творческого духа. Состояние постмодерна можно, следуя словам Ж. Бодрийяра, оценить как состояние «после оргии» – и в этом смысле оно содержит в себе мало оптимистичного. Один из главных критиков постмодерна и защитников модерна, Ю. Хабермас, отмечает в качестве главных отличительных черт постмодерна критику разума, стирание границы между рациональным и художественным и вообще слишком сильное доверие к иррациональному, к интуитивному, поэтическому. Но в то же время, если термином «постмодерн» воспользоваться для обозначения описанного только что состояния, связанного с глубокой критической рефлексией, то постмодерн окажется продолжением модерна, представляющим собой его итог и предел. Можно полностью согласиться с Хабермасом в том, что постмодерн лишь повторяет тупики и противоречия модерна, доводя их до высшей утонченности и до абсурда, а также в том, что критика разума и тотальный скепсис доминируют в постмодерне, доводя до логического конца традицию рационалистического мышления модерна. Развитие постмодерна, по Хабермасу, соответствуют утопической традиции, начатой еще романтизмом: традиции, которую можно охарактеризовать в терминах критики, скепсиса и отчаяния, приводящих к рефлексивно-рационалистическому эскапизму, попыткам разума убежать от себя самого, выстроить, на месте тотальной демифологизации, производимой критической мыслью, некий новый миф о блаженном «до-рефлексивном» состоянии. Однако остается очевидным – на чем, 49 вероятно, и держится критика Хабермаса, – что в рамках рефлексивного мышления создание подобного мифа является не более чем ярким сном или сказкой. ЭТАПЫ ДЕМИФОЛОГИЗАЦИИ: ОТ СВОБОДЫ К ИГРЕ Как уже говорилось, анализируя позицию Гегеля, Хабермас обнаруживает, что главным принципом Нового времени для него выступает субъективность, а точнее, свобода субъективности. Вся история мысли – а по Гегелю, следовательно, вся история в целом – это «прогресс в сознании свободы». Проявляясь в познании как движение к предельному рационализму и как развитие «объективного» интереса к внешнему миру, свою опору и цель этот прогресс, тем не менее, находит во внутреннем: в том непостижимом центре, который уже у Канта обозначен как единственно возможная вещь в себе: ноуменальный мир свободы. Субъективность модерна – это непрерывное погружение всего вовнутрь, непрерывная интернализация, а в предельной форме – интернализация метафизической «высшей» истины. Ключевыми же событиями в этом прогрессе, по Гегелю, явились Реформация, Просвещение и Французская революция99. Таким образом, согласно этой точке зрения, началом развития модернистского духа явилась религиозная реформа, приведшая к появлению протестантизма. И действительно именно с ней обычно связывают произошедшую в европейской культуре интернализацию религии. Но пожалуй, в протестантизме мы сталкиваемся также с предельной двойственностью оснований модерна: погружение религии вовнутрь означает одновременно достижение высшего накала религиозного чувства, несводимого ни к каким внешним формам, – но и начало полной секуляризации мира, не могущего больше служить адекватным проявлением божественного. То Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. с нем. М. М. Беляева, К. В. Костина, Е. Л. Петренко, И. В. Розанова, Г. М. Сиверской. М., 2003. С. 17. 99 же происходит и с понятием свободы. Называя Реформацию ключевым моментом на пути становления нового мира, Гегель очевидно полагает ее существенным продвижением в сознании свободы. Однако известно, что М. Лютер начал с радикального отрицания свободы и провозглашения «рабства воли». Потому, приступая к рассуждению о кризисных процессах внутри модерна и постмодерна, отвлечемся на время на один, на первый взгляд, сторонний предмет, а именно, на спор о свободе, разгоревшийся между основоположником Реформации Лютером и знаменитым гуманистом Эразмом Роттердамским. Нам важно будет понять, каким образом лютеровское отрицание свободы воли могло оказаться столь важным шагом на пути «прогресса в сознании свободы», чтобы можно было, как это делает Гегель, именно с Реформации начать отсчет становления модерна. Известно, что Эразм сильно повлиял на идеи протестантизма, однако не принял принципов самой реформы, что, вероятно, послужило дополнительным источником той ярости, с которой нападает на него Лютер. Эразм выступает не столько с теологических, сколько с предельно гуманистических и рационалистических позиций, в то время как текст Лютера полон теологических отсылок. Тем не менее этот спор – не спор Средневековья с Новым временем. Это спор внутри самого Нового времени, обозначающий собой важное продвижение в его самосознании. Эразм утверждает этическую необходимость свободы. «Представим себе, – говорит он, – …что в некотором смысле правда то, о чем учил Уиклиф и что утверждает Лютер: все, что нами делается, происходит не по свободной воле, а по чистой необходимости. Что может быть бесполезнее широкого обнародования этого суждения? Представим себе также, что в каком-то смысле правда то, что где-то написал Августин о том, что Бог творит в нас и добро и зло и Он награждает нас за свои добрые дела и наказывает за свои злые дела. Какое широкое окно для нечестия откроет бесчисленным смертным распространение этих слов?! Особенно при такой человеческой тупости, беспечности, порочности и неудержимой, неисправимой склонности ко 50 всякого рода нечестию! Какой слабый человек выдержит постоянную и очень трудную борьбу со своей плотью? Какой дурной человек будет стараться исправить свою жизнь? Кто сможет решиться полюбить всем сердцем Бога, который создал кипящий Тартар с вечными муками и который наказывает несчастных за свои злодеяния, будто Его радуют человеческие мучения?! А ведь так истолкуют это многие»100. Потому, признавая малую степень собственных способностей человека, он все же оставляет ему минимальную долю свободы: «силу человеческого желания, при помощи которой человек может приблизиться к тому, что ведет к вечному спасению, или же отвратиться от этого»101. Против такого допущения и выступает Лютер. Он рассуждает, как впоследствии рассуждал также отрицавший свободу воли Шопенгауэр: спрашивать, мог ли бы человек «хотеть и иначе, нежели он хочет, значит спрашивать, не мог ли бы он также и быть другим, чем он есть»102. Не возможность действия, но сама структура желания ставится под вопрос: конечно же человек свободен делать то, что он хочет, но свободен ли он желать по собственному произволу? Последняя способность уравнивала бы человека с Богом. Наличие такой способности, по мнению Лютера (которое в данном пункте вполне совпадает с более поздними выводами Шопенгауэра), мы никогда не могли бы утверждать. Человек не свободен именно в желаниях. Он обнаруживает их в себе как уже заранее данные, часто конфликтующие, противоречивые. Среди них он, вероятно, обозначает те, что являются, по его мнению, лучшими или худшими, греховными или праведными. Вот здесь и возникает главный лютеровский вопрос: откуда он узнает о греховности одних и о праведности других? «Законом познается грех», – цитирует Лютер слова св. Павла. Праведность же познается благодатью. Отрицательное определение праведности как Эразм Роттердамский. Диатриба, или Рассуждение о свободе воли / Пер. Ю. М. Кагана // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. С. 223-224. 101 Там же. С. 230. 102 Шопенгауэр А. О свободе воли / Пер. с нем. А. А. Чанышева // А. Шопенгауэр. Собрание сочинений в 6 т. Т. III. Малые философские произведения. М., 2001. С. 316. 100 избегания греха из страха перед законом представляется Лютеру несоответствующим христианской доктрине. И здесь возникает совершенно новый взгляд на божество, отличный от взгляда на него как на карающую внешнюю инстанцию, дающую человеку закон и ожидающую, что тот будет ему покорно следовать. Не зная праведности, как могли бы мы к ней стремиться? – спрашивает Лютер. Ведь даже сама идея Бога, согласно его точке зрения, чужда и неизвестна конечной человеческой природе и не может возникнуть в душе без благодати103. С другой стороны, если благодать есть в душе, то последняя направляется ею, не колеблясь и не нуждаясь более в совершении свободного выбора. Наделенный благодатью человек может уверенно сказать о том, что он делает: «Это нравится Богу», – потому, что знание того, что нравится Богу, уже есть в нем самом, внутри него. Благодать привносит божественное знание в самого человека, и теперь оно царит в нем, направляя его желания и его выбор. Таким образом Бог перестает быть внешним законом, но становится законом внутренним. Апеллируя к словам св. Павла, Лютер настаивает на том, что «человек оправдывается верой без дел закона». Дела – это нечто внешнее, проявленное, то, что видно другим людям, но часто обманчивое. А вера – внутреннее, невидимое, скрытое, другим людям неведомое, но в то же время такое, в чем нельзя обмануть себя и в чем нельзя обмануть Бога. Сказать внутри себя: «Это нравится Богу», – верующий может только в том случае, если он верит всецело и свято, что это действительно нравится Богу. Верит не потому, что это именно он (то есть избранный Богом как внешней силой) совершает данное деяние, а потому, что верит также, что деяние его действительно хорошо. Вот что, таким образом, делает, по Лютеру, в человеке благодать: она дает ему знание того, что должно делать. И на основе этого знания, сделав выбор между тем, что должно, и тем, что не должно, он же первый будет себе в этом выборе строжайшим судьею. Но не слишком ли это знание того, что должно, находимое в себе самом и подчиняющее любое действие не желанию, но лишь соответствию требованиям некого высшего принципа, также обнаруживаемого в самом себе, напоминает кантовский моральный закон, следование которому представляет собой главный источник свободы? Кантовская свобода проявляет себя 51 весьма парадоксально: это следование внутреннему долгу. Это уже не свобода «делать, что хочется». Делая, что хочется, мы – рабы своих желаний, приходящих из вне, из чувственного мира явлений. Следуя долгу, мы выходим из подчинения внешнему миру и опираемся только на высший сверхчувственный принцип, находимый внутри себя самих и составляющий центр субъективности. Этот принцип – вещь в себе, сердцевина субъекта. И этот принцип есть не что иное как самосознание. Самосознание совпадает с идеей свободы, поскольку последняя выводится Кантом исключительно из определения самого разума: мы не можем «мыслить себе разум, который со своим собственным сознанием направлялся бы в отношении своих суждений чем-то извне»104. «Быть свободным» здесь означает: сознавать себя свободным, сознавать свои действия своими, или быть вынужденным руководствоваться в своих действиях идеей свободы. Свобода, прежде бывшая свободой от внешних препятствий, интернализируется, становится внутренней и выходит из-под власти того, что Кант называет «гетерономией естественных причин»105. См.: Лютер М. О рабстве воли / Пер. Ю.М.Кагана // Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986. С. 366. 104 Кант И. Основы метафизики нравственности // И. Кант. Критика практического разума. СПб., 1995. С.106. 105 Шопенгауэр, как уже упоминалось, отрицавший свободу слепой воли, подчиненной строго закону основания, тем не менее полостью соглашается с Кантом в концепции трансцендентальной свободы, полагая ее высочайшим достижением этики Канта. Он указывает на большую важность различения «реальной» (естественной) необходимости, физически детерминирующей все явления в мире и не допускающей в себе никаких пустот, и «трансцендентальной» свободы, не нарушающей необходимости, но буквально отрицающей ее изнутри сознательного существа. Причем соотношение, которое обнаруживается между реальной необходимостью и трансцендентальной свободой совпадает с соотношением между явлением и вещью в себе: «Это устанавливаемое Кантом отношение эмпирического и умопостигаемого характера всецело опирается на то, что служит основною чертой всей его философии, именно на различение между явлением и вещью в себе, и, подобно тому как у него полная эмпирическая реальность опытного мира совмещается с его трансцендентальной идеальностью, точно так 103 Однако, попытавшись таким образом определить новизну и специфику модернистского понимания свободы, легшего в основу европейского субъективизма и рационализма, попробуем проследить его «постмодернистскую» метаморфозу. Уже говорилось, что понятие постмодерна тесно связано с принципом игры, которая заменяет собой то, что до этого представлялось линейно направленным к достижению некой, хотя и все более осознающейся в качестве недостижимой цели. Тотальная критическая атака во всех областях также, как и в случае с пониманием свободы, обращается против любых овнешненных интерпретаций. Жизнь, история, познание, художественная деятельность лишаются внеположного смысла106. В этом процессе все формы, которые некогда представлялись живым воплощением чего-то высшего, обретают самодостаточность. Вместе с тем они становятся некой впечатляющей но, как гегелевское «искусство», безнадежно «прошедшей» шелухой, с которой постмодернистскому сознанию остается лишь играть. Й. Хейзинга в своем знаменитом «Homo ludens» (1938) определял всю человеческую культуру как игру. Это, конечно, не означало признания ее чем-то не серьезным, но скорее представляло собою, что было весьма характерно для всего того времени, поиск ее скрытых оснований. Человеческая культура, по Хейзинге, действует как игра: она есть игра по своей структуре. Но что такое игра? Играют даже животные, но если игра, к примеру, способствует их обучению каким-то навыкам, то даже здесь этот эффект лишь следует удовольствию, получаемому от нее. Игра приятна сама по себе, это самоцель. Но в чем же состоит удовольствие от игры? Когда щенки или котята дерутся «понарошку», грозно рыча, но не выставляя когти, здесь присутствует, как и в человеческих играх, нечто вроде намеренно установленных правил, которые не следуют из внешней необходимости, но которым играющие договариваются произвольно подчиняться. Остальное время животное, ищущее пищу и защищающее территорию, дерется, чтобы выжить, подчиняясь законам естественной необходимости. Но в момент игры необходимость как бы нарушается. Однако нарушается она не посредством какого-либо сбоя во внешнем принуждении, а напротив, в надстраивании 52 дополнительного принуждения. Отрыв от естественной необходимости не может означать нарушения естественной необходимости – поскольку она-то как раз и не может быть нарушена. Будучи необходимостью, она порабощает всецело и без остатка. Так что если можно почувствовать какой-то выход за ее пределы, то только в одном: в создании чего-то произвольного, не необходимого, что могло бы быть, а могло бы не быть. То есть в дополнении к необходимости. Это, как мы можем видеть, и осуществляется в игре, выстраивающей новые, произвольные ограничения над остающимися незыблемыми природными законами. Возможно, отсюда и проистекает удовольствие: удовольствие от освобождения, даримое произвольностью. Но если животные, должно быть, играют лишь иногда, то есть лишь иногда парят над необходимостью, то люди, по мнению Хейзинги, играют всегда – какими бы серьезными и трагическими ни были их действия, какими бы жестокими ни были устанавливаемые правила. Культура – это скорее система запретов, грозная, временами, казалось бы, подавляющая система. Однако это система произвольных запретов, в которых нет естественной необходимости. И именно поэтому культура – это воплощение свободы. Она является игрой без того, чтобы каждый конкретный индивид знал, что это игра. Но в качестве игры надстраивает себя над миром природы как человеческий мир. И тогда, как ни странно, следование культурным запретам и условностям скорее, чем уклонение от них в угоду естественным желаниям, способно сообщить человеку ощущение свободы. Следование же желаниям возвращает в сферу необходимости, причем чем естественнее желания, тем больше давление необходимости – вплоть до скатывания к полной дикости. Одичать, по сути, значит выйти из же и строгая эмпирическая необходимость поведения совместима с трансцендентальной свободой». (Шопенгауэр А. О свободе воли. С. 369). 106 К. Ясперс, в своей экзистенциалистской интерпретации истории, возвращает ей цель и смысл – но теперь эта цель уже не задана изначально, но формируется самим процессом ее развития, как и у Ж.-П. Сартра человек полагается не наделенным изначальной сущностью, но тем не менее выступает как направленный проект – проект в будущее, в котором он сам творит себя и свой моральный выбор так же, как творят произведение искусства. игры: отказаться следовать условностям культуры. Можно заметить, что подобная интерпретация удовольствия от игры вновь возвращает нас к структуре моральной философии Канта, где свобода есть следование внутренне осознанному долгу в противовес склонности. Однако в конце своей работы Хейзинга отмечает постепенное сужение сферы игры в современном мире, становящемся все более серьезным, а также все более диким, все более похожим на мир природы. Здесь мы можем увидеть перекличку с уже упоминавшимися сетованиями К. Н. Леонтьева. Произвольные и, возможно, именно потому эстетичные старые ритуалы, сходят на нет под давлением необходимости экономических законов, которые по своей неотвратимости не уступают естественным. Можно сказать, что капиталистический мир и отличается тем, что снимает с их действия изящные покровы, которыми окутывало их архаическое сознание. И все это, как кажется, не оставляет места для игры, а вместе с ней и для эстетики, для красоты, для собственно культуры. Однако мы можем видеть вновь ту же картину рефлексивной утопии: когда культура была игрой, она не осознавалась как игра. А значит, будучи структурированной как игра, она, тем не менее не доставляла в чистом виде того удовольствия от чувства свободы, которое, как мы пытались показать, свойственно игре. Что может быть произвольнее по своей структуре и порабощеннее по своему сознанию, чем предельно ритуализированное первобытное общество? Как и в случае с эстетикой: там нет места для игры, поскольку всё есть игра. В то же время упадок игрового начала в современном мире, связанный с господством рынка, с отказом от роскоши (с тем, что М. Вебер в свое время продемонстрировал как следствие воздействия протестантских идеалов), сопутствует также и осознанию игрового элемента в культуре, осознанию той свободы, которая прежде составляла структуру человеческой жизни. Теперь она оказывается осознанным фактом и, таким образом, интернализируется. Свобода становится не внешним проявлением, а внутренним свойством, более не нуждаясь в необходимости воплощать себя, также как мистическая вера протестантизма не нуждается в особой обстановке, особом языке или особых сопутствующих ей действиях. Но тогда возникает впечатление, что история, 53 понятая как «прогресс в сознании свободы», история культуры в целом, ведет к завершению культуры, где последняя, со всем ее искусством, ритуалами, традициями становится чем-то попросту ненужным: не более чем временной экстернализацией невоплотимой субъективности, необходимой лишь затем, чтобы последняя могла в ней как в зеркале познать самое себя. Процесс интернализации можно назвать также демифологизацией: то, что прежде наделялось независимым существованием, мыслилось как отдельная сущность, признается внутренним фактом сознания. Миф о «внешнем» мире, о «внешних» смыслах, о «внешнем» Боге отвергается. Что выявляет как бы саму сущность человеческого, прежде скрывавшуюся в символических действиях. Эта демифологизация обусловливает порыв к освобождению от любых правил и условностей, а фактически – от символизации в целом, которая отныне вся определяется как узкая сфера эстетического, формального, условного. Вся культура, вся специфически человеческая деятельность, осознается как произвольная, условная, эстетическая. Потому и происходит упадок эстетики в жизни: во все эти формы можно «поиграть», но реальной необходимости в них, как теперь видно, нет. Однако тем с большим энтузиазмом и самозабвением в демифологизированном мире человек начинает придаваться тому, что, как он прекрасно знает, есть только игра: искусству, спорту, моде, просто развлечению. Сфера «необходимости» и сфера «игры» осознаются как раздельные, и только в этих условиях игра может утвердиться как таковая, даря радость через сознание себя играющим. В то же время, чем более условной и субъективной признается игра, тем, меньше у нее шансов на то, чтоб наполнить собою «реальную жизнь». Потому вместе с осознанием внутренней свободы возникает и осознание невозможности реального освобождения, сознание тотального детерминизма. Это противоречие всегда обнаруживается в основаниях пессимистической критики, неизбывной тоски, характерной для постмодерна. «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ» В ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА Однако прежде, чем перейти к разговору об этой критике, стоит рассмотреть ряд других, связанных с только что описанной, специфических характеристик культурной ситуации XX в. «Именно способ подхода к решению проблем, а не то, в чем конкретно они заключаются, закрепляет их за данной эпохой… “Методика” решения (или трактовка) проблемы начинается с ее первоначального выражения в виде вопроса… В философии такая расстановка проблем является самым важным вкладом какой-либо школы, направления или эпохи. Это и есть “гений” великой философии; в его свете возникают, господствуют и умирают системы. Следовательно, философия больше характеризуется формулированием своих проблем, а не решением их. Ее ответы устанавливают строгую систему из фактов, но ее вопросы создают структуру, в которой из фактов вычерчивается картина. Вопросы создают больше, чем структуру, они задают точку зрения, дают палитру, стиль, в котором рисуется картина, - все, кроме объекта. В основе наших вопросов лежат принципы анализа, и наши ответы могут выражать все, что эти принципы способны дать»107, – так говорит в начале своей знаменитой работы «Философия в новом ключе» (1969) С. Лангер, ученица неокантианца Э. Кассирера, развивающая его концепцию «символических форм» и выводящая на первый план среди проявлений человеческой активности язык. В той же книге она утверждает, что «по-видимому, нет никаких простых, аморфных или несовершенных языков, какие, например, естественно было бы обнаружить у людей с низким уровнем культуры. Народы, которые еще не изобрели текстиль, которые живут под крышами из сплетенных ветвей, все еще не испытывают потребности в частной собственности и не знают никакой безнравственности, хотя и жарят на обед своих врагов и, при всем этом, несмотря на свои безобразные пиры, общаются на языке столь же грамматически правильном, как греческий, и столь же беглом, как французский. С другой стороны, животные совершенно не имеют речи…»108 Здесь, а не где-либо, проходит граница: в способности к символизации. В ней Лангер видит главное отличие человека от других живых существ и главный признак наличия сознания. Все остальное в человеческом мире, или в «мире культуры» 54 зависит уже от способности к символизации, все порождается ею, конституируется ею. Символизация проводит границу между миром природы и миром культуры, формирует этот мир, задает его принципы, его первоначало, его «архэ», далее которого уже невозможно идти, так как все, о чем бы мы ни говорили, мы говорим в языке, и выйти за его пределы мы уже не можем. Нельзя не заметить, что этот ход мысли является в большой степени самореференциальным. Способ вопрошания, описываемый Лангер как основа любого философствования, является основой, в первую очередь, ее собственного философствования, поскольку ее философствование выстраивает себя как анализ способа вопрошания. Причем речь идет скорее об анализе структуры, чем об анализе содержания. Можно сказать, что это и есть новый вопрос, формирующий новую картину мира, продуцирующий новые системы, дающий «новую палитру» и новый «стиль». Но это такой вопрос, который впервые сам оказывается предметом собственного вопрошания. Лангер ссылается на Сократа как на создателя новых вопросов в античной Греции, что заставляет отсчитывать от него начало движения современной философской мысли, поскольку вместо вопроса «каков мир?» он ставит вопрос «как можно познать, каков мир?», а вместо вопроса «какой ответ истинен?» – вопрос «что такое истина?»109 Но современный вопрос оказывается вопросом о вопросе. И тогда впервые все множество вопросов, вызывающих к жизни те или иные возможности ответов, становится предметом внимания, изучения, вопрошания. Тогда возникают разнообразные возможности для развития и применения этого нового вопроса. Так, к примеру, это возможность изучать чужие вопросы как именно чужие, другие вопросы, другие способы мысли, другие парадигмы, изучать их структуру и структуру их отличия, а также изучать структуру собственной мысли. Любой Лангер С. Философия в новом ключе. Исследование символики разума, ритуала и искусства / Пер. с англ. с. П. Евтушенко. М., 2000. С. 9-10. 108 Там же. С. 94-95. 109 Там же. С. 12-14. 107 вопрос о предмете будет немедленно переводить нас к вопросу о структуре: о структуре выражения мыслей о том или ином предмете, структуре возникновения мыслей, структуре возможности в принципе помыслить тот или иной предмет или о структуре зависимости того или иного предмета от структуры мыслей о нем. На этом этапе все попадает в силки анализа структуры вопроса, то есть анализа структуры языка на котором мы говорим. В философских дискуссиях ХХ в. стало заметно выдвижение проблемы языка на первый план. Он, фактически, сменяет в роли центра философского интереса и бытие, и сознание. Однако как и разум в классический период европейской мысли, или вера в Бога в мысли средневековой, он явился не столько единственным или основным предметом рассуждения, сколько некоторым определяющим понятием, парадигмальным ядром современной мысли. Потому, быть может, следует говорить не столько о философии языка как об одном из ведущих философских направлений ХХ в., сколько о развитии философии, лингвистической по существу, о чем бы она ни вела речь. Философия науки одной из первых обратилась к логическому анализу и практически полностью была поглощена лингвистической проблематикой. В антропологии и этнографии со времен К. Леви-Стросса, в психологии со времен фрейдовского психоанализа, метафора текста, чтения, расшифровки языковой структуры определяет исследование и общества, и культуры и интимной психической жизни человека. Текстуальный подход главенствует в искусствознании, где любая художественная форма трактуется как язык. Для моральных рассуждений современности также главным вопросом является диалог, общение, коммуникация. Австралийский исследователь современной философии Дж. Пассмор, сопоставляя такие разные течения ХХ в. как аналитическая философия, структурализм, герменевтика, постструктурализм и т. п., показывает, как все они непрерывно вращаются вокруг проблемы языка. Преимущественный интерес Пассмора обращен к аналитической традиции, где философия языка, или так называемый «лингвистический поворот» в философии110 приобретают наиболее систематическую оформленность. «Философия языка …привлекла к себе 55 …поразительное количество наиболее талантливых философов. В действительности, “язык” стал ключевым понятием в послевоенной культуре в целом, подобно тому как “атом” был таким понятием в XVIII в. и “развитие” в XIX в. Даже главные научные открытия этого периода не обходились без таких понятий как “код” и “транскрипция”; выходили книги о “языке архитектуры”. Эта волна увлечения языком была столь мощной, что большинство философов даже не утруждали себя обоснованием своей веры в то, что язык служит надлежащей отправной точкой для философского исследования, точно так же, как их предшественники-эмпиристы спокойно предполагали, что начинать нужно с восприятия»111, – пишет Пассмор, ссылаясь также на суждение радикального философа-аналитика М. Даммита, полагающего, что «пока мы не поймем, что представляет собой наш язык, с помощью которого мы постигаем мир и без которого поэтому для нас не существует мира, до тех пор наше понимание всего остального будет неполным»112. В аналитической традиции эта мысль действительно явилась базисной. Основатель Венского кружка М. Шлик говорил: «Я убежден, что сейчас мы переживаем решающий поворот в философии»113. Слова произносятся в работе, так и озаглавленной: «Поворот в философии», и речь идет о становлении логического анализа языка. Причем этот поворот, по мнению Шлика, призван положить конец «бесплодному конфликту систем», так как не существует каких-то специфических «философских проблем». Философия – способ рассуждать о чем угодно. И он надеется, что ввиду происходящего поворота «не будет необходимости обсуждать какие-то «Лингвистический поворот» – термин Г. Бергмана, ставший известным и общеупотребимым благодаря названию сборника, отредактированного Р. Рорти – «Лингвистический поворот. Исследования философской методологии» (1967) 111 Пассмор Дж. Современные философы / Пер. с англ. Л. Б. Макеевой. М., 2002. С. 83-84. 112 Слова из работы «Оправдание дедукции» (1973). Цит. по: Пассмор Дж. Современные философы. С.84. 113 Шлик М. Поворот в философии / Пер. И. В. Борисовой, А. Л. Золкина, А. А. Яковлева // Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993. С. 29. 110 особые “философские проблемы”, ибо можно будет по-философски говорить о каких угодно проблемах, т.е. обсуждать их ясно и осмысленно»114. «Ясно и осмысленно» не нужно, как представляется, понимать в смысле логического анализа и научного метода. Речь равным образом может идти о любом прояснении: философия понимается как нацеленная на последовательное критическое прояснение любых возможных понятий, из которых составлен наш язык и наш опыт. В этом смысле философия не только обращается к анализу языка, но и раскрывает наше, часто неосознанное, пребывание в языке. То, что в обыденном применении остается замкнутым и темным, разделяя чуждые друг другу сознания, для философского дискурса просветляется и выносится на суд. Конфликт систем, упоминаемый Шликом, – фактически, конфликт метафизических систем, – все равно что конфликт различных древних мифологий, одни из которых рисуют бога зоо-, а другие – антропоморфным и т. п., не задумываясь еще о самом понятии Бога. Эта недодуманность разъединяет, лишает возможности к диалогу. В то время как философия есть сама диалогическая возможность в чистом виде, а логический анализ языка просто выводит эту возможность на первый план. В такой постановке вопрос о языке переводит нас к вопросам коммуникации и социального взаимодействия, к вопросу построения диалога. Очевидно, на принципах рациональности, поскольку только последняя способна исполнять эту проясняющую функцию. Такой подход объединяет представленные мысли Шлика (и аналитическую традицию в целом) с теорией коммуникативного действия, предложенной Хабермасом, которая также базируется на опыте лингвистических концепций. Обращение к языку знаменует собой, для Хабермаса, выход за пределы философии субъекта, и в этом смысле разрыв с классической новоевропейской философской проблематикой, но не с самой новоевропейской формой рациональности, поскольку «субъект-центрированная концепция разума не способна произвести способы примирения противоречий, обнаруживаемых в современном обществе, ввиду ограничений, свойственных лишь самой философии субъекта, скорее чем любых ограничений, которые вытекали бы из рациональности Просвещения»115. Можно увидеть, что лингвистическая проблематика развивается в прямой связи с процессами 56 изменения, происходящими в рамках европейской субъективистской парадигмы. Все большая субъективизация знания приводит к радикальному сдвигу философского вопроса от вопроса о бытии мира (которое теперь оказывается недоступным для познания) к вопросу о способах говорить о нем. Но вопрос о способах говорить ведет к преодолению субъективизма через выход в пространство интерсубъективности. Любопытную идею относительно интерсубъективности высказывает американский литературовед Т. Иглтон. Рассуждая о фактическом тупике, в котором оказывается субъективность, ставшая принципиально неопределимой и непознаваемой, – о тупике, с которым сталкивается философия Канта, где субъект замкнут в себе, а возможность какого-либо внешнего знания отрицается, – он обнаруживает, что единственная сфера, где устанавливается подобие возможности диалога – это сфера способности суждения, апеллирующая к «общему чувству». По Иглтону, способность суждения возводит мост не только между сферой познания и желания, но и мост между разными субъектами: «Для этой цели возможно обратиться к чемуто, что, не являясь в строгом смысле знанием, тем не менее очень на него похоже. Это псевдознание есть то, что известно как эстетическое. Когда, по Канту, при вынесении эстетического суждения мы сталкиваемся с тем, что можем согласиться, что нечто является прекрасным или возвышенным, мы практикуем замечательную форму интерсубъективности, превращающую нас в сообщество чувствующих субъектов, соединенных общими способностями»116. Соединение этой коммуникативной проблематики с эстетикой для нас особенно важно, так как мы уже видели: красота предмета становится итогом оценки с точки зрения субъективного удовольствия, возникающего в результате свободной, и потому непредсказуемой, игры Там же. С. 33. Braaten J. Habermas’s Critical Theory of Society. N. Y. 1991. P. 118. (Пер. с англ. наш. – С. Н.) 116 Eagleton T. Ideology of the Aesthetic. USA, 1990. P. 75. (Пер. с англ. наш. – С. Н.) 114 115 познавательных способностей, в тот момент, когда обобщающая сила рассудка терпит крах. Кантовское «общее чувство» обусловливает возможность сообщения – однако на совершенно новом, уровне: не на уровне абсолютной достоверности, строгой объективности, но именно на уровне интерсубъективности. Красота становится ценностью. Это открытие принадлежит концу XIX в. и, вероятно, наибольший вклад в развитие понятия ценности вносит неокантианство. Вслед за красотой ценностная сфера распространяется на всё, что зависит от направленного на него сознания. Так Э. Кассирер, говорит о ценностной природе познания вообще и о тотальности символизации117. Фактически ценности – это новый способ обобщения в отсутствие онтологических и рациональных оснований. Ценности творятся людьми и имеют свой источник в оценке – но при этом все же способны давать нам общее знание. Можно сказать, философия ценностей преодолевает кантовскую «субъективную всеобщность» эстетического суждения, переакцентируя значимость частей этого словосочетания: ценность в основе своей случайна и индивидуальна, она выражает индивидуальную интенцию, но на этот раз – всего человечества. Здесь «всеобщность» меняет свое значение с «абсолютного» на «общечеловеческое». Если, беря за основу терминологию Лангер, на смену вопросу о бытии мира в XVII в. пришел вопрос о познании, то после критики и ограничения разума вопрос о познании постепенно сменился вопросом о ценности. И значит можно было бы говорить, в первую очередь, об «аксиологическом» повороте. Но удивительным образом вопрос о ценностях оказывается связанным с вопросом о языке – несмотря на то, что первый порыв «лингвистического поворота», если полагать, что начало ему положил логический позитивизм, был направлен как раз против «ценностных» высказываний. Тем не менее постепенно в самом аналитическом рассуждении сфера того, о чем можно было, по Витгенштейну, «сказать точно», сузилась практически до нуля, и вопрос о точной передаче информации о мире полностью растворился в вопросе о коммуникации между членами сообщества. В итоге, если знание о мире каким-либо способом достижимо, то только через посредство некой формы выражения, материального носителя, который являет собой сообщающее звено, носитель смысла и, одновременно, непреодолимый разрыв в его постижении. Вопрос о языке – это вопрос, в первую очередь, о формальной структуре носителя, о средстве сообщения скорее, чем о его содержании. И в таком виде этот вопрос также имеет непосредственное отношение к эстетике – в той мере, в какой эстетика имеет дело не только с неким родом чувственного удовольствия, но является исследованием формы скорее, чем содержания. Весьма существенное обоснование связи эстетики и лингвистики дал в свое время итальянский философ Б. Кроче в работе «Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика» (1902). Фактически, Кроче уже в названии заявляет не менее как тождество эстетики и лингвистики. При этом нельзя забывать, что его концепция оказала достаточно сильное влияние не только на эстетическую, но и на художественную мысль ХХ в. Кроче исходит из следующих положений. Сперва он вполне традиционно разделяет уровни познания на интуитивный и логический. Интуиция производит образы, логика производит понятия. Интуиция относится к сфере искусства, логика – к сфере науки. Интуитивный уровень познания является первичным: возможна интуиция без логики, но не бывает логики без интуиции, возможно искусство без науки, но не бывает науки без искусства. И наконец, обращаясь к исследованию собственно интуитивного уровня познания, Кроче выдвигает свой основной тезис: интуиция тождественна выражению. «Интуировать значит выражать и не значит Интересно что С. Лангер отмечает в символизации существенную эстетическую черту, отличающую ее от тех знаков, которые способны производить высшие животные: у этих последних знаки всегда выступают в качестве симптомов – симптомов определенной эмоции, все знаки «обладают значением, – то есть все они прагматичны или эмоциональны», но «подлинный символ может возникнуть только там, где есть некоторый объект, звук или действие, не имеющие никакого практического значения». Прагматические предпосылки возникновения языка отметаются, и тем самым он приобретает настоящую первичность, непрагматический характер необусловленности. (Лангер С. Философия в новом ключе. С. 105-106.) 117 57 ничего другого (ни больше, ни меньше), как выражать»118. Интуиции вне выражения не существует, поскольку интуиция всегда должна иметь какую-то форму. Разговоры о какой-то независимой возможности существования интуиции пусты. Он допускает, что есть просто ощущение, но оно не имеет ни малейшего отношения к интуиции, а значит и к познанию, и вообще к какой-либо духовной активности. Допустить существование неоформленной интуиции, интуиции без выражения, значило бы допустить существование некой невоспринимаемой скрытой сущности, вещи в себе. Кроче отказывается от этого предположения, полагая, вслед за Гегелем, что сущность является. Тождество интуиции и выражения переформулирует тезис о тождестве сущности и явления, бытия и мышления, но радикализирует его в терминах деятельности – что также вполне соответствует гегельянской мысли. «Дух интуирует только действуя, оформляя, выражая»119, – говорит Кроче. Таким образом, утверждая активность духа, он утверждает тождество производимого духом смысла с выражением его в определенной форме. Неслучайно работа, излагающая, по сути, основы его общефилософской системы, получает название «Эстетика» – ведь сами основы системы оказываются эстетическими. При этом выражение в концепции Кроче оказывается неожиданно равнодушно к материальному носителю. Выражение может быть внутренним. Мало того, выражение (а значит и произведение искусства) – «всегда внутренно; а то, что именуется внешним, уже не есть более произведение искусства»120. Эстетика в принципе равнодушна к материи, занимаясь исключительно формой представления. Но так или иначе это приводит к уже известной нам ситуации: творческая активность художника сводится к сугубо духовной деятельности (такой как самопостижение духа через чувственное явление идеи у Гегеля, или же деятельность «чистого субъекта познания» у Шопенгауэра). Кроче, предполагая превосходство и даже единственность внутреннего выражения, склоняется, как будто, к той же позиции. Однако настаивая на самой выражающей деятельности, на том, что человеку, полагающему, что он обладает огромным богатством внутренних образов, следует пройти через испытание выражения, рассказать об этих образах или взять карандаш и зарисовать их, он подходит к 58 необходимости признания материальной природы носителя. Возвращаясь к кантовскому вопросу о восприятии, Кроче заставляет эстетику колебаться между «идеалистической» философией искусства и настойчивым вопросом о материальной природе выражения. Этот вопрос в равной мере есть и вопрос о языке: что в нем должно быть, в первую очередь, изучено: смысл и значение, материя слова, или же некое структурное единство знака и значения? Феноменологическая эстетика и структурная лингвистика, также развившиеся в начале XX в., при всех разногласиях были едины в том, что разрыв между формой и содержанием установить невозможно. Но именно невозможность разрыва выводит материальную форму на первый план, делая ее структурной основой содержания. Эстетика Кроче устанавливает это единство как тождество интуиции и выражения и совершает как бы два противоположных и в то же время тесно взаимосвязанных, взывающих друг к другу акта одновременно. С одной стороны, он полностью и открыто дематериализует мир, делает его набором интуиций: «Без сомнения, восприятие есть интуиция. Восприятие той комнаты, в которой я пишу, той чернильницы и той бумаги, которые я имею перед собой, того пера, которым я пишу, тех предметов, которых я касаюсь и которыми я пользуюсь, как моими личными орудиями (при чем если я пишу, то значит и существую), все это – интуиции. Но в равной степени интуиций является и образ, проносящийся в данный момент в моей голове… А это значит, что различие между реальностью и нереальностью постороннее внутренней природе интуиции, второстепенно по отношению к ней»121. Здесь Кроче оперирует терминами «реальный» и «ирреальный» – хотя бы уже устанавливая их безразличие для интуиции. Однако, если познание начинается с интуиции, а для интуиции этого различия не существует, то оно вообще не Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика / Пер. с ит. В. Яковенко. М., 2000. С. 21. Там же. С. 18. 120 Там же. С. 59. 121 Там же. С. 13. 118 119 познаваемо, а значит, его для нас нет. Оно может разве что ощущаться как некий факт присутствия – но никаких определений этого ощущения у нас также нет. Постигаемый мир погружается полностью в сферу воображаемого. С другой стороны, говоря о невозможности невыраженной интуиции, Кроче, напротив, полностью материализует мир, настаивая на том, что ничто, что не явлено в какой-либо воспринимаемой форме, не может быть признано существующим. Можно сказать и так: если с субъективной позиции мир есть нечто полностью воображаемое и реальность его недоказуема (хоть, возможно, и ощутима), то с интерсубъективной точки зрения, с точки зрения коммуникации, сообщения (даже если речь идет о сообщении самому себе) воображаемое приобретает статус формальной или символической структуры, позволяющей субъектам вступить в диалог друг с другом. Реальность становится, по сути, коммуникативной реальностью – что и заставляет Кроче отождествлять эстетику как науку о выражении с лингвистикой. Никаких дополнительных аргументов этого отождествления он и не приводит. Интересно, что на протяжение всей его книги об этом отождествлении ничего не говорится, и только в заключении автор вдруг бросает фразу: «остается еще оправдать подзаголовок»122, так, словно бы во всей остальной книге речи о сути подзаголовка не велось. Но ее действительно не велось, и ее не стоило вести, поскольку единственным аргументом Кроче в пользу отождествления эстетики и лингвистики является то, что «для того, чтобы быть наукой, отличной от эстетики, лингвистика не должна бы иметь своим предметом выражение, которое представляет собой как раз эстетический факт, значит, должна бы держаться того мнения, что язык не есть выражение»123. Но он, очевидно, есть выражение. Так что тождество лингвистики и эстетики для Кроче ясно само собой. И если с какой-то стороны оно может вызывать сомнения, то не со стороны лингвистики (никто не сомневается в том, что она говорит о выражении), а именно со стороны эстетики. По причине чего он и посвящает книгу доказательству того, что эстетика говорит о выражении, а не о чем-либо другом. Так что эстетика в этой работе подвергается воздействию «лингвистического поворота». Но с другой стороны, нельзя упустить из виду и то, что, вобрав в себя эстетику, лингвистика и сама сильно 59 эстетизируется. О ПОНЯТИИ МЕДИАЛИЗАЦИИ Если в последние десятилетия речь все чаще заходит о медиафилософии как о существенном и важном направлении философского дискурса, то вероятно причина этого не только в бурном развитии медиатехнологий. Скорее можно предположить, что и медиатехнологии, и медиафилософия берут свои начала в одном и том же источнике. Чтобы говорить о медиафилософии, необходимо, для начала, признать значимость медианосителя в процессе передачи информации. Потому источником проблематики, связанной с медиасферой, может быть назван тот самый «лингвистический поворот», о котором мы только что вели речь. Происходит медиализация всех процессов в человеческом мире, а в первую очередь, медиализация отношения между человеческим миром и тем, что можно назвать «реальностью». Впервые значение придается языку как носителю смысла, посреднику, передатчику информации, а возможность непосредственного проникновения к «реальности» ставится под сомнение. Язык есть медиум, который одновременно обобщает, делает общение, понимание, постижение возможным, – но тем же самым актом разрывает, разобщает и становится непреодолимым препятствием на пути соединения двух сознаний, или сознания и «реальности». Язык-как-средство-сообщения – это непреодолимый разрыв коммуникации в той же мере, в какой и условие ее возможности. Фактически, с тех пор как появилась необходимость в том, чтобы удостоверить существование мира посредством акта мышления и представления, любая вещь утратила статус 122 123 Там же. С. 148. Там же. непосредственности присутствия и превратилась в знак, а философия, исследующая способы постижения этого мира знаков, стала медиафилософией. В работе «Ведение в медиологию» (2000), которая, как следует из заглавия, назначена описать некую новую дисциплину, посвященную именно и специфически изучению медиа, Р. Дебрэ замечает: науку характеризует точка зрения, а не предмет. Любой язык представляет собой вариант медиа-носителя, средство коммуникации, предназначенное для передачи информации. Тем не менее нельзя говорить о филологии, лингвистике или семиологии как о медиологии. Нельзя свести ее к психологии, хотя и здесь речь заходит о коммуникации, нельзя свести ее к социологии, хотя речь идет о социальном феномене 124. Имеется в виду специфический медиологический взгляд на язык, на системы знаков, на общество, на историю, на практику. Взгляд, который предполагает акцентирование проблемы медиа, хотя, казалось бы, медиа существовали столько же, сколько существует человек. Дебрэ полагает, что нельзя свести появление «медиасферы» к простому техническому развитию средств коммуникации, обусловленному прогрессом науки и техники: «чтобы получить феномен передачи, недостаточно продлевать линии связи…, усложнять сеть этих линий…, индустриализировать каналы (печать, радио, телевидение). Критерий состоит не в наличии или отсутствии машинного интерфейса между человеком и человеком, но, наоборот, в наличии или отсутствии интерфейса институционального»125. Медиология интересуется не коммуникацией, а феноменом передачи и «человеком передающим»126. Еще более отчетливо специфику медиасферы определяет другой знаменитый теоретик медиа Н. Луман: «…Решающее значение имеет то, что между отправителем и адресатом не может состояться непосредственная интеракция»127. Таким образом не сама коммуникация составляет сущность медиасферы, а невозможность ее непосредственности, нарушение в коммуникации, которое и обращает внимание на средство коммуникации, на медиа-носитель. Значимость носителя, посредника, или той формы, в которой передается нам содержание 60 сообщения, фиксируется, возможно, наиболее явственно и лаконично в знаменитом тезисе М. Маклюэна: медиум есть сообщение. Здесь совершается двойной поворот в понимании медиа. Первый его виток совпадает с выявлением тех аспектов знака, которые были подмечены еще в начале XX в. Кроче, феноменологами, формалистической критикой и т.п. Это возврат интереса к форме, к риторике текста, к структуре. Хорошо и просто эта мысль выражена у Ю. М. Лотмана: «Исследователь литературы, который надеется постичь идею, оторванную от авторской системы моделирования мира, от структуры произведения, напоминает ученого-идеалиста, пытающегося отделить жизнь от той конкретной биологической структуры, функцией которой она является. Идея не содержится в каких-либо, даже удачно подобранных цитатах, а выражается во всей художественной структуре. Исследователь, не понимающий этого и ищущий идею в отдельных цитатах, похож на человека, который, узнав, что дом имеет свой план, начал бы ломать стены в поисках места, где этот план замурован. План не замурован в стену, а реализован в пропорциях здания. План — идея архитектора, структура здания — ее реализация. Идейное содержание произведения — структура. Идея в искусстве — всегда модель, ибо она воссоздает образ действительности. Следовательно, вне структуры художественная идея немыслима. Дуализм формы и содержания должен быть заменен понятием идеи, реализующей себя в адекватной структуре и не существующей вне этой структуры»128. Форма является носителем содержания, и не бывает содержания без формы, без структуры, в которой она воплощена. Причем следует отметить: эта «форма» – форма отнюдь не в античном смысле, даже если она не является, как у Кроче, непосредственно материализованной. Это не сущность, не идея и не квинтэссенция Дебрэ Р. Введение в медиологию / Пер. с франц. Б. М. Скуратова. М., 2010. С. 221-242. Там же. С. 17. 126 Там же. С. 14. 127 Луман Н. Реальность массмедиа / Пер. с нем А. Ю. Антоновского. М., 2005. С. 10. 128 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. СПб., 1998. С. 24. 124 125 истины бытия вещи: это структура ее строения. Потому даже без воплощения она имеет некоторый чувственно воспринимаемый оттенок. Этот поворот обращает внимание исследователей от содержания, которое должно быть выражено, к его носителю. Должно быть, немецкий идеализм и романтизм одними из первых осуществили подобный акт обращения, но как акт диалектический, предполагающий снятие формы результирующим содержанием. Потому если у Гегеля красота – это чувственное явление идеи, то все же, в конечном счете, важна только идея, и форма может быть устранена, может остаться «в прошлом». В ХХ в. ей придается новый статус: при отсутствии возможности проникновения к сущности вещей как таковой, мы всегда имеем дело лишь с выражением. Без возможности прийти в непосредственный контакт друг с другом и с миром, мы всегда нуждаемся в средстве передачи. Это средство – и помощник, и препятствие одновременно, и носитель смысла и его разрушитель. Это мост, который не нужен, когда нет пропасти, над которой его можно возвести. Ориентация исследований на язык как на формальную структуру есть ориентация также и на тот, уже отмеченный нами, разрыв в коммуникации, который впервые делает коммуникацию заметным и значимым феноменом. Но маклюэновский тезис не останавливается на этом. В нем говорится гораздо больше, а именно: что сам медиум, сам посредник, сама форма является содержанием сообщения. Здесь, пожалуй, утверждается уже не неразрывность формы и содержания, или, в, терминах Кроче, тождество «интуиции и выражения», здесь утверждается их новый, и, возможно, более фатальный разрыв. Ведь это значит, что независимо от того, какое содержание мы хотели выразить, и насколько преуспели в этом, независимо от того, что открыто сообщает «носитель», сам он, сама форма, сообщает нечто сверх и помимо того: помимо интенции, помимо воли. «Медиум есть сообщение» значит не только: «информация передается всегда только в какой-то форме и зависит от нее», но и: «сама форма передает нам некую информацию». Референциальная функция медиума вовсе не отвергается, но возникает подозрение, что информативный смысл медиа-носителя не ограничивается референцией. Если первый поворот можно было назвать феноменологическим, то второй является скорее 61 структуралистским или психоаналитическим. Так, по Фрейду, если во сне или в рассказе мы имеем дело с сюжетом и образами, то для психоаналитика, как и для структурного антрополога, имеет значение не сам этот сюжет или эти образы, но исключительно то (причем до мельчайших деталей), как они выстроены, структура их построения, последовательности, повторения, упоминания, которая ускользает от внимания рассказчика, но бессознательно управляет им, проявляя то, о чем он не подозревает. Психоаналитик может вовсе не вникать в видимую форму рассказа, создающую его формально-содержательное единство, а структурный антрополог может не вникать в сюжет древнего мифа, сразу переходя на «невидимый» уровень, где сама форма есть сообщение – причем принципиально другое сообщение, нежели то, которое, казалось бы, несли в себе явные особенности сказанного. Американский литературовед П. де Ман определяет это различие как напряжение между референциальной и риторической структурой текста. Но мы сперва обратимся к более простому случаю расхождения, связанному с самой по себе проблемой риторики, или, уже, с проблемой фигуральной речи. Философ-аналитик Дж. Серль в работе «Выражение и значение» (1979) пишет: «Простейшие случаи значения – те, в которых говорящий произносит предложение и имеет в виду точно и буквально то, что он сказал. В этих случаях говорящий намеревается произвести определенный иллокутивный эффект в слушателе, и намеревается произвести этот эффект, заставляя слушателя понять его намерение произвести его, а также намеревается заставить слушателя понять это намерение благодаря его осведомленности о правилах, которые управляют произнесением этого предложения. Но очевидно, не все случаи значения так просты: в намеках, инсинуациях, иронии, метафоре – это лишь несколько примеров – значение высказывания говорящего и значение предложения расходятся различными путями»129. Здесь Searle J. R. Expression and Meaning. Studies in the Theory of Speech Acts. Cambridge univ.press. 1979. P.30. (Пер. с англ. наш – С. Н.). Две статьи, вошедшие в книгу Серля «Выражение и значение. Исследование теории речевых 129 Серль, с одной стороны, определяет основную стратегию своего подхода к анализу значения, основанную на выявлении намерения говорящего (при возможном расхождении между этим намерением и буквальным значением предложения). С другой стороны, он явно утверждает: при построении таких конструкций, где буквальное значение расходится со «значением говорящего», говорящий намеревается сказать и говорит больше, чем могло бы выразить буквальное предложение. Форма построения предложения, использующего тропы и фигуры речи, сообщает слушателю еще что-то плюс к буквальному значению (независимо от того, входит ли это в намерение). То есть мы должны понять как бы сразу два смысла, один из которых не может быть выражен в буквальном высказывании. Таким образом, форма высказывания, даже поверх буквальных значений слов, оказывается смыслопорождающей. Это заставляет Серля обратиться к логическому исследованию риторики и анализировать соотношение и взаимодействие между буквальным и фигуральным значением в риторических высказываниях. Его занимает вопрос: «Почему мы употребляем метафорические высказывания вместо того, чтобы точно и буквально сказать то, что мы имеем в виду?»130 Теория речевых актов, развиваемая Серлем вслед за Дж. Остином предполагает, что в языке есть определенные, не только «эмотивные», но формальные, поддающиеся конкретному исследованию структуры, позволяющие «осуществлять действия при помощи слов». Свой подход к языку Серль определяет так: если кто-то «воспринимает некоторый звук или значок на бумаге как проявление языкового общения (как сообщение), то один из факторов, обусловливающих такое его восприятие, заключается в том, что он должен рассматривать этот звук или значок как результат деятельности существа, имеющего определенные намерения»131. И в таком случае в качестве главного требования и критерия в ходе коммуникации для Серля выступает требование искренности. Расшифровывая небуквальное высказывание мы вынуждены расшифровывать намерение говорящего, которое выражено в некой заведомо двойственной форме, определяемой резонансом, возникающим между буквальным и фигуральным пониманием высказывания. Серль отмечает, что ввиду такой структуры метафоры «не поддаются перефразированию, так как, не используя метафорическое выражение, мы не можем воспроизвести семантическое 62 содержание, которое участвует в процессе понимания высказывания слушающим»132. В парафразе мы можем воспроизвести условия истинности – но «выразительная мощь» метафоры заключается в том, что слушающий должен, во-первых, произвести активную работу по обнаружению намерения говорящего (то есть восприятие превращается из пассивного в творческое), а во-вторых, достигается это не через одну семантическую идею, как при буквальном высказывании, а сразу через две. Сочетание двух содержаний придает большую выразительность высказыванию. Серль выстраивает своеобразную схему расшифровки метафоры, начинающуюся с ее обнаружения и применяемую для раскрытия подлинного намерения говорящего. Однако если намерение говорящего и намерение предложения действительно способны расходиться, как говорит Серль, разными путями, то всегда остается возможность не только того, что говорящий намеревался сказать ложь, но и того, что значение предложения превосходит намерение говорящего, и действие, совершаемое при помощи его слов, оказывается выходящим за рамки его интенций. Это утверждение не затрагивает проблемы отношения сказанных слов к личным устремлениям того, кто их произносит, поскольку намерение говорящего и намерение предложения с лингвистической точки зрения представляют собой не более чем структурные элементы высказывания. Однако внутрь этой структуры закрадывается двойственность, так что некоторая часть формальных элементов оказывается актов» были переведены на русский язык и опубликованы в следующих изданиях: Глава 3 «Логический статус художественного дискурса» – в журнале «Логос» (1999, №3 (13)); Глава 4. «Метафора» – в сборнике «Теория метафоры» (1990). 130 Серль Дж. Метафора / Пер. с англ. В. В. Туровского // Теория метафоры. М., 1990. С. 307. 131 Серль Дж. Что такое речевой акт / Пер. с англ. И. М. Кобозевой // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М., 1986. С. 151. 132 Серль Дж. Метафора. С. 340. говорящей нечто как бы сама по себе, безотносительно к основной логико-информативной структуре предложения. Но еще более парадоксальную двойственность Серль обнаруживает в структуре «художественного дискурса» – высказываний о вымышленных объектах. Такими высказываниями полна художественная литература, но сфера их применения не полностью совпадает со сферой искусства. В произведениях литературы всегда есть большое количество высказываний, не содержащих в себе вымысла, но искренне сообщающих действительную позицию автора относительно положения вещей. С другой стороны, не-художественный дискурс также весьма часто прибегает к вымыслу. Для Серля деление высказываний происходит по грани: делаются ли они автором серьезно (с намерением сообщить истину о мире или же с намерением ввести в заблуждение), – или автор не претендует на то, что его высказывание каклибо относится к положению дел в мире. Проблема состоит в том, что высказывания последнего рода не являются ни истинными, ни ложными, они вообще не соотносятся с вопросом об условиях истинности, притом что не перестают от того быть понятными. Они нарушают все правила действия языка, и при этом свободно в нем функционируют и свободно определяются как вымысел. «Используя Витгенштейнов жаргон, – говорит Серль, – можно сказать, что рассказывание рассказов на самом деле представляет собою особую языковую игру»133. Витгенштейн же неслучайно отмечал наше свободное владение языковыми играми, беспрепятственный переход от одной к другой в процессе коммуникации. Переход настолько привычен и свободен, что представляется очевидным. Мы привыкли слушать сказки и читать романы и опознаем их без труда, когда с ними сталкиваемся. Однако очевидность не всегда является тем, что упрощает решение задачи, скорее это именно то, что более всего препятствует ему. Серль отводит высказываниям о вымышленных объектах, как и фигуральной речи, второе место в процессе серьезной коммуникации. Мало того, в стиле логического позитивизма, он не признает за ними не только равноправия, но и действия по нормальным принципам языкового функционирования: «Эта языковая игра не полностью аналогична иллокутивным языковым 63 играм, но паразитирует на них»134. Они во всем похожи на обычные высказывания, они могут быть сказаны совершенно буквально, с предельной ясностью и четкостью. Но что-то делает их не такими как остальные высказывания языка. И это единственное «нечто», что их отличает, есть вновь всего лишь намерение говорящего. Серль называет такие высказывания мнимыми высказываниями, которые, в отличие от серьезно делаемых заявлений, действуют «понарошку», делаются не всерьез. Это не высказывания в полном смысле слова, а лишь «как если бы» высказывания. При письме их можно было бы выделить курсивом или другим цветом – однако в остальном их понимание производится как если бы они были высказываниями обычного языка. Причем оказывается, что единственная возможность для слушателя/читателя определить их именно как «мнимые» и не сделать интерпретационной ошибки – это знание контекста, в котором соответствующее высказывание делается. Читая газетную статью, мы будем ожидать, что автор говорит всерьез, между тем, читая роман, мы ожидаем, что описанные события не имеют отношения к действительности – и никакой путаницы не возникает. Автор серьезного текста, переходя к вымыслу, может предупредить нас об этом, чтобы не ввести в заблуждение. Автор художественного произведения также использует определенные риторические приемы, указывающие читателю на переход к серьезному дискурсу. Но не удивительно, что данная проблема для Серля представляется такой острой: ведь именно в современное его рассуждениям время стали все чаще возникать тексты и произведения, явственно нарушающие этот конвенциональный договор. Всегда существует возможность перепутать это «выделение цветом»: перепутать контексты. Искусство ХХ в., а особенно искусство постмодерна все чаще стало выстраивать себя на нарушении этих соглашений. При этом доминирующим оказался не серьезный дискурс, соответствующий «действительности», но напротив, дискурс, построенный Серль Дж. Логический статус художественного дискурса / Пер. с англ. А. Д. Шмелева // Логос. 1999, №3 (13). С. 40. 134 Там же. С. 40-41. 133 по принципам «как если бы»: любой текст может быть переведен в разряд «как если бы» сообщения, если мы утрачиваем правила определения невымышленной, серьезной реальности. Прекрасный пример колебания на грани между серьезным и «как если бы» дискурсом приводит сам Серль: Предположим, я скажу: “Миссис Холмс никогда не существовала, поскольку Шерлок Холмс никогда не был женат, но миссис Ватсон существовала, поскольку Ватсон был женат, хотя миссис Ватсон умерла вскоре после того, как они поженились”. Является ли то, что я сказал истинным, или ложным, или лишенным истинного значения, или каким-то еще? <...> В качестве утверждения о художественном произведении вышеприведенное высказывание удовлетворяет конститутивным правилам делания утверждений. Отметим, например, что я могу верифицировать вышеприведенное утверждение, справившись в произведениях Конан-Дойла. Но не может возникать вопрос о том, способен ли Конан-Дойл верифицировать то, что он говорит о Шерлоке Холмсе и Ватсоне, когда он пишет рассказы, так как он не делает о них никаких утверждений, а только притворяется, что делает их. Но поскольку автор уже создал этих вымышленных персонажей, мы со своей стороны, можем делать о них как о вымышленных персонажах истинные утверждения135. Помимо колебания между типа дискурса здесь наличествует колебание между типами объектов, поскольку наше знание о принадлежности тех или иных утверждений к тому или иному типу дискурса зависит от нашего знания о статусе объекта, относительно которого делается утверждение. Далее Серль продолжает: Точно так же, как в предложении в целом, [автор] притворяется, будто делает утверждение, в этом отрывке [он] делает вид, что осуществляет референцию (другой речевой акт). Одно из условий успешного осуществления речевого акта референции состоит в том, что должен существовать объект, к которому говорящий осуществляет референцию. Таким образом, делая вид, будто [он] осуществляет референцию, [он] делает вид, будто существует объект, к которому можно осуществлять референцию136. 64 Осуществление референции – это речевой акт, и стало быть, во многом, внутриязыковая проблема. С другой стороны, это речевой акт, предполагающий существование объекта, к которому осуществляется референция. Однако сам вопрос о верификации истинности референции, то есть о нашем знании о том, существует или нет соответствующий объект, Серлем связывается вновь с языком. В одном из интервью он объявляет: «Язык, а в особенности письменный язык, формирует знание. Он делает эмоциональную жизнь человека возможной… Люди не рождаются со знанием о том, как жить в качестве человеческих существ. Они должны учиться как жить в качестве человеческих существ. Большая часть этого обучения – на самом деле, практически все их обучение, – происходит посредством языка»137. Но если наши знания и наши эмоции, наша память, и сам человек как человек, создается языком, то каким оказывается в итоге статус на этот раз уже не вымышленного, но реального объекта? Возвращаясь к уже упомянутой позиции П. де Мана, начнем с цитаты. В работе «Сопротивление теории» (1982) он говорит: «Литература – вымысел не потому, что она по каким-то соображениям отказывается признать действительность, но потому, что не существует априорной уверенности, что язык функционирует по принципам, тождественным или хотя бы близким к тем, что лежат в основе действительности. Поэтому невозможна априорная уверенность в том, что литература может дать нам знание о чем-либо, кроме собственного языка»138. Основное подозрение де Мана заключается в том, что весь язык так или иначе Там же. С.43. Там же. С.44. 137 Searle J.R. Language, Writing, Mind, and Consciousness. Int. D.Boulton. 2004 // Children of the Code. A Social Education Project / URL: http://www.childrenofthecode.org/interviews/searle.htm (дата обращения – 30.07.09). (Пер. с англ. наш – С. Н.) 138 Ман П. де. Сопротивление теории / Пер. с англ. И. В. Кабановой // Современная литературная теория. Антология. М., 2004. С. 120. 135 136 действует именно как литература, и таким образом любое высказывание имеет, кроме «серьезного», направленного на искреннюю коммуникацию, еще и литературное измерение, которое направлено только на сам язык, и по определению не говорит ни истины, ни лжи, и не соответствует никаким намерениям. В той мере, в какой мы имеем дело с литературным измерением языка, мы не можем решить проблему референции. Риторика же текста, о которой Серль говорит, как о предоставляющей «двойное значение», уже не является частным случаем словоупотребления, но структурной необходимостью любого высказывания. Помимо логико-грамматической структуры, нацеленной на передачу «буквального» значения, любой текст, по де Ману, имеет риторическое измерение. Причем и то, и другое есть элементы структуры текста, то есть соответствуют вопросу о том, как построен текст, и уже через это «как» раскрывается «о чем» текста. Деконструирующий радикализм де Мана, чуждый Серлю с его надеждой на коммуникацию, состоит в том, что, по мнению де Мана, между этими двумя структурами всегда существует противоречие. «Двойное значение» не столько дополняет, сколько подтачивает целостность высказывания и намерение говорящего. Чем сильнее наше намерение выразить что-то, тем меньше у нас возможностей сделать это однозначным образом, и тем больше шансов сказать нечто, понимаемое в строго противоположном смысле. Это саморазрушающее свойство характерно, по де Ману, не только для художественной речи, но присуще языку вообще. Хотя де Ман выступает как литературовед и приходит к своим выводам на основе анализа художественных текстов, итоги этого анализа далеки от простой литературной интерпретации, так как вывод, извлекаемый его анализом, всегда один: фактическая невозможность прочтения. В работе «Аллегории чтения» (1979) он приходит к заключению, что любой текст, о чем бы он ни пытался сообщить на референциальном уровне, на риторическом уровне всегда представляет собой аллегорию собственной нечитаемости. При проявлении некоторого внимания к его риторическим особенностям мы никогда не смогли бы выяснить точно, что именно он нам намеревается сказать, так как языковая структура всегда даст нам возможность вывести из текста по крайней мере две противоположные интерпретации. Тогда если мы все-таки способны 65 читать и понимать тексты и речь друг друга, то это происходит лишь из-за недостаточной внимательности к языку, из-за поглощенности предвзятыми мнениями, контекстуальными убеждениями, социальными договоренностями и прочими в высшей степени ненадежными вещами, которые всякий раз могут оказаться обманом. Словом, мы проявляем определенную «слепоту» – но если мы ее не проявляем, мы не можем читать. С другой стороны, наше «прозрение» состояло бы исключительно в том, чтобы быть «осведомленным» об этой невозможности, об этой заведомой двойственности структуры. Формальный анализ текста превращается, по де Ману, в некий акт остранения, делающий очевидное загадочным и неоднозначным. Но в таком случае проблема различения «литературы» и «серьезного дискурса» оказывается неразрешимой в силу отсутствия структурной (при наличии только весьма ненадежной контекстуальной) возможности отличить второй от первого. Мы можем надеяться на искренность, на понимание, на желание коммуникации. Но у нас нет формальных оснований быть убежденными, что мы не имеем дела с вымыслом, что мы имеем дело не только с языком, не только с медиа, а с действительным положением вещей за его пределами или хотя бы с искренним намерением собеседника сказать правду. Это хорошо выражено в следующем весьма резком в своей ясности рассуждении, описывающем роль симуляции в медиареальности согласно концепции Ж. Бодрийяра: В самом деле, сегодня мы оказались во власти медиа. Идет ли война в том или ином регионе современного мира? Это зависит только от медиа: если нам сообщают, что война имеет место, мы знаем: она есть. Если нам ничего об этом не сообщают, никакой войны нет. Но что же это за война без крови и убитых, ведь перед нами только экран телевизора или печатный (электронный) текст? (Перед нами террористический взгляд на историю, доставшийся французским интеллектуалам в наследство от гегельянства. Так, во время «майской революции» 1968 г. А. Кожев заявил: «Кровь не пролилась, значит ничего и не произошло».) Того, о чем не сообщают по телевидению и о чем не пишут в Интернете, попросту нет. А если в медиа война и происходит, она сводится к чистому зрелищу. Потому Бодрийяр и говорит, что “войны в Заливе не было”. Более того, все это относится и к прошлому: имел ли место Холокост? По-видимому, нет. Вот кинохроники и телепередачи с таким сюжетом периодически завладевают нашим вниманием. Но чем они отличаются от «Звездных войн»? Предупреждением о том, что события Холокоста имели место в реальности, а перипетии «Звездных войн» – нет? Но ведь и то, и другое – тоже всего лишь сообщения, переданные медиа. А в медиа, как мы знаем, «да» и «нет» стоят одно другого. Высаживались американцы на Луне или нет? Разные медиа отвечают по-разному. В итоге единственное, что мы можем утверждать более или менее твердо, – то, что существует сюжет о высадке американцев на Луну. Видеоролик. Точно такой же, как и кинохроники, свидетельствующие о Холокосте, и эпизоды «Звездных войн». А где же истина? Истины, по-видимому, вообще нет139. То, что беспокоит Бодрийяра – невозможность наверняка узнать, сообщают ли нам посредством языка, посредством медиа о реальных или воображаемых объектах. Отсутствие непосредственной телесности, захваченности участием (отсутствие крови) делает для него медиасообщение тотальной симуляцией. Этому критическому порыву своеобразное дополнение в своей теории медиа дает Н. Луман. «То что мы знаем о нашем обществе и даже о мире, – уверенно заявляет он, – мы знаем благодаря массмедиа». В современных условиях, уточняет он, это и есть основной «эмпирический метод» исследования140. «С другой стороны, мы так много знаем о массмедиа, что не можем доверять им… Подобное знание мы характеризуем как сомнительное, и все-таки вынуждены на нем основываться и из него исходить»141. Это нечто вроде «пари Паскаля», предлагающего полагаться на веру в существование Бога в неком игровом акте «как если бы»: если он есть, мы приобретаем всё, но если его нет, мы, по сути, ничего не теряем. Мы можем сказать, полагает Луман, что медиа конструируют реальность, но не можем сказать, что они искажают ее, потому что это значило бы лишь сопоставить одну конструкцию реальности с другой142. Вступив в сферу необходимости «передачи» информации, без возможности непосредственного соприкосновения с ней, мы всё – будь то сообщения в средствах массовой 66 информации, или наблюдения над природой – вынуждены прочитывать как знаки, истолковывать и расшифровывать с некого удаления, создаваемого медиасферой. Или, говоря словами Дебрэ: «Передача представляет собой коммуникацию, оптимизированную посредством тела, индивидуального и коллективного – в двояком смысле “сие есть мое тело” и “крупные корпорации”»143. Это может быть любая передача, на любом уровне: религиозная, духовная, культурная, или же передача от поколения к поколению. Но для медиализированного взгляда это «тело» (или эта интерсубъективная «корпоративность») будет стоять на пути любого понимания как разрыв, как отстранение, делающее общение возможным, но понимание – недостижимым. ДЕКОНСТРУКЦИЯ И КРИТИКА ТОТАЛИТАРИЗМА Внетекстовой реальности вообще не существует Ж. Деррида Во второй половине XX в. философская мысль совершила еще один критический поворот, поставивший под вопрос возможность постижения реальности «за пределами текста». Этот поворот можно назвать «критическим», в первую очередь, в кантовском смысле ограничения притязаний разума, слишком доверявшего себе в способности различить, где язык сообщает нечто о мире, а где мы имеем дело лишь с самой языковой структурой. Его можно назвать Дьяков А.В. Жан Бодрийяр: стратегии радикального мышления. СПб., 2008. С.210. Луман Н. Реальность массмедиа. С. 8, 190. 141 Там же. С. 8. 142 Там же. С. 17. Ср.: «Когда нет мира, правильность не может быть установлена путем отсылки к реальности» (Goodman N., Elgin C.Z. Interpretation and Identity: Can the Work Survive the World? // Critical Inquiry, Vol.12, №33 (Spring 1986). P. 566. (Пер. с англ. наш. – С. Н.)). 143 Дебрэ Р. Введение в медиологию. С. 18. 139 140 «критическим» потому, что он ведет разум к признанию себя самого лишь результатом способов говорить о мире, плодом грамматико-риторических особенностей той ли иной знаковой системы. Но также его можно назвать «критическим», возможно, и потому, что он является необратимым: ведь раз будучи совершен, может ли он быть преодолен без того, чтобы было поставлено препятствие на пути критической процедуры мышления? Эту стадию развития мысли можно назвать деконструкцией. И мы попробуем кратко охарактеризовать здесь то движение, которое к ней приводит, тот контекст, в котором она возникает, и те итоги, к которым приводит она сама. Если все это возможно относительно столь ускользающего предмета. Впрочем, избегая ускользания, мы, в первую очередь, обратимся к деконструкции не в варианте, предложенном Деррида, но в том более «жестком», а в этом смысле и более явном варианте, который предложил ряд его американских коллег и последователей 144. Как мы уже видели, согласно П. де Ману процедура, названная им «точным риторическим прочтением», – то есть тщательный анализ всех структурных элементов текста, – показывает всегда одно и то же: полную семантическую нейтральность языка. «Язык полностью свободен в трактовке референциального значения и может высказать все, что позволяет грамматика»145. Де Ман понимает деконструкцию весьма отлично от Деррида: как технику или прием, разрушающий возможность истолкования, как литературоведческий метод, разбирающий текст на составляющие с такой степенью тщательности, что, в конце концов, мы останавливаемся перед полной несводимостью его структурных элементов в какую-либо целостную картину, кроме картины внутреннего саморазрушения. Казалось бы, не слишком продуктивная процедура. Но, с другой стороны, не стоит ли признать, что если эти противоречивые смыслы и саморазрушающиеся структуры в тексте действительно могут быть обнаружены, – это следует сделать? Ведь иначе мы невольно останемся с неполным, неправильным, односторонним, и, по сути, произвольным прочтением. Если де Ман утверждает, что такова участь и внутренняя необходимость любого текста, то казалось бы, это должно сделать чтение невозможным. Но это далеко не так. Ведь де Ман 67 именно литературовед, и в качестве литературоведа, он пытается продвинуть анализ произведения как можно глубже и дальше. Любое открытие любых смыслов есть продвижение в понимании текста – даже если это продвижение лишает текст смысла. По выражению Дж. Хартмана, «критика делает художественный текст интерпретируемым, делая его менее читаемым»146. Но что значит «делать менее читаемым», если, в конечном счете, различные структуры, сообщающие различные смыслы, обнаруживаются как опровергающие друг друга? Утратим ли мы возможность читать, если для обнаружения этого разрушения мы должны уяснить себе сперва все эти смыслы? Собственно, мы должны прочитать. Но понять, далее, что остановка на любом прочтении произвольна. Зачем это понимать? Чтобы быть осведомленным в этой произвольности, чтобы не принимать ее как нечто данное извне и не винить сам текст – эту нейтральную многогранную и часто хитрую (способную обмануть даже автора) структуру – в той интерпретации, которую сами ему приписали. Цель деконструктивистского прочтения де Ман называет эпистемологической: это чистое познание, познание структуры текста и всего, что из нее можно извлечь, идущее до конца. Но еще более можно было бы ее назвать этической. Как этическую трактует ее Дж. Х. Миллер147. «Пока рассказчик не сотворит из слов персонажей, в которых мы можем верить, и Мы имеем в виду участников так называемого «Йельского манифеста» – как был охарактеризован сборник “Deconstruction and Criticism” (Деконструкция и критика), вышедший в США в 1979 г. Помимо Деррида в нем приняли участие П. де Ман, Дж. Хартман, Дж. Х. Миллер и Х. Блум (последний, впрочем, к деконструктивизму может быть отнесен лишь весьма условно). 145 Ман П де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста: Пер с англ. / Пер. с англ. С. А. Никитина. Екатеринбург, 1999. C. 348. 146 Hartman G.H. Criticism in the Wilderness. Yale Univ. Press, 1980. P. 32. (Пер. с англ. наш. – С. Н.) 147 Де Ман, Миллер, Хартман – все являются коллегами по литературоведческой школе деконструкции, возникшей в конце 60-х гг. в Йельском университете, хотя впоследствии их пути пошли в совершенно разные стороны. Работы Миллера, о которых идет речь, относятся к значительно более позднему периоду. 144 которые будут казаться живущими независимой жизнью, мы не заинтересуемся рассказом»148, – говорит он. Пока мы не увидим в словах чего-то такого, во что можно поверить как в реально существующее, нас эти слова не заинтересуют. Поэтому основную работу, посвященную «этике чтения» Миллер называет «Версии Пигмалиона»: любой рассказ для него представляет собой нечто вроде попытки оживить каменную Галатею, наделить реальностью словесные образы. «Речевые акты творят не реальный мир, но воображаемый лингвистический мир»149, – полагает он, однако, несмотря на это, они «имеют тенденцию материализоваться в реальном мире этическими, социальными и политическими способами»150. Потому задача деконструкции, выявляющей неоднозначность структур и смыслов, является этической: напомнить, что перед нами рассказ, а не реальность и что этот рассказ может быть проинтерпретирован множеством разных образов, исходя из его нарративных структур, не всегда совпадающих со структурами реальности: «Текст может быть прочитан так, а может быть прочитан иначе, но сам он не оправдывает читателя ни в выборе одного из этих [прочтений], ни в примирении их в неком диалектическом единстве»151. Но именно это понимание, обнаружение зазора между текстом и реальностью, нарушение однозначности интерпретации – и есть то единственное, что делает чтение возможным, ведь в противном случае оно не было бы чтением. Чтение, то есть понимание текста, возможно только на некотором расстоянии, в ситуации некоего обособления (о котором как о свойстве медиа говорил также Луман): «Чтобы стать текстом, референциальная функция должна быть радикально неопределенной»152 Задача искусства, литературы, как определяет ее Хартман – указывать на несовпадение, на то что «ничто, строго говоря, не является буквальным, поскольку ничто не может совпасть с собой»153. В таком случае «деконструкция пытается сопротивляться тотализирующим и тоталитарным тенденциям критики»154. Это перекликается с тем, за что М. Фуко за что высказывает похвалу авторам в своем предисловии к «Анти-Эдипу» Ж. Делеза и Ф. Гваттари, называя эту книгу антифашистской155. Но что значит «тоталитарный»? Ведь само явление тоталитаризма возникает не раньше ХХ в. По сути, это узурпация смысла, сведение всего в целостность. Можно сказать, что этому 68 соответствует величественная надежда идеалистической философии на создание универсальной системы тождества. Неслучайно Ж. Деррида со своей деконструкцией выступил против «фаллологоцентризма» всей метафизической традиции: она тоталитарна именно в таком смысле. Это проявление воли к власти в одном из ее наиболее действенных обличий. И уже Ницше как критик метафизики дает возможность множеству таких борющихся воль быть оправданными только эстетически: как случайным, сиюминутным и прекрасным в своей сиюминутности образованиям. Но тоталитарная идеология ХХ в. существенно отличается от предшествующей монистической метафизической или теологической идеологии. В «Возвышенном объекте идеологии» (1989) С. Жижек любопытно толкует это отличие: оно состоит в том, что прежняя религиозная или метафизическая истина трансцендентна, что наследственная власть монарха возводит себя к божественному избранию, нисходит извне. Здесь же мы имеем дело лишь с внутричеловеческими целями и имманентными объектами, которые, тем не менее, замещают собой пустующее «возвышенное» место трансцендентной истины156. Тоталитаризм – это осознанная, намеренная узурпация смысла без иллюзий насчет его вне-человеческого происхождения. По сути, тоталитаризм возникает тогда, когда тотальная система оказывается невозможной, безосновной, произвольной. И только тогда любая Miller J. H. Versions of Pygmalion. Harvard Univ. Press, 1990. P. VII. (Пер. с англ. наш – С. Н.) Ibid. P. 67. 150 Ibid. P. 1. 151 Ibid. P. 237. 152 Ман П де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. C.354. 153 Hartman G.H. The Fate of Reading and Other Essays. Univ. of Chicago Press, 1975. P. 11. (Пер. с англ. наш – С. Н.) 154 Миллер Дж.Х. Критик как хозяин / Пер. с англ. А. Скидана // Комментарии. 1999, № 17. С. 224. 155 Делез Ж. Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Пер. с франц. Д. Кралечкина. Екатеринбург, 2007. С. 8. 156 См.: Жижек С. Возвышенный объект идеологии. / Пер. с англ. В. Сафронова. М.,1999. 148 149 неплюралистическая истина может быть истолкована как тоталитарная, как возведенное в божественный ранг условное человеческое установление. В этом смысле критика, подтачивающая любые очевидности и вскрывающая основания (или производящая «археологию») любых истин, первична по отношению к тоталитаризму. Критика всегда есть до некоторой степени деконструкция: разбирание «очевидностей» идеологии с целью обнаружения их исторической, антропологической, психологической, экономической и т.п. подосновы. И в таком случае, как уже отмечалось, деконструкция представляет собой радикальное продолжение кантианского проекта. Термин, введенный Деррида, указывает не столько на разрушение, сколько на разбирание, демонтаж, анализ структуры. Это анализ, который изначально ставит цель достижения ею большей надежности – как картезианский поиск достоверности через сомнение. Но в конце концов, он лишает ее монолитности и той «вечной» прочности, на которую она готова была бы до тех пор претендовать. Неслучайно тоталитарные системы так склонны опираться на теории разрушителей и критиков, таких как Ницше или Маркс: они вынуждены практически осознавать, что деконструктивный акт уже подточил их основания. Но в то же время они представляют собой попытку создать новую истину, построить тотальную систему как универсальное произведение искусства, в свободном творческом порыве овладеть миром и, в отсутствие Бога, сделать из его механического хаоса собственное творение. Как уже говорилось, это акт не менее модернистский, чем акт бунтарства, и, в некотором смысле, это акт отчаяния: попытка преодолеть собственными конечными силами бесконечную разрозненность мира. Потому, возможно, его осуществление чревато такими катастрофическими последствиями. Это отчаянный порыв захватить в свои руки непосредственность присутствия, которая бесконечно отстранена критической рефлексией. Деконструкция – это внутренний крах тоталитаризма, его распад, расхождение, «различание», о котором Деррида говорит, что внутри него расходится, различается то, что вместе немыслимо: «Обходной маневр экономики, который в стихии того же всегда имеет в виду вновь обрести удовольствие или присутствие, отсроченное (сознательным или 69 бессознательным) расчетом, и, с другой стороны, …соответствие невозможному присутствию, …трату без запаса, …невосполнимую потерю присутствия, необратимое истощение энергии, даже …инстинкт смерти и соотнесенность с совсем-другим, пресекающим с виду любую экономику»157. Это то, что изнутри языка, выдвигающего утверждение за утверждением, подтачивает их возможность. Потому она самопротиворечива, потому дискурс Деррида оказывается ускользающим от него самого: он не может сказать, что такое деконструкция, потому что она и есть невозможность сказать – и в то же время единственная возможность продолжать говорить158. Потому от речи, всегда здесь и теперь произнесенной, всегда претендующей на захват присутствия, или, по крайней мере, создающей обманчивую иллюзию такого захвата, то есть узурпирующей, тоталитарной, Деррида переходит к безличному и бесконечному письму. Там, где говорящий волевым актом ставит точку, письмо все равно продолжается. Письмо – это возможность продолжения речи, поскольку оно деконструктивно: оно разрушает то, что сказано. Но если бы нечто могло быть действительно раз и навсегда сказано, то конечно уже не о чем было бы продолжать говорить. И разговор продолжается не потому, что говорящие понимают то, о чем говорится, но как раз потому, что они не могут этого понять, и что высказывание терпит крах. Невозможность совпадения с собой составляет единственное условие продолжения процесса во времени, или, как определяет де Ман: «мы зовем временем не что иное, как неспособность истины совпасть с самой собой»159. И тот же де Ман, как уже говорилось, анализируя гегелевскую тотализирующую систему, приходит к выводу: хотя достигаемое в конце совпадение должно было бы повлечь за собой схлопывание, остановку, конец истории, но все Деррида Ж. Различание / Пер. с франц. В. Лапицкого // Деррида Ж. Письмо и различие. СПб., 2000. С. 394. См.: Деррида Ж. Письмо японскому другу / Пер. с франц. А. Гараджи // Вопросы философии, № 4 (1992). 159 Ман П. де. Аллегории чтения: Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста. C. 97. 157 158 развитие системы имеет целью скрыть тот факт, что в начале ее не было ничего, с чем в конце можно было бы совпасть. Все, что есть – это следствие, но нет причины. Тотальная система мысли представляет собой некий «невероятный обратный ход», вереницу следов, но без того, кто бы их оставил. «Невероятный обратный ход» описывает, по Деррида, некое моральное свершение: акт самопровозглашения, акт выбора160. Но еще более, чем акт декларирования, он описывает, пожалуй, наиболее фундаментальный модернистский акт, от которого зависит вся система критического мышления – акт самосознания. Поскольку самосознание, дающее начало субъективистской мысли, формирующее картезианскую точку отсчета, существует только в качестве рефлексии, отражения, но это значит, что, по крайней мере, до этого акта должно было существовать то, что может быть отражено. Однако никакой мысли без самосознания нет, и когда Декарт из сомнения в собственном акте сомнения выводит несомненность, это несомненность существования мышления. Акт мышления и есть акт самосознания, акт возвращенности, пред-ставленности субъекта самому себе – однако без того, чтобы тот, кто представлен, был до этого представления. Потому вместо законченной центрированной системы мы получаем вереницу отражений, бесконечно множащих себя в отсутствие того, что изначально могло быть отражено. Этот зазор «невероятного обратного хода», возникновения причины из следствия, предшествования знака означаемому или следа – тому, кто мог бы его оставить, находится в самой сердцевине субъективистской мысли, оказывающейся децентрированной по своей сути. Деконструктивистский зазор встроен в структуру субъективности, потому он не столько разрушает, сколько проясняет ее. Таким образом, мы можем сказать, что деконструкция является предельным, радикальным, быть может даже чрезмерным, но все же внутренним актом европейской рациональности. Она не является по отношению к этой рациональности внешним разрушителем, но, скорее, ее собственным следствием. Деконструкция скорее доводит до завершения модернистский проект, а не отвергает его. Вместо отвержения, она критически указывает его границы. Что, впрочем, само по себе взывает к неизвестному, к тому, что находится за ними. Возможно, по этой 70 причине Деррида предпочел говорить не о своем «философском отце», но скорее о надежде на рождение «философской дочери» как, видимо, о возможности вне-фаллологоцентрического мышления, далеко за пределами деконструкции161. Ведь, с деконструктивистской точки зрения, уже сама возможность сказать, что «внетекстуальной реальности вообще не существует», предполагает отсылку к ее метафизической возможности. Деконструктивистская критика зависит от встроенной в нее надежды на утопическую возможность тотальной системы, так что сам Деррида со своим деконструктивистским порывом не надеется выйти за пределы той системы, которую критикует. Возможность присутствия, бытия, или же мышления неопосредованного языком критикуется как невыразимая и непостижимая, но не устраняется. В момент устранения она утверждает себя с новой силой. Так, размышляя над структуралистским В речи, посвященной Декларации независимости США, он задается единственным вопросом: как могло случиться, что она стала возможна как законодательный акт – кто дал ей право быть таковой, то есть кто поставил под ней свою подпись, достаточно властную для предоставления права на независимость целому государству, и фактически, создания этого государства? Право подписавшегося под ней человека, не обладающего никакой юридической силой, обосновывается тем органом, который он представляет, право этого органа (Конгресса) – тем, что он представляет народ Соединенных Штатов, право же народа – обосновывается естественным порядком, который предполагает, что Соединенные Штаты «есть и должны быть» свободными и независимыми, долженствование же этого порядка – тем, кто этот порядок создал, то есть Богом, который уже никого не представляет, но является той единственной и первой причиной, на которую можно сослаться в любом случае, так как он достаточно далеко отстоит, и достаточным количеством людей мыслится в качестве первопричины, чтобы можно было на него при случае сослаться. Таким образом логическое основание правомерности декларативного акта заговаривается массой реальных действующих причин и уводится к обоснованию через посредство введения понятия «причины самой себя», но по сути, Декларация независимости является единственным документом, дающим право на то, чтобы таковая декларация могла быть составлена и введена в действие, и легитимность, которую она утверждает как дающую ей возможность быть законодательным документом, существует только как следствие этой декларации. (Деррида Ж. Отобиографии. (I. Декларации независимости) / Пер. с франц. В. Лапицкого // Ad Marginem’93. М., 1994. С. 174-183). 161 Подобное рассуждение содержится в документальном фильме “Derrida” (США, 2002). 160 сведением мышления к функциям языка, Деррида задается вопросом: если в мышлении нет ничего такого, что «принадлежит одному ему и ничем не обязано лингвистическим выражениям», то что «в структуре языка… открывает этот разрыв и определяет его как различие между языком и мышлением?»162 Но это значит, что в структуре критического мышления на его деконструктивистской стадии возможность неопосредованного присутствия приобретает одновременно неизбежный, но почти мистический, или, можно сказать, апофатический характер. 71 162 Derrida J. The Supplement of Copula: Philosophy before Linguistics // Textual Strategies: Perspectives in PostStructuralist Criticism. Cornell Univ. Press, 1979. P.89. (Пер. с англ. наш. – С.Н.) КРИТИКА ПОСТМОДЕРНА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ Вступление. КРИЗИСНЫЙ ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ВАРИАНТЫ КРИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ Если критика европейской культуры, начавшая бурно развиваться еще в XIX в., упрекала ее, в том числе, в упадке эстетической стороны жизни, то критическая теория современной культуры буквально пропитана эстетической терминологией. При этом она имеет принципиально кризисный характер, проявляющийся в том, что даже при самом оптимистическом взгляде на перспективы развития выстраивается как теория перехода и трансформации. «Понятия кризиса и критики настолько близки, что можно утверждать, что всякая истинная критика существует только в форме кризиса»163, – говорил П. де Ман. Но можно сказать также, что кризис – это модернистское состояние. «Современность – это эпоха, когда сам факт – быть современным – становится некоторой ценностью»164, – полагает итальянский философ Дж. Ваттимо, описывая модернистский бум новизны и оригинальности и, в то же время, шок утратившей внешние опоры субъективности. Радикальная противоречивость, диссонансность, раздвоенность словно бы включены в саму структуру культурной ситуации ХХ в. Так, чертами и проявлениями ее одновременно можно назвать и предельный релятивизм, и повышенный, причем почти бессистемный мистицизм; неверие ни во что и крушение всех традиционных вероисповеданий – и готовность верить во что бы то ни было; высокий элитистский индивидуализм – и всеобщее обезличивающее омассовление; пафос художественного творчества – и разрушение всех принципов искусства (и даже самой возможности искусства, заменяющегося в музеях инсталляциями в стиле readymade); вечный революционный бунт – и жажду построения тотальной империи; полную либерализацию всех желаний и потребностей – и тенденцию к созданию системы тотального контроля; провозглашение абсолютной свободы действующего субъекта, гуманистическое 72 провозглашение проективности морального выбора – и одновременное стирание субъекта, объявление его не более чем точкой пересечения бессознательных структур, отказ ему в способности давать себе отчет в истоке своих собственных мыслей и желаний… Кроме того: построение небывалого до сих пор по своей стабильности мира – на основе небывалой до сих пор угрозы войны; рост экономического благополучия, сопровождающийся непрекращающимся ростом тревоги и ощущения его ненадежности и недостаточности; бесконтрольное развитие технического прогресса – и впервые с такой силой проявившееся экологическое сознание, резко критикующее любую технику и призывающее к слиянию с природой; глобализация мировых экономических и политических процессов, стирание границ между странами и народами – и предельное расслоение, разделение их и по экономической, и по политической, и по этнической линии; небывалый рост объемов доступной информации – и тенденция к небывалому снижению уровня индивидуальных знаний… В культуре ХХ в. эта противоречивость достигает своего предела, выявляя основания модерна, доходящего в своем бурном развитии до антагонизма столь сильного, что теоретическая мысль оказывается способна осмыслить его лишь в терминах противоречия, отрицания, сбоя, надлома, разрыва. «Сегодня много говорят о постмодерне, – пишет Ваттимо, – так много говорят о нем, что сейчас сделалось почти обязательным занимать определенную позицию по отношению к этому понятию… Мы говорим о постмодерне, поскольку считаем, что в каком-то своем важнейшем, сущностном аспекте современность завершена»165. Но принцип завершения и трансформации можно назвать в ряду главных черт самого проекта модерна, самой современности. Это форма развертывания сущностной противоречивости модернистского проекта. Эта форма завершения была обозначена еще Гегелем в построении системы исторического развертывания мира как Ман П. де. Слепота и прозрение. Статьи о риторике современной критики / Пер. с англ. Е. В. Малышкина. СПб., 2002. С.19. 164 Ваттимо Дж. Прозрачное общество. М., 2002. С.7. 165 Там же. (Курсив наш. – С.Н.) 163 мышления, то есть мира, понятого «не только как субстанция, но и как субъект». Однако, конечно, для Гегеля, в начале XIX в., проблема трансформации не была актуальной. Приставка «транс-» вошла в моду в XX в. Гегель не говорил о трансгрессии, как его интерпретаторы через полтора столетия, – он говорил о прогрессе. Противоречие выступало как действующий механизм системы, и в процессе последовательного снятия приводило, путем исторического движения, к единому высшему результату, который оказывался концом истории. И только после этого конца, то есть после совершения акта осознания истории как прогресса, который ставит точку в развитии всей истории, каждый следующий акт мышления, движущегося далее по той же схеме, будет актом трансгрессивным. Движение вперед здесь достигает предела, и все последующие шаги, направленные за этот предел, переструктурируют внутренние принципы самой движущейся структуры. Тогда трансформация, а не прогресс или регресс, проявляет себя как действующий принцип развития – в искусстве, в философии, в политике, в экономике, в науке – во всех сферах новой, трансформированной посредством совершенного акта самосознания, культуры. Можно назвать это формообразующим принципом развития модерна, который всегда находится в прямой зависимости от мышления истории из ее конца, от ощущения завершения истории. Теоретическая мысль осознает культуру как трансформирующуюся постольку, поскольку осознает ее как завершившуюся. Чувство происходящей трансформации – это всегда также чувство тотального краха, распада, падения, но, возможно, и чувство мистической надежды, надежды на пост-историческое состояние. Что, собственно, и определяет основной теоретический порыв современности: это попытка – феноменологического или критического – описания пост-исторического состояния, или состояния постсовременности, которая всегда производится изнутри действующих принципов модерна, из точки теперь уже всегда предшествующего завершения, взгляд из прошлого, открывающий будущее как перспективу, даже если это будущее само уже становится «историей». Говорят, теоретическое осмысление всегда запаздывает по отношению к реальной исторической практике развития культуры, как осознание всегда запаздывает по отношению к 73 бессознательному инстинкту. Однако, возможно, столь структурного, столь принципиального запаздывания наиболее передовой теоретической мысли невозможно было бы представить в других мыслительных парадигмах, притом что эта мысль всегда пытается мыслить исключительно будущее. Возможно причиной этого сбоя, этого запаздывания по отношению к самой себе является включенность ее как критической процедуры в мыслительную структуру модерна в то самое время, как основной утверждаемый ею тезис – это тезис о конце модерна, о выходе за его пределы, в принципиально новое парадигматическое поле, где трансформационные процессы модерна дошли до полного самоотрицания и породили нечто совершенно новое. Но это «новое» все еще может быть осмысленно только исходя из того, что как будто бы уже «завершилось», потому что само оно166, возможно, не обладает, и даже не желает обладать тем мыслительным аппаратом, каким обладала новоевропейская рациональность, и новый язык его непонятен для модернистской мысли. Потому если как-то он должен быть осмыслен, он может быть осмыслен лишь из прошлого, и, фактически, даже самая резкая и, на вид, «внешняя» критика зависима от рациональных структур модерна. Принимая во внимание приведенное соображение Ваттимо, теории современной культуры – аналитические, критические, трансформационные – можно было бы условно разбить на два основных типа: «постмодернистские» и «анти-постмодернистские», что так или иначе, в той или иной степени, проявляет себя в рассуждениях разнообразных мыслителей. Первые из них на основе детального анализа современного состояния, его противоречий, проблем и парадоксов, предполагают тем не менее перспективу дления или развития достигнутых культурных форм. Причем предлагают ее либо в резко пессимистическом духе Судя по частым определениям: «новое средневековье», «новая первобытность», «новая мифология», «новая наивная эпоха» и т.п. 166 фиксации тотального упадка, – либо, напротив, прослеживая положительные возможности преобразований на основе существующего положения вещей. В качестве примера первого умонастроения в более-менее явном и чистом виде можно привести тотальную критику, произведенную Ж. Бодрийяром, которой противостоит, на другом конце, «медийный оптимизм» Ваттимо. Несмотря на различный эмоциональный настрой, они представляются в равной мере постмодернистскими мыслителями. Второй вид теорий также дает детальный анализ современной ситуации, в итоге которого предполагает, что ее развитие дошло до той точки, где становится неизбежным радикальное парадигматическое преобразование, устраняющее принципы прежнего культурного типа, более существенное, чем фиксируемое различие между «модерном» и «постмодерном». При этом оно может мыслиться как прямое следствие предшествующего развития, новый качественный скачок в нем. А может предполагаться и как полное противоречие, противостояние и опровержение предшествующего развития в качестве пошедшего по неверному пути и требующего немедленной корректировки. Многие теории преобразований, особенно в сфере медиальности и технологического прогресса склоняются к первому варианту этого вида теоретического осмысления современности: начиная с описания конца «галактики Гуттенберга» и перехода к «глобальной деревне» у М. Маклюэна. Но в качестве одного из наиболее ярких образцов хотелось бы привести концепцию смены «культуры знаков» «культурой присутствия», предложенную Х. У. Гумбрехтом. Что касается второго варианта, то к нему можно отнести внутреннюю и внешнюю критику всего проекта модерна в целом (начиная от Возрождения и Реформации), основанную на сравнении его с другими формами и способами культурного бытования. Это может быть культурологическая критика, или весьма распространенная, особенно в русской философии, религиозная критика европейской рациональности. Такой же характер имеет хайдеггеровская критика истории западной метафизики как истории «забвения бытия». Все эти концепции так или иначе противопоставляют рационалистическому, критическому, субъективистскому и индивидуалистическому настрою западной мысли некий идеал органического существования, описание которого может быть почерпнуто из 74 неевропейской культурной практики. В качестве предельного образца здесь можно привести в пример примитивизм американского критика Дж. Зерзана, полагающего ошибочным и катастрофическим всё развитие человечества со времен перехода к сельскому хозяйству и одомашниванию животных. Хотя последняя концепция в философском плане представляет собой вариант экстремизма, тем не менее нам бы хотелось рассмотреть именно ее, поскольку она доводит до предела интересующую нас идею отказа от предшествующих культурных форм. А доводя до предела, наилучшим образом выявляет ее глубинные истоки, основания и чаяния. Однако прежде, чем приступить к последовательному рассмотрению этих теорий, хотелось бы вновь особо отметить то место, которое в них занимает эстетический дискурс. Надо сказать, что концепции, развиваемые Гумбрехтом и Ваттимо, при всей своей противоположности, непосредственно строятся как эстетические. Помимо интереса к эстетике, их объединяет также общая уверенность в том, что существующая форма культуры имеет великолепный потенциал развития. Это потенциал дальнейшего развития и совершенствования той же модели, что существовала в европейской культуре до сих пор, по Ваттимо, или же преодоления ее и формирования принципиально новой парадигмы, по Гумбрехту. Бодрийяр и Зерзан значительно пессимистичнее настроены по отношению к сложившейся культуре. Между ними также можно провести параллель: фактически, именно то безвыходное состояние, которое описывает в своих работах Бодрийяр, с точки зрения Зерзана является плацдармом для радикального отказа. По сути дела, оба они считают достигнутое состояние неизбежным и непреодолимым (иначе как, согласно Зерзану, через принципиальный возврат от культуры вообще, в какой бы то ни было форме, к новому непосредственному единству с природой). И в этом контексте к эстетической проблематике они подходят с гораздо более критической точки зрения. В то же время отсылки к ней составляют необходимый фон их рассуждений. Можно сказать, что наблюдаемая Бодрийяром эстетизация мира есть, по Зерзану, именно то, что следует любыми средствами преодолеть. Но тем не менее даже последнему с его экологической утопией не удается, как мы постараемся показать, вырваться за рамки эстетического взгляда на мир. Фактически, помимо четырех разнонаправленных способов характеристики трансформаций современной культуры, которые нам хотелось бы проанализировать на примере этих концепций, мы сталкиваемся здесь и с четырьмя возможностями интерпретации роли в ней эстетики. Можно сказать, что обращаясь к эстетике, они извлекают и акцентируют разные стороны того, что предлагает традиция применения этого термина в европейской мысли. Если попытаться, забегая вперед, охарактеризовать каждое из этих пониманий эстетики и доминирующие черты, извлеченные этими подходами из ее богатого потенциала, одним словом, то для концепции Бодрийяра это будет знаковость (опосредованность); для концепции Ваттимо – дереализация; для концепции Гумбрехта – интенсивность; для концепции же Зерзана – телесность (непосредственность). Возможно, именно эти черты помогут нам в дальнейшем проанализировать способы и парадоксы развития эстетики в современном мире. Ж. БОДРИЙЯР: СИМУЛЯЦИЯ, ЭСТЕТИЗАЦИЯ, КАТАСТРОФИЗМ Именно Ж. Бодрийяру, как уже упоминалось, принадлежит определение современного культурного состояния как состояния «после оргии»: таково заглавие первой главы его работы «Прозрачность зла» (1990), где он последовательно описывает все стороны современности в одном и том же крайне пессимистическом ключе, употребляя на каждой странице зловещие метафоры вирусных инфекций и раковых метастаз. «Оргия – это каждый взрывной момент в современном мире, это момент освобождения в какой бы то ни было сфере, – пишет он имея ввиду, конечно же, радикальность модерна. – Освобождения политического и сексуального, освобождения сил производительных и разрушительных, освобождения женщины и ребенка, освобождения бессознательных импульсов, освобождения искусства. И вознесения всех мистерий и антимистерий. Это была всеобъемлющая оргия материального, рационального, сексуального, критического и антикритического, оргия всего, что связано с ростом и болезнями роста. Мы прошли всеми путями производства и скрытого сверхпроизводства предметов, символов, посланий, идеологий, 75 наслаждений». И далее он продолжает: «Сегодня игра окончена – все освобождено. И все мы задаем себе главный вопрос: что делать теперь, после оргии? Нам остается лишь изображать оргию и освобождение, притворяться, что ускорив шаг, мы идем в том же направлении. На самом же деле мы спешим в пустоту, потому что все конечные цели освобождения остались позади, нас неотступно преследует и мучает предвосхищение всех результатов, априорное знание всех знаков, форм и желаний… Ничто (даже Бог) не исчезает более, достигнув своего конца или смерти; исчезновение происходит из-за размножения, заражения, насыщения и прозрачности, изнурения и истребления, из-за эпидемии притворства, перехода во вторичное, притворное существование. Нет больше фатальной формы исчезновения, есть лишь частичный распад как форма рассеяния»167. Его дискурс в «Прозрачности зла» структурируется приставкой «транс-». Бодрийяр говорит о новых культурных формах, определяемых с ее помощью: трансэстетике, заменяющей прежнюю, модернистскую эстетику, трансполитике, заменяющей прежнюю политику, трансэкономике, транссексуальности – о неком принципиальном, вездесущем выбросе за пределы. Ранее целостно и деятельно функционирующие структуры – экономики, политики, эстетического суждения, вплоть до структуры половых отношений – в какой-то момент своего разрастания и упрочения переходят на новый уровень, где выбрасываются за собственные пределы, начинают функционировать как бы вне зависимости от собственного содержания. Так Бодрийяр пишет о том, почему марксистский анализ, будучи, как он говорит, «безупречным» в описании экономических процессов капиталистического общества, тем не менее проваливается в своих прогнозах на современный момент: «Он просто не предвидел, что перед лицом неминуемой угрозы капитал может в какой-то мере трансполитизироваться, переместиться на другую орбиту – за пределы производственных отношений и политических антагонизмов, автономизироваться в виде случайной, оборотной и экстатической формы, и при этом представить весь мир во всем 167 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла / Пер. с франц. Л. Любарской, Е. Марковской . М., 2000. С. 8-10. его многообразии по своему образу и подобию… Отныне он действует вне своих собственных конечных целей и совершенно изолированно»168. Таким образом основная черта этого «транс»состояния – изолированность структуры от содержательного наполнения, автономия знака от значения, функционирования от реального применения. Главной чертой современной политики является то, что политическая система – демократическая система западного образца, накладывающаяся на любые современные системы, с ее выборами, общественными организациями, пресс-конференциями, и всеми прочими структурами, – великолепно изображает, симулирует свое эффективное действие, на деле его не осуществляя. Никакое реальное вторжение, никакое реальное столкновение интересов в ней невозможно, и несмотря на весь ее демократизм, невозможно также и проявление личной инициативы, если она расходится с общей структурой. Невозможно не потому, что инициатива будет подавлена, а потому что она в принципе не будет воспринята, не сможет действовать. Политическая система функционирует отдельно от материи ее применения: «За всякой официальной политикой стоит циничное упорство, порожденное исчезновением социального»169. При этом обратной стороной ее действия является террор – бурно распространившаяся разновидность насилия, порождаемая, как отмечает Бодрийяр, по большей части повышенным вниманием к нему публики, прильнувшей к телевизионным экранам. Это насилие подобно шоу, которого ожидают и которое занимает первые строчки в рейтингах просмотра. «Все мы сообщники в ожидании этого рокового сценария, даже если его осуществление вызывает у нас волнение и потрясение. Говорят, что полиция ничего не предпринимала, чтобы предупредить взрыв насилия, но никакая полиция не в состоянии предотвратить это помутнение разума, это коллективное домогательство терроризма»170, – так обличительно выступает Бодрийяр. В зрительском ожидании у экрана реальное насилие превращается в эстетизированный объект, предмет повышенного интереса, нечто вроде эмоциональной разрядки. Следуя логике Бодрийяра, современную эпоху можно назвать медийной – тотально медийной, в том смысле, что медиа-носитель уже не отсылает здесь ни к какой реальности, приобретает самодостаточный характер. Бодрийяр описывает процесс приближения к 76 современному медийному состоянию как процесс кризиса репрезентации: «Исходный принцип репрезентации – равнозначность знака и реальности (даже если эта равнозначность – полная утопия, она все же базовая аксиома). Наоборот, симуляция исходит из утопичности принципа равноценности, из радикального отрицания знака как ценности; симуляция видит в знаке переворот значения и смертный приговор референту». И далее он описывает ряд фаз, которые проходит образ действительности в течение своей истории: «1. Он отражает реальную действительность. 2. Он маскирует и искажает реальную действительность. 3. Он маскирует отсутствие действительности. 4. Он не имеет никакого отношения к действительности: он превращается в собственное подобие»171. В последнем случае мы имеем дело с симуляцией. В работе «Символический обмен и смерть» (1976) Бодрийяр обозначает три порядка симулякров, характеризующие этапы развития западноевропейской культуры от Возрождения до современности: «Подделка составляет господствующий тип “классической” эпохи, от Возрождения до промышленной революции; Производство составляет господствующий тип промышленной эпохи; Симуляция составляет господствующий тип нынешней фазы, регулируемой кодом. Симулякр первого порядка действует на основе естественного закона ценности, симулякр второго порядка — на основе рыночного закона стоимости, симулякр третьего порядка — на основе структурного закона ценности»172. Эпоха «симулякров третьего порядка» неслучайно оказывается столь погружена в проблему медийности: ее саморефлексивный дискурс раскрывает симулятивный характер всех форм репрезентации, к каким бы она ни обратилась. Там же. С. 19. Там же. С. 118. 170 Там же. С. 113. 171 Бодрийяр Ж. Симуляция и симулякры / Пер. с франц. И. В. Кабановой // Современная литературная теория. Антология. М., 2004. С. 259. 172 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Пер. с франц. С. Н. Зенкина. М., 2000. С. 114. 168 169 Еще в ранней и не столь глубоко пессимистической работе «Система вещей» (1968) Бодрийяр весьма характерно описывает роль рекламы в современном мире. Хотя ее первичной функцией является, казалось бы, сообщение некой информации о товарах, Бодрийяр полагает, что мы не должны обманываться этой быстро пресыщающей эксплицитной функцией. «Решающее воздействие на покупателя оказывает не риторический дискурс и даже не информационный дискурс о достоинствах товара. Зато индивид чувствителен …к не уловимому сознанием знаку того, что где-то есть некая инстанция…, которая берется информировать его о его собственных желаниях, предвосхищая и рационально оправдывая их в его собственных глазах»173. Он сравнивает рекламу со сновидением, некой фантазией чистого инфантильного желания, взывающего к материнской любви, теплоте и защищенности и всегда противящегося принципу реальности (почему, как он замечает, социальная реклама терпит крах: реклама всегда индивидуальна, как индивидуально удовольствие174). «Вещь нацелена на вас, она вас любит… Это и есть главное, сама же покупка играет второстепенную роль. Изобилием товаров устраняется дефицит, широкой рекламой устраняется психическая неустойчивость. Ибо хуже всего, когда приходится самому придумывать мотивации для поступков, любви, покупок. Человек при этом сталкивается с тем, что он сам себя плохо знает, не существует как полноценный субъект, обманывает себя и испытывает страх. Если вещь не снимает это чувство вины от незнания, чего ты хочешь и кто ты такой, то она будет сочтена некачественной. Если же вещь меня любит (а любит она меня через рекламу), то я спасен. Таким образом, реклама, как и вообще все “паблик рилейшнз”, своей огромной заботливостью облегчает нашу психическую неустойчивость, и в ответ мы интериоризируем эту попечительную инстанцию, эту сверхфирму, производящую не просто материальные блага, но и теплоту общения; иными словами – все общество потребления как целое»175. По Бодрийяру, в современном обществе потребления реклама и пиар выполняют функцию, прежде принадлежавшую сфере общения с высшей защищающей инстанцией, сообщающей сопричастность индивида к обществу, то есть религии, которая, в свою очередь, замещает для 77 взрослого человека инфантильное желание родительской защищенности. Неудивительно, что именно с утратой веры в реальность божественного связывается им переход к эпохе симуляции. Уверенность в том, что знак может адекватно выражать смысл, а образ – представлять действительность, держится на вере в то, «что существует нечто, что делает эту замену возможной, гарантирует ее адекватность – это, разумеется, Бог. Но что если самого Бога можно симулировать, т.е. свести к знакам, удостоверяющим его существование? Тогда вся система теряет точку опоры; она превращается в гигантское подобие, в симулякр… который отсылает теперь не к внешней действительности, а к самому себе»176. Симулятивность общества потребления составляет предел произведенной рационалистической мыслью интернализации Бога, который перестает быть надежной внешней опорой. Однако исчезновение такой опоры не лишает человека психологической потребности в ней. Связанные с этим преобразования хорошо описаны Б. Хюбнером в работе «Произвольный этос и принудительность эстетики» (1996), где он связывает происходящую в современной культуре всеобщую эстетизацию с утратой авторитета религии под давлением рациональности и возрастающего чувства автономии субъекта. В этом процессе освящавшиеся ранее религией как внешние цели и желания утрачивают свои корни, превращая этос человека в произвольный, а его цели – в результат автономного выбора, что оголяет глубинное основание любых потребностей. По Хюбнеру, это основание – эстетическое: потребность в аффектации чувств, интенсивности удовольствия, которая и становится доминантой современной культуры 177. Надо сказать, что Хюбнера радует эта достигнутая автономия и признание любых целей и смыслов относительными и основанными лишь на эстетическом предпочтении. Бодрийяр, напротив, Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. с франц. С. Н. Зенкина. М., 1999. С. 180. Там же. С. 187. 175 Там же. С. 184-185. 176 Бодрийяр Ж. Симуляция и симулякры. С. 258-259. 177 Хюбнер Б. Произвольный этос и принудительность эстетики / Пер. с нем. А. Лаврухина. Мн., 2000. 173 174 обращает внимание на более темные и, возможно, более глубокие психологические стороны этого процесса. Потому существенно различается и стиль дискурса: если Хюбнер ведет речь о прояснении, о чем-то вроде избавления от заблуждения (предположительно так: этос всегда был произвольным, но человек только теперь это осознал), то Бодрийяр говорит о превращении, о действительной утрате знаком соответствия значению, а образом – адекватности действительности. Говорит так, как если бы такое соответствие существовало прежде (хотя и уточняет, что оно могло быть утопией). Мысль Хюбнера, хоть и достаточно меткая в описании и определении сложившейся ситуации, остается в рамках развития однозначно модернистского проекта рационального мышления. Но именно этот проект стоит в современном мире под вопросом. Всеобщая эстетизация, о которой также говорит и Бодрийяр, переход к тотальной симуляции, составляет некий травматический опыт, разрушающий гораздо больше, чем только религиозную веру и убежденность в существовании конкретного внешнего источника этических предписаний. Как и в случае с рекламой, это составляет только эксплицитную сторону складывающегося психологического и социального типа, неспособного к продолжению рационального развития на прежних субъективистских основаниях. Можно сказать, что происходит крах субъективности, которая лежала в основе эстетизации. Это приводит не только к всестороннему культурному кризису, но и к кризису самой эстетики. «Говорят, что великое начинание Запада – это стремление сделать мир меркантильным, поставить все в зависимость от судьбы товара. Но эта затея заключалась скорее в эстетизации мира, в превращении его в космополитическое пространство, в совокупность изображений, в семиотическое образование», – говорит Бодрийяр. Казалось бы, в условиях эстетизации должно было укрепиться в своих позициях искусство, однако именно этого не происходит: «Как все исчезающие формы, искусство пытается возрасти посредством симуляции, но вскоре оно окончательно прекратит свое существование, уступив место гигантскому искусственному музею 78 искусств и разнузданной рекламе»178. Перспективы современного искусства не внушают Бодрийяру никакого оптимизма. «Когда эстетично все, ничто более не является ни прекрасным, ни безобразным, даже искусство исчезает»179, – говорит он, как будто нарочно переворачивая уже приводившиеся слова С. С. Аверинцева: «Пока эстетики как таковой нет, нет и того, что не было бы эстетикой»180. «Это парадоксальное состояние вещей, – говорит Бодрийяр, – которое является одновременно и полным осуществлением идеи, это совершенство современного прогресса, и его отрицание, ликвидация посредством переизбытка»181. Подчеркивая кризисный для эстетики и искусства характер всеобщей эстетизации, Бодрийяр ссылается на слова Энди Уорхолла, говорившего, что «Все произведения прекрасны… Искусство повсюду, и тем самым оно больше не существует; весь мир гениален, мир такой, какой он есть, гениален даже в своей простоте»182. Интересно заметить, что эти слова знаменитого основателя поп-арта удивительно вторят уже упоминавшемуся восклицанию Шопенгауэра, полагавшего, что все вещи прекрасны и видевшего в этом основу и спасительный смысл чистого эстетического созерцания. Гениальность взгляда художника, для Шопенгауэра, заключалась исключительно в том, чтобы увидеть эту красоту всех вещей, гениальность всего мира «такого, как он есть». Как мы уже говорили, формальная сторона искусства, тонкость «ремесленных» различий для Шопенгауэра ничего не значат, а на первый план выступает взгляд художника. Так же, в принципе, они почти ничего не значили уже и для философии искусства немецкого идеализма. И это позволяет сделать вывод, что описываемый Бодрийяром крах эстетики, если его описание верно, имеет свои корни в самом сердце классической эстетической традиции. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. С. 27-28. Там же. С. 18. 180 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004. С. 38. 181 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. С. 18. 182 Там же. С. 36. 178 179 Если Шопенгауэр, как, вероятно, и Энди Уорхолл, видит в описываемом им восхищении основу искусства, то Бодрийяр замечает в такой гиперэстетизированной восхищенной позиции скорее начало конца, крах искусства, невозможность вынесения эстетического суждения, невозможность, собственно, быть художником, невозможность различать, торжество однородности. Художник больше не способен разделять, зритель не способен выносить эстетическое суждение, потому искусство продолжает функционировать – но на том же уровне самодостаточности, как автономная структура, отделенная от реальности эстетического суждения. В более поздней работе «От фрагмента к фрагменту» (2001) Бодрийяр крайне резко высказывается о современном искусстве: «современное искусство ничтожно!»183 Эстетизация, демократизация, развитие капитала, и прочие черты культуры модерна, приводят, наконец, к состоянию полного стирания, потери всякой идентичности – вплоть до идентичности пола, идентичности организма, где последний становится придатком, «протезом», свободно замещаемым симулякром желания, за которым, однако, уже не стоит никакой реальной потребности, никакого реального присутствия. Проблему современного мира Бодрийяр видит не в недостатке, а в переизбытке – товаров, стилей, произведений, денег, знаков, которые уже ничего не значат и не могут быть восприняты. Единственное, что удерживает эту систему от коллапса и заставляет ее пребывать в непрерывном функционировании – это ожидание катастрофы, вписанное непосредственно в ее структуру. Это трансгрессивная система, поддерживающая свою неизменность за счет непрерывного ожидания катастрофического конца. «Перед лицом гибели, которую таит в себе полная невесомость, невыносимая легкость существа, всеобщая скученность и линейность процессов, гибели, увлекающей нас в пустоту, эти внезапные вихри, которые мы называем катастрофами, есть то, что предохраняет нас от катастроф. Эти аномалии, эти крайности воссоздают зону гравитации и плотности, препятствующей дисперсии… Катастрофу можно рассматривать как некую умеренную стратегию, или, скорее, наши вирусы, наши экстремальные явления, совершенно реальные, но локализованные, позволяют, видимо, сохранить нетронутой энергию виртуальной 79 катастрофы – двигателя всех наших процессов как в экономике, так и в политике, как в искусстве, так и в истории»184. Эстетизация выступает как крах непосредственности, превращение мира в набор знаков. Но там, где всё представляет собой лишь знаки, так что не остается места для того, чтобы могло быть их значением, мир превращается в симулякр. Это достаточно пессимистическое и мрачное описание того акта, который, как мы уже пытались продемонстрировать, был осуществлен критическим мышлением, постепенно переходящим в стадию непрерывной самодеконструкции. Можно предположить, что именно этот мыслительный акт интерпретируется Бодрийяром на уровне соответствующей ему культурной практики. Если раньше мы говорили о роли деконструкции в качестве критики идеологии, то есть о своеобразной «позитивной» роли, то здесь проявляют себя более опасные ее моменты: это мышление, существующее через собственное отрицание. Деконструктивное мышление, утверждающее, что все есть знак, как и симулятивная культура, самовоспроизводятся через собственное уничтожение, буквально питаются им, что делает их практически неуничтожимыми. Но в таком случае, бодрийяровская критика, сама будучи деконструктивной, проясняет нечто относительно себя самой. Бодрийяр – один из самых модных и читаемых западных философов последних десятилетий, его яростный протест, сменяющийся горестной апатией в отношение современной культуры, тотальная критика этой культуры являются одним из крайне востребованных и популярных ее продуктов. Его цитируют и на него ссылаются, причем даже в массовом порядке185. Бодрийяр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту / Пер. с франц. Н. Суслова. Екатеринбург, 2006. С. 165. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. С. 102. 185 Любопытно заметить, что книга Бодрийяра фигурирует в первых кадрах супермодного кинофильма «Матрица», также в высшей степени критического и, как сказал бы Б. Гройс, «медиаонтологически подозрительного» по отношению к симулятивности современного мира. 183 184 В структуре, основным поддерживающим моментом которой является мысль об уничтожении этой структуры, радикальная критика и апокалиптические прорицания не могут не пользоваться головокружительным спросом. Чем пессимистичнее – тем лучше, а в пределе, самым большим спросом, самой большой ценностью, как утверждает Бодрийяр, и тем единственным, что не обесценено бесконечным размножением, является смерть – последнее, что не стирается пресыщением и не превращается в ходовой товар. В «Символическом обмене и смерти» Бодрийяр описывает основную кризисную черту рациональности, приведшей к современному симулятивному состоянию культуры, как нарушение древней практики символического обмена, уравновешивающей соотношение между жизнью и смертью. Этот обмен – свободный, игровой обмен дарами, свободный от утилитаристского принципа реальности. Человеческое общество рассматривается как по природе символическое и тем самым органично включающее в себя собственное уничтожение, смерть, в качестве готовности к свободному и бесцельному отдариванию и жертвованию. Символический обмен структурирует в едином игровом пространстве древние мифы, ритуалы, религиозные действа, оргии и войны, составляет основу искусства, религии, всех живых культурных форм. Но эта ситуация нарушается с возрастанием капиталистического принципа реальности, рационалистически вытесняющего свободную игру за свои пределы и более всего страшащегося включения в себя этой внутренней двойственности, диалектического соединения жизни и смерти. Смерть, говорит Бодрийяр, признается здесь чем-то чуждым, таким, о чем даже неприлично говорить, она вытесняется, сменяясь тотальным утверждением жизни. Но, по сути, именно утверждение жизни как главной и единственной ценности с претензией на ее упрочение в вечности, приводит к становлению безжизненного «гиперреального» мира тотальной симуляции. Не подтверждаясь в свободной жертве, не имея растраты, произвольного уничтожения в качестве своего внутреннего иного, своей второй стороны, жизненные ценности, потребности, продукты производства автономизируются и утрачивают смысл. Утверждение внесимволической реальности приводит к превращению этой реальности в чистый знак, симулякр, то есть копию без оригинала, безосновную и бессмысленную. «Идентичность себе 80 нежизнеспособна: поскольку в нее не удается вписать ее собственную смерть, то это и есть сама смерть»186, – пишет Бодрийяр. «Раз политическая экономия есть наиболее последовательная попытка покончить со смертью, то ясно, что одна лишь смерть может покончить с политической экономией»187. Но именно потому она является в этой системе самым надежным, самым популярным и ценным товаром. Последовательное устранение смерти за пределы человеческого мира приводит к возрастающему интересу к ней – в форме катастроф, скандалов, сбоев, эсхатологических ожиданий, ужасов и т.п., которыми полны, отвечая зрительскому спросу, современные медийные источники – на симулятивном уровне зрелища. ДЖ. ВАТТИМО: ЭСТЕТИКА И ДЕРЕАЛИЗАЦИЯ Пессимистическая концепция Бодрийяра, в высшей степени тонкая в плане выявления глубинных подтекстов современной социальной, культурной и политической ситуации, выводит на поверхность ее двойственность, самопротиворечивость, а также особо акцентируемую им странную склонность к самовоспроизведению и самоуничтожению одновременно. Это придает его мысли почти полную безысходность: описанное состояние постсовременного общества потребления кажется достижением некоего безвременья, продленного в бесконечность. Итальянский философ Дж. Ваттимо исходит из тех же предпосылок – а самое интересное и бросающееся в глаза: «приходит почти к тем же выводам, что Бодрийяр»188 – однако с совершенно противоположной оценкой. То есть сама констатация фактов и описание современной ситуации у него практически те же (хотя и в совершенно другой риторике), но вывод, который он делает, далек от бодрийяровского пессимизма. Можно сказать, что именно в Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. С. 47. Там же. С. 324. 188 Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Пер. с англ. М. В. Арапова, Н. В. Малыхиной. М., 2004. С. 342. 186 187 сфере оценки, а не в сфере описания (которое он скорее заимствует из уже сложившейся критической традиции, чем развивает) проявляет себя теоретический смысл его рассуждений. Его цель – описать современный мир так, чтобы увидеть его в ином свете, увидеть в нем больше, чем позволяет тотальная критика, потому что сама эта критика производится из недр старой, модернистской позиции, и есть, по сути своей, критика глубоко консервативная. Описывая современную массовую культуру, господство масс-медиа в положительных терминах, он предостерегает от слишком поверхностного оптимизма и пренебрежения негативными сторонами актуального бытования этих явлений, но не разделяет традиционалистских настроений, тоски по утраченной реальности, цельности и гармонии, которые будто бы составляли основу прежнего социального, морального и эстетического опыта. Прекрасно понимая, что его апология масс-медиа и массовой культуры может выглядеть как стремление «не замечать отчуждающий характер этой культуры»189, он демонстрирует, однако, что критический взгляд на нее часто основан на неком логическом смешении, неразличении причин и следствий. Он полагает, что ошибка критической теории современного общества состоит в том, «что она никак не различала факторы политического отчуждения общества тотальной организации и те новые моменты, которые имплицитно присущи существованию в ситуации поздней современности. Следствием этого недоразумения стало осуждение извращенной природы массового и тотально организованного общества во имя гуманистических ценностей, весь критический потенциал которых проистекал из их анахронизма. На самом деле, время, когда эти ценности стали ценностями, эпоха, когда ими вдохновлялись, принадлежит прошлому той самой метафизики, итогом которой как раз и стало возникновение тотальной организации общества. Возможно, сегодня мы уже сможем признать, что эфемерность и зыбкость эстетического опыта, характерные для общества поздней современности, совсем не обязательно должны рассматриваться как признак отчуждения, связанный с антигуманными сторонами общества массовой коммуникации»190. Фактически он предлагает обратить внимание на то, что идея тотальной организации проистекает из того же корня, что и гуманистические ценности, ей противопоставляемые, и этот 81 корень – модернистская мечта о целостности и высшей гармонии, наилучшим образом явившая себя в гегелевской системе абсолютной субъективности, провозглашающей тождество бытия и мышления. Это именно модернистский проект, проект достижения абсолютной тотальности – социальной, моральной и эстетической. И именно он расслаивается и рассыпается в нынешнем «постсовременном» мире под влиянием порожденных им же достижений критической рациональности, прозрачности коммуникации, просвещения и технологического прогресса, которые, при дальнейшем развитии, выступают как раз против идеи тотальности, отвергают ее возможность, приводя социальные практики к радикальному плюрализму. То есть мы видим одновременно продолжение и преодоление. Здесь именно и важно не перепутать причины и следствия: «Массовое уравнивание, манипуляции общественным мнением, тоталитаризм, – по мнению Ваттимо, – не являются неизбежными следствиями безраздельного господства средств коммуникации, пришествия масс-медиа, феномена воспроизводимости»191. Он готов полагать скорее, что они являются следствиями той же мировоззренческой структуры, что и высшие гуманистические ценности модерна. Суть новой эпохи должна бы была заключается именно в том, чтобы, развив модернистскую парадигму, преодолеть ее негативные последствия. Развитие массовых коммуникаций, хотя оно и может использоваться тоталитарными тенденциями современного мира, в целом открывает такую перспективу, в своем прогрессе разрушая возможность тотальной манипуляции, а не способствуя ей. Работу «Прозрачное общество» (2000) Ваттимо начинает с того, что противопоставляет модерн и постмодерн. Он полагает, что «в рождении постмодерна решающая роль принадлежит масс-медиа»192. Целью возникновения и распространения масс-медиа в модернистскую эпоху Ваттимо Дж. Прозрачное общество / Пер. с ит. Д. Новикова. М., 2002. С. 68. Там же. 191 Там же. С. 69. 192 Там же. С. 11. 189 190 было достижение полной прозрачности общества, полного самосознания, выступавшего идеалом его коммуникативной практики. Но в итоге, по мнению Ваттимо, их распространение приводит не к созданию более «прозрачного», «просвещенного», «самосознательного» общества, но к созданию общества более сложного и даже хаотичного. Однако «именно в этом относительном “хаосе” коренятся наши надежды на эмансипацию»193. Прозрачность – идеал рациональной коммуникации. Именно отказ от движения к прозрачности ставит в укор постмодерну Хабермас, видя, в то же время, истоки такого отказа в самой модернистской парадигме с ее склонностью к субъективизации и эстетизации. Потому в качестве альтернативы постмодерну, доводящему эти модернистские черты до предела и распада и отвергающему рациональную ясность как таковую, Хабермас предлагает возврат к рационалистической сути модернистского проекта, который заключался бы в развитии взвешенного и осознанного коммуникативного процесса. Хабермас также критикует и тотализирующую программу достижения нерасколотой идентичности, характерную для модернистской утопии, как кризисную, ведущую к самоуничтожению субъективности. Однако он полагает возможным преодоление ее на основе признания коммуникативного опыта другого, развития возможности рационального диалога. Ваттимо же прозрачности противопоставляет сложность и хаотичность, поскольку в прозрачности видит все ту же опасность движения к тотальности. Его программа – программа осознанного утверждения расколотости, плюралистичности, несводимой в перспективу единой «реальности». И главным достижением модерна он считает обретение (в частности, у Ницше) понимания того, что реальность принципиально множественна, а то, о чем мы говорим как о «реальном мире», есть не более чем «сказка». Его идеал – конфликт интерпретаций, принципиальная несводимость точек зрения. И именно этому, как он полагает, способствует бурное развитие масс-медиа. Несмотря на то, что в изначальном варианте они действительно были направлены – и осознавались таким образом в мрачных опасениях теоретиков начала ХХ в. – на гомологизацию общества, создание единого мнения, единой картины реальности, были средством контроля и манипулирования сознанием, порождая антиутопические фантазии наподобие «1984» Дж. Оруэлла. Однако, 82 считает Ваттимо, то, что произошло, резко нарушает все эти монополистические планы: «несмотря на все усилия монополий и больших капиталистических теле- и радиокомпаний, – это, скорее, превращение телевидения, радио, журналов в элементы всеобщего взрыва и преумножения… видений мира… Это головокружительное умножение коммуникаций, эти “заявления о себе” все возрастающего количества субкультур являются наиболее очевидными эффектами масс-медиа, но это действительность, нерасторжимо сопряженная с финалом или, по крайней мере, с радикальной трансформацией европейского капитализма»194. Эти «эффекты масс-медиа» сходны с тем, который Р. Рорти описывает в связи с воздействием опыта искусства: эффект либерализирующий, поскольку, представляя образцы различных видов поведения, несводимых друг к другу, искусство, по Рорти, сообщает нам опыт внимания к другому, опыт терпимости. «Солидарность достижима не через исследование, а через воображение. <…> Процесс, в ходе которого мы начинаем постепенно рассматривать другие человеческие существа как “нас”, а не как “их”, зависит от тщательного описания того, каковы чуждые нам люди, и от переописания того, каковы мы сами…. Художественная литература… сообщает нам о подробностях переносимых людьми страданий, которые раньше не привлекали нашего внимания»195, – пишет Рорти. Научная мысль обобщает, в то время как искусство обращает внимание на конкретное, и именно опыт этого конкретного, достижимый в нем, представляется наиболее значимым. Любопытно однако, что это заключение противоречит классическим определениям искусства, начиная с Аристотеля, особо отмечавшего в «Поэтике», что искусство отличается, к примеру, от истории тем, что оно изображает всеобщее, там где первая изображает случайное и частное. У Рорти подход к искусству оказывается принципиально другим. Хотя Рорти вполне Там же. Там же. С. 12-13. 195 Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / Пер. с англ. И. Хестановой, Р. Хестанова. М., 1996. С. 10, 21. 193 194 традиционно имеет в виду литературу, здесь присутствует смешение литературы, этнографии, журналистики и деятельности масс-медиа, предоставляющих разнообразие репортажей. Таким образом, Рорти говорит об искусстве и о литературе не в смысле создания прекрасной и значимой формы, которая так или иначе стояла во главе угла как древних теорий искусства, так и классической европейской эстетики. Он говорит скорее о его содержательной стороне: о свойственном ему, как он полагает, подробном (и эмоциональном) описании разнообразия фактов. Причем это описание, не зависящее от идеологической подоплеки: важно оно само, а не та программа, которая за ним стоит, важно само указание на различие образов жизни, ситуаций, живое, а не схематичное и риторически условное воссоздание образов других людей. И в принципе, такое описание может проявить себя вне всякой идеологической основы даже не столько в деятельности «свободного» бунтаря-художника, сколько в простом показе по телевидению – казалось бы в наиболее идеологически ангажированном средстве сообщения. Тем не менее телевидение может дать нам наиболее живой, почти реально осязаемый образ другого человека. Неслучайно именно с телевидением Маклюэн связывал переход к новому типу организации мышления, восприятия и всей социальной жизни: крушение принципов литературной «галактики Гуттенберга». Но все же стоит обратить внимание, что с этим явлением – с описанием разнообразия фактов, а также со значимостью детализации субъективной точки зрения на эти факты и эмоционального отклика на них, мы сталкиваемся далеко не всегда и далеко не в любых формах искусства. Зато когда сталкиваемся – сталкиваемся с ним не только в искусстве, но, как мы видели, те же тенденции постепенно проникают и в науку, и в философию и во все сферы жизни. Мы сталкиваемся со все возрастающим интересом к наблюдению, к субъективному восприятию, к детализации внешнего опыта, с вниманием к другому, иному, внешнему, то есть с тем, что мы уже определили как характерную и развивающуюся черту европейского культурного типа, который, в конце концов, приходит к развитию широкой сферы гуманитарных исследований (недаром Ваттимо называет современное общество «обществом гуманитарных наук»196). Со специфическим и постепенно проявляющимся характером этого 83 культурного типа (что влияет, в том числе, и на искусство) можно связать возникновение ценностей либерализма, терпимости, сострадания, по Рорти, лежащих в основе чувства человеческой солидарности. Развитие этих черт ведет к взрыву различий, ранее отвергавшихся и запрещавшихся традиционной моралью, но не просто к включению их в нее, не к принятию в прежних рамках, а к изменению самой структуры морали, становящейся все более гибкой и терпимой. Современная система, критикуемая Бодрийяром, конформистски включающая в себя самые радикальные эксперименты художников и тем превращающая их в востребованный выставочный товар, одновременно и опасна этим стиранием любого революционного порыва через его включение в структуру общества, но и таит в себе возможность положительного развития. По Ваттимо, итогом взрыва различий, равно включенных в либеральную социальную структуру, является не установление четкой идентификации различенных единиц, осознающих свою собственную оригинальность (что было тенденцией модерна), но, напротив того, ее стирание, рассеивание, возникновение чувства потерянности, которое, как он полагает, и производит наиболее эмансипирующий эффект197. Обретенный новый порядок жизни есть порядок «дереализации», который действительно очень напоминает автономное функционирование знаков в мире симуляции по Бодрийяру. Однако Ваттимо полагает, что утрата «ощущения реальности», происходящая с умножением образов мира – не такая уж большая утрата. Ностальгия по твердой, единой, устойчивой и авторитарной реальности трактуется им как невротическое желание воссоздать надежность мира детства, «где семейные авторитеты были пугающими и успокаивающими одновременно»198, бежать в него от вопросов зрелого сознания. Ваттимо Дж. Прозрачное общество. С. 25. Там же. С. 17. 198 Там же. С. 15-16. 196 197 Стремление к защищенности, полагает Ваттимо, нарушается в современном мире, выражение чего он находит в трансформации эстетического опыта. И здесь мы сталкиваемся с крайне существенным переопределением эстетики как таковой, или, можно сказать, с выявлением в ней исключительно важной ее черты. Эстетический опыт характеризуется Ваттимо, прибегающего к терминологии В. Беньямина, как шок. Это шок потерянности, который, в противовес классическому стремлению к гармонической завершенности произведения искусства, предоставляется нам разнообразными явлениями массовой культуры, к примеру, кинематографом, с его бесконечным мельканием кадров. Чувство потерянности в потоках информации, словно в большом мегаполисе, нарушает обычное стремление искусства к достижению гармонии и покоя, и таким образом вносит в эстетический опыт нечто новое: опыт разрыва, колебания, неустойчивости, опыт смертности199. Параллельно Ваттимо ссылается на Хайдеггера и его понимание искусства как «осуществления истины», выраженное в знаменитом «Истоке художественного творения». Хайдеггер резко осуждает современную организацию художественного пространства, с его музеями и репродукциями, делающую искусство пустым и, фактически, устраняющую искусство. Как кажется, это понимание резко противостоит мысли Беньямина, выраженной в не менее знаменитом «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости», где он приветствует технологии воспроизводства, лишающие произведение его магической «ауры». Но, в конечном счете, по мнению Ваттимо, обе концепции, на первый взгляд столь противоположные, сходятся в констатации некого странного воздействия, производимого искусством. Так, у Хайдеггера, говорит Ваттимо, «понимаемое таким образом творение искусства производит на зрителя эффект, который Хайдеггер определяет словом Stoss – буквально “удар”. В эссе Беньямина мы обнаруживаем теорию, разработанную на основе совершенно других предпосылок; она приписывает самому характерному жанру искусства эпохи технической воспроизводимости – кинематографу – эффект, который определяет именно через понятие shock, хотя придаваемое ему значение здесь, очевидным образом, совершенно 84 другое. Тезис, который я собираюсь предложить, – продолжает Ваттимо, – сводится к следующему: продолжая аналогию между хайдеггеровским Stoss и shock’ом Беньямина, можно ухватить основные черты новой “сущности” искусства в позднеиндустриальном обществе, черты, которые ускользнули от современной эстетической мысли – в том числе и от самой радикальной»200. Действительно, было бы странным, если бы две одинаково влиятельные концепции искусства, возникшие приблизительно в одно и то же время и вероятно вызванные к жизни одними и теми же художественными процессами, просто противоречили друг другу, не имея никакой общей почвы для диалога, но выражая лишь личные пристрастия авторов. С другой стороны, хайдеггеровское «осуществление истины» наполняет отношение к искусству неким почти мистическим значением, в то время как техническое воспроизводство, по Беньямину, ценно именно тем, что лишает произведение какого-либо мистического смысла, по сути, впервые делая его именно эстетическим объектом – незаинтересованно воспринимаемым, вне всяких связей с контекстом его существования. Хайдеггеровский Stoss, удар от произведения искусства Ваттимо трактует исходя из понятия «разомкнутости» бытия, из «нарушения очевидности мира», вызывающего «озабоченное восхищение фактом незначимым, ничего не значащим (не значащим в строгом смысле слова – то есть не отсылающим ни к чему или отсылающим к ничто) фактом того, что мир есть»201. Там же. С. 68. Здесь мы можем заметить, что Ваттимо как бы противостоит Бодрийяру, полагающему, что именно современный мир симуляции более всего отторгает от себя эту внутреннюю включенность смерти в жизненное пространство (почему и начинает функционировать столь безосновно и, в то же время, при возрастающем интересе ко всему, что связано со смертью как внешней угрозой). Однако крайности сходятся и опыт столкновения со смертью оказывается существенным для обоих, хотя они по-разному характеризуют его возникновение в современной культуре. 200 Там же. С. 56. 201 Там же. С. 59. 199 Можно сказать, что этот «удар» состоит в том, что лишает существование мира его очевидности. То же происходит и в опыте «шока» по Беньямину, и в «дереализации», о которой говорит Ваттимо. По его мнению, концепции Хайдеггера и Беньямина имеют общей чертой указание на потерянность: «как в первом, так и во втором случае эстетический опыт предстает как опыт отчуждения, требующий работы по реадаптации и восстановлению. Эта работа осуществляется, однако, не для того, чтобы восстановить утраченную гармонию; наоборот, эстетический опыт нацелен на то, чтобы сделать потерянность постоянной»; причем эта «потерянность», для обеих концепций, отмечает Ваттимо, «не есть нечто временное – она конститутивна»202. Что и составляет, с его точки зрения, главный новый их элемент по отношению к классической эстетике, так или иначе основывавшей свой взгляд на искусство на определении красоты. Таким образом, эстетический опыт определяется Ваттимо не с точки зрения суждения о прекрасной форме, а с точки зрения происходящей в нем дереализации мира. На этой основе он противопоставляет современную эстетику любым классическим теориям красоты с их утопической надеждой на достижение универсальной гармонии. Однако нельзя не отметить, что повышенный интерес самого Ваттимо, а также обоих анализируемых им авторов к эстетике едва ли случаен: эстетический опыт, как он определялся начиная с возникновения эстетики в XVIII веке, то есть начиная с кантовской «незаинтересованности» (о чем мы говорили ранее), уже заключает в себе этот элемент «дереализации», лишающий сущее его оснований. Бытие вещей вне их функциональности, использования, научного определения, нахождения их места в системе координат (что оставляется на усмотрение научного мышления) становится настолько недоказуемым, что кажется неудивительным, что процесс должен закончиться ощущением тотальной потерянности, «проседания сущего» и выходом на первый план ужаса небытия, который и вызывает удар и шок, одновременно и создающий, и нарушающий целостность эстетического удовольствия. Неслучайно Хайдеггер видит в техническом производстве начало возврата к «мышлению бытия», а Беньямин ратует за предельное устранение ауратической «реальности» из продуктов масс-медиа, поскольку это обостряет возникающий в связи с ним подлинно 85 экзистенциальный опыт, составляющий основание человеческого существования как существования перед лицом смерти. При этом, если, по Ваттимо, есть нечто опасное в господстве масс-медиа и что-то отвратительное, отупляющее и пошлое в современной массовой культуре – то это не их симулятивность, не недостаток реальности, но напротив, все еще продолжающееся вторжение реальности в эту многообразную и текучую сферу. Это вторжение, как он полагает – вторжение экономическое, вторжение рынка, который «со своими законами является совершенно реальной инстанцией»203 и выставляет свои реалистические, прагматические требования, стремясь к монополизации всех ресурсов и подчинению их единому стандарту и единой схеме. В нем проявляется и выходит на поверхность неприкрытая никакими идеологическими прикрасами как бы «другая сторона», подлинно тоталитарное начало европейской рациональности. Однако уже с марксистской точки зрения рынок – это прояснение, проявление экономической подоплеки культурного обмена. Проявление же есть шаг к преодолению. Потому Ваттимо не оставляет своего оптимизма в отношении развития этой формы культуры, породившей вместе и рыночную экономику, и чувство экзистенциальной потерянности. Однако, как мы можем видеть, надежда Ваттимо состоит в том, что развитие этой формы культуры, в конце концов, должно одновременно и проявить ее существенные, заложенные в ней изначально черты, и, в то же время, преодолеть часть ее собственных оснований. Это развитие ведет к культурной трансформации, способной преодолеть, как он полагает, извечное бессознательное господство традиционной, описанной и осужденной Марксом экономической схемы. Ваттимо как бы продолжает марксистский, также, в целом, утопический проект, видя цель развития широких и разнообразных потоков массовых коммуникаций и способствующих ему технологических 202 203 Ваттимо Дж. Прозрачное общество. С. 60. Там же. С. 96. нововведений в разрушении господства рынка, обретении независимости от экономических требований и достижении свободы, неподконтрольной капиталу. Можно сказать, что основное противостояние, основная борьба происходит, по Ваттимо, между экономикой и эстетикой, представляющими, соответственно, тенденцию к предельной реализации и к предельной дереализации жизни в современном мире. В экономике и в эстетике европейская культура достигает своего наиболее характерного проявления. Но сползание к господству чистой экономики (на которое, как мы помним, сетовал Хейзинга, говоря об упадке игрового начала в современном мире), есть сползание к некому анти-культурному состоянию, к новой форме дикости. Потому если у данной формы культуры, по Ваттимо, есть потенциал развития – то можно сказать, что он состоит в победе эстетики над экономикой. Х. У. ГУМБРЕХТ: ИНТЕНСИВНОСТЬ ОПЫТА ПРИСУТСТВИЯ Несмотря на различие оценок, и Бодрийяр, и Ваттимо характеризуют явления, происходящие в современной культуре, как нечто длящееся, продолжающее предшествующее развитие. Бодрийяр оценивает трансформационные процессы пессимистически, как некое закономерное и зловещее следствие развития ранее принятых мировоззренческих предпосылок. Ваттимо, напротив, видит возможности для преодоления ряда негативных черт и приветствует трансформацию. Однако эта трансформация, пусть и радикальная, происходит внутри той же самой модели, модели, созданной историей западноевропейской рациональности. Обе теории оценивают эту историю как историю движения в сторону виртуализации мира, к акцентированию роли языка, медиа-носителя, к распространению тотальной медиальности. В целом, это концепции медиафилософии, где сущность мира, реальность сама по себе и как таковая все менее может быть постигнута непосредственно, все более отдаляется вереницей обозначений, где человек осознает, что если и может прикоснуться к ней, то только через переживание, сообщение, высказывание, и любая непосредственность присутствия 86 опосредована знаком. Удаление реальности через посредство сообщения выявляется как базовое свойство новоевропейской мысли. Но всегда остается возможность, рассмотрев предпосылки и условия развития этой мысли, осознать ее историческую условность и предположить возможность совершенно иных типов мышления. А также, если эта мыслительная традиция приходит в настоящее время к самосознанию своей ограниченности и, определенно, к кризису, который и вызывает повышенное внимание к проблеме трансформации, то можно предположить гораздо более фундаментальный сдвиг: полный отход от принятой схемы мышления, отход от погруженности в мир медиальности. Переход к такому способу осмысления современных процессов можно найти в первую очередь, как ни странно, в недрах самой медиафилософии. Так, к примеру, теория М. Маклюэна, высказанная им в «Галактике Гуттенберга» (1962) и возвещающая переход к совершенно новой синтетической аудиовизуальной культуре под влиянием развития технологически новых средств массовой информации имеет подобную направленность. Суть такого подхода состоит в том, что в данный момент происходит смена парадигм, включающая в себя полное изменение всей структуры мышления, восприятия, социальной организации, вплоть до преобразования антропологической структуры человека в целом. Опираясь на технологический детерминизм – так, расцвет предыдущей, индустриальной, парадигмы культуры связывается с изобретением книгопечатания – Маклюэн в дальнейшем развитии технологии видит возможность для радикального преодоления ограниченности и противоречий предыдущей системы. Обобщая, можно сказать, что, таким образом, возможен тип теоретического осмысления современности рассматривающий происходящие процессы как закономерно следующие из развития предшествующей парадигмы, но совершающие качественный скачок, переводящие культуру на принципиально новый уровень. Один из самых ярких вариантов такого подхода представляет немецко-американский мыслитель Х. У. Гумбрехт в своей сравнительно недавней работе «Производство присутствия: чего не может передать значение» (2004). Радикализм его позиции, ее наиболее суггестивный, и в то же время наиболее непрочный элемент состоит в том, что он пытается полностью порвать с тем, что называет «культурой знаков», то есть с медиа-определенностью, в которой видит основной признак предшествующей мыслительной парадигмы. Это анти-медиальная теория. Грядущее общество описывается здесь не как завязанное на тех или иных формах медиа и не как информационное, но скорее как полностью отвергающее проблему информации. Эту новую культуру, движение к которой Гумбрехт замечает в современном мире, он называет «культурой присутствия», то есть непосредственности опыта вне сообщения. Описываемое им новое мироощущение направлено скорее на вживание, чем на информирование. Однако следует отметить, что движение к этой новой культуре, по Гумбрехту, все же является закономерным следствием медиальных процессов и так или иначе связано с технологическим развитием медианосителей. Новое требование, требование присутствия, является, с его точки зрения, во-первых, реакцией на виртуальный информационный мир тотальной знаковости, но, во-вторых, закономерным результатом его преобразования: медиа-носители не обязательно должны использоваться только для передачи информации, они расширяют возможности непосредственного восприятия. Аудио-визуальная культура маклюэновской «глобальной деревни», культура, создающаяся радио, телевидением, компьютерными технологиями – это не информационная культура, это культура непосредственного опыта. Итак, Гумбрехт говорит о жажде присутствия, развившейся в последнее время в качестве реакции на тотальную виртуализацию мира, на его симулятивность, поглощенность знаками, текстами, отсылками к тем или иным медиа-источникам, на невозможность просто и непосредственно ощутить мир и ощутить себя. Это чувство многократно описывалось в теоретических размышлениях всего последнего столетия. Оно распространило себя, причем в достаточно осознанной форме, даже на наиболее бытовом уровне, сообщило себя через все то же господство медиальности, через многообразие информационных потоков. С одной стороны, разнообразие потоков вскрывает принципиальную недостоверность любой информации, которую раньше, при их скудости, просто принимали на веру без сомнений, и таким образом виртуализация и скепсис есть существенный этап развития сознания. Но с другой стороны, в 87 этой виртуализации теряется нечто весьма существенное: само чувство жизни. Что вызывает резкое желание остановиться и ощутить непосредственность опыта. На распространение этого отчаяния от виртуализации в область повседневной жизни обращает внимание С. Жижек, упоминая возникновение любопытного феномена «каттеров» – людей, испытывающих «непреодолимое желание резать себя бритвами или наносить себе телесные повреждения каким-либо иным способом». Жижек полагает, что этот порыв соответствует «виртуализации всего, что нас окружает», и внутри него «символизирует отчаянную стратегию возвращения к реальности тела». «По существу, – говорит он, – нанесение порезов следует противопоставить обычным татуировкам на теле, которые гарантируют включение субъекта в (виртуальный) символический порядок; проблема каттеров в обратном, а именно в утверждении самой реальности. Нанесение порезов вовсе не связано с какими бы то ни было суицидальными желаниями, это просто радикальная попытка найти твердую опору в реальности… Обычно каттеры говорят, что, глядя на теплую красную кровь, вытекающую из нанесенной себе раны, они чувствуют себя заново ожившими, прочно укорененными в реальности»204. Гумбрехт, впрочем, не прибегает к столь радикальным ассоциациям. Поиск реальности он осуществляет, обращаясь, в первую очередь, к особенностям эстетического опыта. Он признается, что ряд идей пришел ему в голову в процессе подготовки курса лекций по теме «Введение в гуманитарные науки». Прорабатывая педагогическую практику, он пришел к выводу, что в современных условиях и, возможно, при современных объемах знания, а также при их большой относительности и неопределенности, нет смысла пытаться заставлять обучающихся выстраивать их в единую систему, а главное, такие попытки почему-то встречают все большее неприятие в студенческой аудитории. То, что он предлагает взамен 204 Жижек С. 13 опытов о Ленине / Пер. с англ. А. Смирнова. М., 2003. С. 218. систематическому знанию определенной информации – это интенсивность эстетического переживания, создание эффекта присутствия. Вместо того, чтоб выстроить информативные знаки в систему, возможно, лучше обратить внимание, – но предельное, прицельное внимание – на ценность конкретного опыта. Он полагает, что нет смысла «обосновывать эстетическое переживание, ссылаясь на какие-либо иные ценности, кроме чувства внутренней интенсивности», причем в этом переживании также нет смысла ограничивать себя рамками традиционного набора канонических форм, так как «в наши дни поле актуального эстетического переживания должно быть гораздо обширнее»205. Таким образом, при чтении курса первой заботой для себя он полагал «суметь донести до студентов и заставить их почувствовать те особенные моменты интенсивности»206, которые сам вспоминал с большой теплотой и ностальгией. Эта интенсивность ощущения может возникнуть как при прослушивании какойлибо мелодии Моцарта, так и при взгляде на красивое тело женщины, или при переживании мгновенной радости при узнавании о забитом любимой командой голе. Любопытно, кстати, что введению спорта и связанных с ним переживаний в сферу опыта интенсивности присутствия Гумбрехт посвятил целую отдельную работу207. Он пишет: «То, что мы называем “эстетическим переживанием”, всегда внушает нам особое чувство интенсивности, которого не найти в исторически и культурно конкретном мире повседневности, где мы живем»208. Ведь если сводить эстетическое воздействие к передаваемому сообщению, то непонятно, почему это сообщение не может быть эффективнее передано в какой-либо более прямой форме. А значит то, что особо ценно в искусстве или любых других эстетических объектах – это отнюдь не сообщение. И потому именно и в первую очередь сферу эстетики Гумбрехт избирает для демонстрации перехода к ощущению присутствия. Однако далее он описывает это ощущение не столько в эстетических, сколько в мистикорелигиозных терминах: как эпифанию, то есть непосредственное богоявление, явление реальности как таковой. Эпифания заменяет сообщение, сообщение оказывается недостаточным, и в результате, на повседневном уровне стремление к узнаванию заменяется 88 стремлением к непосредственному переживанию. Так, например, наступает перелом даже в отношении к историческому знанию: «Лишенные возможности все время осязать, слышать или обонять прошлое, мы охотно лелеем иллюзии подобных ощущений»209. И конечно же в первую очередь такое непосредственное восприятие прошлого сообщается нам теми образами, которые стали возможны не благодаря, скажем, книгам или живописи, требующим слишком большого напряжения субъективного воображения для воссоздания картины прошлого, буквально погружающим индивида во внутренний мир его собственных интерпретаций, но благодаря кинематографу, телевидению, аудио-визуальным источникам информации, непосредственно представляющим нам «иную» реальность вне нас. В таком случае можно оценить и современное развитие технологий в сторону наполнения видео-изображений как можно большей жизненностью, объемностью, их стремление к стиранию грани между реальным и изображенным – но не с тем, чтобы все стало равно воображаемым, виртуальным, а как раз с целью придания виртуальному непосредственности присутствия. Любопытно то, что Гумбрехт, как и Ваттимо, говорит о всеобщей эстетизации – но видит в ней абсолютно противоположный смысл. Он осознанно противопоставляет себя Ваттимо, говоря, что у них есть «ряд общих проблем и прочтений», но реакция на происходящее в корне противоположна»210. Однако, как мы уже старались показать, именно определение субъективности эстетического суждения в Новое время положило начало процессу Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: чего не может передать значение / Пер. с англ. С. Зенкина. М., 2006. С. 101. 206 Там же. 207 Гумбрехт Х. У. Похвала красоте спорта / Пер. c англ. В. Фещенко. М., 2009. 208 Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: чего не может передать значение. С. 103. 209 Там же. С. 123. 210 Там же. С. 63. 205 виртуализации и распространению знаковости восприятия, что позволило Ваттимо свободно связать эстетизацию с дереализацией. Так что, развивая свою теорию на основе эстетики, Гумбрехт делает ее заведомо двойственной. Двойственность содержится уже в описании, переживания присутствия как эпифании, поскольку именно последнее заслуживает тех мистических терминов, к которым прибегает Гумбрехт и наибольшее соответствие которому видит в философии Хайдеггера211. То, о чем Гумбрехт пишет в последней главе своей книги о культуре присутствия, носящей знаменательное название «Миг покоя: об избавлении», есть описание мистического, почти медитативного опыта, опыта непосредственного постижения реальности за пределами обозначений. Однако те примеры, которые он приводит раньше, обращаясь к тенденциям массовой культуры, скорее говорят о простом забвении знакового характера реальности, усталости от информации, усталости от размышления. Это собственно и есть симулятивный мир – автономно функционирующее в отрыве от «реальности» общество тотального потребления, одержимое жаждой развлечений, увеличения аффектации чувств, возбуждения любыми способами. Если в нем человек предпочитает участие в событии процессу познания, вечеринку – образованию, визуальный, осязаемый образ масс-медиа – историческому исследованию, насыщенное иллюзиями настоящее – изучению прошлого, то по сути, вместо присутствия он получает вновь лишь знаки присутствия. Из чего именно – из этого пресыщения развлечением, событийностью, превращенной в знак – и возникает тот жест отчаяния, который описывает Жижек, и который Бодрийяр трактует как катастрофичность современного сознания. Собственно, это как бы ложное присутствие, симулякр присутствия. Такую тенденцию отчасти отмечает и Гумбрехт, но в итоге она действительно не есть то, о чем он говорит. В конце концов он признается, что состояние, которое он описывает «характеризуется колебанием между “эффектами присутствия” и “эффектами значения”»212. Это необходимое «продуктивное напряжение», противопоставляемое им слишком однозначному погружению в сферу толкования смыслов. Ссылаясь на Гадамера, он отмечает: так и стихотворение есть эстетический объект постольку, поскольку оно есть колебание между звучанием и значением. Интересно также, что 89 противопоставляя свой способ преподавания традиционному систематическому изложению информации, он говорит: «В конце концов, имея дело с педагогикой, я за последние годы убедился, что ни эстетический, ни исторический опыт (по крайней мере, в том виде, как они мне представляются) не обладают никаким потенциалом, позволяющим давать высшую ориентировку для индивидуального поведения или коллективных действий. Кроме того, я вообще сомневаюсь, что целью нашего преподавания, по крайней мере на университетском уровне, является давать такие ориентиры, даже если бы они имелись у нас в распоряжении. Скорее я убежден, что ныне наша первоочередная задача – подводить студентов к моментам интеллектуальной сложности, а значит, особого внимания заслуживают дейктические жесты – указания на те случаи, где эта сложность сгущается особенно сильно»213. Это вносит существенный элемент рефлексивности в его концепцию. Вспомним, что Гумбрехт принадлежит к литературоведческой традиции, и хотя, как литературовед, он критически относится к предшествующим направлениям, в том числе к деконструктивизму, по его словам, усугубляющему кризис литературоведения за счет использования литературных текстов для того, чтобы показать зыбкость любых смысловых структур 214, тем не менее это заключение удивительно напоминает уже приводившиеся слова Дж. Хартмана относительно того, что главная роль критики – делать текст интерпретируемым, делая его менее читаемым. Это и есть это задача усложнять, лишать самоочевидности – задача философской мысли со времен Сократа. И в то же время это всегда значит также лишать присутствие – наиболее близкое, наиболее очевидное – его непосредственности. Несмотря на критику, которой он подвергает Хайдеггера, он сетует, что оказывается «ближе к Хайдеггеру, чем мне бы хотелось (будь у меня такой выбор)» (Там же. С. 148). 212 Там же. С. 110. 213 Там же. С. 99-100. 214 Гумбрехт Х. У. Начала науки о литературе… или ее конец? / Пер. Е.Канищевой // Русский журнал. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2003/59/gum.html (дата обращения: 17.12.2010). 211 Лучшее, как полагает Гумбрехт, описание того, что он называет «актуальным эстетическим переживанием» присутствия, можно найти в приводимых им словах олимпийского чемпиона по плаванию, оставившего спорт, но потом вернувшегося к нему, объяснив это возвращение тем, что его увлекло чувство «затерянности в сосредоточенной интенсивности»215. Далее он поясняет все слова этой фразы: «интенсивность» переживания, возникающую при столкновении с трудной задачей, «сосредоточенность», указывающую на предшествующее интенсивному переживанию состояние «спокойной открытости», и «затерянность» – как «“основное”, положение, удаленность от мира повседневности»216. «Удаленность» эстетического переживания находится в соответствии с классической эстетической традицией, однако любопытно терминологическое совпадение этих слов спортсмена с уже приводившимися рассуждениями Ваттимо. Ведь «затерянность» в данном случае не отсылает к свойствам предмета восприятия, как бы вынесенного за рамки мира, но скорее к внутреннему ощущению субъекта. Эта затерянность сродни той, о которой Ваттимо говорит как о «затерянности в мегаполисе». Это растворение индивидуальности, скорее, чем обособление объекта, и в этом смысле именно «затерянность» открывает прямой путь к тому, что является итогом рассуждений Гумбрехта: к почти мистическому смыслу его теории. В завершении книги о присутствии он сам говорит о «подозрении (или же это должно было звучать скорее похвалой?) будто я превратился в “религиозного мыслителя”»217. И далее – хотя он признается, что сперва воспринял эти слова, какой бы ни была интенция их высказывания, почти как оскорбление, – следует вывод, что ему близки взгляды богословов, пытающихся «спасти онтологию от безраздельного господства эпистемологии»218. С другой стороны, он соглашается с критикой богословов, направленной против любого «утонченно идолопоклоннического гипостазирования чего-то неведомого и располагающегося “по ту сторону бытия”»219, настаивая, однако, на своем, поскольку находит неблизкими попытки найти истину бытия в литургической практике или в таинстве благодати. В итоге он определяет свою позицию как некую «нерелигиозную мистику», поскольку мыслит что-то «по ту сторону бытия», не становясь при этом теологом220. Но любопытно, что, следовательно, если речь здесь 90 идет о бытии (бытии «с маленькой буквы», как уточняет Гумбрехт), то речь идет о бытии как концепте, поскольку то, что противопоставлено ему – это непосредственность данности, непосредственность присутствия, безусловное существование любой вещи здесь и теперь, столь же недоказуемое, как и бытие Бога. И эта недоказуемая непосредственность, интенсивность присутствия, обретаемая в опыте затерянности становится предметом мистического переживания, некой апофатической мысли, неспособной определить свой предмет, поскольку деконструктивно-критически относится к любым возможностям определения. В целом, можно сказать, что Гумбрехт смотрит на присутствие как человек культуры знаков. Он призывает не забывать о непосредственности опыта присутствия, но все же вынужден признать, что без определенной доли отстраненного критического самосознания, связанного со сферой знаков, подлинный опыт присутствия невозможен. То есть жажда присутствия возможна только как реакция на излишнее господство знаков, как его другая сторона, следствие медиаопределенности современной культуры. Это самоотрицание – последний акт утонченного медиального мышления. С другой стороны, не менее важна сама культурная тенденция, отмечаемая им и, возможно, далеко отстоящая от его чаяний. Он полагает (отсылая к определениям Р. Козеллека), что современные споры о том, имеем ли мы в настоящем времени дело с модерном или постмодерном, являются «симптомом того, что хронотоп “исторического времени” подходит к концу, и независимо от того, называть ли наше время “модерном” или “постмодерном”, этот Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: чего не может передать значение. С. 108. Там же. 217 Там же. С. 145. 218 Там же. С. 146. 219 Гумбрехт ссылается на К. Пиксток: Pickstock C. Postmnodern Scholasticism. A Critique of Recent Postmodern Invocations of Univocity. Cambridge, 2002. P.38. (Там же). 220 Там же. С. 148. 215 216 процесс ухода исторического времени в прошлое, по-видимому, теперь уже и сам остался позади»221 Потому, как черту современности, жаждущей присутствия, Гумбрехт обозначает упадок исторического мышления, свойством которого является непрерывно отделять и отстранять себя от себя самого через обращение к основаниям и тщательное осмысление их (а не просто принятие в качестве традиции), что и представляет собой то самое бесконечное усложнение. Упадок и уход такого мышления означает забывание разрыва, забывание собственной недостаточности – и в то же время переход к непосредственности. Таким образом погружение в присутствие, в непосредственную данность, могло бы быть основано лишь на забвении критического порыва мышления, развитого европейской культурной традицией. Это не некий мистический восхищенный опыт, но скорее не отягощенная рефлексией простая повседневная уверенность в само собой разумеющейся данности того, что есть. В некотором роде возврат назад, к более старым культурным формам, возможно к средневековью или даже к первобытности, которые многим мыслителям уже и теперь напоминает современная культура. ДЖ. ЗЕРЗАН: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ К НЕПОСРЕДСТВЕННОСТИ ПРИРОДЫ Мысль о возврате, о возможном преодолении европейского типа мышления и, соответственно, тех опасных тенденций, к которым ведет его развитие, не раз возникала в течение последнего столетия. Во многом именно она определяла то отношение к процессам, происходящим в современной культуре, которое демонстрирует, к примеру, русская философия. Достаточно вспомнить работу Н. А. Бердяева «Новое средневековье», в которой он описывает современность как кризисный, поворотный момент преодоления западных форм мышления, распутье, ведущее к еще большему злу – или же к восстановлению подлинной сущности человеческой жизни (в возврате к средневековой религиозности)222. Также впрочем и внутренняя, европейская критика культурных оснований Нового времени, провидит 91 необходимость возврата к средневековым, античным или восточным культурным формам, обнаруживает в них мощный потенциал восстановления разрушенного европейской рациональностью мира. Хайдеггер как один из наиболее влиятельных мыслителей ХХ в. в достаточно полной мере выражает такую позицию. Тенденцию возврата к прежним формам культуры видят и теоретики постмодерна: У. Эко также, и не без некоторого оптимизма, говорит о новом средневековье223. Гораздо более пессимистично о «новой наивной эпохе» высказывается немецкий мыслитель О. Марквард224. Антропологические и этнографические исследования ХХ в., в противовес прежним, снисходительно-высокомерным представлениям о примитивизме средневековых и, особенно, первобытных людей, показали эти, казавшиеся «темными» эпохи как глубокие, оригинальные культурные феномены со сложнейшей системой организации общества, расцветом символических форм и, главное, с высокой степенью погруженности в сакральное, недоступной рациональному современному миру. Вспомним, что и Бодрийяр основывает свою пессимистическую критику на идее утраты прежнего гармонического единства, следуя в этом за Ж. Батаем и Ницше (последний также противопоставляет античное трагически-напряженное чувство жизни механицизму и утилитаризму рационалистической культуры). В общей форме этот теоретический посыл может быть сформулирован так: западноевропейская культура есть лишь одна из возможных культурных форм, мало того, далеко не лучшая, если не худшая и не наиболее опасная. Начиная с нее, или в ней особенно, человечество пошло по неверному пути развития. Дальнейшее следование этому пути чревато лишь крахом и, в лучшем случае, возвратом (возможно, катастрофическим и мучительным) к другим культурным формам, в худшем – тотальным уничтожением человечества вообще. То Гумбрехт Х. У. Производство присутствия: чего не может передать значение. С.122. Бердяев Н. А. Новое средневековье // Н. А. Бердяев. Смысл истории. Новое средневековье. М., 2002. 223 Эко У. Средние века уже начались // Иностранная литература. 1994. № 4. C. 258-267. 224 Марквард О. Эпоха чуждости миру // Отечественные записки. № 6 (14) 2003. 221 222 есть здесь мы имеем дело не столько с идеей трансформации имеющегося типа культуры в сторону смены парадигм, сколько с резким требованием такой смены вопреки логике его собственного развития, но вследствие тех угроз, к которым он приводит. В качестве одного из предельных образцов такого способа теоретического осмысления современности можно привести концепцию американского мыслителя Дж. Зерзана. Его взгляды характеризуются как анархо-примитивизм. Зерзан полагает, что ошибочный путь развития человечества начинается не с формирования новоевропейской культуры и не с возникновения античной метафизики, но непосредственно с перехода к агрикультуре и одомашниванию животных в первобытном мире. Таким образом, вся цивилизация, с ее неизбежным злом – разделением труда, эксплуатацией, социальной несправедливостью – это одна огромная ошибка. По мнению Зерзана – а в своей программной работе «Первобытный человек будущего» (1994) он отсылает к очень широкому кругу антропологических исследований, – до возникновения агрикультуры первобытный человек миллионы лет существовал на довольно высоком уровне интеллектуального развития и в полной гармонии с природой, и только какой-то катастрофический сбой привел человечество в последние десять тысяч лет к тем зловещим (в том числе и для планеты в целом) результатам, которые мы имеем на данный момент. Свою работу Зерзан посвящает характеристике основных черт до-агрикультурного состояния, доказательству того, что даже современные племена, близкие к этому уровню развития, несмотря на то, что вытеснены цивилизацией в весьма трудные условия, очень уверенно живут, посвящая труду, направленному на добывание пропитания – собирательству или охоте – гораздо меньше времени, чем цивилизованный человек. По его мнению (подкрепляемому ссылками на полевые наблюдения антропологов), первобытный неокультуренный человек был гораздо здоровее, способнее (в физическом плане и в плане восприятия), чем современный, а главное, имел гораздо больше времени для «реализации любых своих мыслимых идей»225. Вероятно, это достаточно утопический взгляд на первобытное прошлое. Однако он весьма отчетливо характеризует самосознание современной культуры. Подобная мысль о «неугнетенной жизни»226 древних времен становится все более популярной 92 даже на уровне массового сознания, не говоря о философском обосновании глобальных экологических программ. При этом все известные формы культуры подвергаются Зерзаном критике, начиная с возникновения языка, ведущего к формированию символической культуры, который характеризуется (здесь Зерзан соглашается с еще одним критиком современности – Л. Мамфордом) как «запрещающая сила», способ взять жизнь под контроль. Также, говорит Зерзан, еще «Леви-Стросс весьма убедительно доказал, что первичная функция письменного общения – помогать эксплуатации и подчинению»227. «Ритуал упрочивает концепцию контроля и доминирования и, как следует из наблюдений, питает идею лидерства… и ведет к централизованному политическому устройству»228. До некоторой степени, вину за переход к цивилизации с ее системой политического доминирования, он возлагает на деятельность первобытных шаманов. То есть Зерзан предлагает последовательную критику всей человеческой культуры, включая язык, письменность, ритуал, религию, политику и даже искусство (до-агрикультурному человеку, живущему в гармонии с природой и не отягощенному ритуальными практиками, оно было просто не нужно). Этим, по его мнению, весьма сомнительным достижениям он противопоставляет физическое совершенство первобытного человека: «Весьма правдоподобно объяснение, согласно которому неодомашненные люди находятся в гораздо большем согласии со своими телами. Чувства… собирателей не притуплены, а процессы жизнедеятельности не отчуждены от них». Он восхищается обнаруженным в исследованиях ряда антропологов замечанием о способности первобытных женщин предотвращать беременность не обладая никакими противозачаточными средствами: «Контроль над деторождением, возможно, Зерзан Дж. Первобытный человек будущего / Пер. с англ. А. Шеховцова. М., 2007. С. 42. Там же. С. 31. 227 Там же. С. 36. 228 Там же. С. 44. 225 226 совершенно не удивителен у тех, для кого тело не есть нечто чужеродное, объект действия»229. Также его впечатляет замечание К. Леви-Стросса о способности членов одного южноамериканского племени видеть планету Венеру при дневном свете. Как критик культуры, таким образом, Зерзан идет до конца – до предельного критического сознания собственных условий. Он признает, что только создание символической культуры и построение цивилизации привели к созданию всего, что нам представляется столь безусловно ценным: религиозного чувства, искусства, философии, науки. Но в тот момент, когда мы считаем это безусловно ценным, мы не должны забывать, что все зло, которое мы связываем с цивилизацией – подавление, эксплуатацию, несправедливость, войны, пытки, концлагеря, экологические катастрофы, преступность, бессмысленную агрессию, направленную против себе подобных – не нечто чужеродное этой высокой культуре, но ее обратная сторона, и даже, более того, в терминологии марксизма, тот базис, для которого эти прекрасные достижения являются лишь «идеологической надстройкой». В очерке «Тональность и тотальность», посвященном путям развития европейской музыки, Зерзан говорит: «Сонатная форма, в основе которой лежат контрапунктное сопоставление двух тем, тоника, разработка и реприза, обладает капиталистической динамикой; ориентированная на сохранение баланса и абсолютно недраматичная фуга – высшее достижение раннего контрапункта – отражала более статичное иерархическое общество»230. Таким образом, если мы намереваемся осудить капиталистический тип отношений, то мы не должны забывать, что восхитительное музыкальное искусство, развившееся в Европе в XVIII-XIX вв. – его прямое порождение, а не противоположность. В том же духе рассуждает и современный отечественный композитор-минималист В. Мартынов, также связывающий развитие европейской музыки и всего европейского искусства в целом с формированием субъективистской парадигмы мышления и установлением капиталистических отношений. Это искусство субъективного выражения авторского намерения, требующее своего публичного воспроизведения в пространстве музея или концертного зала, а также настаивающего на строгой фиксации в печатном тексте. Композитор, – говорит Мартынов, – это 93 один из тех, кто «превращает свободно льющийся поток в хитроумную ирригационную систему запруд, водохранилищ, фонтанов и резервуаров. Никто не будет спорить с тем, что эта система восхитительна и прекрасна, но не следует забывать также и о том, что возникла она в результате утраты свободно льющегося потока. Мы не будем… квалифицировать эту утрату как “ошибку” или “просчет”, мы просто будем считать ее платой за возникновение и существование великих произведений opus-музыки»231. Таким образом можно видеть, что проблема, которая ставится в подобных рассуждениях – не только проблема возврата к утраченному, но и проблема самосознания, проблема принятия своих оснований или проблема необходимости выбора. В целом, Зерзан пессимистически смотрит на культуру как на «утешительный приз» цивилизации, а на все цивилизационные приспособления, которые, на вид, направлены на улучшение жизни человека («трудосберегающие приспособления» – машины, технику и т.п.), как на выдумку, создающую иллюзию улучшения, а на деле обрекающую человека на непрерывный монотонный труд, направленный на воспроизведение самой себя232. Люди трудятся, чтобы иметь возможность и далее трудиться, это развивает принцип: непреложное требование труда, определение человека как трудящегося. Но для чего нужен весь этот труд? Вся историческая деятельность человеческой цивилизации являет собой, для Зерзана, объект критики. Настаивая на том, что природный, до-культурный человек-собиратель располагал всем необходимым для жизни и притом массой свободного времени, которого лишился из-за перехода к производству, Зерзан особенно любит прибегать к формуле, напоминающей, что под бетоном мостовой находится пляж233. Но в некотором смысле это желание видеть пляж, Там же. С. 48. Там же. С. 78. 231 Мартынов В.И. Зона opus-posth, или Рождение новой реальности. М., 2008. С. 100. 232 Зерзан Дж. Первобытный человек будущего. С. 60. 233 Там же. С. 61 229 230 скрытый плитами мостовой – итог длительной истории ее строительства, предел сознательной деятельности, без которой такое желание немыслимо. Если зачем-то нужна, в таком случае, длительная история жестокой борьбы и тяжкого труда, то для того, чтобы осознать роскошь покоя234. Переход к пост-историческому и анти-экономическому состоянию бездействия – скрытый итог и утопическая цель деятельностной концепции производства. Но особенно существенно то, что критический проект Зерзана представляет собой не только радикальный вариант критики европейской культуры, но и проект критики культуры в целом. Подобные критические течения периодически возникают в истории мысли, единодушно противопоставляя человеческой деятельности идеал гармонии с природой. Часто подобные течения носят религиозно-мистический характер. Проект Зерзана интересен тем, то выстраивает себя всецело в терминологии европейской науки, на почве позитивного антропологического исследования, фактически, с опорой на эволюционную теорию. И в то же время он содержит в себе наиболее полное отрицание культуры, находя идеал совершенства не в мифологическом райском прошлом «золотого века», а в историческом прошлом человека как вида, возврат же к нему представляет не как результат долгого духовного развития, всегда задействующего культурные достижения в качестве некой «снятой» ступени, опоры провозглашаемой новой формы существования, но как полное отрицание всего прошлого исторического развития как сплошной грандиозной ошибки. И один из наиболее интересных итогов этого проекта состоит в том, что в своем радикальном и последовательно доведенном до предела отрицании он настаивает на том, что, фактически, любой вариант развития культуры, ведет закономерно к одному и тому же негативному современному итогу. То есть западный вариант культуры, с ее субъективизмом, рационализмом, прямотой товарно-денежных отношений, скептицизмом и отрицанием традиций – это закономерный итог любого последовательно проведенного проекта культурной деятельности (если учесть, что и искусство, и религия, и любые формы труда, и сам язык, по Зерзану, являются результатом отклонения от правильного природного существования человеческого 94 вида). В некотором смысле, как, по Марксу, капиталистическая экономика представляет собой не один из вариантов, но чистый вид ранее идеологически прикрытых разнообразными ритуальными условностями производственных отношений, так и, по Зерзану, европейская рациональность представляет собой чистый вид и предел любой рациональности в целом, также освобожденный от прикрас недоосознанности, которая сродни гегелевскому пониманию искусства как пройденного этапа, поскольку оно порождает сложные небуквальные символические формы выражения того, что, в итоге, может быть выражено ясно и отчетливо без художественных эффектов. Но это означает также, что теоретический проект Зерзана полностью включен в отвергаемую им структуру мысли и не скрывает этого, напротив, активно опираясь на нее в процессе ее внутреннего опровержения. Он буквально использует ее, не пытаясь предложить никаких теоретических вариантов ее преодоления: в теории их просто нет. Он поступает так же, как Лютер, на заре становления новоевропейской рациональности говоривший, что понятие Бога неестественно для человеческого мышления, и потому любые рассуждения скорее уведут от него, чем приведут к нему. А если что-то в них приведет к нему, то скорее тот факт, что их итогом будет полное отрицание Бога и тотальный агностицизм. Неслучайно, и, в принципе, в том же ключе, С. Вейль полагала, что «из двух людей, не имевших опыта общения с Богом, ближе к нему тот, кто его отрицает»235. Обретение благодати – не вопрос теории. То, к чему подводит последовательно проведенная теория – лишь опустошенное место для получения Эта ситуация, сопоставляющая два типа мировоззрения, хорошо может быть проиллюстрирована старым анекдотом про негра и плантатора, где последний, увидев, как негр лежит без дела под пальмой и ест банан, впадает в морализаторский порыв и корит его, поучая, что тот мог бы, вместо того, чтоб бездельничать, залезть на пальму, собрать бананы, продать их, на заработанные деньги нанять помощников, собрать еще больше бананов, продать их, и т.д., в конце концов завести собственную плантацию, на которой бы трудилось множество людей, а сам бы он ничего не делал, лежал под пальмой и ел банан… На что негр отвечает: «Но я и так это делаю!» 235 Крогман А. Симона Вейль, свидетельствующая о себе / Пер. с нем. М. Бента. Челябинск, 2003. С. 27. 234 благодати, для преображения. Но само преображение – вопрос практики, вопрос события, оно случается или нет. Так и теория Зерзана как на вариант выхода указывает лишь на практику. Но сама по себе практика, отталкивающаяся от теории Зерзана, оказывается довольно катастрофической, даже намеренно террористической, поскольку полное отрицание культуры в теории должно на практике вести к попыткам ее действительного разрушения236. С другой стороны, катастрофический элемент может быть включен и в саму теоретическую основу, что мы можем увидеть, к примеру, в анархической теории немецкого философа Г. Бергфлета. Он также подвергает критике современную культуру, основывающуюся на новоевропейском капитализме, и предлагает в противовес ей проект анти-экономики. По его мнению, главная ошибка Маркса состояла в том, что он, справедливо критикуя недостатки капиталистического производства, тем не менее никогда не ставил под вопрос сам производственный процесс, а напротив того, полагал его развитие и результаты чем-то положительным и ведущим к итоговому прогрессу. По мнению Бергфлета, «критика химер производства не может вестись с точки зрения экономической науки»237. Именно против принципа производства как такового высказывается Бергфлет. Он опирается на идею Батая, подхваченную также и Бодрийяром, о том, что «что все традиционные общества существуют за счет растрачивания прибавочного продукта в ходе ритуальных или праздничных процедур… Это превосходство принципа расточительства над принципом накопления встречается даже там, где производство находится на нижайшем уровне. Объяснение такого парадокса – в наличии стремления к внутренней роскоши, которое свойственно глубинам человеческого существа, как бы парадоксально это ни звучало для расчетливого рассудка»238. То, что подвергается критике – это ставшая доминантой капитализма безостановочная рациональная деятельность, направленная на накопление, в конце концов становящееся бессмысленным, уничтожающееся внутренним избытком. Проект анти-экономики призывает вернуться к принципу расточительства, поскольку «вся жизнь проистекает из странного изначального расточительства, которое тождественно Солнцу, и поэтому жизнь просто обязана 95 протекать так же блистательно, как солнечное сияние»239. Такой возврат может быть осуществлен за счет сознательного восстания – не классовой революции, но суверенного внутреннего, метафизического восстания «анарха» (термин Э. Юнгера). «Мгновение Восстания открывает высшую суверенность, которая сама по себе уже отменяет всякое насилие… Энергия, которая обнаруживается в суверенности Восстания и которая делает невозможное возможным, есть энтузиазм смерти, сакральное вдохновение, уничтожающее все конечное (как раз в силу “факта этой конечности”, как говорил Шлегель) и проистекающее из самой смерти»240; Состояние же «анарха», по Бергфлету, можно охарактеризовать так: «Два элемента, доведенные до своего пароксизма, сливаются в таком качестве как храбрость перед лицом смерти – предельное отчаяние и предельный энтузиазм”»241. Таким образом можно видеть, что терминология, в которой Бергфлет описывает выход за пределы экономики – терминология романтическая. А в основе своей – особенно если учесть отсылки к Юнгеру и Батаю – она находит свои наиболее глубокие обоснования в гегельянстве, то есть в кульминационной системе европейского субъективизма. Этот дух свободного творчества, бесцельной растраты, подобной сиянию солнца, акцентируется экзистенциалистскими интерпретациями Гегеля как основа модернистской субъективности. Но таким образом борьба «анарха» против экономики – борьба внутри все той же системы, Неудивительно, что Т. Дж. Качински в своих терактах опирался на теорию анархо-примитивизма. Бергфлет Г. Горизонты антиэкономики // Вторжение. Отдельный выпуск. № 3. М., 2000 / Арктогея: философский портал / URL: http://arctogaia.org.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=783 (дата обращения: 22.10.11) 238 Цит. по: Мелентьева Н. Общая теория восстания Герда Бергфлета // Сайт «Анарх.ру» / URL: http://www.anarh.ru/anarch/3/melenteva.htm (дата обращения: 22.10.2011) 239 Там же. 240 Цит. по: Там же. 241 Там же. 236 237 порождением которой является также и экономика накопления, бесконечный процесс производства. И если эта борьба состоит в сознании суверенности, то цель ее совпадает с гегелевским достижением абсолютного самопознания, итогом которого становится конец истории, переход от непрерывности исторической деятельности к мерному бездеятельному созерцанию. Однако следует еще раз обратить внимание на немаловажную сторону примитивистских и анархических теорий – на их экологическую сторону. В принципе, экологический пафос критики производства понятен. Так, обосновывая свой критический взгляд на современную ситуацию как на укорененную в производстве, Бергфлет пишет: «Производственная химера представляет собой пример предельного европейского нигилизма, который стал между делом планетарной идеологией, потому что то, что лежит в его основании – это некая мироотрицающая воля к искоренению всей жизни на этой планете. Мы должны ясно понять, что опустошение Земли явится прямым следствием производственной химеры, и что не существует какого бы то ни было политического или экономического средства приостановить или вообще предотвратить это опустошение Земли. Если главенство производства надо всем остальным не будет сломлено, неизбежным станет общей слом всех видов нынешней жизни, включая экономическую сферу»242. При этом одно из его существенных предположений, сообщающих возможность выхода, сосредоточено на восстании природы: «Восстание природы означало бы внезапное наступление другого порядка, с которым людские козни не совладали бы, который, скорее всего, вывел бы из обращения всепоглощающий антропоцентризм, который лежит в основе нашего способа производства. При таком внезапно наступившем порядке Земля сама стала бы оглашать свою волю, чего человек с того времени должен был бы быть достоин, которой бы он беспрекословно и радостно подчинялся из-за ее священного характера. Это было бы возвращение мифических времен»243. Также и Зерзан пишет, противопоставляя себя пессимистическим критикам: 96 «Постмодернисты считают, что общество, лишенное властных отношений, может существовать исключительно в абстракции… Это – ложь – если только мы не согласимся со смертью природы и не откажемся от того, чем обладали раньше и что вновь можем обрести. Тернбулл писал об интимности отношений между лесом и мбути, которые танцевали так, словно занимались с лесом любовью. Они “танцевали с лесом, танцевали с луной” в самом сердце жизни равных с равными. И этот уклад жизни борется за свое существование и никакой абстракцией не является»244. Однако вероятно, по логике этих теорий, для достижения победы такого уклада в современных мировоззренческих условиях нужно вновь либо полное забвение, которое может быть только результатом некой катастрофы или скачкообразной смены антропологического типа, – либо действительное вмешательство внечеловеческих сил. Чтобы человек, как он есть, вновь мог танцевать с лесом, нужно чтобы и лес был способен танцевать с ним. Хайдеггер говорил когда-то, с опасением глядя на развитие ситуации: «Только Бог еще может спасти нас». В атеистической анархо-катастрофической интерпретации Бергфлета эти слова могли бы звучать так: только природная катастрофа еще может спасти нас. Однако и здесь сама природа наделяется неким мистическим, божественным статусом, одушевленностью архаического мифа. В любом случае, подобная версия развития предполагает необходимость, или даже страстно жаждет некого резкого внечеловеческого вторжения. В то время как любые версии развития в человеческой перспективе так или иначе могут быть сведены к структурам, разработанным в пределах европейской критической субъективистской мысли. Если говорить о концепции Зерзана, то он предполагает возможность возврата к неотчужденному природному состоянию на основании целенаправленного решения Бергфлет Г. Горизонты антиэкономики. Там же. 244 Зерзан Дж. Первобытный человек будущего. С. 54. 242 243 человечества, которое, по его мнению, становится возможным в современных катастрофических условиях, поскольку именно теперь мы можем отчетливо осознать смертельную опасность избранного ранее «культурного» пути развития. Подобная экологическая утопия, не предполагая за собой метафизического или религиозного основания, может быть охарактеризована как род эстетической утопии: той самой утопии возвращения к непосредственному состоянию, возникновение которой, как мы старались показать в первой части, связано с развитием романтической рефлексивной субъективности. Основанием же такого решения, по Зерзану, является возможность перевести внимание со знаковой структуры мира на его телесную наполненность. Постмодернистскую теорию он упрекает в излишней «дематериализации» и «десенсуализации» мира245. По сути дела, здесь мы сталкиваемся с еще одной стороной эстетики, поскольку первый порыв эстетики – оправдание телесности, айстезиса, чувства, и неслучайно еще Кант применял ее более к природе, а не к искусству. Анализируя становление эстетической рациональности, мы уже обращали внимание на то, что, в первую очередь, она может быть связана с повышением интереса к чувственному опыту, к опыту чувственного восприятия. С другой стороны, уже на примере истории европейского сенсуализма можно увидеть, как быстро он переходит к той самой «дереализации» мира, опыт тела полностью сводя к разряду психических, а далее и лингвистических феноменов. Но нельзя забывать, что акцентируемый в рамках лингвистического поворота европейского мышления знак – это, в первую очередь, именно материальный объект, и именно материальность его составляет основу его непроницаемости, составляющей предмет медиафилософии. Проблема медиа-носителя состоит в том, что он является условием возможности и одновременно помехой на пути коммуникации между отделенными друг от друга сознаниями, причем настолько значимой, что в конце концов возможность самих этих сознаний поглощается им. И основанием этой проблемы является именно материальный, телесный, и, соответственно, чуждый этим гипотетическим «сознаниям» характер знака. Еще Декарт говорил, что бессмертие души и бытие Бога постигнуть легче, чем существование собственного тела: хотя оно дано как объект, но чуждо мысли. Для 97 субъективистского мышления тело само по себе оказывается неким чудом, необъяснимым фактом, делающим мир одновременно всецело познаваемым в качестве объекта, но совершенно непостижимым в своих основах. Зерзан Дж. Катастрофа постмодернизма / Пер. с англ. А. Шеховцова // Первобытный человек будущего. М., 2007. С. 150. 245 III. ВАРИАНТЫ ПРОРЫВА ГРАНИЦЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ И ТОТАЛЬНАЯ ЭСТЕТИЗАЦИЯ Можно заметить, что концепции, которые мы описали в предыдущей главе, далеко не во всем противоречат друг другу. Скорее они могут быть рассмотрены как дополняющие друг друга. Они говорят о трансформации современной культуры и более-менее сходны в характеристике существующей на данный момент ситуации, а также основных тенденций ее изменения, различаясь, по большей части, в оценках. Тенденции изменения оказываются в них связанными с выделением тех или иных эстетических определений, а общее направление движения современной культуры может быть охарактеризовано как неуклонная и тотальная эстетизация. Эстетизацию современной культуры можно, как нам кажется, рассмотреть двояким образом: с одной стороны, как эстетизацию мышления, с другой – как эстетизацию жизни. Несмотря на очевидную взаимосвязь этих процессов, они оказываются отчасти противостоящими друг другу. В первом из них можно увидеть итог развертывания модернистской теоретической мысли, углубления рефлексивного мышления, обретающего свой предел в деконструкции. Второй же, как нам представляется, ведет к выходу за пределы модерна, к «пост-модерну» уже не в смысле продолжения модернистской парадигмы, но в смысле выхода в некое принципиально новое обширное пространство246. Потому в последних двух главах нам хотелось бы последовательно рассмотреть сперва ряд наиболее, как нам кажется, существенных проявлений и следствий эстетизации мышления, коснувшись уже не столько взглядов теоретиков на перспективы развития культуры, сколько трансформаций самого теоретического мышления в современных условиях. Далее же следует затронуть проблему эстетизации жизни, или, скорее, рискнуть наметить один из возможных подходов к этой проблеме, в качестве основания анализа избрав сферу наиболее очевидного проникновения эстетики в практику: сферу искусства. И именно здесь мы сможем разглядеть 98 процессы, ограничивающие и преодолевающие парадигму модерна. Но начнем мы с того, что является краеугольным камнем идеи трансформации и, таким образом, теоретической предпосылкой возможности самого модерна: с метаморфоз европейского исторического мышления. Таким образом, первая проблема, к которой мы обратимся – это проблема эстетизации истории. ЭСТЕТИЗАЦИЯ ИСТОРИИ В предисловии к книге «Возвышенный исторический опыт» Ф. Р. Анкерсмит определяет в качестве ее основной цели поиск ответа на вопрос: «Что нас вообще заставляет осознавать прошлое, что должно случиться или уже случилось с какой-нибудь нацией или каким-нибудь сообществом, чтобы их захватила идея собственного прошлого?»247 Поскольку, как он показывает, далеко не все нации и сообщества оказываются захваченными этой идеей. Ответ на свой вопрос он ищет в сфере травматического опыта, опыта становления культурного самоопределения на базе рефлексии, которая неожиданно делает явным то, что до тех пор оставалось скрытым. Примером подобного опыта для европейской мысли Анкерсмит считает Французскую революцию, которая явилась событием, прояснившим основания той жизни, которую европейский мир вел прежде, то есть прояснением собственной идентичности, причем Это различие М. Эпштейн описывает как различие между «постмодерном» и «постмодернизмом». Постмодернизм в его трактовке является лишь начальным и уже прошедшим периодом постмодерна как обширной эпохи, внутри себя двоякой: ведь «пост» означает, с одной стороны, завершение прежнего этапа – апофеоз исторического духа модерна, окидывающего, подобно умирающему, всю свою жизнь бесконечно запоздалым прощальным взглядом, критически деконструирующего, в продолжение своего извечного рационального порыва, собственные основания, с другой же – полный отказ и отход от модернистской парадигмы (См.: Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория. М., 2000. С. 7). 247 Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт / Пер с англ. А. А. Олейникова М., 2007. С. 14. 246 таким прояснением, которое одновременно оказывается ее утратой 248. Основу культурного сознания современного западного человека, как полагает Анкерсмит, составляет тот факт, что этот человек «стал тем, кем больше не является». «Кем он был раньше, его прежняя идентичность – все это трансформировалось в идентичность человека, который знает о своей прежней идентичности (но больше не совпадает с ней)»249. Это и составляет основу развития исторического мышления250. Неслучайно Анкерсмит так парадоксально связывает зарождение интереса к прошлому с опытом забвения: развитие исторического мышления разыгрывает с историей странную шутку. Ведь оно превращает ее из непосредственной, но возможно, не представляющей самодостаточного интереса данности (так, в античности, отмечает он, ознакомление с историей могло использоваться, скажем, для назидания) в нечто первостепенно важное, но всегда утраченное, прошедшее, и, фактически, ирреальное. И как такой прошедший и забытый в качестве данности, но осознанный в качестве утраты факт, она становится неким моделируемым из настоящего повествованием о движении прошлого. Она приобретает нарративность – именно ту черту, которая, как полагает Анкерсмит, является камнем преткновения современной философии истории (черту, которую сам он стремится проанализировать и преодолеть). Итак, можно сказать, что развитие исторического мышления связано с развитием субъективной рефлексии и проявляет себя в тот момент, когда эта рефлексия обращается на собственные исторические основания. Причем в этот момент собственная идентичность рефлексирующего субъекта оказывается подорванной, и субъективность впервые ставится под вопрос. Интерес к истории – это интерес модерна, что выражается уже в возникновении самого подобного наименования: наименования эпохи, определяющей свою идентичность исключительно через тот факт, что она является современной, новой по отношению ко всему предшествующему. По словам Хабермаса: «Историческое сознание, которое выражает себя в понятии “модерн”, или “новое время”, конституировало некий взгляд с позиции философии 99 истории – рефлексивное представление о собственном местоположении, обусловленное горизонтом истории в целом»251. Модернистский взгляд на историю всегда есть взгляд перспективистский. Он располагает к доскональному объективному исследованию всего, что попадает в его перспективу, внутри которой, однако, превращает всё в элемент своей Поясняя эту мысль, Анкерсмит ссылается на различие, произведенное К. Манхеймом между консерватизмом и традиционализмом: «Традиционализм характеризует свойственную любому человеку зависимость выбора своей жизненной ориентации от устоявшихся традиций; в этом смысле всякий человек (и даже революционер) является традиционалистом. Согласно Манхейму, Французская революция внезапно заставила людей осознать, что они всегда жили в мире традиций, хотя и не отдавали себе в этом отчета: просто потому, что таков был их образ жизни и таковым было их мировоззрение. Но Великая революция неожиданно вознесла их над миром неосмысленных традиций и впервые заставила задуматься о них. И следовательно, консерватизм, как убедительно показывает Манхейм, стал осознанием традиции – и это может объяснить непреодолимую пропасть, разделяющую традиционализм и консерватизм. До революции невозможно было быть консерватором; после революции уже невозможно было быть традиционалистом – именно революция возвела между ними несокрушимый барьер. <…> Даже консерватор осознавал, что, как бы яростно он ни проклинал революцию, мир необратимо и неумолимо обрел новую идентичность и человеку мудрому и чуткому остается только согласиться с этим» (Там же. С. 445-446). «Осознание» и «новая идентичность» являются двумя взаимосвязанными чертами травматического опыта, ведущего к возникновению интереса к прошлому. 249 Там же. С.455. 250 По причине чего, вероятно, столь бурное развитие философии истории, идеи исторического движения, начинается в Европе именно со времени Французской революции. Что, впрочем, как мы можем заметить, накладывается на тот факт, что идентичность, которую революционный бум конца XVIII в. позволяет осознать, уже и сама по себе зависела от нахождения себя в истории, от отношения к предшествующему времени, характерному для эпохи Возрождения, начавшейся с жажды восстановления античной культуры. Таким образом, если следовать логике Анкерсмита, идентичность западного исторического мышления формируется в момент осознания себя как обладающего историческим мышлением – и тогда именно историческое мышление и способы описания истории ставятся под вопрос. 251 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне / Пер. с нем. М. М. Беляева, К. В. Костина, Е. Л. Петренко, И. В. Розанова, Г. М. Сиверской. М., 2003. С. 11. 248 собственной, субъективной истории. Потому изложение истории только здесь возможно как историческая наука, но именно здесь оно приобретает черты всегда выверенного и выстроенного с позиции воспринимающего взгляда рассказа. Вместе с осмыслением этой модели исторического описания возникает и подозрение что такая модель, хотя и кажется нам самим естественной, достаточно чужда другим культурным традициям. Так О. Шпенглер, настаивая на наличии непреодолимых сущностных различий между культурами, отмечал, что подобное европейскому чувство времени было незнакомо мифологизирующей древности с ее циклическим взглядом на время; также оно было неизвестно античности, равнодушной ко времени, не имеющей отчетливого летосчисления и возводившей родословную своих героев непосредственно к богам; или же Египту, чтящему длительность, но перечисляющему длинные ряды своих фараонов как одно и то же воплощение одного и того же божества. Но в рамках самой чувствующей историю западной культуры позиция Шпенглера представляет собой кульминацию субъективистского сосредоточения на собственном взгляде, которое проявляется во все более настойчивом полагании «другого». С одной стороны, прошлое рассматривается как чужое и радикально непохожее, описывается в терминах различия парадигм – вплоть до полной невозможности проникновения в чужой способ мышления. С другой стороны, оно мыслится как необходимость, то, без чего невозможен наш собственный исторический опыт. Историческое прошлое выступает в качестве первейшего «другого», относительно которого осознает себя субъективность. Этот «другой» составляет неизбежный элемент ее уникальности, внутреннюю различенность субъекта. Так что, вероятно, моделирование истории можно рассмотреть как одну из наиболее существенных характеристик проекта модерна. Потому по достижении понимания истории в качестве замкнутого нарратива, определяющего горизонт субъективности, она должна быть понята как собственное порождение субъективности, ее творение, произведение ее творческого акта, а по сути – как вымысел252. «Фактов нет, но только интерпретации», – это высказывание Ницше едва ли характеризует чтолибо лучше, чем произвольность исторических утверждений. Потому при столь 100 фундаментальной значимости исторического мышления для проекта модерна именно эстетизация истории, понимание ее как нарратива, строящегося по правилам художественного вымысла, возможно, демонстрирует один из самых отчетливых признаков крушения (или самодеконструкции) проекта модерна. В начале своей «Аналитической философии истории» (1965) американский философ А. Данто253, разделяет философию истории на два вида – субстантивную и аналитическую. Субстантивная философия истории занимается вопрошанием о смысле и значении истории как таковой. Подобное «схватывание» смысла истории лежит в основе большинства исторических исследований, претендующих на статус исторической науки, поскольку изложение событий прошлого в них всегда вынуждено опираться на определенное понимание того, что есть история вообще, история с некой абсолютной точки зрения, или, что то же самое, на философское мировоззрение историка. Но таких мировоззрений может быть и было очень много. Они являются культурно и исторически ограниченными, а, значит, на деле, не могут дать ответа на вопрос о том, что есть история с абсолютной точки зрения, поскольку точка зрения историка всегда относительна. Потому Данто не желает продолжать заниматься субстантивной философией истории, находя более полезным в настоящей ситуации анализ условий Причем при определенном развитии в сознании этого факта, такой вымысел оказывается возможным легко заменить на любой другой. Склонность современности к «альтернативным историям» той или иной степени серьезности – от простой игры и шарлатанства до фундаментальной исследовательской позиции – едва ли может быть рассмотрена как случайность. Скорее это характеристика исторического мышления на высокой стадии его развития, той стадии, которая переводит его к его же противоположности. Ее можно назвать постмодерном и связать с распадом субъективистской парадигмы, осознающей, и тем самым деконструирующей собственную структуру. 253 Более прославившийся впоследствии работами по философии искусства, на которых мы остановимся в следующей главе. 252 возможности исторического повествования. Он задается вопросом: как строится историческое повествование, какова его структура? С его точки зрения, изложение истории может быть рассмотрено как нарратив и определяется правилами развития нарративной структуры повествования, а значит анализ его структуры совпадает с анализом литературного текста. Возникает вопрос: если мы утверждаем, что историческое повествование может быть проинтерпретировано по принципам художественной наррации, не упускается ли здесь из виду существование определенного количества неустранимых исторических фактов-свидетельств? Однако Данто отнюдь не отвергает наличие фактов, и даже предполагает возможность простой их фиксации – хроники. Но хроника, причем даже хроника, снабженная пояснениями, не будет историческим повествованием. Максимально подробное описание сделало бы не более, чем повторило «историю-как-реальность». Оно не стало бы историческим исследованием, поскольку для последнего именно «повествование является способом организации событий», ввиду чего «историки оказываются вовлечены в то, что можно назвать “интерпретацией”»254. Повествование представляет собой одновременно способ описания и способ объяснения, включающий исторический факт в интерпретативную структуру, основанную на том или ином представлении о значении истории. То есть факт сам по себе, вне интерпретации, хотя и существует неустранимым образом, но не представляет собой, собственно, исторического факта или факта исторической науки. Он есть необъясненный и невыразимый сгусток реальности за пределами знания, вещь в себе, скорее, чем предмет научного знания. Он есть, но ничего не значит, а стало быть, он лишен исторического смысла. То, что история строится по принципам рассказа, художественного произведения, не лишает ее достоверности. Если критика Данто касается вопроса о достоверности, то это не столько достоверность истории, сколько структура самой научной достоверности в рамках новоевропейского способа фактического познания. Аналитическая философия не отказывает фактам в их фактичности, но задается вопросом о том, что в принципе есть факт. Факты оказываются существующими лишь в рамках повествования. Но историческое повествование существенно отличается от повествований других наук (почему, как показывает Данто, уже логический позитивизм с 101 большим скепсисом относился к возможности высказываний о прошлом). Фактической достоверности исторического повествования препятствует сам его временной характер: для построения более-менее полной исторической системы знаний нам всегда чего-то недостает. Но недостает нам не столько отсутствующих знаний о прошлом, сколько гораздо более существенного пласта – знаний о будущем. Система всегда остается незавершенной, объяснения никогда не могут быть даны окончательным образом. Каждое следующее полученное знание о будущем, по мере того как будущее становится настоящим, заставляет нас переосмысливать взаимосвязи между уже известными фактами, включать их в новую структуру объяснений. Историческое повествование вынуждено меняться с течением времени, потому что повествование всегда выстраивается исходя из разного завершающего момента, а значит и объяснительная схема, система смыслов и значений события каждый раз оказывается иной. Причиной относительности исторических объяснений является не недоверие к историческим свидетельствам, но простое незнание будущего. Если только мы не претендуем на некое пророческое описание этого будущего с точки зрения субстантивной философии истории. Субстантивный философ истории, как полагает Данто, занимается тем, что нетерпеливо стремится «настоящее и прошлое увидеть в перспективе будущего». Однако эта перспектива предполагает знание окончания истории, истории в ее полноте, так как «у всякого рассказа должен быть конец»255. И тем самым здесь соединяются две важные черты субстантивной философии истории: с одной стороны, ее пророческий характер, претензия на божественное видение, и, с другой стороны, ее художественный характер, или тот факт, что историческое изложение, определенное той или иной концепцией истории, представляет собой законченный нарратив. Это же ведет и к тому, что любое историческое изложение, опирающееся на Данто А. Аналитическая философия истории / Пер. с англ. А. Л. Никифорова, О. В. Гавришиной. М., 2002. С. 136. 255 Там же. С.21. 254 субстантивную философию истории, будет необходимым образом выстраиваться исходя из окончания истории, то есть представлять историю как закончившуюся. «Пророческий» характер философии истории позволяет историческому повествованию существовать в двух модусах. Либо оно на самом деле опирается на пророчество (к примеру, религиозное) и выстраивает историю по вертикали, исходя из этого внешнего, уже заданного раз и навсегда божественного смысла (каковым определена, скажем, христианская, философия истории). В этом случае история мыслится как движущаяся к этому уже заданному концу. Либо историческое повествование претендует на горизонтальное развертывание, осуществление смысла в самой истории. Но тогда, чтобы смысл, складывающийся в самой истории, мог быть постигнут, история должна схватываться как уже завершившаяся. Сколь бы глобальной ни была историческая модель, она всегда оказывается замкнутой, потому что история мыслится из точки ее отсчета, которая является также и ее целью, она мыслится из своего конца, из завершения. Такой подход самым отчетливым образом являет себя в философии истории Гегеля. Мысль о конце истории при горизонтальном развертывании является естественной и изначальной, составляя необходимый структурный элемент истории как науки. Но ввиду того, что история каждый раз оказывается все-таки еще продолжающейся и требующей переописания исходя из нового финального момента, каждое предыдущее описание истории приобретает характер хорошо выстроенного, однако в достаточной мере произвольно структурированного рассказа. Так что при всей устойчивости исторических фактов, выстраиваемые на их основании системы исторических объяснений могут анализироваться скорее по принципам литературы. В 1960-70-е гг. идея подобного подхода к истории набирала силу. Возможно, самым ярким и последовательным образом ее выразил американский литературовед Х. Уайт в фундаментальном труде «Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века» (1973), где он, исходя из принципа нарративности истории, предлагает методологию анализа исторического текста с жанрово-тропологической точки зрения, выявляя поэтику исторического повествования. Но в нашем контексте представляется важным не столько изложить подробно 102 предлагаемый Уайтом метод, сколько обратить внимание на его собственные мировоззренческие предпочтения. Своему, по сути, литературоведческому исследованию Уайт предпосылает введение, озаглавленное «Поэтика истории», где, как он сам определяет свою цель, излагает «формальную теорию исторического сочинения»256. Один из его основных тезисов состоит в том, что «повидимому, в каждом историческом описании реальности существует нередуцируемый идеологический компонент»257. Как следствие этого он заключает, что «история не есть наука, или в лучшем случае, есть протонаука с определенными ненаучными элементами своей конституции»258. Ненаучные элементы в ней есть элементы идеологические. Идеологический подтекст проистекает из того, что повествование, выстраивающееся как связное, всегда пытается «понять “настоящее”, как бы это “настоящее” ни определялось. Иначе говоря, сама претензия на разграничение прошлого мира социальной мысли и практики от его настоящего и на определение формальной связности этого прошлого мира предполагает представление о том, какую форму должно принять это знание о современном мире, предполагает постольку, поскольку он непрерывен с этим прошлым миром»259. С тем, чтобы выявить эти подтексты, надо рассматривать историческую работу как «вербальную структуру в форме повествовательного прозаического дискурса, предназначенную быть моделью, знаком прошлых структур и процессов в интересах объяснения, чем они были, посредством их представления»260. Причем статус выявленных исторических моделей «не зависит от природы “данных”, которые они Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века / Пер. с англ. Е. Г Трубиной, В. В. Харитонова. Екатеринбург, 2002. С. 17. 257 Там же. С. 41. 258 Там же. 259 Там же. 260 Там же. С. 23. 256 используют для подтверждения своих обобщений или теорий, привлеченных ими для объяснения»261. На самом деле, Уайт располагает эти тезисы в обратном порядке: в начале введения он постулирует нарративность истории, чтобы далее на этой основе постепенно показать неизбежную идеологическую и контекстуальную ограниченность любого исторического исследования и поколебать статус истории как науки. Также в начале он эксплицирует еще одну значимую позицию: «Историческое сознание можно рассматривать как специфически западный предрассудок, посредством которого задним числом доказывается предполагаемое превосходство современного индустриального общества»262. И то, что это положение стоит в начале введения в качестве предпосылки дальнейшего исследования, показывает, что вся предложенная метаисторическая теория становится возможна благодаря тому, что западное историческое сознание поставлено под вопрос. Историческая форма восприятия мира не является больше само собой разумеющейся и настойчиво требует поиска своих оснований. Но, с другой стороны, именно нахождение таких оснований и делает ее не само собой разумеющейся, не напрямую отражающей объективную действительность, но чем-то вроде особого рода художественного вымысла, вызывающего подозрение в неустранимой идеологичности, включенной в его структуру. То, что дано в качестве предпосылки, является также и следствием, выводом (хотя формально, выводом для Уайта является построение метаисторической системы поэтики истории). Нельзя не заметить, что такое теоретическое построение имеет собственную идеологическую направленность. Говоря о последовательности основных тропов исторического повествования, Уайт пишет: «Важный момент состоит в том, что философия истории, будучи взята как целое, приходит к тому же Ироническому состоянию, к которому историография пришла в последней трети XIX века»263. Таким образом, развитие метаистории, прослеживаемое Уайтом, само представляет собой линию исторического развития. И эта линия описывает развитие парадигмы новоевропейского исторического мышления, предрассудком которого, как было постулировано ранее, является сам принцип построения линии исторического развития чего бы то ни было. 103 Значит линия, предложенная Уайтом, сама включена в парадигму исторического мышления, которую хочет поколебать. Изнутри нее она демонстрирует логику того, как это мышление приходит к самокритичному ироническому состоянию, перестает казаться самому себе само собой разумеющимся и ставит себя под вопрос. Собственную линейную историческую модель Уайт также вынужден признать художественным вымыслом, осуществлением в историческом повествовании тропа иронии. «Ирония предполагает нахождение в “реалистической” точке зрения на реальность, из которой может быть достигнута нефигуративная репрезентация мира опыта. Тем самым Ирония представляет собой стадию сознания, на которой признается проблематичная природа языка», – пишет он. И продолжает: «Троп Иронии, далее, является языковой парадигмой такого типа мысли, который радикально самокритичен в отношении не только к данной характеристике мира опыта, но также к самому усилию адекватно схватить в языке истину вещей. Короче говоря, это модель языкового протокола, в котором традиционно выражается скептицизм в мысли и релятивизм в этике»264. Уайт предполагает даже «метатропологичность» иронии – постольку, поскольку только она связана с осознанием – осознанием сбоя в использовании языка, осознанием его принципиальной тропологичности; с осознанием того, что так или иначе наш опыт выражается через языковую структуру и, стало быть, подчинен языковым законам; с осознанием этих законов и того, что язык не является простым отражением «реальности». И это значит, что конечный вопрос иронической стадии исторического мышления, по Уайту, – вопрос о языке. Этот вопрос о языке приводит историческое сознание к обнаружению собственной фиктивности, художественности собственного статуса, к осознанию себя как художественного акта. Историческое мышление, в соответствие со структурой теории Уайта, постепенно Там же. Там же. 263 Там же. С. 61. 264 Там же. С. 56-57. 261 262 приходит к состоянию иронического саморазрушения, и концепция метаистории описывает стадии этого последовательного движения к концу. Таким образом, концепция метаистории описывает историю того, как западное историческое сознание пришло к пониманию, что оно есть не более чем «предрассудок». ЭСТЕТИКА ВОЗВЫШЕННОГО В своей попытке преодоления нарративизма исторического мышления, Анкерсмит обращается к категории возвышенного, обозначая этим термином некий интенсивно переживаемый опыт, связанный с ностальгическим чувством утраты, с чувством отсутствия, которое только, как он полагает, способно сформировать идентичность рефлектирующего субъекта, хотя она и переживается всегда как потерянная, прошедшая. Возвышенный опыт – это опыт травмы, опыт зияния. Определение возможности субъективного переживания в европейской рационалистической традиции, как ни странно, оказывается связано с негативными категориями: с утратой, разрывом, отсутствием, наконец, собственно, с негативностью. Но следует обратить внимание на тот пафос, который сопутствует в эстетике разговору о возвышенном. Пафос этот существенно расходится с произвольностью и как бы некоторой «несерьезностью» эстетической игры способностей, которая, согласно Канту, образует суждение о прекрасном. Все, что было сказано в предыдущих главах об эстетизации, нарративности и симулятивности современной культуры, о пустотности, игровом характере и виртуальности современного мира, практически сводится на нет, как только мы обращаемся к категории возвышенного. Здесь вдруг возникает глубина и подлинный ужас. Посмеем даже сказать, что, возможно, головокружительный подъем европейского искусства, глубина его нравственных смыслов, и все, что принято относить к характеристике его духовного наполнения, относится не к сфере прекрасного, но именно к сфере возвышенного. Вспомним ставшее знаменитым определение Ж.-Ф. Лиотара: «Модернистская эстетика – эстетика 104 возвышенного». Но начнем издалека. В начале развития новоевропейской эстетики Кант, давший систематическое определение обеих категорий, относит чувство возвышенного только к природе, но не к искусству. Поступает он так на том основании, что искусство всегда предоставляет нашему эстетическому суждению некую форму, в то время как условием возникновения возвышенного чувства является как раз невозможность ее ухватить. И поскольку в качестве эстетически прекрасной, по Канту, оценивается именно форма, искусство как предмет эстетики всегда представляет собой нечто прекрасное. В своем понимании возвышенного Кант отталкивался от предшествующей традиции, уже увидевшей в наличии этого чувства особую проблему. Развившаяся непосредственно после Канта художественная и философская традиция, оказывается буквально пленена этим чувством, постепенно начиная именно в искусстве находить его наиярчайшие проявления. Но если определение Канта, касающееся бесформенности или неспособности ухватить форму, взять за основу понимания возвышенного, то соотношение возвышенного чувства с искусством оказывается весьма двойственным. Гегель связывал с категорией возвышенного раннюю и еще неопределенную форму искусства, где идея не может быть адекватно схвачена материей, указывающей на нее как на нечто отсутствующее. Когда же идея вновь теряет способность быть полностью представленной в материальной форме во всем ее многообразии и достигнутой конкретности, наступает конец искусства. Мы выходим за его пределы постольку, поскольку наша сверхчувственная природа, схватываемая мыслью, оказывается настолько превышающей все чувственные формы, схватываемые воображением, что последнее вынуждено уступить свои позиции рефлексии. Завершение искусства можно, таким образом, связать с переходом в радикально возвышенное состояние духа. Но в таком случае, если что-то в искусстве представляется вызывающим подлинно возвышенные чувства, если нечто в произведении оказывается превышающим любой масштаб чувств, это может навести на подозрение, что предметом суждения является вовсе не форма искусства, но, скорее, то содержание, которое этой формой передается или тот превышающий чувственную способность предмет, который оно изображает. Бушующий океан или извергающийся вулкан (к которым отсылает Кант как к проявлениям мощи природы «в ее дикости и хаосе», способным пробуждать возвышенное чувство) могут произвести на нас равный эффект и при наблюдении воочию, и при созерцание их изображения на картине. Причем, возможно, на картине, благодаря искусству художника и в зависимости от его мастерства, даже многократно сильнее. Однако возникает вопрос: будет ли наше эстетическое чувство относиться все-таки к форме носителя или к референту произведения, а следовательно, будет ли оно чувством прекрасного или возвышенного? А если также вспомнить, что сам Кант едва ли мог наблюдать большинство подобных, вызывающих возвышенные чувства объектов собственными глазами, но, скорее всего, был вынужден ограничиваться изображениями, описаниями в литературе и собственным воображением 265, но все же отрицал за искусством способность быть предметом суждения о возвышенном, то надо признать, что либо он проявлял здесь странную слепоту, либо у него были веские основания для такого ограничения. И второй вариант представляется значительно более вероятным. Можно сказать, что путаница между суждениями о прекрасном и о возвышенном возникает еще на уровне естественного словоупотребления, поскольку при наблюдении описанных Кантом явлений мы часто готовы с восторгом выдохнуть «как красиво!», выразив тем самым охватившее нас бурное эстетическое переживание. Конечно, в бушующем океане или извергающемся вулкане мы вполне способны найти массу чистой эстетической красоты, так или иначе соответствующей орнаментальности кантовской эстетики: все эти брызги и блеск, сияющие потоки лавы и ярко подсвеченные мрачные клубы дыма, и т.п. Но остается вопросом, это ли именно вызывает в нас столь сильное чувство восторга, да еще, как утверждает Кант, способствует возникновению ощущения ничтожности собственной индивидуальной природы и возвышает к нахождению в себе некой сверхчувственной способности? Кант отмечает, что возвышенное чувство, в отличие от чувства прекрасного, свойственно далеко не всем, поскольку, вероятно, не все могут обнаружить в себе это сверхчувственное свойство и прозреть за созерцанием внешних форм непредставимую идею бесконечности. Для этого нужно, 105 пожалуй, не только высокое развитие моральной способности, но и действительно сильное воображение, способное на то, чтоб вступить, хоть и в заведомо проигрышную, но все же в игру с разумом. Так что можно предположить, что для кого-то вулкан может остаться действительно только достаточно красивым сверкающим предметом. Однако в суждении о возвышенном, в отличие от суждения о прекрасном, есть одна особенность, которая довольно быстро позволяет точно определить его там, где речь идет о природе. Дело в том, что Кант, в качестве теоретического условия, выдвигает для вынесения такого суждения наличие безопасного расстояния266. При уменьшении расстояния любое эстетическое суждение о могущественном природном явлении – будь то суждение о прекрасном или о возвышенном – исчезнет само собой, вытесненное простым животным страхом. И этот страх происходит из одного факта, который присутствует только в природе, но не в искусстве: из неустранимой реальности происходящего. Тот предмет, который может вызвать в нас возвышенные чувства (а может и не вызвать) является реальностью, а не иллюзией. В то же время чувство прекрасного в принципе существует только на уровне иллюзорности: не будучи заинтересованы в существовании предмета, и вообще не зная, что это такое (поскольку суждение допонятийно), мы не знаем, сон это или явь, греза или предмет материального мира. В В работе «Жизнь и учение Канта» Э. Кассирер приводит любопытный рассказ о присущей Канту «точной чувственной фантазии», позволявшей ему компенсировать недостаток живого опыта, воспроизводя его благодаря «поразительной способности созерцания и представления» в цельную картину на основе чужих сообщений. «Так, однажды он описал в присутствии коренного лондонца Вестминстерский мост, его облик и устройство, длину, высоту и масштабы всех отдельных частей с такой точностью, что англичанин спросил его, сколько лет он прожил в Лондоне и занимался ли специально архитектурой, на что ему ответили, что Кант никогда не выезжал за границы Пруссии и не является архитектором по профессии» (Кассирер Э. Жизнь и учение Канта / Пер. с нем. М. И. Левина. СПб., 1997. С. 44). 266 Кант И. Критика способности суждения // И. Кант. Соч. в 8-ми тт. Т. V. М., 1994. С. 101. 265 случае с возвышенным, однако, (и возможно именно поэтому оно не есть для Канта чистое эстетическое суждение) ощущение реальности практически необходимо (и если это не реальность самого предмета, то хотя бы той идеи разума, с которой мы соотносим его созерцание). Так, если с достаточно безопасного расстояния океаны, вулканы, бури и прочие стихийные бедствия, а также мощные взрывы, катастрофы (то есть как раз то самое, о чем, как мы помним, Бодрийяр, характеризуя современную культуру, говорит как о мощном источнике привлекательности для современного зрителя) могут вызвать восклицание «как красиво!», то при уменьшении расстояния, а еще более при осознании реальности происходящей трагедии, гибельного масштаба бедствия, эти слова покажутся аморальными и неуместными, неким извращенным эстетством. При этом возвышенное чувство может остаться в силе и даже послужить основой для подлинного морального действия. Так что проблем с разделением прекрасного (позитивно радующего формой) и возвышенного (вырывающего нас из пределов чувственной ограниченности) по отношению к тому, что обладает статусом реального события, избежать весьма легко. Но в то же время это разделение окажется весьма сложным по отношению к искусству – уже потому, что искусство, по сути, всегда задает нам достаточное безопасное расстояние по отношению к созерцаемому предмету. Задает его постольку, поскольку мы знаем, что изображенная на картине, в литературном произведении или даже, например, в кино катастрофа – это только вымысел и никакой реальностью не обладает. Можно сказать, что это безопасное расстояние и есть расстояние между вымыслом и реальностью. Чувство возвышенного, в отличие от чувства прекрасного, как уточняет Кант, относится не к объекту восприятия, но высказывается лишь о субъекте267. Это не оценка предмета, но лишь определенное внутреннее состояние, которое мы находим не в предмете, а в себе самом или, можно сказать, это способ суждения о субъекте, негативно соотносящий чувственную ограниченность с бесконечностью сознания. Это чувство, по Канту, может вызывать 106 практически все, что обладает достаточным масштабом и мощью – и природные явления, и высказывания, и идеи, и даже война268. И, конечно же, столкновение с произведениями искусства, представляющими все эти масштабные и мощные, угрожающие человеку предметы часто с мастерством, вызывающим наиболее отчетливое и заостренное их восприятие, ни в коей мере не выпадает из этого перечня. Но очевидно, что воздействие здесь оказывается несводимым к формальному удовольствию. В структуру самого восприятия включается элемент проживания созерцаемого как реальности – некой внутренней реальности субъекта, возвышающегося к своему моральному предназначению. Сама же рукотворная форма произведения, обладающая конечным масштабом, легко схватываемым чувственным воображением, возвышенного чувства вызывать не будет, лишь давая проявиться сквозь себя той неведомой реальности, которая превышает масштабы чувств. Таким образом можно предположить, что если определение прекрасного относится к сфере вымысла, то возвышенное чувство возникает там, где происходит столкновение с пугающей реальностью. И тогда наделение искусства возвышенными чертами (характерное уже для романтизма, на пороге которого Кант разрабатывал свою эстетику), чревато размыванием не только границы между прекрасным и возвышенным, но и границ самого искусства. Ведь мы имеем дело с вымыслом, наделяя его в то же время чертами реальности, но одновременно сама реальность при таком смешении превращается в вымысел. Если вернуться к утверждению Лиотара о том, что современная эстетика есть эстетика возвышенного, то можно заметить, что различие между модерном и постмодерном Лиотар прослеживает также на основании отношения к возвышенному. Эстетика модерна – «ностальгическая; она допускает указание на непредставимое лишь как на какое-то отсутствующее содержание, в то время как форма, благодаря своей устойчивости и 267 268 Там же. С.83. Там же. С.101. узнаваемости, продолжает предлагать читателю или зрителю повод для утешения и удовольствия. Но чувства эти не составляют подлинного возвышенного чувства, которое есть некое сокровенное сочетание удовольствия и боли: удовольствия от того, что разум превосходит всякое представление, и страдания от того, что воображение или чувственность не в силах соответствовать понятию»269. Фактически он вторит здесь ницшеанскому диссонансному определению трагического мышления. Но: «Постмодерном окажется то, что внутри модерна указывает на непредставимое в самом представлении; что отказывается от утешения хороших форм, от консенсуса вкуса, который позволил бы сообща испытать ностальгию по невозможному; что находится в непрестанном поиске новых представлений — не для того чтобы насладиться ими, но для того чтобы дать лучше почувствовать, что имеется и нечто непредставимое»270. Его обвинение искусству, которое вопреки экспериментам авангарда пытается остаться на позиции прекрасной формы, состоит в том, что новые, «фото- и кинематографические методы могут лучше, быстрее и с тысячекратно большим размахом, чем живописный и повествовательный реализм, выполнить ту задачу, которую академизм возложил на этот последний: уберечь сознание людей от сомнения»271. То есть старые формы искусства, желающие прекрасно представлять реальность, оказываются просто ненужными, и, опять же, ничтожными. Утешительный опыт прекрасной формы больше не может составлять сути трагизма в постсовременной ситуации. Но это значит, что указывая на непредставимое в самом представлении, разрушая любые представления, постсовременная эстетика в еще большей мере являет себя как эстетика возвышенного. Она обращается уже только к бесформенному, и возвышенное выходит на первый план – тем самым разрушая возможность искусства. Разрушая – поскольку устраняя из него прекрасную форму (на которую направлено первичное эстетическое суждение), в то время как быть источником возвышенного чувства может, в принципе, абсолютно все. Удовольствие от возвышенного, как его определял Кант – негативное удовольствие, возникающее из краха воображения, диссонирующего со способностью субъекта найти в себе 107 самом нечто сверхчувственное, нечто за пределами феноменального мира, вещь в себе, трансценденцию. Или стать, по уже приводившемуся определению Кожева, «животным, трансцендирующим себя во времени», животным, знающим о своей смерти. Этот опыт трансценденции, превращающий человека в гегельянский абсолютный дух – это маргинальный опыт, опыт смертности. Фактически, смерть, носимая в себе самом, граница и источник самоопределения, высшего самосознания – это предмет возвышенного чувства и основа субъективности. Но возвышенный объект здесь – не трансценденция в смысле Бога или некого иного, идеального, лучшего, потустороннего истинного мира, который был бы лишь еще одной мыслимой частью реальности, еще одним представлением субъекта, но сама смерть как уничтожение, отсутствие, зияющая пустота, правящая изнутри субъекта, «радикальная негативность» – источник абсолютной свободы, произвольности, автономии, игры, необусловленности, и источник «как если бы» эстетического суждения. Дискурс, отталкивающийся от субъективной (в противоположность метафизической) идеи смерти – это возвышенный дискурс. Бодрийяр, опираясь на Батая (а тот, в свою очередь, на Гегеля), основу человеческого существования описывал в терминах модернистской трансгрессии, отрицания, дарения, жертвования, нахождения себя в другом, борьбы и свободного творчества. Но главное противостояние здесь может быть охарактеризовано эстетически: это противостояние гиперэстетизированного мира симулякров, свободной игры иллюзий – и возвышенного опыта смерти, структурирующего эту игру. Такое разделение подобно уже описанному нами выше расслоению, происходящему ввиду интернализации свободы. В тот момент, когда субъект становится автономным, а трансценденция погружается вовнутрь него, вовне остается только Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? / Пер. с франц. А. Гараджи // Ad Marginem’93. М., 1994. С.321-322. 270 Там же. С. 322. 271 Там же. С. 311. 269 субъективная проекция, пустая, ничтожная, ничего не значащая форма. Это тот самый момент, когда произведение искусства осознается как высший продукт субъективного выражения, как явление абсолютной Идеи. И в тот же момент оно теряет свой статус значимого, становится чем-то несерьезным, перед чем не стоит, по словам Гегеля, преклонять колен. Мир становится гиперэстетизированным и лишенным эстетической ценности одновременно. И, как описывает Бодрийяр, опыт смерти, бесконечно увеличивая свое значение в качестве внутреннего экзистенциального опыта, оказывается в то же время исключенным из податливой эстетизированной реальности, которая не имеет самостоятельного существования, но лишь бесконечно копирует себя. Она – как индуистский покров иллюзии, наброшенный на небытие – держится на пустоте и зависит от нее. Ее источник – пустота внутри субъекта, бесконечная идея смерти, возвышающая его над всем представимым272. Можно сказать, что Бодрийяр просто фиксирует действительно произошедшее разделение того, что раньше пребывало в органическом единстве: символических структур культурного обмена, игровой сферы внешнего действия, с одной стороны, и таинственного внутреннего опыта трансцендирования, внутренней свободы, представляющейся теперь как зияющая точка небытия – с другой. Вторая сторона этой оппозиции одновременно разрушает, лишая смысла и превращая в чистую симуляцию, весь внешний опыт – и в то же время единственно его поддерживает и наделяет смыслом. Бодрийяр говорит, что опыт смерти исключен из мира симулякров. Но именно его пугающее отсутствие лишает этот мир подлинности, отрывает от былой основы в бытии. Оно превращает реальность мира в утрированную гиперреальность руководимую только принципом жизни, простого биологического существования, в биоэтическую сферу, где сохранение жизни тела – главная цель, где все характеристики значимого объекта сводятся к его материальной, сексуальной, биологической составляющим. Одновременно признается тотально знаковый характер этой гиперреальности, которая есть лишь текст, так что собственно жизнь в ее физической насыщенности становится в ней невозможна. Только смерть, отсутствие, исчезновение, но не жизнь сообщает этому гиперматериальному и в то же время тотально знаковому миру (а знак всегда есть материальный 108 носитель) наполнение, выступая как единственное значение всех знаков. Она структурирует вокруг себя возможность жизни – что проявляет себя в жажде катастроф, в структурной необходимости кризиса и разрушения для поддержания спокойствия существования в эстетизированном мире. Смерть не превращается здесь, в катастрофических шоу, апокалиптических страхах, тотальности красочного разрушения, наполняющего сферу потребления, в еще один товар, однако составляет тайное или явное условие ценности любого товара. Он ценен и востребован, лишь если имеет хоть какое-то отношение к небытию, если в него включен хоть какой-то катастрофизм – на уровне формы или содержания. Но таким образом Бодрийяр фиксирует в качестве оппозиции, определяющей структуру восприятие интериоризированного субъекта, по сути, именно оппозицию между прекрасным и возвышенным. Возможно, это и является источником эстетизации обоих качеств, то есть того, что они становятся предметом субъективного суждения. Ведь можно сказать, что для метафизического, онтологического мышления, завязанного на данности бытия, прекрасное и возвышенное пребывают в подлинном единстве: прекрасное лишь потому прекрасно – как это было у Платона, – что возвышает, ведет к постижению трансценденции. Но для эстетического субъективистского мышления, для которого бытие не составляет данности, а трансценденция осуществляется вовнутрь субъективности, они распадаются как соблазнительный, прекрасный, Рассуждая о возвышенном Кант говорит: «Быть может в иудейской книге законов нет ничего более возвышенного, чем заповедь: Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе, вверху, и что на земле, внизу, и что в воде, ниже земли, и т.д. Одна эта заповедь может объяснить энтузиазм, который еврейский народ в эпоху развития своей нравственной культуры испытывал к своей религии…» (Кант И. Критика способности суждения. С. 114). Английский исследователь Э. Боуи позицию самого Канта в немецкой философии сравнивает с позицией Моисея: наиболее существенная часть его философии, та, что касается ноуменальной свободы субъективности, не может быть, по признанию самого Канта, объяснена. Кант находится в позиции Моисея не потому, что куда-то приводит, а потому, что, как тот указывал на непостижимость Бога, указывает на непостижимость субъекта (Bowie A. Aesthetics and Subjectivity. Manchester Univ. Press, 1990. P. 23-24). 272 но всегда существующий лишь «как если бы» мир симуляции, и иное, внутреннее, глубинное пространство внутренней свободы. В этом пространстве кантовское «самоотречение», то есть сам возвышенный моральный порыв, замещает собой объект и внешнюю цель этого самоотречения. Можно сказать, что конечной целью морального действия, основанного на чистом долге, свободном от всякой склонности, является смерть – предельное освобождение от уз чувственного мира, от уз существования, желанное постольку, поскольку всё существование, весь чувственный мир уже признан иллюзией. Реальность в собственном смысле можно искать лишь на стороне смерти, и другой реальности для свободного субъекта нет. «СУБМЕДИАЛЬНАЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ» И НОВАЯ АПОФАТИКА Is it a mirror? – or the nether Sphere… Wordsworth «Есть ли это зеркало? – или нижняя Сфера…» – эти слова из сонета В. Вордсворта, возможно, наилучшим образом могут проиллюстрировать ту проблему, к которой подводит нас анализ эстетического расслоения между прекрасным и возвышенным. Хотя, на первый взгляд, сонет полностью строится исключительно в возвышенной терминологии. Он описывает ночное звездное небо (первый образ кантовского возвышенного), отраженное в глади озера, и в этой связи задается уже означенным вопросом: Is it a mirror? – or the nether Sphere Opening to view the abyss in which she feeds Her own calm fires?273 Вордсворт так определял принцип своей поэзии: «выбирать события и ситуации из обычной жизни… и в то же время набрасывать на них определенные цвета воображения»274. Эта 109 Приведем это стихотворение полностью, а также, не претендуя на какую-либо поэтичность перевода, попытаемся дать приблизительный подстрочник: Clouds, lingering yet, extend in solid bars Through the grey west; and lo! these waters, steeled By breezeless air to smoothest polish, yield A vivid repetition of the stars; Jove, Venus, and the ruddy crest of Mars Amid his fellows beauteously revealed At happy distance from earth’s groaning field, Where ruthless mortals wage incessant wars. Is it a mirror? – or the nether Sphere Opening to view the abyss in which she feeds Her own calm fires? – But list! a voice is near; Great Pan himself low-whispering through the reeds, Be thankful, thou; for if unholy deeds Ravage the world, tranquillity is here! 273 [Облака, еще медлящие, протянулись сплошной грядой По серому западу; но взгляни! эти воды, скованные Безветренным воздухом и превращенные им в отполированную поверхность, Породили живое повторение звезд; Юпитера, Венеры и красного шлема Марса, Среди своих собратьев выделяющегося красотой, На счастливом расстоянии от земных стонущих полей, Где безжалостные смертные ведут нескончаемые войны. Есть ли это зеркало? – или нижняя Сфера, Открывающая взгляду бездну, в которой она вскармливает Собственные мягкие огни? – Но слушай! голос рядом; Сам Великий Пан тихо шепчет сквозь тростники: Будь благодарен! Ведь если нечистые дела Разрушат мир, здесь спокойствие!] двойственность оказывается весьма существенной. Процитированное стихотворение также предлагает некий выбор. Но весьма странный выбор, поскольку это не выбор между «верхним», божественным миром звезд и «нижним» миром отражения. Выбор касается лишь определения статуса того, что мы видим на водной поверхности. Следует обратить внимание на то, что зеркальная поверхность в сонете не отражает звездное небо, но повторяет его. Указание на повторение обозначает как бы утрату связи с «оригиналом»: оно ни в коей мере не является лишь вторичным объектом, но обладает независимым существованием275. И через предложенный поэтом выбор зеркальное повторение противопоставлено некой «нижней Сфере», воссоздающий новый, иной, принципиально отличный от «верхнего» мир. Исследователь романтической поэзии Л. Брисман, обращаясь к этому сонету как к одному из центральных примеров проблемы выбора в романтической поэзии, проинтерпретировал этот новый мир «нижней Сферы» как метафору поэтического воображения. Но главное он видит в том, что выбор не осуществляется. Выбор, предложенный здесь – это выбор определения: считать ли повторение звезд в водной глади только зеркалом или бездной иного мира, порожденного поэтическим воображением? Окончательное предпочтение второй альтернативы, обращающее «физические пространства в метафоры сознания», было бы, как полагает Брисман, крахом поэзии. Такое предпочтение, то есть полное погружение во внутреннюю сферу, есть безумный акт, ведущий к катастрофическому коллапсу, предельный образ которого, с точки зрения Брисмана, дает мильтоновский Сатана, настаивающий на окончательном выборе в пользу своего воображения, чем «вырывает почву у себя из по ног и делает свое падение бездонным»276. Брисман характеризует это предпочтение как действительную возможность и соблазн, присутствующий внутри романтизма. Но существование последнего как продуктивной художественной практики зависит от способности остаться в состоянии колебания и между альтернативами и этого выбора не осуществить. Нисхождение в сторону «нижней Сферы» являло бы собою погружение в бездну внутренней субъективности, солипсистский порыв, превращающий внутреннее пространство в единственную возможную реальность, противопоставленную реальности «верхнего» мира и 110 ничем уже не отличную от «земных стонущих полей», где «смертные ведут нескончаемые войны». Что лишило бы ее, конечно, всей глубины и спокойствия. Спокойствие сообщается ей, фактически, лишь ее иллюзорностью, несуществованием этого мира. Но эта иллюзорность поддерживается наличием первой альтернативы (зеркала). Пространство воображения действенно, мощно и спасительно лишь потому, что воображаемого нет. Или, поскольку речь идет о воображении как о бездне внутреннего мира, можно сказать, отсылая к терминологии, которую мы уже связали с чувством возвышенного: оно есть ничто, находимое в себе самом – та самая способность, которая превышает пределы чувств, и прямым соответствием которой является зримый образ звездного неба, схваченный созерцанием в отражающей поверхности. Мы буквально сталкиваемся здесь с выбором между двумя модусами эстетического суждения (постольку, поскольку это суждение всегда субъективно и не высказывается ни о божественном «верхнем» мире, ни о смертных полях). С одной стороны, это иллюзорный образ, видимый на поверхности озера. С другой стороны, бездна внутреннего мира, радикальная негативность, существующая, однако, лишь как эффект иллюзорного отражения на поверхности (и потому составляющая предмет эстетического чувства). Как плод субъективного созерцания отражение, приобретающее характер повторения, можно было бы назвать симуляцией оригинала. Но его иллюзорность, «подвешивающая» ниспадение в 274 Wordsworth and Coleridge, Lyrical Ballads. U.K., 1987. P.20-21. В параграфе 26 «Об определении величины природных вещей, требующейся для идеи возвышенного» говорится: «Следовательно, возвышенна природа в тех ее явлениях, созерцание которых заключает в себе идею бесконечности» (Кант. И. Критика способности суждения С. 93), что еще раз напоминает о том, что идея не столько является чувственно, сколько возникает при созерцании. В самой природе, которую мы можем чувственно воспринять, бесконечности нет, поскольку наше чувственное восприятие ограничено – иначе не стоило бы над ним и возвышаться к «сверхчувственной способности». 276 Brisman L. Milton’s Poetry of Choice and Its Romantic Heirs. Cornell Univ. Press, 1973, P. 280. (Пер.с англ. наш – С. Н.) 275 бездну воображаемого, спасает воображаемое пространство от превращения в симулякр (в уже описанном бодрийяровском смысле копии без всякой связи с оригиналом). Таким образом именно пребывание в статусе искусства, принадлежащего к иллюзорной сфере прекрасного, удерживает мир воображения от тотальной симулятивности, или, можно сказать, дает ему успешно функционировать в качестве симулятивного, поскольку выводит на первый план то, что является единственным условием этой возможности: его собственное отрицание, его отсутствие. И тем самым наделяет бездну воображаемого чертами возвышенного. Тем, что спасает тотально эстетизированный, дереализованный, субъективный мир воображаемого от превращения в симулякр, оказывается сознание его иллюзорности, субъективности, симулятивности, понимание его как плода иллюзии, как прекрасного отражения на поверхности. Признание иллюзорности образа спасает от погружения в бездну внутреннего мира, от принятия его за единственную реальность. И тем самым делает эту бездну оплотом бесконечного спокойствия. Возможно, это дает нам еще одно своеобразное объяснение тому факту, что Кант полагал именно суждение о прекрасном, хотя и не столь значимое для внутреннего чувства субъекта, все же более важным в структуре своей критики. Без отсылки к прекрасному мы не могли бы оценить возвышенное как эстетическое чувство, и найденная в себе бездна, освобожденная критическим порывом от связи с метафизикой «верхнего» мира, могла бы ввести нас в опасный соблазн. То, что удерживает от него – это воспринимаемый чувственно образ, превышающий, масштаб наших чувств и потому представляемый как бесформенность, субъективно наделяемый высоким смыслом. Вордсвортовское «зеркало» (которое не есть даже зеркало, но скорее эффект отсутствия ветра в воздухе) выступает здесь в качестве главного объекта. Оно и есть тот чувственно воспринимаемый объект, который является эстетически наполненным (в качестве повторения звездного неба) лишь благодаря субъективному созерцанию. Но в то же самое время оно само, независимо от созерцателя (по сугубо физическим законам), воссоздает искомый образ путем 111 отражения. Не описывает ли это также свойства медианосителя? Первичность его формальной структуры раскрывает то, как именно он оказывается главным эстетическим объектом. Как таковая, в субъективной системе отсчета, форма медианосителя является тем элементом, который поддерживает воображение в его негативном статусе, поскольку как носитель значения она иллюзорна, но в то же время является единственной осязаемой и неистребимо данной реальностью в качестве знака. «Вопрос о медиальном носителе, – говорит Б. Гройс в работе «Под подозрением» (2000), – является, в сущности, лишь новой формулировкой вопроса о субстанции, сущности или субъекте, которые предположительно скрываются позади картины мира. Теория медиа, поскольку она должна поставить вопрос о медиальном носителе, есть поэтому не что иное, как продолжение онтологии в условиях нового взгляда на мир»277. «Любая серьезная теория медиа,– также полагает он, – коль скоро она хочет оправдать свое имя, должна поставить медиаонтологический вопрос о свойствах субмедиального пространства – и тем самым пойти дальше постструктуралистского теоретизирования, застрявшего на медиальной поверхности»278. Проблему субмедиальной «глубины», непостижимой реальности за пределами знаков Гройс формулирует в терминологии подозрения. В самом общем виде это подозрение, что «позади видимого скрывается нечто невидимое»279. Однако, как он замечает, все было бы очень просто в двух случаях: если бы за медиа-пространством нарративной фиктивности действительно стояла некая непреложная Реальность (например, реальность Бога); или если бы, напротив, никакой реальности за ним не стояло, и знак действительно отсылал бы только к знаку, то есть процедура деконструкции была бы исчерпывающей и окончательной280. Подозрение вызывается невозможностью для критической мысли не просто выбрать между этими двумя вариантами, но Гройс Б. Под подозрением / Пер. с нем. А. Фоменко. М., 2006. С. 17. Там же. С. 44. 279 Там же. С. 21. 280 Там же. С. 28. 277 278 хотя бы допустить преобладание одного из них. Но таким образом, «медиа-онтологическое подозрение» составляет основу колебания, являющегося условием существования самой критической мысли. Гройс полагает, что для «медиа-теоретика» (каковым можно было бы назвать, следуя этой логике, любого критически настроенного мыслителя, пытающегося осмыслить онтологический статус утверждений о мире в современных условиях) «гул медиа заглушает все сообщения – за исключением его собственного сообщения, доносящего этот гул. А это значит, что все остальные сообщения деконструируются, растворяются, затихают и умирают, но сообщению медиа-теоретика такая участь не грозит, ибо оно есть сообщение, посланное самой смертью – а смерть, в отличие от жизни, бессмертна. Можно сказать, что медиум – это смерть, поэтому он и бессмертен»281. Это важный момент в деконструктивистской рефлексии: сообщение медиатеоретика – это сообщение самого медиума (языка как структуры), а не более традиционное сообщение о чем-либо (включая сам медиум) с помощью медиума. Поэтому, собственно, оно оказывается столь трудно читаемым – оно и не предназначено для прочтения, оно есть раскрытие структуры медиума и ни о чем не повествует. Потому де Ман говорил о референциальной нейтральности языка, проанализированного с формальной точки зрения: его форма есть сообщение, однако это не есть сообщение о чем-либо, скорее это чистое отрицание любой возможности свести ее к сообщению о чем-либо другом. Несколько раньше приведенного уже пассажа Гройс, ссылаясь на Маклюэна, также указывавшего на особый характер сообщения самого медиума, утверждает, что «послание медиума нельзя назвать бессознательным, а потому все еще человеческим высказыванием»282. То есть мы не имеем здесь дела с раскрытием бессознательных влечений человека, а также не можем свести язык к «бессознательной структуре», растворяющей человеческую субъективность. Гройс полагает: «как бы ни понималась природа человеческого – сообщение самого медиума… это нечеловеческое, дегуманизированное сообщение»283. С. Жижек в своем кинематографическом нарративе (как можно наверно охарактеризовать 112 этот жанр иллюстрированного фильма-лекции, анализирующего структуру кинематоргафа) «Киногид извращенца»284, черноту экрана перед началом показа фильма отождествляет с чернотой направленного на него взгляда зрителя и, в свою очередь, с дырой сливного отверстия, поглощающей без остатка неприятные остатки жизнедеятельности285, а в целом также с некой «нижней Сферой», представляющей собой не столько какую-либо трансцендентную сферу, сколько чистое ничто. Такой «нижней Сферой» называет Жижек экран, на котором разворачивается кинодейство, и, собственно, этот экран есть не отражение зрачка, но сам зрачок, источник взгляда, как бы в неком процессе саморефлексии. Всё же феерическое действо на экране, воплощающее наши желания в красочных, иногда пугающих, и очень часто действительно ужасных, катастрофических, садистских, предельно извращенных, но всегда вымышленных, образах, как он предполагает, возможно есть та иллюзия, с помощью которой мы пытаемся скрыть от себя подлинную «реальность» своего желания – эта реальность есть нижняя Сфера, то есть ничто. Это, казалось бы, вновь производит деконструкцию «внетекстовой» реальности – потому что куда бы субъект ни обращал свой взор, в конечном счете, он обнаруживает там самого себя. Но Жижек говорит о желании как о «ране реальности», как о прорыве в привычных структурах символического мира, сквозь который и проглядывает та самая чернота экрана, которая есть одновременно чернота сливного отверстия. Отождествление им черноты экрана, черноты Там же. С. 88. Там же. С. 80. 283 Там же. 284 Žižek S. The Pervert’s Guide to the Cinema. Part I. Sophie Fiennes (dir.). UK, Austria, Netherlands, 2006. 285 Жижек ссылается на знаменитый образ из хичкоковского «Психо»: дыра слива в ванной, где совершено убийство, в которую утекает, вместе с водой, кровь, исчезая при монтаже, превращается в глаз. Однако, поскольку этот глаз мертвый, Жижек предлагает усомниться в том, что зрачок, эта гегелевская «ночь мира», центр субъективности, есть «окно души»: что если там, за зрачком, собственно, ничего нет? 281 282 сливного отверстия и черноты зрачка фундаментально. Ведь чернота экрана, фактически, и являет собой демонстрацию носителя, сообщение самого медиума. Сам медиум и есть желание: не желание чего-либо, но абсолютное желание, и это желание есть всепоглощающее ничто, для выражения которого недостаточны никакие, даже самые ужасные формы. Это желание есть основа, центр субъективности, но совпадение между экраном и зрачком указывает на совпадение между субъективностью и медиальной структурой, не имеющей человеческого измерения. Сообщение медиума, зримо представленное в черноте экрана – это сообщение самой субъективности, самого ее внерефлексивного необъективированного центра. Это сообщение неинтерпретируемо, невыразимо и являет собой подлинно возвышенный объект. Объект, о котором мы ничего не можем сказать ни на каком языке, поскольку он и есть сам язык. Все наши высказывания лишь скрывают нашу невозможность выразить себя, поскольку то, что мы хотим выразить, существует не более чем в качестве самого этого потока попыток выражения. «Все “живые” голоса обречены на исчезновение – тогда как мертвое письмо вечно, поскольку к нему неприменимо различение между присутствием и отсутствием», – говорит Гройс. И тот, кто пытается говорить от имени мертвого письма, то есть медиа-теоретик, или деконструктор, разрушающий любые сообщения, во имя того, чтобы разрушение сообщений сделало сам язык сообщением, «хочет жить вечно – по крайней мере так же долго как сам медиум»286. Все сообщения, сделанные при помощи медуима, стираются им, но если сам медиум превратить в сообщение, то это сообщение не может быть стерто – и можно вновь вспомнить де Мана, который в порыве странной для деконструктивиста самоуверенности говорил, что риторическое прочтение «скучно, монотонно, предсказуемо, но неопровержимо»287. Любопытно однако, что это рассуждение Гройса по структуре своей напоминает знаменитый пассаж из платоновского «Пира», где речь идет о том, что философия, понятая как упражнение в умирании, отвлекающая человека от бренного мира изменчивых форм и ведущая напрямую к его неизменной и вечной сущности, оказывается наиболее верным путем к достижению 113 подлинного бессмертия. Все другие способы приобщения к бессмертию относительны и ненадежны настолько же, насколько златотканные ткани или прекрасные юноши относительны в своей красоте по сравнению с прекрасным как таковым, и только философу прекрасное предстает «не в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или знания, не в чем-то другом, будь то животное, Земля, небо или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное; все же другие разновидности прекрасного причастны к нему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится ни больше ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает»288. Точно так же и медиа-теоретик сталкивается с медиумом как таковым, не преломленным в текучести референциальных высказываний (так что литературность высказывания, выявляющая, по де Ману, его формальную, а не референциальную структуру, и сосредоточивающая внимание на внутриязыковых проблемах, будет в чем-то сродни платоновской красоте, проявляющей в вещах напоминание о вечной метафизической истине). Через это столкновение он оказывается приобщенным к бессмертию. Хотя, конечно, это «бессмертие» совершенно другого рода, если учесть, что бессмертие медиума основывается, по Гройсу, лишь на том, что он, собственно, и есть смерть, само разрушение, уничтожение любого передаваемого смысла как таковое. Но можно заметить, что «медиа-онтологически подозрительное» рассуждение действительно строится по принципу онтологии, только с отрицательным знаком. Ведь подозревая, мы в первую очередь подозреваем, что находимся в некой трансцендентальной позиции. Но именно возможность трансцендентальной позиции, то есть позиции «за пределами текста», вызывает подозрение и отвергается. Однако поскольку отрицание ее возможности всегда делается с позиции «за пределами текста», то медиа-онтологическая подозрительность означает, что Гройс Б. Под подозрением. С. 89. Ман П. де. Сопротивление теории / Пер. с англ. И. В. Кабановой // Современная литературная теория. Антология. М., 2004.. С. 131. 288 Платон. Пир // Платон. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 2. М., 1993. С. 121. 286 287 реальность «за пределами текста» утверждает себя последним и окончательным образом только через посредство ее полного отрицания. Вероятно, этим объясняется тот факт, что Деррида в поздних работах обращается к анализу апофатической теологии, в которой находит родство с деконструктивистской мыслью. Сильно обобщая и схематизируя пафос различных мистических традиций, можно сказать так: любые способы говорить о чем-либо, утверждать, доказывать, объяснять – будь то о конечных вещах или об истине как таковой, – это «катафатические» способы. Но именно они, несмотря на их положительность, ничего не говорят о действительном присутствии вещей (а тем более о присутствии или о действительном бытии божественной истины), потому что именно оно не является предметом доказательства, несводимо к утверждениям, объяснениям, но является лишь предметом проживания, предметом откровения, восхищенного экстатического единения. Здесь находится корень апофатического рассуждения. И в этом смысле, Бог (то есть вершина присутствия) может раскрыться в чем угодно – как в прекраснейшем и величайшем, так и в безобразном, мелком и незаметном с нашей обыденной позиции (почему для мистической мысли не только прекрасное, как для Платона, но всё, что угодно, в непостижимости своего присутствия является свидетельством Божества). Можно было бы испытать соблазн назвать это невыразимое ощущение присутствия «возвышенным», однако оно едва ли является таковым, поскольку не является эстетическим ни в каком из возможных смыслов. Отвергая античное восхождение к истине через прекрасные формы, апофатическая мысль идет к непосредственному проживанию ее безмерности, разливающейся по всему миру как блаженный избыток божественного бытия. Раннехристианская апофатика, как и любая религиозно-мистическая мысль, где бы она ни возникала, была преисполнена чувством безмерной, превышающей возможности какого-либо именования полнотой присутствия Бога – и потому отказывалась говорить о нем, терялась перед потребностью представлять его, не смела определять его: полнота присутствия была настолько мощной, что все таяло перед нею в невыразимости. Модернистская мысль также по-своему апофатична: начиная с антиэссенциалистских 114 доводов номиналистов, через скрывающегося Бога Паскаля, непостижимую «вещь в себе» Канта и молчание Витгенштейна до деконструктивистских парадоксов разрыва и сбоя протягивается, возможно, одна и та же линия рассуждения. Но теперь суть апофатического опыта заключается не в переизбытке, а скорее в недостатке, разрыв в возможности именования создается отсутствием именуемого. Бог новой мистики по существу своему оказывается вечно отсутствующим, ускользающим и неуловимым. Помыслить его так же невозможно, как, согласно Пармениду, невозможно помыслить небытие. Можно сказать, что раннехристианская апофатика развивает философское познание бытия, онтологию, приходя в конце концов к выводу о том, что познание бытия невозможно, потому что оно превышает возможность человеческих определений. Основой же новой апофатики является описанная Гройсом медиа-онтологическая подозрительность. Если первый вид, таким образом, можно назвать апофатикой присутствия, то второй – апофатикой отсутствия. Это таинственное отсутствие Бога, отсутствие реальности, подобно лаканианскому отсутствию изначальной травмы. Это отсутствие того, кто оставил след, – при наличии бесконечных верениц следов. Отсутствие подлинного прообраза – при наличии бесконечных рядов копий. И оно не менее, а быть может даже более мистично, чем невыразимость переизбытка. Возможно, наилучшим образом этот апофатический предмет медиа-онтологической подозрительности описывается в интерпретации Жижеком лаканианского понятия Реального. Жижек говорит: «это одновременно и твердое, непроницаемое ядро, не поддающееся символизации, и совершенно химерическая сущность, сама по себе не обладающая какой бы то ни было онтологической устойчивостью… это преграда, о которую разбиваются все попытки символизации»289. В качестве психоаналитической категории, оно «никогда не находится в 289 Жижек С. Возвышенный объект идеологии / Пер. с англ. В. Сафронова. М.,1999. С. 171. действительности, но… тем не менее с необходимостью должно быть предположено, “сконструировано” задним числом для объяснения существующего положения вещей»290. В некотором смысле это напоминает кантовскую телеологию, приходящую, в конце концов, к доказательству бытия Бога, поскольку у нас нет другого способа объяснить действие способности суждения, обнаруживающей в мире больше упорядоченности, чем может быть объяснено физическими причинами. Хотя мы прекрасно понимаем, что эта упорядоченность имеет иллюзорный характер и проистекает лишь из наличия определенной способности – рефлектирующей способности суждения – посредством свободной игры, в которую вводит наличествующие познавательные способности, заставляющей нас видеть единство в многообразии эмпирических законов. И так же, если наша моральная способность структурирована как направленность на конечную цель, то «нам необходимо признать моральную причину мира (творца мира) и в той же мере, в какой необходимо первое, в такой же (то есть в той же степени и на том же основании) необходимо признать и второе, а именно, что есть Бог», – пишет Кант. И поясняет: «Этот моральный аргумент не должен служить объективно значимым доказательством бытия Божия или доказать сомневающемуся, что Бог есть; цель этого аргумента – показать, что желающий мыслить морально должен включить признание этого положения в число максим практического разума»291. Конструирование причины – причем внешней, внечеловеческой причины – включено, уже по Канту, в действие структуры сознания, сталкивающегося с готовым порядком вещей. В этом смысле странно было бы говорить, что Кант доказал или пытался доказать бытие Бога: он лишь показал, как это понятие с необходимостью возникает при столкновении с собственным восприятием мира и структурирует это восприятие. Обратившись к исследованию трансцендентальной структуры, определяющей условия возможности любого имеющегося опыта, Кант, фактически, открывает дорогу развитию психоаналитического понятия бессознательного. И, как кажется, кантовская позиция, в ее чистоте и отказе от любой имманентной зависимости, стоит ближе именно к текстуализированной лакановской мысли, чем к погруженной в поиск глубинных влечений мысли Фрейда: с точки зрения Канта, пожалуй, как 115 и с точки зрения Лакана, травмы (то есть вещи в себе, неустранимого воздействия Реального) не существует. Но как причина она должна быть постулирована, поскольку весь порядок вещей может быть понят лишь как ее следствие. Продолжая начатый в уже цитировавшемся отрывке анализ лакановского понятия Реального, Жижек выписывает ряд оппозиций, которые, на наш взгляд, охватывают два уже упоминавшихся типа апофатической мысли, развертывая их в исторической последовательности. Так, он пишет: «В определенном смысле Реальное предшествует символическому порядку и, следовательно, структурируется им, попадая в его сети»292. Эта сторона вопроса соответствует столь часто в истории мистических – как религиозных, так и философских – учений повторяющимся укорам в адрес отпадения человеческого мышления от первоначального единства с невыразимым первосущим: от даосского нарушения Пути мира посредством любовной привязанности, языковых обозначений, понимания добра и зла и т.п. до хайдеггеровской истории мышления как истории забвения бытия293. «Однако, – продолжает Жижек, – в то же самое время Реальное – это продукт, лоскут, остаток этого процесса символизации; это не более чем эксцесс символизации, ее “останки”; вообще как таковое Реальное и возникает в процессе символизации»294. В этом мы можем увидеть соответствие Там же. Кант И. Критика способности суждения. С. 293. 292 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. С. 172. 293 В этом смысле первый философский отрывок – фрагмент Анаксимандра, с его мрачным выводом, трактуемым Л. Шестовым как первый порыв метафизического мышления к завладению «ключами» от истинного мира, скорее направлен на констатацию необходимости наказания за отпадение от первоединого беспредельного, невыразимого начала (апейрон) с целью обретения собственной формы: оформленный, а потому постижимый и выразимый космос, обречен на гибель, поскольку он нарушает первичное невыразимое единство. Трактовка оформленного мира как иллюзии (в древнеиндийсом смысле), порожденной отпадением от невыразимости небытия, вероятно, является одним из первых порывов мысли вообще. 294 Жижек С. Возвышенный объект идеологии. С. 172. 290 291 критической мысли, упирающейся в свои апофатические основания как в нечто, находимое с большим трудом и только на самой вершине, в самом конце длительного мыслительного, жизненного, культурного процесса. «Реальное, – говорит Жижек, – это полнота инертного наличия, позитивности; в Реальном нет никакой нехватки – нехватка вводится исключительно символизацией… И в то же самое время Реальное само по себе – дыра, разрыв, незамкнутость в самом средоточии символического порядка. Это нехватка, вокруг которой структурируется символический порядок. Как исходный пункт, основание, Реальное – это полнота без какой бы то ни было нехватки; как продукт, остаток символизации, оно, напротив, является вакуумом, пустотностью, созданной символической структурой и расположенной в ее центре… Реальное – это то, что не может быть подвергнуто отрицанию, то, что не схватывается диалектикой отрицания; но тут же необходимо добавить, что так происходит только потому, что Реальное как таковое, в самой сути своей позитивности, есть не что иное, как воплощение определенной пустоты, нехватки, предельной негативности. Реальное не может быть подвергнуто отрицанию, поскольку оно уже само по себе, в своей позитивности, есть не что иное, как воплощение чистой негативности, пустотности»295. По сути, это описание не только определенных «характеристик» Реального, превращающих его в возвышенный объект, но и описание исторической линии развития онтологического и, в пределе, апофатического мышления, не могущего сказать о Реальном в силу его высшей позитивности или высшей негативности, несводимой ни к каким способам именования и противостоящей любым попыткам символизации. Можно сказать, что это описание линейно ориентированного модернистского представления истории мышления: той истории, которая, дойдя до своего высшего момента, осознает свою собственную условность и понимает себя как эстетический феномен. В этот момент Реальное становится возвышенным апофатическим элементом прекрасно организованной, но симулятивной структуры субъективистского мира. «БОГ КАК ОРНАМЕНТ», ИЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ Некогда, анализируя суждение вкуса по отношению к целям и рассуждая о формальной целесообразности природы, Кант ввел интересное деление красоты на свободную и сопутствующую, таким образом, что «первая не предполагает понятия того, каким должен быть предмет; вторая предполагает такое понятие и совершенство предмета в соответствие с этим понятием»296. Причем «суждение о свободной красоте есть чистое эстетической суждение», в то время как любое ограничение понятием цели, определяющей, какой должна быть вещь, «наносит ущерб чистоте этого суждения»297. К первой красоте, к свободной красоте, относятся цветы, которые лишь для ботаника, знающего, что это оплодотворяющий орган растения, могут предстать с точки зрения знания о должном, но даже и он «не уделяет внимание этой цели природы, когда судит о цветах, сообразуясь со вкусом»298. Так же, полагает Кант, многие экзотические птицы или морские моллюски могут нравиться «свободно как таковые», не сообразуясь ни с какой целью, или «лиственный орнамент на рамках или на обоях и т.д. сами по себе ничего не означают; они ничего не изображают, не изображают объект, подведенный под определенное понятие; они – свободная красота»299. То есть когда нечто нам нравится в чистом эстетическом плане, мы действительно не знаем, что это и каким оно должно быть, или же на момент суждения совершенно забываем об этом, и тогда, что бы ни предстало перед нами, на этом уровне мы судим о нем лишь как о вольном сочетании цветов и линий, произвольных пятен и изгибов, ничего не означающих и не отсылающих ни к каким смыслам. Между тем, красота человека, красота здания, даже красота коня, а также, по всей вероятности и в наибольшем числе случаев, красота произведения искусства являет собой лишь Там же. Кант И. Критика способности суждения. С. 67. 297 Там же. С. 68. 298 Там же. С.67. 299 Там же. 295 296 116 сопутствующую красоту, потому что мы слишком много знаем о том, каким эти предметы должны быть. Эта красота несет в себе слишком много смыслов, и безусловно, картина, заключенная в раму и изображающая некую наполненную событиями и глубокими смыслами сцену, окажется, в итоге, значительно ценнее для нас, нежели лиственный орнамент рамы. Но также это означает, что ценность картины не будет, по Канту, чисто эстетической, а ее красота будет лишь сопутствующей, – так сказать, сопутствующим условием восприятия смыслов. Чистая эстетическая красота, в конечном счете, оказывается чем-то не очень значимым, не очень существенным: просто радующим, и не более того. Это скорее свойство дизайна (любопытно, что Кант упоминает в своем рассуждении о свободной красоте рисунок на обоях), нежели свойство высокого искусства. В принципе, кажется довольно удивительным, что способность столь фундаментальная в системе Канта (ведь он посвящает ей отдельную работу наряду с исследованием структуры познания и морали) в своем чистом применении приводит к столь незначительным и скорее забавным результатам. И напротив, кажется совсем неудивительным, что после Канта эстетическая мысль склонилась в сторону глубоких смыслов, совершенно пренебрегая чистой и радующей красотой формы. Способность конституировать мир в соответствие с категориями рассудка и идеями разума; способность свободно действовать и стремиться к осуществлению высшей конечной цели в качестве морального субъекта; и способность получать удовольствие от созерцания узоров – уже для серьезной романтической рефлексии это было бы слишком неравноценным набором300. Однако глядя с отдаления, уже из той точки, когда сама серьезность и линейность романтического дискурса может быть осмыслена как некая эстетическая условность, как следствие субъективизации взгляда на мир, нельзя ли в кантовской акцентировке орнаментальности как основания эстетической способности увидеть некий более глубокий смысл? По крайней мере, если мы взялись показать, насколько эстетика в своих истоках и основаниях фундаментальна для модернистского проекта в целом, возможно ли пренебречь этим ее наиболее чистым и беспримесным применением? В ситуации, когда все оказывается 117 равно условным, когда, как показал Х. Уайт, даже сама линейность развития мысли есть не более чем произвольный результат эстетической игры, орнаментальность, или непреднамеренная свободная смена форм, ницшеанская сверкающая бесконечная феерия различий без цели и смысла уже не может казаться чем-то уступающим «серьезному» целенаправленному, но всегда ситуативно ограниченному систематическому линейному построению. «Мир может быть оправдан только как эстетический феномен», – не значит ли это также, что мир может быть оправдан только как прекрасный орнамент? «Бог как орнамент» – название главы из книги Дж. Ваттимо «После христианства» (2002), вопреки ожиданию написанной отнюдь не атеистически настроенным, но напротив, глубоко религиозным мыслителем. Можно сказать даже: новым христианским теологом, полагающим именно христианский религиозный проект наиболее соответствующим требованиям современного мира – мира в его постмодернистской ситуации, в которой он видит хотя еще отнюдь не осуществление этого проекта, но, по крайней мере, первую возможность такого осуществления. При этом само общее направление развития христианской мысли Ваттимо характеризует, как ни парадоксально, как движение к секуляризации. Он полагает, что «секуляризация – вся эта совокупность феноменов расставания с сакральным, которые характеризуют западную современность, – является событием внутренним для истории религиозности Запада, даже ее главным событием, и уж ни в коей мере не является по отношению к этой истории чем-то внешним и враждебным… Секуляризация представляет собой тот позитивный способ, которым Романтизм, вероятно, не слишком высоко ценил изящное искусство XVIII в.: так, по крайней мере о музыке этого времени романтик Г. Берлиоз отзывался как о «гастрономической»: радуя красотой формы она способна лишь способствовать пищеварению (Соллертинский И.И. Берлиоз, М., 1962). Интересно также, что Кант всю «музыку без текста» смело отнес к свободной красоте. 300 общество отвечает на зов собственной религиозной традиции»301. Секуляризация связана для него, безусловно, и с ницшеанским тезисом о «смерти Бога», так что сам этот тезис оказывается включенным в христианский проект. Этот проект, по Ваттимо, является в собственном смысле проектом модерна. Однако лишь в том, что можно обозначить как «постмодерн», он достигает возможности своего осуществления. Направление христианства, по Ваттимо, – это направление в сторону того, что он называет «ослаблением бытия». Ослабление бытия связано с критикой метафизического мышления и с распадом сферы сакрального. Ваттимо предполагает, что «метафизику убило обновленное религиозное чувство». А также, признавая парадоксальность своего тезиса, он утверждает, что «религиозный опыт, в той форме, в какой он присутствует в культуре Запада… является бесконечно длящимся “убийством” Бога, ибо в этой задаче воплощен смысл самой религии»302. В качестве обоснования своей трактовки христианства Ваттимо ссылается, в частности, на учение средневекового богослова Иоахима Флорского, полагавшего, что спасение в христианском мире не является чем-то завершенным, совершившимся, но представляет собой открытую будущему возможность, а история спасения включает в себя также развитие интерпретации благой вести. Иоахим Флорский, как отмечает Ваттимо, выделяет в истории спасения, то есть в истории интерпретации божественного послания, три эпохи, которые мыслятся по аналогии с ипостасями трех ликов Троицы, и характеризует их так: «Первое состояние прожито в рабстве, для второго характерно послушание, знаком третьего станет свобода. Первое отмечено страхом, второе – верой, третье – любовью к ближнему. Первый период – период рабов, второй – период сыновей, третий – это период друзей…»303. Вот это именно движение от рабства к дружбе и оказывается наиболее существенным, по мысли Ваттимо. Это движение от бесконечного преклонения перед внеположным могуществом трансцендентной метафизической божественной истины через сыновнюю любовь к дружественному единению, которое означает, в первую очередь, утрату ею трансцендентного статуса. Ваттимо согласен с предположением Р. Жирара, тесно связывающего сферу сакрального в культуре со этикой насилия304. По мнению Ваттимо, Жирар «убедительно 118 показал, что если в христианстве и имеется некая “божественная” истина, то она как раз и состоит в разоблачении механизмов насилия, из которых возникает священное естественной религии, то есть священное, присущее метафизическому Богу»305. Метафизика трансцендентного Бога, трансцендентной истины «там во вне» обозначает собой пребывание в рабстве, в то время как христианский порыв есть порыв к имманентности, достигаемой через боговоплощение как акт любви, акт схождения Бога в сферу человеческого. Потому секуляризация оказывается, по Ваттимо, буквальным требованием христианства: для установления дружбы, подлинного единства божественного и человеческого, оно требует отказа от внеположной сакральности божества. «Если, однако, секуляризация и есть то измерение, в котором происходит ослабление бытия, …суть истории спасения, то ее уже не следует рассматривать как свидетельство расставания с религией, но она является осуществлением, пусть и парадоксальным, ее самого сокровенного предназначения»306. Секуляризация как суть и истина христианства, в котором божественное во всей своей непостижимости и бесконечности переходит в человеческое – это один из итогов модерна, начинающего свое движение с провозглашенного протестантизмом погружения Бога вовнутрь человеческой веры, отказа от внешних форм религиозного поклонения и следующей за этим тотальной субъективизации восприятия. Однако Ваттимо говорит именно о преодолении модерна, о пост-модерном состоянии, и следовательно, по его мнению, модерн не достигает возможности третьего этапа, провозглашенного в учении Иоахима Флорского: под «человеческим» ослабленным бытием Ваттимо Дж. После христианства / Пер. с ит. Д. В. Новикова. М., 2007. С. 34. Там же. 303 Там же. С. 38-39. 304 См.: Жирар Р. Насилие и свяшенное / Пер. с фр. Г. Дашевского. М., 2000. 305 Ваттимо Дж. После христианства. С. 48-49. 306 Там же. С.33. 301 302 следует понимать нечто весьма отличное. По крайней мере, сам Ваттимо придерживается католической, а не протестантской традиции, находя именно в ней основания секуляризированного пост-современного мышления. Трактовка христианского проекта у Ваттимо отчасти совпадает с трактовкой С. Жижека, изложенной в работе с говорящим названием «Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие» (2000). Размышляя о причинах, по которым центральным событием и сердцем христианства является акт жертвоприношения, совершенный богочеловеком, Жижек отвергает распространенную версию, согласно которой жертва Христа является платой, которую Бог сам вносит за человеческие грехи. Подобное рассуждение, полагает Жижек, не было бы подлинно христианским: «Христос не “платит” за наши грехи, как показал Святой Павел; сама логика платы, обмена, можно сказать, является грехом»307. Он соотносит логику платы с идеей неизбежности судьбы мира, при которой воссоединение с Богом как с некой внешней истиной за пределами мира возможно только через полное отречение от мира, радикальное очищение. Это воссоединение предстает как «погружение в первобытную Пучину, из которой все возникло»308. Но подобная идея, по Жижеку, относится скорее к язычеству, нежели к христианству. Языческая мысль держится на вере в непреложность судьбы Природы. А потому также и мистическая философия единения с изначальной невыразимой и непостижимой истиной, которая есть «бесформенное Единое Всё»309, представляет собой вариант языческого проекта. Акт жертвы Христа несет в себе нечто крайне существенное и раскрывает нечто принципиально новое. Но то, что он раскрывает, не есть любовь могущественного трансцендентного Бога к людям. Скорее это тот факт, «что цепь обмена может быть порвана»: «В отличие от буддизма, христианство делает ставку на возможность радикального Разрыва, слома Великой Цепи Бытия уже в этой жизни, пока мы еще живы»310. Этот разрыв цепи и следующее за ним воссоединение божественного и человеческого в христианстве, как полагает 119 Жижек, происходит путем самоустранения трансцендентного Бога. Архаический Бог, Бог-господин, на которого можно опереться и которого следует бояться, еще Фрейдом был истолкован как естественное, но, по сути, языческое бессознательное стремление к защищенности, к покровительству могущественного родителя. Потому движение к преодолению такого образа Бога представляется и Жижеку, и Ваттимо движением к зрелости – которое в данном случае описывается не как одностороннее движение человека, стремящегося к преодолению детского комплекса, но как двустороннее движение, где Бог приносит себя в жертву во имя этой высшей дружбы, становясь человеком и умирая. Только в этом и может состоять залог всечеловеческого воскресения. «Само движение, которым Бог утрачивает характер трансцендентного По Ту Сторону и входит в Святого Духа (в дух общины верующих), равно движению, которым “павшая” человеческая община восходит к Святому Духу. Иначе говоря, люди и Бог не связаны напрямую в Святом Духе, а прямо совпадают – Бог суть не что иное, как Святой Дух общины верующих. Христос умер не для того, чтобы открыть прямую связь между Богом и человечеством, но чтобы не было больше никакого трансцендентного Бога, с которым нужно связываться»311. Жижек С. Хрупкий абсолют, или почему стоит бороться за христианское наследие / Пер. с англ. В. Мазина. М., 2003. С. 159. 308 Там же. С. 160. 309 Там же. Жижек противопоставляет христианство, в частности, буддизму. Можно было бы вспомнить также не только упоминавшиеся уже даосские мистические высказывания, но и досократическую мысль в стиле Анаксимандра, то есть любую мысль, настаивающую на неизбежности или желательности возврата к предшествующему невыразимому состоянию. Ранее мы охарактеризовали подобные представления, также пользуясь терминами Жижека, как историческое соответствие первой трактовке лакановского Реального (в качестве задним числом предполагаемой и нигде не находимой первичной позитивности), а соответственно, и первому виду «апофатической» мысли. 310 Жижек С. Хрупкий абсолют, или почему стоит бороться за христианское наследие. С. 159-160. 311 Там же. С. 158. 307 По сути, воплощаясь и страдая, Бог лишается языческого фантастического ореола, и тогда он должен быть понят, а в первую очередь, сам понимает себя, как слабый, незащищенный, оставленный. В качестве ключевых Жижек выделяет слова Христа: «Отец, почему ты меня оставил?» – акцентируя в них самопризнание несовершенства Бога, его самооставленность, поскольку Христос, являясь полностью и всецело человеком, в то же время и есть сам Бог. Здесь «пропасть, разделявшая Бога и человека, перемещается в самого Бога»312, и это составляет единственный залог любви и, одновременно, залог свободы, которая сообщается христианством человеку: нет силы на которую он мог бы надеяться, в тени которой он мог бы уютно скрыться. Но кроме того, теперь становится невозможным двигаться к Богу через отрешение от посюстороннего мира, поскольку «когда я, человеческое существо, переживаю оторванность от Бога, в этот момент крайнего уничижения я абсолютно близок к Богу, ибо я оказываюсь в позиции покинутого Христа»313. Эту интерпретацию христианства можно назвать гегельянской интерпретацией, поскольку гегелевский диалектический проект впервые обнаруживает возможность такого имманентного схождения и рассматривает Христа как пример подлинного Духа: Бога и человека одновременно, без трансцендентного разрыва между божественным и человеческим. Само наличие разрыва при этом не исключается, но перемещается полностью в имманентный план. И возможно, это проливает новый свет на гегелевское пренебрежение к эстетической категории возвышенного. Ранее мы говорили о том, что возвышенное не нужно Гегелю постольку, поскольку развертывание абсолютного духа происходит всегда уже в возвышенном состоянии, которое и есть состояние предельного самосознания. В возвышенном же находили корень субъективности, перемещающей трансцендентную божественную сферу внутрь самого субъекта, для самого себя таинственного и непостижимого. Однако видение божественной инаковости во вне себя или внутри себя в равной мере дает нам трагический разрыв между имманентной и трансцендентной сферой. Если же Гегель отвергает трансценденцию вещи в себе – он отвергает ее ради возвращения в план тотальной имманентности, где бесконечность 120 божества (абстрактная дурная бесконечность) становится конкретной бесконечностью человеческого. Но в таком случае возвышенное напряжение, являющееся условием развития Духа, в то же самое время является именно тем, что, в итоге этого развития, должно быть полностью снято. Так что в результате осуществления акта самосознания, то есть после конца истории, мы должны получить, по Гегелю, состояние мерного и спокойного чистого созерцания, которое, по сути, своей есть эстетическое созерцание (поскольку оно принципиально субъективно, но совершенно незаинтересованно: ведь все цели уже достигнуты и история как история действий завершена). И это итоговое созерцание не может более иметь отношения к возвышенному, но лишь к прекрасному314. Выступая против апофатического духа современной мысли, Ваттимо пишет: «Итак, Бог абсолютно инаковый, Бог, которого, похоже, готовы воспринять различные сегодняшние философские движения, все еще несет в себе слишком много черт “насильственного” Бога естественных религий: его трансцендентность, понимаемая как непостижимость для разума, как парадоксальность и тайна, – это трансцендентность того же самого капризного Бога, которого, согласно Вико, боготворили и боялись тупые и жестокие, дикие создания, ingens sylva, считая его причиной молний и других постоянно обрушивающихся на них естественных катастроф. Бог эпохи Духа, которого имеет в виду Иоахим, уже не является на фоне подобных тайн и загадок… Бог снисходит с небес трансценденции, куда поместило его первобытное сознание, и тем самым Там же. С. 163. Там же. 314 Нужно отметить, что и Маркс полагает итоговое коммунистическое состояние царством возврата к прекрасному искусству – свободному неотчужденному творчеству прекрасных форм. При этом в обществе, основанном на отчуждении, создание прекрасных форм является не более, чем идеологической уловкой, и в искусстве должно быть отвергнуто. Потому такое искусство оказывается отнюдь не созидателем красоты, но бунтарем против любой ограниченности: оно ломает формы, скорее, чем их создает, то есть направлено скорее на возвышенную цель. 312 313 свершает трансформацию, обращение, благодаря которой, как говорит Евангелие, отныне люди зовутся не слуги, и даже не сыновья (как писал Иоахим), но друзья»315. И в этом новом мире, полагает Ваттимо именно эстетически прекрасное, некая «поэтизация» реальности, указывающая «на реальность, не скованную жесткими рамками», «неотличимую от фантазии»316, становится главным способом осуществления имманентности божественного присутствия. Условием такого осуществления было бы устранение или снятие возвышенного, отчуждающего, разрывающего имманентный план элемента. Это было бы нисхождением в царство прекрасного: прекрасного, которое больше не отсылает к истине «там во вне» и не напоминает о ней, как это было в метафизической мысли, но действительно и подлинным образом раскрывается в своей чистоте – в чистоте субъективного суждения о непредумышленном формальном единстве многообразия эмпирических законов природы. Зададимся странным вопросом. Что такое, собственно говоря, чудо, проявление божественного в мире? Безусловно, чудом может быть названо непосредственное вторжение непостижимого божества в мир, явление таинственного. Но это чудо, которое требует истолкования как чуда и всегда может быть истолковано, скажем, в другой картине мира, как нечто совершенно иное: от физически объяснимого явления до душевной болезни. Но что остается чудом при любых условиях? Чудом, которое легко наблюдаемо, даже иногда повторимо, и совершенно точно несводимо ни к каким естественным объяснениям? Возможно, таковым является совпадение, случайное схождение разрозненных элементов в неком единстве, но на столь субъективном уровне, что не может даже потребовать более объективных объяснений. Оно может радовать и удивлять, но может и пугать, и даже ужасать – однако уже не ввиду неохватности для воображения, а ввиду радикальной случайности, абсолютной непредустановленности этой гармонии. Но не есть ли это то, что описано Кантом как формальная целесообразность природы, воспринимаемая на сугубо эстетическом уровне (вне понятия реальных целей природы), то есть то именно, что подходит под определение свободной красоты? Случайное сложение 121 разрозненных форм, явлений и действий в неритмированный, необъяснимый никакими естественными причинами, и все же столь часто наблюдаемый нами орнамент, проявляющийся случайно и поверх естественного порядка вещей. Согласно Канту, самостоятельная красота окружающего мира, хотя и не расширяет наше знание объектов природы, но расширяет «наше понятие о природе – от понятия ее как простого механизма до понятия ее как искусства»317. Быть может эта эстетически воспринимаемая субъективная формальная целесообразность и есть единственная возможность существования божественного в имманентном плане мира, который в силу этого и может быть оправдан только как эстетический феномен318. Тогда мы можем предположить, что Ваттимо имеет в виду, развивая свою религиозную философию, под «возможностью», сообщаемой пост-модерным состоянием. Возможность реализации имманентного проекта христианства может быть достигнута только на основе эстетического субъективизма модерна, но при условии устранения из нее последнего элемента отсылки к трансцендентной реальности. То есть эта возможность зависит от продолжения проекта эстетизации. В результате развития модернистской мысли рефлексия о трансцендентном дошла до той стадии, где оно стало мыслиться как чистый элемент негативности, или, иначе, где оно было эстетизировано в качестве возвышенного. Но дальнейшая эстетизация, а стало быть, и выход на следующий, пост-модерный, принципиально новый, прорывающий парадигму модерна уровень зависит от возможности устранить этот элемент возвышенного (возвышенного ужаса или возвышенной надежды) как последний разрыв, стоящий на пути становления прекрасного мира Ваттимо Дж. После христианства. С. 49. Там же. С. 64. 317 Кант И. Критика способности суждения. С. 84. 318 Любопытно, что свое заключение об орнаментальном характере божественного Ваттимо делает на основании удивительной красочности образов Апокалипсиса, где эта удивительная и ужасающая яркость описывает выход за пределы мировой истории. (Ваттимо Дж. После христианства. С. 62). 315 316 имманентности. Трудно представить себе характер этого мира, однако можно сказать, что теоретическое предположение его является пределом критики метафизики, открывающим пространство существования в полностью человеческой перспективе. Вероятно, наилучшим образом эта возможность во всей ее неоднозначности фиксируется в словах Дж. Агамбена из работы «Грядущее сообщество» (2001): «Это означает, что всемирная мелкая буржуазия и есть, вероятно, та форма, в которой человечество движется к самоуничтожению. Однако это означает также, что здесь открывается небывалая возможность в истории человечества, которая ни в коем случае не должна быть упущена. Потому что если бы люди не искали свою идентичность в индивидуальности, ставшей чуждой и бессмысленной формой, а вместо этого им удалось бы приобщиться к этому несобственному – несобственному как таковому, и им удалось бы превратить свое бытие-такое не в идентичность и не в индивидуальные особенности, а в единичное, лишенное какой-либо идентичности, в единичность совместную и абсолютно экспонированную, то есть если бы люди смогли быть не своими так, образующими ту или иную биографическую идентичность, но быть лишь этим “так”, своей экспонированной уникальностью, своим собственным лицом, тогда, возможно, человечество впервые приблизилось бы к сообществу без предпосылок и без субъектов, к общению, в котором уже нет несообщаемого»319. 122 319 Агамбен Дж. Грядущее сообщество / Пер. с ит. Д. В. Новикова. М., 2008. С. 61. СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Вопрос, который бы нам хотелось поставить в этой последней главе – это вопрос о специфике развития современного искусства. Исходя из того факта (хотя мы уже не раз отмечали его проблематичность), что европейская эстетика XIX–XX вв. практически полностью отождествляла себя с философией искусства, вопрос этот также является эстетическим. Однако можно заметить и то, что сама современная художественная практика, как и современная философия искусства входят все в больший конфликт с эстетикой. Традиционный эстетический подход оказывается как будто бы ничего не дающим для понимания современного искусства. Или, скажем так: если эстетику считать каким-либо образом связанной с исследованием сферы прекрасного, и даже более того, если считать ее связанной с исследованием некой выразительной формы320, то она почти ничего не может сказать о современном искусстве. Мы уже, впрочем, говорили о том, как много так понятая эстетика может дать обширной сфере структурного анализа, философии языка, медиафилософии, которые, в свою очередь, составляют основу методологии подхода к искусству, развившегося в XX в. Анализ «выразительной формы», предложенный в них, далеко продвигает то, что некогда было начато в эстетике, выводит нас к принципиально новым возможностям интерпретации произведений искусства. Однако явственная проблема как современного искусства, так и современной философии искусства, состоит в том, что нам, в общем-то, уже не нужны новые интерпретации произведений искусства321. Кроме того, эстетика и базирующаяся на ней, а также отталкивающаяся от нее методология может дать бесконечно много для понимания того, как именно мы воспринимаем искусство, что мы воспринимаем в искусстве, какие чувства мы испытываем по поводу искусства и как мы понимаем конкретные произведения искусства. Но как ни странно, один вопрос остается нерешенным, а возможно и не решаемым в эстетике – и это тот вопрос, который, казалось бы, более всего занимал эстетику практически с самого 123 начала ее развития: вопрос о том, что такое искусство. И возможно, он оказывался нерешенным и даже не решаемым потому, что ответ на него всегда принимался в качестве само собой разумеющегося. Так, словно бы мы уже заранее знали, что такое искусство, а задача эстетики и философии искусства состояла бы только в том, чтобы философски осмыслить, почему эта сфера существует и на каких принципах базируется, как она действует, что мы в ней наблюдаем, каким образом и какой она вызывает отклик. В итоге то, что было создано – это великолепная теория восприятия, отношения, переживания, структуры действия многих вещей и явлений в современном мире. Но нечто осталось неопределенным, а именно: что среди этих вещей относится, а что не относится к сфере искусства. Как мы уже пытались показать, эстетика имеет тенденцию скорее к тому, чтобы стирать различие между искусством и не-искусством, нежели устанавливать его. В конечном счете всё может быть объяснено исходя из принципов эстетики, а стало быть, всё является в некотором смысле искусством. Любая форма может быть понята как выразительная в мире, где всё есть текст. Деятельность, которую можно назвать художественной, присутствовала всегда и везде, и практически никогда определение ее сферы не вызывало особенных проблем. Хотя это не значит, что оно всегда и везде было четким, скорее так: по каким-то причинам оно не Ср.: «Эстетика – философская дисциплина, изучающая природу всего многообразия выразительных форм окружающего мира, их строение и модификацию». (Новая философская энциклопедия. В 4-х тт. / Под ред. В. С. Степина. М., 2001). 321 Можно согласиться с литературоведом Дж. Каллером, полагающим, что «существует множество задач, с которыми сталкивается критика, множество разных вещей необходимо для того, чтобы продвинуть вперед наше понимание литературы, но единственное, что нам не нужно – это еще больше интерпретаций литературных произведений». (Culler J. The Pursuit of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction. Cornell Univ. Press, 2001. P. 6. (Пер. с англ. наш – С.Н.)) 320 проблематизировалось. Современная ситуация в искусстве впервые сталкивает нас так остро с такой проблемой, и сам этот факт уже можно обозначить как одну из основных черт ее специфики. Простой обзор художественных традиций разных эпох и народов способен был бы показать, что их отношение к художественной деятельности и понимание ими функций художественного было весьма разнообразным, часто не только несводимым к классической европейской философии искусства, но даже противостоящим ей. Не говоря о том, что сами эстетические теории не находятся в согласии друг с другом. Но в то же самое время каждый из нас, как кажется, почти не испытывает проблем с тем, чтобы неким интуитивным образом определить принадлежность вещи к искусству, отличив ее от ремесленного продукта или от предмета дизайна, а также внутри самого ремесла или дизайна некоторым образом определить то, что является «подлинным» искусством, а что нет. Мало того, даже в случае с современными художественными акциями каждый из нас может, как будто бы, легко отделить их от не-художественных – политических, религиозных, моральных – невзирая на часто почти полное отсутствие таковых отличий и присутствие очень сильного политического, религиозного или морального смысла в тех, которые все же признаются художественными. Если же что-то проблематизирует наше отношение – то лишь все большее и все более явное несходство итоговых оценок, даваемых разными людьми. Мы уже ссылались на хронологию Э. Гомбриха, полагавшего, что современное понимание искусства связано с нарушением единства взглядов публики и художников на проблему художественного качества, что превращает художников в бунтарей-одиночек, продвигающих искусство туда, куда массовый вкус еще не смеет заглянуть. Тем самым искусство становится в собственном смысле искусством гениев – до тех пор пока творчество этих бунтарей не порывает полностью с любыми субъективными нормами вкуса. В этих условиях решение вопроса о том, что есть искусство, а что нет, проявляет свои до крайности субъективные основания. Таким образом мы еще раз можем отметить, что одним из главных достижением эстетики является признание эстетического суждения субъективным. А вместе с ним субъективность 124 раскрывается как основание вынесения суждения о том, что является, а что не является искусством. Но все же, сказав только, что это суждение субъективно, мы почти ничего бы не получили. Тонкость кантовского анализа эстетического суждения состоит в том, что он рассматривает его как часть априорной структуры сознания. И в этом смысле, как таковое, оно оказывается не просто субъективным, но выносится как если бы объективно: в качестве всеобщего, необходимого, не терпящего никаких возражений суждения. В итоге, суждение о том, является ли или нет данный предмет (картина, инсталляция, элемент дизайна и т.п.) искусством, выносится спонтанно и на фоне тысяч несовпадающих суждений, и все же всякий раз с чувством абсолютной уверенности в однозначности своего вывода. В небольшой психоаналитической работе «О любви как комедии», посвященной вопросу о том, каким странным образом любовное влечение к простому объекту, одному среди многих, придает ему вдруг некий особый возвышенный статус, словенская исследовательница А. Зупанчич, приводит любопытный комический пример из кинематографа, а именно, из антифашистской сатиры Э. Любича «Быть или не быть» (1942). Фильм открывается сценой, представляющей репетицию спектакля, где актер должен играть роль Гитлера. Режиссер, однако, недоволен его игрой и его видом, объясняя это тем, что «видит перед собой только человека». «На это, – пишет Зупанчич, – один из актеров отвечает, что Гитлер и есть всего лишь обычный человек. Если бы этим все и закончилось, мы бы имели дело с дидактическим замечанием, которое передает определенную истину, но не вызывает у нас особенного смеха, поскольку ему недостает комического качества, передающего истины совершенно иначе. Итак, сцена продолжается, режиссер по-прежнему недоволен и отчаянно пытается назвать загадочное “нечто большее”, что отличает внешность Гитлера от внешности стоящего перед ним актера. Он продолжает искать, наконец, он замечает портрет (фотографию) Гитлера на стене и торжественно провозглашает “Вот оно! Именно так должен выглядеть Гитлер!” “Но сэр, – отвечает актер, – этот портрет был сделан с меня”»322. Можно сказать, что комический смысл сцены состоит в критике той легкости, с которой мы, как нам кажется, распознаем искусство. Ведь актер, которым недоволен режиссер, и человек на фотографии – это одно и то же лицо, но в первом случае режиссер по какой-то причине не видит в нем того, что видит во втором. Он как бы уподобляется здесь философу искусства, который тщательно исследует отклик и эффект, который производит искусство, и его отличие от отклика и эффекта, производимого простой вещью, исходя из предвзятого, заранее установленного мнения насчет того, какой из объектов является искусством, а какой – простой вещью. Комизм же состоит в том, что оказывается, что это один и тот же объект. Однако согласно Зупанчич, а также согласно С. Жижеку, различие здесь все-таки есть, и различие это крайне существенно. Жижек называет это «минимальным различием»: оно различает внутри себя этот один и тот же предмет, причем настолько, что, практически не меняясь, он, тем не менее, становится совершенно другим, почти противоположным, неузнаваемым. В произведении искусства мы видим нечто, чего не видим в простой вещи. Но не видим мы этого в простой вещи потому, что этого в ней действительно нет. Другое дело, что этого нет и в произведении. Казалось бы, наш взгляд, в таком случае – только ошибка, субъективное наделение простой вещи значимыми для нас свойствами. Однако говорить об ошибке нельзя, потому что нечто все-таки есть: само различие. Минимальное различие – различие между двумя отсутствующими и, в общем-то, никогда не бывшими элементами. Однако именно оно, согласно Зупанчич, является условием всего, с чем мы имеем дело в качестве ценного. И именно с таким различием мы сталкиваемся в том, что можно назвать любовью, или чувством влюбленности. Любовь, это наиболее головокружительное и наиболее интимное из чувств, согласно Зупанчич, всегда двояка. Она различает, и в то же время удерживается на том, что воспринимает одновременно и банальный объект (человека со всеми его слабостями), и возвышенный объект, в который мы влюблены, и минимальное различие между ними. Потому что если мы воспримем 125 только банальный объект – он не вызовет желания. Если воспримем только возвышенный объект – он блокирует возможность сближения, перейдя в статус недостижимого божественного. Но именно зазор, наблюдаемое в самом объекте различие между его банальностью, в которой нет ничего возвышенного, и в то же время возвышенным в нем делают возможной любовь. Таким образом, любовное чувство держится на наличии этого разрыва, на принципиальной раздвоенности. Это не просто способность видеть отсутствующий (возвышенный) элемент (что было бы простой иллюзией), но способность видеть отсутствующее различие. В некотором смысле, если это сравнение уместно, такую способность можно проиллюстрировать диалогом из кэрролловской «Алисы в зазеркалье». Королева спрашивает Алису: «Кого ты видишь?» – а когда Алиса отвечает «Никого», восхищается силой ее зрения: надо обладать очень хорошим зрением, чтобы увидеть Никого! Возможно, видеть это отсутствующее различие внутри банального объекта и значит в собственном смысле и со всей тонкостью зрения видеть Никого (а приведенный диалог рисует нам, вводя в диссонанс два значения слова «никого», сразу и обе стороны различия и саму ситуацию различенности). Жижек называет такое видение «параллаксным видением»323, видением сразу с двух сторон. Это видение как встроенный в структуру восприятия и в структуру продуцируемых объектов разрыв объясняет для него несводимую в единство специфику современного мышления в целом и современного искусства в том числе. Действительно, это в полной мере можно отнести к современному искусству, которое буквально построено на различении внутри простых вещей. Но возможно этот сдвиг минимального различия действительно представляет механизм, согласно которому любая вещь – простая вещь среди вещей, глыба камня или холст, измазанный краской – может стать произведением искусства. 322 323 Зупанчич А. О любви как комедии / Пер. с англ. А. Смирнова // История любви. СПб., 2005. С. 122-123. См.: Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение / Пер. с англ. А.Смирнова и др. М., 2008. Обратимся, однако, к еще одной концепции, пытающейся ответить на тот же вопрос, а именно: что различает искусство и простые вещи? Ранее мы уже говорили о философии истории А. Данто, упомянув при этом, что основным предметом его интереса является все же философия искусства. В начале работы «Преображение банальности» (1981) Данто, приводит описание некой гипотетической выставки. Описание это вдохновлено рассуждениями Кьеркегора, который однажды предположил возможность картины с названием «Переход израильтян через Красное море», представляющей собой не изображение скопления людей, вещей и лошадей, но просто холст, сплошь покрытый красной краской: израильтяне уже перешли, а египтяне уже утонули. К этому Кьеркегор добавляет, что и «итог его жизни подобен этой картине», поскольку все ее треволнения и бури в конце концов сливаются в некий единый тон, общее настроение324. В таком случае, говорит Данто, мы могли бы предположить, что какой-то художник действительно нарисовал эту картину, эту историческую сцену, описанную Кьеркегором. А другой художник, портретист, изобразил бы, возможно, соответствующий портрет Кьеркегора. Можно также представить себе, рассуждает он, пейзаж, изображающий в таком же духе Красную площадь, или религиозную картину, отталкивающуюся от буддийской метафоры, называющей сансару «красной пылью». Можно присоединить сюда еще натюрморт в стиле Матисса, изображающий красную скатерть, и еще не картину, но имеющее все же исторический художественный интерес полотно, которое Джорджоне загрунтовал красной краской, однако смерть помешала ему продолжить начатое дело. Для завершения коллекции можно присовокупить к выставке и простую вещь, не являющуюся произведением искусства – некую поверхность, покрытую (но не загрунтованную) красной краской. Такая выставка содержала бы в себе множество произведений в разных стилях и жанрах, нагруженных самыми разными значениями и смыслами, относящихся к разным эпохам, и среди них было бы даже одно вовсе не произведение, а просто вещь. Каталог такой выставки, конечно, был бы довольно однообразен, – замечает Данто325. Однако нельзя не признать, что все эти произведения, и 126 различие между ними, представляют собой достаточный интерес. И вот, можно представить, что появляется некий художник, который приносит на выставку еще одно произведение, ничем, на вид, не отличающееся от перечисленных: поверхность, покрытую красной краской, и объявляет, что хотел бы также представить это на выставке как произведение искусства. Но на вопрос о названии отвечает, что «Без названия», пожалуй, подошло бы лучше всего, а на вопрос о том, что он хотел изобразить, отвечает: ничего. Была бы некоторая разница, замечает Данто, если бы он сказал, что хотел изобразить Ничто, но он утверждает, что ничего не хотел изобразить. Чем его произведение отличается от обычной вещи? Но он настаивает, что это произведение. Кроме того, «Без названия» – это тоже название. А намерение ничего не изображать и не иметь в виду – это тоже намерение. И чем-то это произведение отличается от «простой вещи», также представленной на выставке, хотя нельзя было бы сказать, что просто всё, чего коснулся художник, становится искусством (ведь полотно. загрунтованное Джорджоне все же им не стало). «Остается только право на декларирование… Почему нет? Дюшан объявил таковым лопату – и она стала; объявил сушилку для бутылок – и она стала»326. По крайней мере, это заставляет Данто немедленно провести границу между тем, что можно бы было назвать искусством, и эстетикой. Поскольку с эстетической точки зрения (с точки зрения восприятия формы), эти произведения, а также и имеющиеся среди них «простые вещи» абсолютно идентичны. Никаких чувственно воспринимаемых отличий в них нет, поскольку форма остается одной и той же. Но мы знаем о них слишком много. И частью из них мы могли бы восхититься (хотя бы остроумием автора), от части из них испытать возвышенный трепет (от глубокомысленной буддийской картины или же от созерцания холста, загрунтованного рукой Danto A. The Transfiguration of the Commonplace. A Philosophy of Art. Harvard univ. press. 1981. P. 1. (Пер. с англ. наш. – С. Н.) 325 Ibid. P. 1-2. 326 Ibid. P. 3. 324 самого Джорджоне незадолго до смерти), к части проявить простое любопытство, а по поводу другой части, к примеру, по поводу произведения упомянутого художника, который ничего не имел в виду, выразить негодование и воскликнуть: «Разве это искусство?!» Можно предположить, что такое восклицание, часто направленное даже против таких знаменитых произведений как «Черный квадрат» Малевича или инсталляции Дюшана, а тем более против экспериментов современных художников, легко преображающих путем декларирования в произведения искусства любые вещи, основано не на эстетическом раздражении, не на упреке в излишней технической простоте или слишком легкой воспроизводимости и повторимости объекта, и даже не на неотличимости объекта от некоторой простой вещи. Негодование скорее вызывается упомянутым Данто свойством: отказом художника дать необходимые разъяснения, что вызывает ощущение то ли недостатка смысла, то ли его излишней всеохватности и обширности. Не кажется ли, что если только мы сможем получить от него, или, по крайности, придумать сами, подходящую сложную интерпретацию, статус подлинного Искусства будет восстановлен? Возможность интерпретации и характер этой интерпретации, полагает Данто, является тем самым, что делает произведение искусства именно вот этим произведением искусства. Одна и та же картина, даже если мы станем рассматривать классический образец натуралистической живописи, может иметь совершенно разный смысл и разную художественную ценность в зависимости от того, как она названа, и, таким образом, от того, что художник акцентирует в качестве ее центрального мотива. Данто поясняет эту мысль на примере «Пейзажа с падением Икара» Брейгеля, поскольку падающий Икар здесь является далеко не первым, что зритель способен заметить на полотне. Тем более следует учитывать, что предварительно, для понимания смысла произведения, мы должны знать, по крайней мере, суть истории об Икаре, притом, что будь картина названа по-другому, смысл ее поменялся бы полностью327. «Название в любом случае есть нечто большее, чем имя или ярлык. Это направление для интерпретации. Давая произведениям нейтральные названия или называя их “Без названия” мы не разрушаем, но только искажаем эту связь. И, как уже было видно, “Без названия”, по крайней мере, 127 предполагает, что это произведение искусства, и заставляет нас искать собственных путей истолкования»328. Эстетика, как видит Данто, не дает никакого особого ответа на вопрос об этих смысловых различиях. «Черный квадрат» едва ли доставляет нам эстетическое удовольствие (хотя при субъективности последнего это не исключено). Данто учитывает эту возможность и отвергает ее как критерий, замечая, что мы могли бы привести много восторженных характеристик в адрес, скажем, писсуара, принесенного в музей Дюшаном, однако это едва ли могло бы обрадовать художника. Вероятно, не это делает его произведением искусства, и если еще «Квадрат» может побудить многих искусствоведов искать в нем некую «неповторимость» авторского выражения, то «Фонтан» Дюшана пресекает всякую возможность такого порыва. Можно было бы представить себе чисто эстетическое отношение к искусству. Данто предлагает вообразить неких дикарей, обладающих сильным эстетическим чувством, но не обладающих понятием искусства, так что это чувство обращено в них лишь на всевозможные предметы, по поводу которых можно было бы воскликнуть «Как красиво!»: цветы, закаты и прочее, что восхищает нас в природе. Положим, эти дикари напали бы на нас, уничтожая все, кроме того, что вызывает в них такое восхищение. Тогда, предполагает Данто, хотя многие картины, возможно, уцелели бы – а особенно те, на которых много позолоты, или иконы в изукрашенных окладах, или же такие, на которых сами краски сверкают и приятны для восприятия, – многие шедевры бы, безусловно, погибли329. По мнению Данто, даже многое из того, что относится к старинной живописи – что же говорить об иных работах авангардистов? Это устанавливает достаточно серьезное различие между сферой искусства и сферой эстетического суждения, или, по крайней мере, требует от эстетического суждения некоторой 327 Ibid. P. 115-119. Ibid. P. 119. 329 Ibid. P. 105-106. 328 модификации, чтобы соответствовать требованиям интерпретации искусства. Кантовского представления о «свободной красоте природы» для оценки искусства явно недостаточно: «эстетическая оценка произведения искусства имеет иную структуру, нежели эстетическая оценка простых вещей, какими бы красивыми они ни были, и независимо от того, является ли чувство красоты врожденным»330, – говорит Данто. Поскольку нет особого различия в воспринимаемой форме предметов, а эстетическая оценка может быть направлена равным образом и на вещь и на произведение, Данто отмечает различие в структуре самой оценки. Подобные идеи, изложенные Дано еще в ранней небольшой работе «Арт-мир» (1964), были развиты Дж. Дики и рядом других исследователей, на основании чего сформировалось такое направление как «институциональная теория искусства». Это направление сводит статус искусства к совокупности институциональных конвенций: искусством является то, что принято обществом как искусство, установлено в определенной ситуации как искусство. И именно это переводит, с точки зрения институционализма, вещь из ряда простых вещей в ряд арт-объектов, делает частью арт-мира. Однако сам Данто с этой трактовкой своих идей выражает существенное несогласие. По его мнению, она базируется на кантовском различении способностей, и приводит к выводу, что, в конечном счете, «различие между искусством и реальностью в меньшей степени есть различие видов вещей, чем видов отношений к вещам, и следовательно, дело не в том, о чем мы судим, но как мы судим»331. Не отказываясь от мысли о социальной и институциональной обусловленности изменения, приводящего к «преображению» простой вещи в произведение искусства, Данто, однако, заявляет, что результирующее различие имеет характер «не институциональный, но онтологический»332. Переведение вещи из мира простых вещей в арт-мир он уподобляет описанному Августином переходу из града земного в град Божий333, что предполагает не только смену взгляда воспринимающего, но изменение внутренней сущности, подлинное внутреннее преображение вещи без изменения внешних характеристик, доступных восприятию. Между тем, эстетическая теория искусства, какой бы она ни была, ориентируется ли она на восприятие или на творчество, на форму или на содержание, понимает свой объект как ирреальный результат 128 восприятия. И потому между простыми вещами и произведениями пропадает различие – но стирается оно в пользу произведений, поскольку для восприятия всё может быть эстетическим объектом. В этом смысле институциональная теория, хотя и отказывается от эстетического критерия искусства, в то же время сама является эстетической в чистом виде: отказываясь от красоты как основы отношения к произведению, она объявляет последнее зависимым от суждения, от взгляда, от занимаемой позиции. Данто со своей идеей преображения, по сути, хочет преодолеть саму эстетическую позицию по отношению как к искусству, так и к простой вещи. Итак, «минимальное различие» между произведением искусства и простой вещью Данто описывает в религиозных терминах преображения, отсылающего к христианскому преображению Господню. Возможно, впрочем, для определения такого преображение лучше всего подошло бы описание, данное О. Хаксли некому испытанному им под воздействием мескалина эстетическому и, одновременно, мистическому опыту. Он рассказывает об ужасе, который испытал от созерцания стоящего на веранде стула с полосами света и тени: ведь трудно было решить, столкнулся ли он «со стулом, который напоминал Страшный Суд, – или… со Страшным Судом, который через длительное время и со значительными трудностями распознал как стул»334. Не это ли чрезвычайное столкновение предполагается шокирующими работами экспериментаторов, наполняющих музеи на вид простыми вещами? Не предполагает ли оно, что при столкновении с этой вырванной из привычного и внесенной в столь недолжный контекст вещью, от самого этого сбоя, в нас произойдет нечто подобное тому, чего Хаксли достиг под наркотическим воздействием, и мы утратим привычную связь с реальностью? И в итоге, Ibid. P. 113. (Курсив наш – С. Н.) Ibid. P. 22. 332 Ibid. P. 99. (Курсив наш – С. Н.) 333 Danto A. The Artworld // The Journal of Philosophy. Vol.61, №19. Oct.15, 1964. P. 582. 334 Хаксли О. Двери восприятия / Пер. с англ. В. Топорова. СПб, 1999. С. 284. 330 331 возможно, мы не проинтерпретируем тот или иной предмет как указание на что-то иное (так, возможно, «Черный квадрат» может быть понят как символ смерти, или жизни, или бесконечности, или чего-либо еще), но непосредственно столкнемся здесь с этим Иным, которое с большим удивлением, с усилием и через длительное время опознаем как простую и, казалось бы, ничем не приметную вещь? В этом смысле искусство могло бы быть чем-то подобным древним религиозным практикам. Впрочем, Данто не идет так далеко, его цель в другом. Он полагает, что и в том виде, в каком преображение имеет место в современном искусстве – то есть в искусстве, допускающем полную неразличимость арт-объекта и простой вещи с точки зрения восприятия, – оно преодолевает границы собственно искусства, а не только границы эстетики. Преображая обычную вещь в арт-объект, современное искусство указывает на определенное состояние мысли, делающее такое преображение возможным. Проблема преображения перестает быть собственно художественной и становится скорее проблемой философской рефлексии об искусстве. Инсталляция в стиле ready-made, по мнению Данто, представляет собой не столько художественный, сколько философский акт: это скорее артикуляция концепции, чем художественное творчество. Потому Данто обращается к гегелевской проблематике конца искусства, полагая при этом, что современное искусство оказывается неуместным в силу радикального предшествования концепции. Такое произведение (он приводит в пример коробки Brillo Энди Уорхолла) «бессмысленно потому, что уже в силу того, что оно могло быть создано, не было никаких оснований создавать его»335. А могло оно быть создано потому, что сложившийся взгляд на мир позволил даже простым коробкам, неотличимым от любых других коробок, стать произведением искусства. Также нет, с этой точки зрения, надобности во внимательном созерцании «Черного квадрата» или многократном исполнении «4’33”» Дж. Кейджа. Если ситуация в развитии художественной мысли приводит нас к точке, когда пауза может быть понята как музыкальное произведение, то это, собственно, представляет собой конец развития художественной мысли или переход ее на вне-художественный уровень, на 129 уровень, когда идея (концепция) уже не нуждается в «чувственном выражении». Впрочем, это отнюдь не значит, для Данто, что искусство отныне вынуждено прекратиться. «Конец искусства» для Данто, как и для Гегеля – проблема философская. Он определен логикой развития искусства в рамках определенного понимания искусства и представляет собой конец некого нарратива скорее, чем прекращение художественной практики. А в нарративе, как полагает Данто, «вопрос завершения является практически логической необходимостью, так как нарратив не может быть бесконечен»336. В любом случае, обращаясь к вопросу о конце искусства мы всегда стоим перед угрозой перепутать «завершение» и «остановку», при том, что, по его мнению, искусство лишь закончилось – но не остановилось337. Для Гегеля искусство было ступенью в развитии мышления, предшествующей, в том числе, философии, но ступенью, на которой идея еще не может быть непосредственно осознана со всей ясностью, и тогда, по логике вещей, с появлением философии оно прекращало быть первейшей необходимостью духовного развития. И это также означало его конец как философского предприятие, но не остановку в качестве предприятия, отдельного от философии. То, что предлагает Данто в качестве перспективы – это освобождение искусства от философии, а философии от искусства. «В тот момент, когда создатели искусства освобождаются от задачи поиска сущности искусства, которая была возложена на них с начала модерна, они также освобождаются от истории и вступают в сферу свободы. Искусство не останавливается с концом искусства, что случается, так это то, что некий ряд императивных обязательств снимается с его практики, когда оно вступает в постисторическую эпоху»338. Историческое мышление модерна приходит к концу и кладет конец искусству, понятому исторически. Но это не имеет отношения 335 Danto A. The Transfiguration of the Commonplace. P. 208. Danto A. Encounters and Reflections. Art in the Historical Present. Univ. of California press, 1997. P. 335. (Пер. с англ. наш – С. Н.) 337 Ibid. P. 309. 338 Ibid. P. 344. 336 к внутренним проблемам художественной практики и даже к принципам мышления в целом, но только к одной его форме, одной его разновидности, к одной форме рациональности, выражением которой выступало определенное искусство и определенная история искусства. ИСКУССТВО И ЭСТЕТИКА В уже упоминавшейся работе «Под подозрением» Гройс обращает внимание на то, что М. Маклюэн произносит свою знаменитую фразу «медиум есть сообщение» в контексте рассуждения об искусстве кубистов, и даже более того, утверждает, что именно кубисты, разрушая «иллюзию трех измерений», сюжетности, наглядности произведения, непосредственно демонстрируют природу медиума, с помощью которого картина доносит свое сообщение до человека339. Причем, анализируя контекст фразы, Гройс приходит к выводу, что, если следовать ссылкам (Маклюэн, в частности, ссылается на анализ кубистов Э. Гомбрихом), можно увидеть, что «интерпретация классического авангарда как художественной стратегии, направленной на выявление медиума, в те годы, когда Маклюэн писал свою книгу, считалась – по крайней мере в контексте прогрессивной художественной теории – общепризнанной»340. Пожалуй, еще раньше и в немного другом контексте – в контексте, не столько указывающем на художественную природу медиальности, сколько на медиальную природу искусства, то есть в контексте значительно более общем – о том же говорит Х. Ортега-и-Гассет, приветствуя «дегуманизацию» искусства. Он описывает два возможных отношения к искусству в своей «оптической метафоре», представляющей произведение искусства как «сад за стеклом»341. Мы либо видим в искусстве лишь сам «сад», то, о чем оно повествует, на что указывает: его содержание. Либо то, с помощью чего оно это делает, его форму – то есть сосредоточиваемся на самом «стекле». Фактически это ставит проблему медиальной составляющей искусства как центрального художественного элемента, существа самой художественности. Недоступная массовому зрителю, жаждущему столкнуться в искусстве с картинами знакомой или же незнакомой, но в любом случае реальности, художественность может быть воспринята лишь 130 теми, кто способен сосредоточиться на форме, невзирая на содержание. Поясняя это противопоставление, можно перефразировать уже приводившееся высказывание де Мана: искусство – вымысел не потому, что создает вымышленную реальность, не имеющую отношения к нашей повседневной реальности, а потому как раз, что противостоит реальности вообще, концентрируясь на способе выражения. Это заставляет Ортегу-и-Гассета критически отнестись к начинаниям романтизма, открывшим путь реализму благодаря детальному выражению субъективного видения окружающего мира, поскольку такое искусство делает форму – «стекло», сквозь которое виден сад – слишком прозрачной. Здесь крайняя сложность приемов, нацеленных на максимально точное и правдоподобное отображение видимой реальности, поставлена на службу тому, чтобы сделать ее восприятие для зрителя предельно простым. Подобное искусство представляет собой в шопенгауэровском смысле «чистое око мира»: незамутненную, самоустраняющуюся пустоту воспринимающего взгляда, для которого мир есть, но самого его нет. Это крайний предел субъективизма, в котором субъект растворяется, словно созданный его взглядом мир – это и есть сама по себе реальность как таковая342. Ортега-и-Гассет приветствует авангардизм, переносящий внимание на форму и отвлекающий его от попыток наблюдения того, что находится «за ней». Но как ни странно, форма при этом становится предельно простой. Чему кубизм дает лучший пример. Форма становится здесь настолько доминирующей, что практически устраняет себя, становясь собственным содержанием. Неудивительно, что попытки Гройс Б. Под подозрением. С. 83. Там же. Гройс ссылается, помимо Гомбриха, на К. Гринберга и Т. С. Элиота, выражавшего общую точку зрения англо-американской модернистской поэзии, а также новой критики. 341 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства / Пер. с исп. С. Л. Воробьева // Х. Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 224. 342 Но неслучайно еще в XVIII в. Г. К. Лихтенберг замечал не без ехидства, что изображение на сетчатке нашего глаза есть также только изображение и сродни картине. (См.: Лихтенберг Г. К. Афоризмы. М., 1964. С. 114). 339 340 отвлечься от содержания, стоящего «за» формой ради самой формы, являющейся собственным содержанием, далеко не всегда достигают цели. Зритель может пытаться и за «Черным квадратом» увидеть нечто, о чем он мог бы повествовать, хотя бесконечность и неопределенность этого пространства смыслов, как сама чернота, вбирающая практически все – вновь та же чистая возможность всех образов, подобная зрачку глаза, – рождает резкое недоумение: что значит это произведение? О чем оно повествует? Маклюэн полагает это чистым самореференциальным высказыванием, абсолютной замкнутостью, порождающей абсолютную простоту. Но то, что важно для нас в данном случае – это сам принцип. Фактически, и Ортега-и-Гассет, и Маклюэн, находят чистое проявление художественности в произведениях, сконцентрированных на самих себе, не являющихся высказыванием о чем либо кроме самих себя, таких, где медиум действительно есть единственное сообщение. Это довольно узкий круг произведений в довольно предсказуемой манере и с довольно предсказуемой концепцией. Причем концепция находит свое выражение в единственном усложнении формы, добавленном к ее бесконечной простоте – в названии как части этой художественной формы. Пожалуй, из всей выставки, описанной Данто и упомянутой нами в предыдущем параграфе, только последняя картина, «Без названия», полностью подошла бы под искомое определение. Вписанное в произведение прямое указание на отсутствие отсылки на внешнюю по отношению к этому произведению реальность возвращает произведение самому себе, делая его произведением искусства как таковым. И это уже действительно имеет отношение скорее к онтологии, чем к вариациям субъективистской теории познания. Это почти метафизическая характеристика в платоновском духе: мы сталкиваемся не с каким-то проявлением искусства/медиума, не с той или иной его модификацией, но с искусством как медиа-носителем самим по себе, в чистом виде. Практически «эйдос» искусства. Причем постижимый умом и только умом, а не чувствами, хотя представляет собой непосредственно данную, телесную, материальную вещь: собственно медиа-носитель, который есть, кроме всего прочего, покрытый краской холст. Безусловно, материальная вещь – простая вещь – ни в коей мере не есть искусство, а искусство 131 существует лишь в интерпретации, в умозрении. Но при этом все-таки произведение искусства и есть не более, чем эта простая вещь. Однако, согласно выводу, к которому мы, следуя Данто, пришли в конце предыдущего параграфа, вполне вероятно, что подобное искусство, – искусство, приходящее к раскрытию своей сущности в работах авангардистов, которые «бессмысленно было создавать, просто потому, что они могли быть созданы», искусство, развивающееся исторически к этому пункту полного самопостижения и совпадения с собственным «эйдосом», – подобное искусство не является искусством вообще и на все времена, но является одним из возможных взглядов на искусство, соответствует одной форме рациональности, определенной конкретным и исторически конечным мировоззрением. И когда этот способ определять искусство подходит к концу, осуществляя себя полностью, искусство в целом не должно заканчиваться, но может продолжаться: могут создаваться все новые и новые произведения, которые уже не являются произведениями искусства, если понимать искусство с точки зрения прежнего, ушедшего уже, взгляда на искусство. А значит может существовать, и, вероятно, существовало уже, искусство, которое даже называлось тем же словом «искусство», но вовсе не понималось как искусство в нашем смысле. Тем не менее оно самым успешным образом функционировало и даже создавало (а как Данто надеется, и будет создавать) великие шедевры. Которые часто и мы, пусть на других основаниях, но иногда также можем признавать шедеврами. И эта форма восприятия искусства, которую Данто объявляет закончившейся, принадлежит не столько авангардистам, сколько классической философии искусства, впервые определяющей сущность искусства в философском смысле, создавая эстетический взгляд на искусство. Недаром Гегель полагал, что только теперь может появиться эстетика, то есть наука об искусстве. «Только теперь» означает: когда искусство – искусство, не понимавшееся как искусство, то есть не понимавшееся как искусство в нашем смысле, потому что еще не было возможности его таким образом понимать, – уже осталось далеко в прошлом. Эта форма восприятия искусства, принадлежит тому, что мы уже рискнули назвать эстетической рациональностью. И теперь наша задача – рассмотреть не столько различие между эстетическим и художественным, сколько историческую соотносенность эстетики и соответствующего понимания искусства. Однако попробуем подойти к решению этого вопроса издалека и обратимся сперва к любопытному пассажу из Шопенгауэра, еще раз напоминающему его достаточно специфический взгляд на функцию художественного гения. Определяя соотношения эстетики и искусства, Шопенгауэр пишет: «Преимущество гения перед ними [обычными людьми – С.Н.] состоит только в значительно более высокой степени и большей длительности такого способа познания, что и позволяет ему сохранять при этом осмотрительность, необходимую для повторения познанного в произвольном творении, а это повторение и есть произведение искусства. В нем он сообщает постигнутую идею другим. Идея остается при этом неизменной, одной и той же: поэтому эстетическое наслаждение по существу одинаково, независимо от того, вызвано ли оно творением искусства или непосредственным созерцание природы и жизни. Художественное произведение – лишь средство облегчить познание, в котором заключается это наслаждение. То, что в художественном произведении мы воспринимаем идею легче, чем непосредственно в природе и в действительности, объясняется следующим: художник, который познал только идею вне действительности, воспроизводит в своем творении чистую идею, выделяет ее из действительности, устраняя все мешающие этому случайности»343. Как уже говорилось, искусство, по Шопенгауэру, позволяет обыденному взгляду увидеть то, что гений видит всегда. Но почему зритель, погруженный в мир воли и мотиваций, вдруг видит именно в искусстве то, что не способен видеть в окружающем мире? Собственно, потому, что искусство – это не реальность, что оно создает вымысел, что оно, через обращение к медианосителю, в акте выражения отстраняет свое содержание на шаг от реальности. Искусство создает дистанцию, разрыв, эстетическую отстраненность, проявляющуюся как незаинтересованность, и делает это отнюдь не посредством создания чего-либо небывало прекрасного (каковое мы не так часто встречаем даже на классических картинах), но просто 132 извлекая вещь из привычного контекста, заключая в раму, в особое пространство, нарушающее обычный порядок ее реального функционирования. Вещь видится теперь как таковая, потому, что ее реальность дана как раз не как таковая, но переживается опосредованно. Это можно сравнить с рассуждением Хайдеггера в «Истоке художественного творения», где творение наделяется особой силой выведения «в просвет бытия». Так изображенные на картине Ван Гога башмаки извлекаются из всех тех отношений и связей, которые обычно стирают, заслоняют их собственное самостояние. И здесь, наконец, мы видим вещь саму по себе в ее собственной сути. На этой картине, мы впервые видим сущность изделия и видим вещь в ее бытии изделием, в то время как в использовании изделия это бытие стирается, исчезает в обыденности. При этом Хайдеггер как бы вторит Гегелю, полагая, что мы живем в мире былых творений: раз став предметом оценки, изучения, сохранения, они теряют свою непосредственность. Если раз совершилось перенесение в художественное собрание, то «как бы мы ни старались избежать его, приезжая, например, в Пестум, чтобы увидеть здесь стоящий на своем месте храм, или в Бамберг, чтобы увидеть здесь стоящий на своем месте собор, – сам мир наличествующих творений уже распался»344. Пример с картиной приводится Хайдеггером прежде этого утверждения. Описание греческого храма, «восставляющего мир» и «делающего землю землею» следует после. Но, можно сказать, также и вопреки ему. Два примера – с картиной и с храмом – описывают словно два разных типа понимания творения. В примере храма мир, в который включено творение, земля, на которой оно покоится, творятся им, их бытие впервые раскрывается благодаря нему. Мир созидается этим творением, поддерживается им, творение само стоит в центре этого мира и мир раскрывается вокруг него. Но башмаки на картине проявляют сущность вещи, напротив, вырывая себя из мира, из того контекста, в Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Т. I. М., 1993. С. 310. Хайдеггер М. Исток художественного творения / Пер. с нем. А. В. Михайлова // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М, 1993. С. 74. 343 344 котором существуют башмаки, или в котором находится картина. Такое творение существует как творение не потому, что покоится на своем месте, но как раз потому, что совлечено с места: вырванное из него, оно представляет перед нами как чудо непостижимый факт своего присутствия, заставляет сущее проседать, разрывая его связные и технически обустроенные покровы, и тем выводя вещь в ужасающий просвет бытия. Но этот взгляд на творение не подходит уже к греческому храму, а скорее интерпретирует авангард дюшановского типа в качестве порыва изъять предмет из переплетения привычных связей и функций, чтобы продемонстрировать его непосредственную фактичность, «вот» его существования. Интересно замечание П. Слотердайка, полагающего, что «Дада предвосхищает мотивы экзистенциальной онтологии Хайдеггера…», и даже что «можно было бы прийти к мысли, что экзистенциальная онтология – это созданная вдогонку академическая версия “дадасофии” или “дадалогии”, причем Мартин Хайдеггер с огромным успехом мог бы оспаривать у Иоганнеса Баадера титул Главного Дада»345. Таким образом, в понимании искусства у Хайдеггера присутствует некоторая двойственность, проявляющаяся в расхождении между тем, как бытийствует греческий храм, и тем, как функционирует ready-made Дюшана (даже если основной смысл, предельная цель и в том, и в другом случае остается одной и той же). Недоверие Хайдеггера к музеям достаточно хорошо объяснимо в обоих случаях: храм бытийствует именно постольку, поскольку он не есть экспонат, но есть, собственно, храм, и эстетическое восприятие его в качестве «выразительной формы» неуместно; ready-made функционирует как произведение только постольку, поскольку он есть экспонат, и как таковой требует к себе особого эстетического отношения – но тем самым обнажает бессмысленность самого этого требования. В то же время картина Ван Гога, как и любая другая, также и более ранняя картина европейской светской художественной традиции, пожалуй, странным образом находится на полпути между этими двумя крайностями. И находясь на полпути таковая картина является главным предметом, на который может быть направлено эстетическое восприятие. В некотором смысле, картина как произведение искусства (отличаясь в этом и от храма, и от ready-made) является тем единственным, что может быть с 133 полным правом оценено эстетически. Можно сказать, что она является искусством в то время как ни храм, ни ready-made искусством в полном смысле не являются. В них нет той двойственности, о которой мы уже говорили как о «минимальном различии». В первом случае ее нет, поскольку храм есть именно то, что он есть. Во втором случае, двойственность доведена до того предела, где она, наконец, становится заметной и ее составляющие проявляют себя как несоединимые друг с другом: выявляя сущность художественности, эксперименты авангардистов разрушают художественность. Хотя возможно сущность и нельзя бы было выявить каким-либо другим путем. Следую Жижеку, можно предположить, что искусство – европейское искусство или поевропейски понятое искусство, то есть искусство, понятое как предмет эстетического восхищения –всегда раздвоено, всегда параллаксно. Восхищение, пробуждаемое им, одновременно как будто бы уносит нас в высшую божественную сферу – и все же оставляет в уверенности, что мы имеем дело лишь с человеческим продуктом, лишь с вымыслом. Возможно, этот параллакс одновременности вымысла и высшего смысла и есть основание эстетического удовольствия: случайного и необходимого, субъективного и всеобщего одновременно. То, о чем мы доподлинно знаем как об иллюзии, в то же самое время и именно в связи с этим, обладает высшей по отношению ко всему, что есть в мире, реальностью. Мы уже говорили об этой двойственности как о двойственности и взаимообусловленности между прекрасным и возвышенным. Можно сказать, что минимальное различие – это непрерывное различение между прекрасным и возвышенным внутри одного воспринимающего акта. Некогда Платон полагал искусство недостойной деятельностью за то, что оно производит копии копий. Таким образом для него божественная истина, которую следует познавать, оставалась божественной истиной, а ремесленная поделка, какой бы совершенной она ни была – 345 Слотердайк П. Критика цинического разума / Пер. с нем. А. Перцева. Екатеринбург, 2001. С. 436. всего лишь простой вещью. (При этом Гегель именно с античностью связывал высший этап развития своей философской истории искусства, где оно, конечно же, и не могло бы быть осознано как искусство, то есть как выражение, проявление высшего смысла). В то же время, скажем, религиозное искусство, напротив, видит в произведении лишь высший смысл, но не видит «простой вещи», так что икона есть священный предмет независимо от качества, с которым она исполнена. Но чтобы произведение искусства воспринималось одновременно как прекрасная поделка и как наполненность высшим смыслом, мы должны перейти на эстетическую позицию. Однако по Гегелю, как мы помним, подобная позиция оказывается возможной лишь после конца искусства. Но покуда эта эстетическая позиция не занята, искусство вообще не является искусством, и мы имеем дело либо с банальными вещами (с ремеслом), либо с подлинно возвышенным – с тем, что непосредственно отсылает к трансценденции (с идолами или со священными предметами). И тогда то, что делает искусство искусством – это возможность эстетического взгляда, признающего, что великое произведение есть в то же время вещь среди вещей, а высокий смысл есть плод человеческого вымысла. Безусловно, в таком случае, понимание искусства как двойственности, понимание искусства как искусства, а значит, сам конец искусства оказывается мощнейшим стимулом не только для эстетического осмысления всех предшествующих форм художественной деятельности, но также и для ее развития, для рождения огромного количества художественных шедевров, осознанной целью создания которых является эстетическое наслаждение. Но если двойственность включена в структуру искусства, понимаемого как искусство, то, какими бы прекрасными ни были его плоды, она всегда может стать подтачивающим его основания элементом, повести к неизбежному распаду прекрасной формы, к выявлению внутреннего противоречия. Не является ли параллаксность европейского эстетически осмысленного искусства причиной того, что в своем стремительном развитии оно оказывается вынуждено непрерывно двигаться к тому, чтобы оказаться, наконец, действительно закончившимся? МУЗЫКА И ПРЕДЕЛЫ НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ ПАРАДИГМЫ Не эта ли двойственность заставляет нас, хотя и наслаждающихся красотой формы, но все же склонных в минуты практической сосредоточенности смотреть на искусство слегка свысока, как на «всего лишь вымысел», в то же время проникаться им сполна, с головой погружаться в глубину его содержания, которое в этой самой форме превосходит все, что есть в мире, давая миру высшую цель и оправдание? Должно быть, лучше всего это описано у Ницше в «Рождении трагедии», где, после провозглашения тотальной и сущностной иллюзорности аполлоновского мира, и следующего за ним яростного гимна в честь всесметающего дионисийского потока жизни, после описания двух несводимых друг к другу начал, говорится, наконец, о неком принципиально диссонансном договоре между ними. Этот договор, по сути, и есть искусство – трагическое искусство, рождающееся из музыки. Ницше пишет: «Но тут, в час, когда Воле угрожает величайшая опасность, приходит, протягивая спасительную руку, волшебникисцелитель по имени Искусство; никто, кроме него, не в состоянии мысли, вызывающие отвращение к тем ужасающим или нелепым сторонам существования, так искусно обратить в представления, которые позволяют жить и которые соответствуют возвышенному началу как эстетическому покорению ужаса и комическому – как эстетической разрядке, освобождающей от нелепицы»346. Но искусство здесь спасает, позволяет жить, наполняет радостью и способностью к действию не тем, что обещает нам что-то иное или представляет нам нечто лучшее, чем «реальный» мир. Оно спасает человека от ужаса бытия тем, что представляет сам этот ужас. Оно устанавливает дистанцию, сообщает возможность переживать, глубоко и серьезно, то, что без него является лишь непосредственностью существования. Искусство подобно акту рефлексии. Оно наполняет мир смыслом и значением, которого сам он, возможно, Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки / Пер. с нем. Г. Бергельсона // Ф. Ницше Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 163. 346 134 и не имеет. Через переживание в искусстве весь мир становится эстетическим феноменом и получает свое оправдание. Но если говорить о музыке, то музыка у Ницше соответствует скорее дионисийскому порыву, из которого лишь рождается то, что он называет искусством. При этом Ницше, как и Шопенгауэр, ставит музыку особняком и определенно выше других искусств. Шопенгауэр посвящает музыке отдельную главу в «Мире как воле и представлении» и наделяет ее способностью быть голосом самой воли. Он говорит, что так же, как можно назвать мир воплощенной волей, его можно назвать воплощенной музыкой. Ницше выводит музыку в заглавие своей работы, полагая именно ее ключом к формированию и пониманию новой трагической эпохи. Это как бы квинтэссенция искусства, понятого трагически, понятого диссонансно. Однако не кажется ли, что, способная выражать волю до такой степени напрямую, музыка должна быть лишена отмеченного нами ранее расхождения в своей внутренней структуре? Еще Гегель называл музыку «чистым голосом сердца» – но надо признать, что Гегель видел здесь лишь ступень в становлении самопознания. П. П. Гайденко, рассуждая об эстетизме Кьеркегора, обращает внимание на крайне высокую значимость музыки в миропонимании XIX – начала XX вв., на частое обращение писателей-романтиков к музыкальным образам, на ставшие знаменитыми слова Шпенглера, в которых он характеризует музыку как центр и душу, главный способ самовыражения европейской «фаустовской» культуры 347. С другой стороны, она отмечает интересное расхождение между пониманием музыки в духе Шопенгауэра и Ницше, наследующим в этом романтическому толкованию, предложенному философией искусства Шеллинга – и пониманием ее у Гегеля и, как она показывает, у проводящего ту же линию Кьеркегора. В первом случае, полагает Гайденко, музыка предстает как «метафизическая праоснова бытия», приобретает некое планетарное, космическое значение. Второй случай связан с углублением романтизма вовнутрь, с противопоставлением внутреннего как музыкального внешнему как пластическому348. Музыка вводится в историческую ткань развития сознания, причем в тот момент этого развития, когда сознание оказывается как бы разорванным между 135 чувственностью и внутренней глубиной. С этим связан определенный страх перед музыкой, нежелание признать в ней конечный итог искусства, или, так скажем: нежелание раствориться в ней. Кьеркегор называет музыку демонической, полагая, что она «потому способна дать человеку высшее наслаждение, что в ней неосознанно, непосредственно, нерефлектированно, облаченное в прекрасную форму, выступает порочно-греховное начало, и музыкальное наслаждение есть наслаждение запретное»349. При этом Гайденко отмечает, что определение «демонической» относится Кьеркегором только к христианской музыке, но едва ли могло бы относиться, скажем, к древнегреческой. Однако, хотя она противопоставляет позицию Кьеркегора в отношении музыки позиции Шопенгауэра и Ницше, можно заметить, что и для последних восприятие музыки не оказывается столь уж гладким. Шопенгауэр готов объявить любую музыку космическим соответствием воли, однако метафизический трагизм музыки возвышает и ведет к отрицанию воли только углубленную в себя, рефлексивную, а по сути, лишь субъективированную христианскую душу. То, что у Кьеркегора вызывает страх, для Шопенгауэра является спасением. Однако это своеобразное спасение, равное самоуничтожению воли, потрясенной ощущением своего глубинного зла. Нерефлексивное воздействие музыки имеет смысл только для рефлексивной души, способной не к растворению в ней как во всесметающем дионисийском потоке, но к самосознанию и, соответственно, к самоотрицанию. Рефлексивность находит, по Шопенгауэру, свое выражение в мелодии: мелодия есть как бы «история освещенной сознанием воли». Именно освещенность сознанием делает музыку возвышающей. Она делает музыку средством познания. Но красота и законченность мелодии и есть то, что делает музыку двойственной. Это то, что, с одной стороны, отражает стремление страдающей воли за свои Гайденко П.П. Трагедия эстетизма. О миросозерцании Серена Кьеркегора. М., 2007. С. 189-190. Там же. С. 193. 349 Там же. С. 198. 347 348 пределы, к высшему сознанию и утешению, а с другой стороны, подчиняет и очаровывает ее своею игрой. Как уже говорилось, по Шопенгауэру, а также и по Ницше, действенна любая музыка – это сама воля, сам поток дионисийской силы. Но в конечном счете, своей спасительной и в то же время трагической миссии она может достичь лишь тогда, когда, как полагает Ницше, дионисийский экстаз, оргия, оказываются чреваты пробуждением. Нельзя забывать, что достижение нового трагического искусства Ницше увидел сперва в музыкальной драматургии Вагнера. Однако впоследствии он отказался от почитания Вагнера, обнаружив в его деятельности некую серьезную ошибку, а можно сказать, серьезный соблазн. Сам же Вагнер видел своего вдохновителя в Шопенгауэре и обосновывал свою музыку его философией вселенского трагизма, глубины страдания, внутреннего неизбывного конфликта воли, заключенного в самой сердцевине мира. Это нашло художественное выражение в синтетическом музыкально-сценическом действе его опер, в котором последовательно и полно должна была развертываться вся история страдающей воли, ведущая ее к последнему самоотречению. Всё это так или иначе выражается в знаменитой и пленительной вагнеровской «бесконечной мелодии», отвергающей четкие правила мелодического построения, выработанные классической традицией. Но распад мелодии явно противоречит основному посылу Шопенгауэра, который так и не принял музыки Вагнера. В то же самое время для подтверждения своих мыслей Шопенгауэр обращается к Россини – автору блестящих, мелодичных, и, по большей части, комических опер. Он ищет выражения своей идеи на совершенно ином уровне художественной формы (впрочем, неудивительно, что в итоге Шопенгауэр не считает искусство достаточным и окончательным средством освобождения от диктата воли). Любопытно, что Жижек в работе «Параллаксное видение» называет Вагнера и Россини двумя сторонами эстетически возвышенного: динамического и математического350. Можно сказать, что именно обилие законченных, переплетающихся, буквально теснящих друг друга мелодий является у Россини тем, что превышает масштабы воображения и оказывается соответствующим духу философии Шопенгауэра. В мелодии и Шопенгауэр, и Ницше находят 136 высшую степень развития музыки. Главным же страхом, главным соблазном музыки является, напротив, вне-мелодическое, неосознанное подчинение ей, тождественное полному подчинению воле. Мелодия вносит в музыку опосредованность, позволяя ей быть искусством, эстетически оцениваемым рефлексивным субъектом и в то же время выражающим самую глубину его переживания (с такой силой, с какой неспособно это сделать ни одно другое искусство). Окончательное погружение в музыкальный экстаз было бы равносильно уничтожению человеческой субъективности. Но эстетически отстраненное восприятие музыки, выраженное в наслаждении красотой законченной мелодии и в одновременном переживании сообщаемой ею эмоции, – это, можно сказать, и есть наилучшее проявление параллаксности эстетически понятого искусства, а также трагизма субъективности, трагизма всей модернистской эпохи. Но даже оставляя в стороне метафизические рассуждения, мы могли бы обратить внимание на тот факт, что музыка в том виде, который мы сейчас лучше всего знаем, получила развитие только в Европе начиная с XVII в. Или, точнее, только в это время музыка приобрела статус автономного искусства и стала предметом эстетического восприятия. При этом невозможно отрицать, что она представляла собой нечто крайне значимое, сакрально значимое, во все времена – сопровождая всё, от ритуалов шаманов до пения античных поэтов, где, согласно расхожей метафоре, поэт «воспевает», то есть выступает также и как певец, музыкант. Песни, пляски, религиозные гимны, или уединенное музицирование во все времена были непрерывным сопровождением человеческой жизни. Возможно, что ни одно «искусство» никогда не ценилось так высоко, как музыка 351. Но при этом, отношение к музыке Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. С. 309-311. Так, в Китае Конфуций, фактически, отождествлял музыку и ритуал, употребляя эти слова синонимично: музыка передает сам ритм мира, соответствие Дао. А по преданию, услышав древнюю и уже почти забытую музыку при дворе царства Ци, Конфуций был так восхищен ею, «что три месяца не замечал вкуса мяса» (См.: Малявин В.В. 350 351 было далеко не эстетическим и даже можно сказать, оно практически никогда не было светским, всегда так или иначе отсылая к религиозному опыту, словно у музыки более, чем у чего-либо, есть тайная связь с трансцендентным. Музыка проявляла не субъективное переживание, но божественную истину, звучание ее было звучанием космического миропорядка, подобием звучания неведомой слуху «музыки сфер», описанной пифагорейцами, а пение религиозного гимна – подобием пения ангелов. От древних плясок и до средневековых хоралов вслушивание в эту гармонию, совпадение с ней – это скорее религиозное действо, чем художественное творчество. Сама музыкальная ткань здесь весьма отлична по структуре от той, с которой мы привыкли сталкиваться в новоевропейской традиции: здесь нет законченной композиции, развивающейся мелодии, эта музыка столь же обширна, как сам мир. Такая космическая музыка могла бы представлять собой предел стремлений мыслителя-романтика, и тем не менее именно для романтизма она оказывается недостижимой. Взять ли церемониальную или медитативную музыку Востока, древние танцы примитивных народов, средневековые аристократические песни или церковные песнопения – они не предполагают ни записи, ни авторства, они звучат, и еще, и еще раз воспроизводятся в едином, мерном звуковом пространстве. Сакральная роль всюду отведена музыке, поскольку, возможно, музыка – самый действенный способ погружения в транс, в медитацию, в проживание непосредственной данности бытия. Аудиальное восприятие завораживает, вбирает, а не отстраняет, как зрительное. Потому, вероятно, из всех искусств музыка оказывается самым священным, самым близким к религиозному чувству, к мистическому опыту. И потому менее других имеющим шанс на самостоятельное, светское развитие. Музыка Ренессанса для современного слуха, пожалуй, почти ничем не отлична от этого мерного без-эмоционального звукового течения, характерного для средневековых песнопений. Может возникнуть странное впечатление, что в то время как все стороны культурной жизни столь бурно развивались и реформировались, именно в музыке наблюдалось отставание и затишье. Однако ложность впечатления подтверждается хотя бы тем фактом, что на исходе Ренессанса происходит мощный прорыв в музыкальной сфере, который сформировал не просто 137 одну из самых разработанных, тонких и сложных музыкальных традиций, но по сути впервые дал миру музыку-как-искусство: как независимое светское искусство, свободное от религиозного назначения, а может быть, в пределе, даже замещающее собой религию. Этот прорыв не мог не быть хорошо и тщательно подготовлен. В течение эпохи Возрождения в музыке постепенно и незаметно происходили весьма радикальные изменения: стало фиксироваться авторство, появилась нотная запись, становящаяся все более точной (хотя только к XIX в. она оказалась способной отразить самые тонкие нюансы композиторского замысла). Возникло, собственно, сочинительство музыки352. На этой основе в XVII – XVIII вв. появляется Китайская цивилизация. М., 2001. С. 436). Такое же соответствие отмечает и даосский трактат «Ле цзы», где речь идет о лютнисте, игравшем так, что «птицы пускались в пляс, а рыбы начинали резвиться в воде» и о другом, три года учебы лишь трогавшем струны, но не игравшем, поскольку то, что следует играть – «…не ноты. Если я не постигну это в моем сердце, то инструмент не откликнется моим чувствам». Когда же он «нашел то, что искал», музыка его была столь сильна, что летний тон мог растопить лед зимой, при звуке весеннего тона цветы распускались осенью (Ле-цзы // Чжуан-цзы. Ле-цзы. М., 1995. С. 345). Показательна также легенда о греческом поэте Терпандре, приговоренном к наказанию за то, что ради благозвучия заменил количество струн в кифаре: тем самым он грозил нарушить порядок мироустройства, непосредственным соответствием которого является музыка. Впрочем, греки достаточно быстро склонились к тому, что именно стремление к благозвучию, красоте, идеалу – и есть подлинное соответствие космическому порядку. 352 Ф. Лаку-Лабарт дает любопытное пояснение к специфике развития ренессансной музыки, полагая, что она, как и всё в это время, была призвана возродить античность: «Современная музыка изобреталась как пересочинение древней. Банальная программа, сохранившаяся вплоть до романтизма и даже позднее, – с поправкой на то, что от вышеозначенной древней, античной, музыки не сохранилось ни единого документа». (Лаку-Лабарт Ф. Musica ficta. Фигуры Вагнера / Пер. с франц. В. Е. Лапицкого. СПб., 1999. С. 15). Если речь идет о возрождении античности, то конечно нужно учитывать, что античность здесь моделируется по-новому. Возможно особая неповторимость европейской музыки, ее особенно выразительный именно для европейского способа мышления характер, объясняется как раз тем, что музыку, за отсутствием образцов для подражания, пришлось смоделировать с чистого листа. В целом Лаку-Лабарт весьма парадоксальным образом объясняет субъективизм выработанной Возрождением музыкальной традиции слишком буквальным прочтением Платона и Аристотеля. Поэтика мимесиса особый тип светской музыки, предназначенной исключительно для эстетического удовольствия и не выполняющий никакой сакральной функции, причем настолько, что религиозная музыка постепенно начинает уподобляться этой новой светской, приобретая ее главную черту – способность выражать субъективную эмоцию353 (что становится крайне важным также и для всей религиозной жизни этого времени, для отношения человека к сфере божественного). Потребность в выражении субъективных эмоций проявляет себя в разработке тональногармонической системы, позволяющей передать все оттенки мажора и минора в хорошо структурированном ряде тональностей. Интересно, что многие исследователи, обращающиеся к музыкальной теме, наблюдают прямое соответствие между тонально-гармонической системой и новоевропейским типом мышления и социальных отношений. Так уже упоминалось, что Дж. Зерзан, отмечая космический характер древней музыки, находит определенную взаимосвязь между тональностью в музыке и структурой новоевропейского общества с его жесткостью центрального аппарата власти и четкой системой доминирования. При этом, более современная, развившаяся в ХХ в. атональная «серийная техника предоставляет равные права каждой ноте, делая уместным каждый аккорд, что передает идею бездомности, фрагментарности, вполне соответствующей эпохе размытого, лишенного традиций доминирования»354. Марксистский критик С. Берман тоже видит прямую связь между становлением «классической» музыки – от ее формы до системы исполнения в больших концертных залах при полном внимании аудитории – и развитием буржуазных отношений. Кризис классической формы для него, соответственно, является прямой демонстрацией внутреннего кризиса капиталистического порядка 355. Хотя он не соглашается с Адорно полагавшим, что противостоять этому кризису способен только переход к атональности и разлом идеологически успокаивающей эстетически зачаровывающей тональной системы, но признает, что главной причиной, заставлявшей Адорно и ряд послевоенных композиторов-авангардистов страшиться тональной музыки, была редкостная сила ее воздействия на эмоциональном уровне356. Тональная музыка может служить выражением глубочайшей субъективной эмоции – но эмоции любого содержания, она может 138 быть использована в любых целях357. Известный французский писатель и музыковед начала XX в. Р. Роллан приводит в работе, посвященной истокам европейской музыки, потрясающую характеристику, пришедшую из трактата XIII в.: «Главная помеха сочинения прекрасной музыки – это сердечная печаль»358. «Что сказал бы об этом Бетховен? – задается вопросом Роллан. – И что же это значит, как не то, что для художников того времени личное переживание казалось, скорее, помехой, чем стимулом заставляла настаивать на том, чтобы музыка выражала, передавала и имитировала аффекты и страсти. Также платоновская теория ладов говорила о невероятном и почти неизбежном аффективном воздействии музыки. Которое и следовало теперь, по ученому, претворить в жизнь. 353 Э. Боуи в работе «Музыка, философия и модерн» ссылается на слова Хайдеггера, по прослушивании фортепьянной сонаты Шуберта объявившего, что «Мы не можем сделать этого в философии». В этих словах Боуи видит как признание Хайдеггером музыки крайне существенной с точки зрения метафизики, так и объяснение его подозрительности в ее отношении: ее существенный вклад обусловлен передачей эмоций, сообщением того, что не выразимо в языке – а эмоции всегда субъективны. (Bowie A. Music, Philosophy and Modernity. Cambridge univ.press, 2007. P. 76). 354 Там же. С. 87. 355 Берман С. От революционности к никчемности: как классическая музыка потеряла свою аудиторию / Пер. с англ. С. Решетина, А. Петрович. Свободное марксистское издательство, 2009. 356 Там же. С. 33. 357 Эту крайнюю неоднозначность воздействия музыки отмечает также С. Жижек, анализируя использование музыки в кино: она значительно усиливает эмоциональное воздействие, но при этом он замечает, как одна и та же музыка – увертюра к вагнеровскому «Лоэнгрину» в весьма тонком фильме Чарли Чаплина «Великий диктатор» сопровождает и эмоционально подчеркивает и заключительную гуманистическую речь еврейского цирюльника, и мечты о захвате мира его демонического двойника Хинкеля/Гитлера (Žižek S. The Perverts Guide to the Cinema. P. I. Sophie Fiennes (dir.). UK, Austria, Netherlands, 2006). 358 Роллан Р. Музыканты прошлый дней / Пер. с франц. Ю. Л. Вейсберг // Музыкально-историческое наследие. Вып. 3. М., 1988. С. 29. Роллан ссылается на слова Иеронима Моравского. Интересно, что Дж.Зерзан в уже цитировавшейся работе «Тональность и тотальность» приводит высказывание из «Дон-Кихота»: «Сеньора! Где играет музыка, там не может быть ничего худого» (Зерзан Дж. Тональность и тотальность. С. 65). к творчеству. Ибо музыка была для них искусством безличным, требующим прежде всего спокойствия и здравого размышления»359. Действительно, как кажется, средневековый трактат отрицает в качестве предпосылки для написания музыки самое существенное – ту эмоциональную наполненность, напряженность, которую привыкли вкладывать в нее европейские композиторы. Между тем для старинного трактата эта субъективная напряженность оказывается помехой. Если музыка призвана выражать божественное, если в ней звучит сама истина мира как таковая – то любые личные переживания, конечно же, следует оставить в стороне. Но уже подходя к началу того взлета, который музыка как искусство переживала, по крайней мере, в течение XVII-XIX столетий, описывая почти политическую необходимость, которая заставила именно музыку, причем в самом легком ее жанре, жанре светской пасторали, положившей начало развитию оперы в условиях контрреформации XVI в., ответить на потребность в гуманистическом самовыражении, не прибегая к открытым литературным или визуальным декларациям, Роллан приводит слова Торквато Тассо, чьи стихи легли в основу множества мадригалов, а образы его нового эпоса служили основой оперных сюжетов в течение двух столетий. Тассо, говорит Роллан, обожал музыку – и переосмысливал отношение между поэзией и музыкой, суть самой музыки. Слова Тассо, приводимые Ролланом: «Музыка – это нежность, и как бы душа поэзии»360, – уже напрямую соотносятся с пониманием музыки в эстетической теории XIX в. (например, с гегелевским «чистым голосом сердца»). Новую выразительность и новую значимость музыки Тассо находил, в частности, в сложных и исполненных трагизма мадригалах герцога Джезуальдо ди Веноза, человека бурных страстей и трагической судьбы, которому посвятил ряд стихотворений, положенных последним на музыку. Музыковед Т. Ливанова отмечает любопытную черту в творчестве Джезуальдо: «Светлые, объективные образные эпизоды по общему характеру и чертам стилистики не несут на себе отпечатка творческой личности Джезуальдо. Они традиционны для музыки мадригала его времени и могли бы встретиться …у многих других композиторов. Именно потому, что они традиционны и нейтральны, как бы находятся на общем уровне, – они и способны по контрасту 139 оттенить то, что необычно, индивидуально и ново у Джезуальдо»361. «Душевная печаль» здесь уже не является препятствием для музыки, но напротив, составляет основу ее выразительности – хотя выразительность Джезуальдо сильно отличается от того, с чем мы можем столкнуться уже в следующем столетии: она как бы взламывает традиционную форму, искажает ее, но еще не формирует собственно мелодии (по звучанию напоминая скорее атональные эксперименты авангардистов). Трагизм, внутренние борения и страсти в качестве предмета выражения, в качестве «души» поэтического слова входят в музыку конца XVI в., чтобы в последующем приобрести в ней форму, лечь в основу новой музыкальной системы, преобразиться в ней в прекрасное и размеренное звучание, одновременно строго оформленное и полное внутреннего чувства, образуя удивительное сочетание строгого следования правилам и глубины внутреннего выражения, разрушающей любые правила. Возможно это и есть основа «параллакса», а также исторической динамичности и крайней неустойчивости европейской музыкальной формы: едва достигнув своей фиксации, тональная система начинает неукоснительно распадаться под воздействием необходимости выражать внутреннее, отказываясь от внешних ограничений. Уже c конца XVIII в., с истоков романтизма, начинается постепенный процесс распада, борьбы художников против ограничений формы, через полтора столетия приведший к отказу от самой тональной системы и переходу авангардной музыки начала XX в. к атональности. Неслучайно тот же Жижек называет параллаксный разрыв в музыке основной чертой романтизма, а его исчезновение – знаком завершения этой системы мировосприятия362. Причем устранение романтического параллакса Жижек обнаруживает в наиболее явном виде отнюдь не в радикальной атональности Шёнберга и не в постмодернистских экспериментах Стравинского, а Там же. Там же. С. 56-57. 361 Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года. В 2-х тт. Т.I. По XVIII век. М., 1983. С. 221. 362 Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. С. 307. 359 360 в традиционализме Сибелиуса, чья мелодическая структура не декларативно и осознанно, но как бы вопреки себе и изнутри демонстрирует собственное постепенное разложение, что заставляет Сибелиуса, в конечном счете, отказаться от сочинительства и на 30 лет погрузиться в молчание363. «Мы имеем дело скорее с разновидностью музыкального вируса или даже с опухолью, запускающей в данном случае процесс прогрессирующего разрушения самой музыкальной ткани. Создается впечатление, будто фундамент, “вещество” (музыкальной) реальности постепенно теряет твердость, словно, используя другую поэтическую метафору, мир, в котором мы живем, постепенно лишается цвета, глубины, формы, своей онтологической целостности»364, – говорит Жижек в терминологии, как можно заметить, вполне совпадающей с бодрийяровскими описаниями современной «транс-эстетической» ситуации. Конфликт, о котором мы говорили, рассматривая философию музыки XIX в., обращаясь к идеям Шопенгауэра, Ницше, Кьеркегора, являлся, можно сказать, внутренним конфликтом европейской музыкальной традиции, внутренним конфликтом модерна с его страхом сползания к бесформенности и хаосу неотрефлексированного потока жизни, воли, желания, самым ярким выражением которого была бы бурная, оргиастическая немелодическая музыка. Прежде нам уже случилось говорить о том, что модерн в своем бунтарском порыве разрушает все возможные границы, но, фактически, разрушает этим сам себя. Потому что главный внутренний пафос модерна – это пафос различения, разграничения, построения отчетливой, явной структуры, словом, это «аполлоновская» жажда прекрасной формы, которая только и являет собой соответствие рефлексивной определенности субъекта. В музыке этот пафос различения, гармонично сочетающий подчиненную в своем построении сложнейшей системе правил прекрасную форму и способность выражать самую глубину субъективности, достигает апофеоза. То, что одновременно соблазняло и ужасало романтическую мысль в качестве «космической» и «дионисийской» музыки – это не столько ее хаотичность или необузданность, то есть не переизбыток аффекта, предполагавшийся в ней, сколько крах, исчезновение, растворение в ней субъективности. Так что если возникновение модерна мы связали с началом 140 развития тонально-гармонической музыкальной системы, то закат модерна можно связать с ее распадом. Потому, возможно, именно развитие музыки в современном мире дает нам наилучший ключ к пониманию того, что за метаморфозу претерпевает вся система мышления. Поскольку музыка в том виде, в котором она существовала и развивалась в течение предшествующих нескольких столетий, на протяжении XX в. подвергается все большему количеству видоизменений, сменяясь чем-то совершенно непохожим. Это не значит, что она перестает звучать, или что она перестает трогать. Это значит, что нечто в существенных принципах ее уже не действует. Та музыка, которая пишется на протяжении XX в. – это совершенно другая музыка. Эта метаморфоза, переживаемая музыкой прошедшего и начала нового столетия, интересным образом представлена в работах отечественного композитора и теоретика В. И. Мартынова. Особую ценность его рассуждениям придает в нашем контексте то, что они напрямую относятся также и к актуальной художественной практике. Однако само название «композитор» может быть применено в данном случае лишь с оговорками – ведь заглавие одной из его главных книг звучит как «Конец времени композиторов» (2002). Мы уже говорили о том, что, возможно, наше все еще вполне действенное и привычное эстетическое понимание искусства является чуждым другим мировоззренческим традициям, и Глава из работы Жижека, открывающая тему музыкального параллакса, так и называется: «Молчание Сибелиуса». (См.: Там же. С. 301-307). Жижек обращает внимание на присутствующее в симфониях Сибелиуса как бы «болезненное усилие по извлечению главной мелодической линии из музыкальной материи», противостоящие тому, как мелодия вступала в свои права в произведениях эпохи расцвета этой музыкальной системы (к примеру, у Моцарта). Спокойствие музыки Сибелиуса словно бы сообщает о том, что победа одержана, но на деле мелодия слабеет и исчезает, и достигнутое спокойствие – это скорее ее полный провал. Жижек спорит также с попытками «романтической» интерпретации исчезновения мелодии у Сибелиуса как «одинокого крика» изолированного индивида. Индивид исчезает и мы погружаемся в сферу внеиндивидуального покоя. 364 Там же. 363 говоря об их искусстве мы должны учитывать, что наделяем подпадающие под это определение явления собственным, только для нашего восприятия характерным смыслом. Аналогичным образом в работе «Зона opus-posth, или Рождение новой реальности» (2008) Мартынов рассуждает о музыке: «Для нас музыка являет себя как искусство, и на этом основании мы начинаем воспринимать музыку других культур и эпох как искусство, ибо попросту не можем представить себе иного бытования музыки. Эта ситуация несколько напоминает печальную ситуацию царя Мидаса, ибо, подобно все превращающему в золото прикосновению царя Мидаса, современный исторический взгляд превращает в искусство любое проявление музыки. а между тем искусство представляет собой лишь один из возможных способов, которыми музыка может являть себя»365. Для Мартынова искусство и, соответственно, понимание музыки как искусства, непосредственным образом связано со становлением «исторического взгляда» европейской культуры, который, как он показывает, лежит в основе эстетического отношения в целом. Этот «исторический взгляд» определяет отстраненность, распад непосредственности древнего и средневекового сакрального музыкального пространства366. Граница между двумя «взглядами» на искусство, и на музыкальное искусство, в первую очередь, хорошо видна, с точки зрения Мартынова, при сравнении средневекового песнопения (cantus planus) и тех изменений, которое оно претерпевает уже в эпоху Возрождения. «Аудиальное пространство земного богослужения есть воспроизведение небесной ангельской литургии, – пишет он. – По словам Иоанна Дамаскина, ангелы просто не могут не петь, ибо постоянное песенное славословие Бога является неотъемлемым свойством их природы. Монахи, пропевающие положенные по уставу песнопения, уподобляются ангелам, и в этом единении земного и небесного рождается сакральное пространство, которое есть звуковое, аудиальное пространство по преимуществу»367. Однако последующая традиция, с XIV в. впервые выдвигающая на первый план фигуру сочинителя – музыка «res facta», или «сделанная» музыка, – демонстрирует, согласно Мартынову, отход от монашеского «послушания». «Если cantus planus мыслится как некая данность, которая существует помимо человека и может только воспроизводиться им, то музыка res facta – это то, что делается и создается самим человеком».368 141 Причем это «создание» тесно связано, по Мартынову, со способом записи – с таким способом, который позволяет воспроизводить музыку без того, чтобы прежде ее слышать, с точным способом фиксации музыкального текста, изобретенным на исходе Средних веков – с линейной нотацией. Линейная нотация представляет собой отход от «послушания», и в то же время, как ни странно, визуализацию музыкальной сферы. Нотная запись связывает музыку с языком, со способами выражения и записи, со способами воспроизведения, распространения, публикации музыкальных произведений – что и ведет к формированию фигуры, создающей – то есть записывающей – музыку: композитора. Фактически, несколько парадоксальным образом, та самая музыка, которая явила собой, по мнению столь многих мыслителей, подлинное воплощение субъективистской европейской души, создается, согласно этому рассуждению, в результате распада музыкального пространства и его визуализации в письменном, а затем и печатном виде, в котором, по сути, и существует авторское произведение музыкального искусства. Способ записи, отрывающий музыкальное произведение от непосредственности аудиального опыта, фиксирует более глубокий разрыв, происходящий в становящемся новоевропейском мировоззрении, в котором появляется возможность «произведений искусства, интерпретирующих сакральный текст и выражающих некие переживания, обусловленные этой интерпретацией»369. Мартынов неразрывно связывает возникновение эстетического переживания, становление искусства, развитие картезианской субъективистской парадигмы Мартынов В.И. Зона opus-posth, или Рождение новой реальности. М., 2008. С. 9. В работе «Конец времени композиторов» Мартынов подробно анализирует связь музыки и истории, опираясь на структурную антропологию К. Леви-Стросса, рассматривающую различие вариантов реакции разных культур на свою историческую вовлеченность. См.: Мартынов В.И. Конец времени композиторов. М., 2002. С. 17-18. 367 Мартынов В.И. Зона opus-posth, или Рождение новой реальности. С. 166-167. 368 Там же. С. 171. 369 Там же. С. 65. 365 366 мышления и последующую виртуализацию реальности в один тесный мировоззренческий клубок, который невозможно разделить на отдельные составляющие. Он уверен, что мы не могли бы сохранить одни стороны этого клубка, отбросив другие: «Многие не хотят замечать той простой вещи, что между покорением и уничтожением природы, происходящим в эпоху Нового времени, с одной стороны, и великими произведениями искусства вообще и opusмузыки в частности, с другой стороны, существует глубокая и нерасторжимая связь. Не замечая этой связи, люди склонны полагать одно сугубо отрицательным, а другое сугубо прекрасным, хотя на самом деле и то и другое имеет общий корень и этим корнем является природа homo aestheticus, выпавшего из реальности и компенсирующего это выпадение созданием своей собственной реальности»370. Однако то, что волнует Мартынова более всего – это не столько определение новоевропейской парадигмы мышления, сколько итоги этого сбоя в ее развитии, которые проявляют себя в невозможности выстраивать, в частности, композиторскую практику исходя из старых принципов. Как видно из изложенных рассуждений, он высочайшим образом оценивает «непосредственность» пребывания в реальности, сакральное аудиальное пространство до-опусной, до-композиторской музыки, а также наблюдает признаки разложения композиторской традиции. Тем не менее, он не наблюдает способов возврата к утраченной непосредственности. Заглавие книги говорит о новой музыкальной реальности, обозначение которой производится им от распространенного обозначения opus posthumous – посмертное произведение (что значит: произведение, посмертно опубликованное, не входящее в прижизненный перечень работ автора). Это характеризует современную ситуацию не просто как пост-историческую, но более того – послежизненную, имеющую некий потусторонний оттенок, сообщающий современному композиторскому творчеству определенную парадоксальность: «Последней реальной темой живого подлинного искусства может быть только… смерть самого искусства. Музыканты, не осознавшие этого факта, неспособны ни на что подлинно живое, они способны только на создание безжизненных симулякров, эксплуатирующих разлагающийся принцип переживания и образующих музыкальное пространство производства и потребления, в 142 котором, говоря евангельскими словами, мертвые погребают своих мертвецов»371. Таким образом, искусство остается все равно отчасти композиторским, не преодолевает опусности до конца, но становится не столько пост-опусным, сколько, – и эта переакцентировка, несмотря на созвучие, очень важна – opus-posth искусством. Но условием жизненности, актуальности такого искусства является осознание факта собственной смерти, в то время как уверенность в том, что опусное искусство по-прежнему живо есть погружение в пространство мертвых форм. Opus-posth музыка, рождение которой провозглашает Мартынов, и в пространство которой он сам стремится, как бы соединяет в себе жажду непосредственности присутствия, предчувствие его возможности – и в то же время осознание невозможности, ввиду фиксации разрыва этой непосредственности, произошедшего в культуре homo aestheticus. Потому эта музыка традиционна и анти-традиционна, серьезна и до предела иронична, мелодична и немелодична одновременно. Мартынов ссылается на ряд современных композиторов, его друзей и коллег, в произведениях которых проявляет себя эта тенденция. Так он оценивает, к примеру, творчество В. Сильвестрова: «Предметом музыкального высказывания у Сильвестрова становится не содержащее, или, вернее, утратившее смысл явление, но возможность, или, вернее, невозможность самого музыкального высказывания, что с позиций нормального композиторского творчества выглядит как чистый нонсенс»372 Этому он противопоставляет Мартынов В.И. Зона opus-posth, или Рождение новой реальности. С. 98. Там же. С.18. (Курсив наш. – С.Н.) Мартынов определенно намекает на сохраняющуюся практику написания произведений в старых классических формах, которые оказываются неактуальны и не востребованы в том смысле, что даже собственными слушателями воспринимаются как повторение и подделка, как сохранение традиций, а не создание чего-то подлинно творческого. На одном сохранении традиций искусство не может продержаться долго, превращаясь постепенно в музей, или в склад множества отживших и потому ненужных во вне этого музея артефактов. Потому массовая культура с массовыми популярными, востребованными жанрами, рок и поп-музыка, представляются ему более живыми, чем намерение музейно сохранять в новых условиях обветшавшую композиторскую практику. 372 Там же. С. 136. 370 371 предостережение, высказанное другим композитором-авангардистом, Э. Денисовым, «что, продолжая идти по этому пути, тот может вскоре перестать быть композитором»373. Но Мартынов приветствует эту возможность: перестать быть композитором. Таким образом расхождение опусной традиции и новой реальности opus-posth музыки проходит внутри самого музыкального авангарда, разделяя его на тот, который можно назвать в уже упоминавшемся смысле постмодернистским – то есть завершающим модерн, и иным, пост-модерным – перешедшим в другую эпоху, другой мировоззренческий тип, знающий о модерне, отталкивающийся от модерна, но расположенный уже за пределами модерна. Т. Чередниченко, написавшая послесловие к «Концу времени композиторов», полагает, что в современной музыке в принципе нет того, что можно назвать «постмодернизмом», и распространенный термин «поставангард», как она поясняет, может быть употреблен только хронологически, в смысле указания последовательности374. Это отличает музыку от других искусств, в которых он есть и представляет собой беспорядочное сверкание, перемешивание обломков модерна, непрерывную рефлексию о языке, характерную для деятельности ряда художников и писателей второй половины XX в. Но если в музыке постмодернизма нет, то нет его там, возможно, именно потому, что вместе с модерном заканчивается и сама музыка, или музыка, понятая как искусство. То же, что происходит и к чему обращается, в частности, Мартынов,– это попытка самоустранения субъекта-автора из музыкального произведения. Подобную тенденцию он видит в музыкальном минимализме (который, как он настаивает, не является в традиционном смысле «стилистическим направлением»375). Причем это самоустранение более глубокое, нежели то, которое осуществляется создателями инсталляций в стиле ready-made, где повседневные предметы становятся арт-объектами лишь потому, что вносятся художником в пространство музея – так как здесь художник по-прежнему остается их автором, активным действующим субъектом. Эти произведения по прежнему радикально параллаксны. Так знаменитое «Дерьмо художника» Пьеро Мандзони (1961), издевательски указывающее в своем концептуальном порыве на то, что любые отправления, любая ерунда, произведенная тем, кто 143 называет себя художником, может быть воспринята публикой как произведение искусства, действительно воспринимается как произведение искусства исключительно потому, что оно произведено художником и внесено им в музейное пространство. Это как бы самореференциальное высказывание, чей критический акт состоит в наглядной демонстрации того, что он критикует. В то же время музыке, какой бы она ни была, не нужно авторского утверждения, чтобы становиться арт-объектом, ей достаточно просто звучать. Показателен акт, произведенный американским минималистом Дж. Кейджем в его знаменитом «4’33’’», 4 минутах, 33 секундах тишины. Показателен тем, что его значение также в высшей степени двояко. C одной стороны, он яростно довершает модернистскую критику и разложение формы, уничтожая музыкальную ткань до нуля и доводя параллакс «минимального различия» до предела. А с другой – спокойно и уверенно позволяет тишине быть самоизливающимся звучанием. Кейдж одновременно совершает композиторский акт, нарекающий тишину музыкой, – и разлагает саму возможность совершения композиторского акта; создает произведение – и в то же время отсутствие произведения; иронизирует над музыкальной формой, выставляет музыку на посмешище публики, – и в то же время вдумчиво заставляет публику вслушиваться в звук собственного присутствия. «ЭФФЕКТ РЕАЛЬНОСТИ»: КИНО И ИСКУССТВО Кино – это предельно извращенное искусство. Оно не дает вам то, что вы желаете, оно говорит вам, как желать. С. Жижек Там же. Чередниченко Т. В. В режиме музыкального времени // Новый мир, 2001. №8. C. 168. 375 Мартынов В.И. Конец времени композиторов. С. 263-265. 373 374 Сошлемся на еще одно высказывание В. И. Мартынова, в котором он пытается определить искусство в том эстетическом, неповторимо западноевропейском смысле, который, как он полагает, наилучшим образом являет себя в тонально-гармонической системе композиторской музыки и который основывается на различии между пребыванием в реальности и переживанием ее: «Сущность искусства заключается именно в том, что оно указывает на некую реальность, само этой реальностью не являясь»376. Искусство, понятое эстетически, искусство как объект эстетического удовольствия, согласно этой точке зрения, основано на установлении дистанции, на разрыве, на отдалении (в пространстве и времени), выражающихся в незаинтресованности, отстраненности, которые сводят эстетическое лишь к той сфере чувств, которые в наименьшей мере требуют непосредственности присутствия и которые в наибольшей мере подобны иллюзии, сну (зрение, слух). Из такого определения искусства мы можем вывести и постепенную утрату ощущения присутствия вообще – ту самую, на которую сетовал относительно европейской «культуры знаков» Х. У. Гумбрехт. Знаки языка могут указывать на присутствие или высказываться о присутствие, также как «выразительные формы» искусства могут заставить нас переживать присутствие, самого присутствия в реальности никогда не предоставляя. Искусство здесь само есть уже в некоторой мере язык, и этот язык всегда говорит о чем-то таком, чем сам не является. А поскольку его предмет всегда остается вовне, то чем больше мы говорим, тем этой реальности «вне» языка оказывается труднее и труднее достичь. То есть чем глубже, тоньше, чем всеохватнее становится субъективное переживание – тем меньше отвечает оно требованию соответствовать «реальности», тем больше оно понимает себя как именно и только субъективное. И тогда, когда переживанием становится всё – всё становится искусством. А когда все становится искусством – всё утрачивает реальность, становится иллюзией. Возможно, одну из лучших трактовок искусства в этом ключе и одну из лучших интерпретаций основного порыва европейской эстетики дал Ж.-П. Сартр в своем 144 «Воображаемом» (1940). Буквально на последней странице этой работы, Сартр высказывает емкий тезис: «Реальное никогда не бывает прекрасно»377. Поскольку Сартр делает это заключением к феноменологическому анализу воображения, можно сразу понять, что речь не идет здесь о фиксации каких-либо онтологических сущностей. Разговор ведется лишь о смене установок или позиций сознания – «воображающей» и «реализующей». Сартр описывает восприятие эстетического объекта как объекта воображаемого. С ним мы сталкиваемся каждый раз, когда, к примеру, на холсте, покрытом краской, видим портрет некого человека с чертами, несущими на себе печать его личности, особенностей судьбы и характера, экзистенциальную глубину проникновения в человеческую природу378. Этот образ, по Сартру, не просто является ирреальным, но и предполагает резкую, радикальную отмену реализующей позиции, «неантизацию» реального мира. Мы видим его в воображаемом. Его нельзя осветить, чтобы он был яснее виден, или исказить, закрасив или изрезав: осветить или исказить можно лишь сам холст, саму картину, вещь среди вещей. Так же, по мнению Сартра, и музыкальное произведение существует лишь в воображаемом, и если прерывается исполнение симфонии – то в итоге мы не сталкиваемся с неполной симфонией, но лишь с прерванным исполнением, симфония же как эстетический объект существует вне времени и вне пространства, и хотя она длится – она длится не в то же самое время, как кто-то идет по улице, так как время и пространство симфонии ирреальны. Ее нельзя прервать или уничтожить, поскольку прервать или уничтожить можно лишь то, что существует в реальности. Эстетический объект целостен и неуничтожим, так как существует только в воображении. Его можно, вероятно, перестать воспринимать, утратить четкость образа, или даже никогда с ним не Мартынов В.И. Зона opus-posth, или Рождение новой реальности. С.11. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения / Пер. с франц. М. И. Бекетовой. СПб., 2001. С. 316. 378 Структуру восприятия слой за слоем от единственного «реального» слоя материального носителя до глубинных общечеловеческих смыслов прослеживает в своей феноменологической эстетике Н. Гартман. 376 377 столкнуться – если испорчено или уничтожено то, что Сартр называет реальным аналогом эстетического объекта, тем, без чего он не существует, но что, собственно, им не является, а лишь указывает на него, помогает конституировать его в воображаемом. Аналог – это произведение как вещь. Это холст, измазанный краской или конкретное исполнение симфонии в конкретном зале с конкретными реальными помехами, покашливанием, а возможно, начавшимся пожаром или обмороком дирижера, которые приведут к остановке исполнения. «Безусловно, я буду раздосадован, – говорит Сартр, – если услышу всего лишь любительское исполнение, я отдам предпочтение тому или иному дирижеру. Но это связано с моим наивным желанием услышать… симфонию “прекрасно исполненной”, именно потому что в этом случае она, по моему мнению, будет прекрасной сама по себе. Мне кажется, что огрехи плохого оркестра… “предают” исполняемое им произведение… Лучше будет, если оркестр отойдет в тень перед исполняемым произведением; и если у меня есть причины доверять исполнителям и дирижеру, то я смогу обнаружить себя как бы перед лицом … симфонии самой по себе, собственной персоной»379. То же, по Сартру, относится и к театральному искусству, где актер, с его жестами и слезами – всегда есть лишь аналог ирреального образа персонажа. Это позволяет Сартру решить дилемму, что же происходит, когда актер так вживается в роль, что рыдает на сцене: верит ли он в тот момент, что он действительно является своим персонажем, или только искусно играет? Не то и не другое: актер ирреализуется в персонаже, полностью живет в ирреальном мире, он весь становится аналогом своего персонажа, а его слезы – аналогом ирреальных слез персонажа. И можно предположить, что он действительно плачет, его слезы не обязательно должны быть следствием искусной игры: они также искренни, как слезы сочувствующих ему зрителей. Но если бы он действительно возомнил себя собственным персонажем, он не смог бы, пожалуй, произносить текст своей роли, а стал бы действовать, перейдя с эстетической на этическую позицию. И также зрители, если бы только не были погружены в воображаемое, но поверили бы в реальность происходящего, не стали бы сидеть на месте сложа руки. Сила воздействия искусства обеспечивается ирреальностью. Будь ситуация реальной – она бы требовала того, чтобы жить и действовать в ней, но не того, чтобы 145 воспринимать ее в целостности, понимать отстраненно и удаленно, растворившись в ней полностью и все же в ней не присутствуя. Ведь нельзя присутствовать в том, чего, на самом деле, нет. Вера – реализующий тезис, полагает Сартр380. Тем самым он, впрочем, полностью устраняет онтологическое различие между реальностью и иллюзией: это различие зависит лишь от интенциональной установки сознания. То, что Сартр в заключении описывает применительно к произведению искусства, имеет место отнюдь не только в этом случае. Не только прекрасное никогда не присутствует в реальности: любое конституирование образов выводит нас за пределы реальности. Условием любого образа, даже образа друга, находящегося в данный момент в другом городе, говорит Сартр, является «принципиальное отсутствие, …существенное небытие образного объекта»381. При этом «образное сознание Пьера в Берлине (что он делает в этот момент? – я воображаю, что он прогуливается по Кюрфюрстендам и т.д.) гораздо ближе к образному сознанию кентавра (которого я объявляю вовсе несуществующим), чем к воспоминанию о Пьере, каким он был в день своего отъезда»382. В действии воображения объект схватывается как не данный сейчас или вообще, а значит «я ничего не схватываю, и это значит, я полагаю ничто»383, – говорит Сартр, обращаясь к доминирующей фигуре своей риторике. Но также можно сказать, что картине не нужно быть прекрасным шедевром, чтобы восприниматься по той же самой схеме, где реальные линии на листе бумаги являются лишь аналогом для ирреального изображенного объекта. Всё наше восприятие в принципе должно быть выстроено на действии той же образной структуры – иначе бы мы никогда за хаосом Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. С. 313-314. Там же. С. 313. 381 Там же. С. 297. 382 Там же. С. 299. 383 Там же. 379 380 ощущений не увидели целостных образов. Это структура, непрерывно уничтожающая мир как непосредственную данность. Вопрос только в том, как именно мы в дальнейшем относимся к полученной картине: верим в нее как в реальность или нет. Главное различие здесь – это различие между «тезисом сознания образов» и «тезисом сознания вещей». «Иными словами, – говорит Сартр, – тип существования объекта, поскольку он является образным, по природе отличается от типа существования объекта, схватываемого как реальный»384. На основе этого различия он любопытным образом определяет характер работы сновидения (прибегая к тому же сравнению, которое, как мы помним, композитор Мартынов употребил для характеристики специфики европейского понимания искусства): «Подобно тому, как царь Мидас обращал в золото все, к чему прикасался, сознание само себя приговаривает к тому, чтобы все, что оно схватывает, превращалось в воображаемое: отсюда фатальный характер сновидения… Сновидение – это вовсе не вымысел, принимаемый за реальность, это одиссея сознания, которое вопреки самому себе обречено конституировать один лишь ирреальный мир»385. «Страх», который иногда прерывает кошмарный сон, Сартр готов истолковать не как собственно страх, а как «невозможность вообразить, что будет после»386. Еще один существенный момент, отмечаемый Сартром в контексте рассуждения об ирреальном характере искусства, – разочарование, которое мы часто испытываем даже после просмотра тяжелой реалистической пьесы, а также и пробуждаясь от кошмарного сна (недаром Ницше утверждал, что осознание его сновидческой природы заставит нас требовать того, чтобы сон продолжал сниться). Это было бы трудно объяснить, замечает Сартр, если бы воображаемое создавало для нас мир более прекрасный, чем тот, в котором мы находим себя в реальности, и мы бы хотели пребывать именно в нем. Отнюдь нет. Разочарование связано, по Сартру, скорее с тем, что «зачарованное» воображаемым, погруженное в отсутствие, сознание резко возвращается к существованию, сталкивается со своей экзистенцией387 – тем единственным, по сути, что действительно и неустранимо есть, и с чем именно мы теряем связь, погружаясь в мир образов. Однако если мы решили подробно остановиться на концепции воображаемого объекта у 146 Сартра, то не столько ради анализа природы воображаемого объекта в целом, сколько для прояснения вопроса об искусстве и о том, чем является искусство с эстетической точки зрения. А это, в свою очередь нужно нам для того, чтобы ответить на другой вопрос, а именно: является ли, и если да – то в какой мере и каким образом, – искусством кино? Уже упоминавшуюся нами психоаналитическую лекцию-фильм «Киногид извращенца» С. Жижек заканчивает словами: «Нам необходимо кино, чтобы понять сегодняшний мир. Лишь в кино мы можем увидеть жизненно важное измерение, с которым не готовы столкнуться в реальной жизни. Если вы пытаетесь понять, что в реальности более реально, чем сама реальность, смотрите художественные фильмы»388. Почему, однако, именно кинематографу Жижек приписывает столь существенную функцию в процессе понимания современной культуры? Вот еще один вопрос, которым необходимо задаться. Почему так часто современная теория в принципе обращается к кинематографической проблематике? Кроме того, нельзя не обратить внимания на то, насколько популярно кино, и на то, в какую именно сторону направлены тенденции его развития. Что же есть кино для современной культуры? Можно предположить, что именно оно представляет собою нечто, в наибольшей мере выражающее, характеризующее ее – как музыка характеризовала, по мнению Шпенглера, специфику западной «фаустовской» культуры и субъективистского проекта модерна. Именно ввиду этого предположения мы и избрали кино для завершения разговора о развитии современного искусства. Там же. С. 297. Там же. С. 294. 386 Там же. 387 Там же. С. 315-316. 388 Žižek S. The Pervert’s Guide to the Cinema. Part III. Sophie Fiennes (dir.). UK, Austria, Netherlands, 2006. 384 385 Но начнем с того, что уже было так или иначе обозначено одним из сформулированных нами вопросов: а именно с предположения, что кино, возможно, не является в собственном смысле искусством. По крайней мере в том европейском понимании слова «искусство», о котором мы говорили. Или так: оно может быть и искусством, но необязательно действует как искусство. Речь не идет о технической стороне кинематографа или о возможности его репортажного использования для фиксации реальных событий, а также о высоких или низких достоинствах кинопроизведения. Скорее в данном случае мы имеем в виду следующее: даже если вести речь о художественном фильме высокого качества, не возникают ли некоторые сомнения в том, что он воздействует на нас так же, как воздействуют другие виды искусства? (Если в определении искусства мы продолжим опираться на обозначенные уже позиции, предполагающие, что искусство, понятое эстетически, всегда выражает реальность, которой само не является, или что произведение всегда представляет собою некий аналог, при том что сам эстетический объект, создаваемый образ, существует лишь в ирреальном пространстве воображения). Действует ли та же структура необходимым и естественным образом при создании кинообраза? Мы могли бы сказать, что сам фильм, пленка с повторяющимися рядами картинок, или цифровая запись, является тем аналогом, который позволяет возникнуть ирреальному объекту, погружающему нас в воображаемое пространство, как мазки красок служат аналогом ирреального образа, а звуковые волны, производимые исполнителем – аналогом музыкального произведения. Однако между рядами картинок или цифр и разворачивающимся перед нами действием фильма гораздо меньше соотношения, чем между мазками краски и созданным ими образом. Мазки красок создают образ непосредственно, в то время как о техническом процессе проецирования фильма на экран мы можем ничего и не знать, это не то, что мы непосредственно воспринимаем – а воспринимаем мы движущуюся картину, разворачивающуюся на экране. И вот вопрос: является ли экран и движения на нем аналогом каких-то других, ирреальных картин и движений? Легче всего кино было бы сравнить здесь с театром. Там актер, как полагает Сартр, является аналогом ирреального персонажа, его движения – аналогом ирреальных движений, его слезы – 147 аналогом ирреальных слез. Между каким-либо предметом, скажем, столом на сцене в театре во время действия спектакля и тем же столом на сцене после завершения действия существует огромная разница. Первый указывает на другой, ирреальный стол, и сама сцена – на ирреальное пространство действия спектакля. Второй ни на что не указывает, но просто существует. Американский аналитик Н. Гудмен в нашумевшей в свое время работе «Языки искусства»389 предполагает, что произведение отличается тем, что добавляет к объекту некую символическую составляющую, выполняет особую функцию символизации. Искусство действует как язык, символическая система. Так вот возникает вопрос: стол в кино – символизирует ли он что-то, высказывается ли о чем-то, является ли аналогом ирреального стола? Скорее, как кажется, определению кинематографа соответствовало бы другое предположение Гудмена, незаметно, но как кажется, довольно существенно меняющее представление о самом языке: язык или, точнее, различные языки есть, по Гудмену, способы создания миров настолько же, насколько и способы познания мира и сообщения информации о мире390. И миров может быть столько, сколько может быть различных способов говорить о мире. Что не мешает им всем быть истинными. Причем они не являются сторонами «одного» мира (ведь для этого нам следовало бы иметь возможность сверять наши версии с внеязыковым миром «как таковым» – что невозможно). Скорее они являют собой множество истинных (поскольку истина существует именно в пределах языка) возможных миров. Разницы между иллюзией и реальностью, как и разницы между искусством и наукой для Гудмена практически не остается, причем не только на основании невозможности для чего-либо пробиться к «фактам», но именно на основании фиктивности самих фактов391. По сути дела, для Гудмена, любое высказывание есть создание 389 Goodman N. Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols. The Bobbs-Merrill Company, USA, 1968. См.: Гудмен Н. Способы создания миров / Пер. с англ. А. Л. Никифорова, М. В. Лебедева. М., 2001. 391 «Факты, в конце концов, очевидно фиктивны», – заявляет Гудмен (Гудмен Н. Способы создания миров С. 208). 390 нового вымысла, каким бы истинным и фактичным этот вымысел ни являлся, но в этом смысле, это и создание нового мира, новой реальности. Итак, стол в кадре кинофильма – указывает ли он на что-нибудь, на что-то, чем он не является, на некую иную реальность за пределами видимой нами картины? Или он просто существует там, существует непосредственно, просто стоит, ни на что не указывая, как реальный стол, но только в новом пространстве – в пространстве фильма? Театр – очень явственно символическое искусство, очевидно прибегающее к условности изображения. Эта условность становится особенно отчетливо видна, когда, к примеру, мы сталкиваемся с фильмом о театре, с тем, как театр виден в фильме. Здесь можно обратить внимание, какое великолепное сатирическое и в то же время метахудожественное представление того, каким образом действует театр, дал некогда Шекспир в своем «Сне в летнюю ночь», разыгрывая театр в театре и буквально разбирая условность театральных приемов. Театр в театре всегда может быть показан лишь через усугубление его условности. Но театр в фильме может играться без изменений. Это просто театр – ровно такой, каким бы он был вне фильма. Едва ли есть также какой-то специальный прием для того, чтобы показать фильм внутри фильма 392. Кроме того, если актер театра указывает на ирреального персонажа, то указывает ли на такового персонажа актер кино? Ведь актера нет в кинокадре. В кинокадре есть только сам персонаж. Никоим образом нельзя отрицать, что кино может быть символическим искусством, создающим аналог, искусством, пользующимся определенным условным языком, выражающим нечто другое, реальность, которой сам фильм не является. Возможно именно на этом основано предпочтение, часто отдаваемое любителями кино немому кино перед звуковым: неслучайно многие актеры немого кино трагически переживали переход к звуку, а многие критики этот переход называют падением. Ведь казалось бы: что меняет наличие звука? Неужели вся трагедия возникает просто из неумения ряда актеров хорошо говорить? С. Жижек поясняет эту ситуацию иначе: немое кино представляет нам условных персонажей, по сути своей несерьезных, воспринимаемых как бы «понарошку». Они могут страдать или злодействовать – но это все ненастоящие, как бы игрушечные страдания и злодейства, потому, особенно в немых 148 комедиях, они утрируются, приобретают до смешного гипертрофированный размах. Между тем со звуком в кино входят серьезные страсти, входит глубина, входит внутренний мир393. Эти страсти – страсти самой реальности, а не их условное обозначение. Здесь, в кинообразе, они проявляют себя – безусловно, благодаря монтажу, благодаря всем сложнейшим техническим приемам и хитростям киноязыка, – в наиболее непосредственном, наиболее открытом виде. Что и позволяет Жижеку сказать, что именно в кино мы сталкиваемся с реальностью, более реальной, чем сама реальность. Но это значит, что язык кино функционирует по-другому: он не столько говорит о реальности, сколько дает реальности раскрыться в наиболее полной мере. Он не представляет реальность, но в нем и есть сама реальность. И тогда можно сказать, что если изначальная, техническая цель кино, состоявшая в том, чтобы фиксировать реальность (а не рассказывать о ней и не изображать ее), то именно со звуком кино становится самим собой, и со звуком же оно перестает быть в собственном смысле искусством. Поскольку оно не создает реального аналога воображаемой реальности, но создает саму воображаемую реальность. В принципе, далее, по желанию режиссера, оно может еще и, дополнительно, на что-то указывать, что-то символизировать и быть, таким образом, все же искусством, воздействующим посредством вовлечения зрителя в альтернативную реальность. А может ничего не символизировать, но просто вовлекать в альтернативную реальность. И тогда кино можно интерпретировать как искусство ровно настолько же, насколько как искусство можно интерпретировать и саму реальность. Экран, на котором разворачивается действие, являет собою скорее не аналог ирреального образа, но некое окно, в котором мы непосредственно видим ирреальное пространство. Если Хотя сама эта неразличимость может для режиссера стать средством демонстрации смешения реальностей и вбирания зрителя в кинематографическое пространство. 393 Žižek S. The Pervert’s Guide to the Cinema. Part I. Sophie Fiennes (dir.). UK, Austria, Netherlands, 2006. 392 вновь вспомнить «оптическую метафору» Ортеги-и-Гассета, то кино имеет тенденцию делать «стекло» все более прозрачным. То, к чему стремится изощренная сложность его приемов – это, по сути дела, не столько изобретение способов художественно представить реальность, сколько изобретение способов создать эффект реальности. Ортега-и-Гассет отмечал, что искусство, сосредоточенное на содержании, на «саде за стеклом», (тенденция, которую он связывает еще с романтизмом), по природе своей демократично. И возможно, демократично оно не потому, что из-за обращения только к «интересному» в мире становится понятным всем, но из-за того, что вместе с намеренной условностью отказывается от привилегированного требования утонченности суждения вкуса. То есть это искусство не обязательно должно быть изящным или формально прекрасным, чего требовал художественный схематизм аристократического искусства. Это не является его целью, или же перестает быть его главной целью там, где ею становится воссоздание реальности. Это можно назвать реалистической тенденцией. Хотя реализм здесь состоит не в том, чтобы как можно точнее скопировать реальность (это скорее лишь одно из его возможных применений). Он состоит в том, чтобы создать при помощи искусства некую, пусть самую фантастическую, реальность такой степени жизненной наполненности, чтобы в нее можно было поверить, чтобы можно было буквально ощутить ее присутствие. И потому, если авангардистские эксперименты в искусстве, согласно Ортеге-и-Гассету, – сущностно элитарный, непопулярный жанр, то кино, напротив (если только оно направляет себя на эту функцию вовлечения в альтернативную реальность, а не на демонстрацию формальных приемов, делающих его намеренно условным), каким бы сложным с содержательной точки зрения оно ни было, будет сущностно массовым, популярным жанром. Но «массовость» здесь никоим образом не будет означать вхождения в интерсубъективное пространство, общности интересов. Что особенно хорошо заметно как раз на весьма изощренной и узкой популярности того, что можно определить как «кино не для всех»: сложность образа будет разниться так же, как разные люди могут видеть разные сны394. И действительно, если цель кино видеть не в создании аналога, увлекающего сознание в 149 воображаемую сферу, но в развертывании самой воображаемой сферы, то, согласно Сартру, его работа была бы скорее подобна работе сновидения, которое нигде не способно столкнуться с реальностью и, охваченное как будто бы верой в реальность, тем не менее не соприкасается с экзистенцией, а полностью растворяется в виртуальном. На сходство, но также и на различия между кино и сновидением указывает теоретик и семиолог кино К. Метц. Различия между кино и сновидением просты: во-первых, сновидец не знает, что спит, в то время как кинозритель знает, что находится в кинозале; во-вторых, восприятие фильма реально и не сводится к внутреннему психическому процессу; наконец, втретьих, содержание фильма гораздо более логично и четко структурировано согласно логике заданного жанра, нежели мы обнаруживаем в абсурдном течении сновидения395. Если в сновидении и только в сновидении имеет место полная иллюзия реальности, то «когда речь идет о кино, лучше ограничиться замечанием о существовании определенного впечатления реальности»396. Эта граница между сновидением и, как определяет восприятие фильма Метц, «фильмическим состоянием», иногда может стираться. Так он рассказывает, что ему доводилось видеть, особенно при показах в деревнях или небольших городках, что дети, а временами даже и взрослые, вскакивали с мест, жестами и криками начиная подбадривать положительных героев или поносить отрицательных. «Подобная реакция в целом была более правомерна, чем может показаться на первый взгляд: сама институция кино… предусматривает подобные проявления, Уже слова Гераклита, некогда говорившего, что у бодрствующих один общий мир, во сне же каждый уходит в свой собственный, высказывались в контексте, явно указывающем на редкость и элитарность способности постигать единый мир. Так что, можно сказать, уже здесь сон выступает как массовое мероприятие – или массовое заблуждение, порождающее множество разных миров там, где, с точки зрения античного мыслителя, следует постигать одну общую истину. 395 Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино / Пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.. 2010. С. 123-145. 396 Там же. С. 123. 394 упорядочивает и интегрирует их»397. Причем, полагает Метц, подобные проявления оказываются спасительными от полного погружения в иллюзию: через моторику действия зритель как бы стряхивает перенапряжение и рассеивает зародившееся смешение. В то же самое время зритель, привыкший к неподвижному восприятию, полному растворению, подвергается гораздо большей опасности впасть в галлюцинаторное состояние – в «парадоксальную галлюцинацию», поскольку галлюцинируется то, что на самом деле видится на экране, однако видится оно как во сне. Можно сказать, что в первом случае зритель, действительно поверив на время в реальность происходящего, начинает разрушать иллюзию, обратившись к себе как к субъекту морального действия, во втором же – в подлинно эстетическом, ирреальном, отстраненном от экзистенции состоянии, – он в подлинном смысле спит наяву, растворяясь в виртуальном пространстве воображаемой реальности398. Различие между сновидением и кино позволяет Метцу сделать вывод о природе «фильмического состояния», которое являет собою не просто «сон наяву», но то, что можно назвать «сознательным фантазмом». Причем фантазматический поток отличается от другой продукции бессознательного благодаря своей внутренней логике399. Но это означает, что кино позволяет нам исследовать фантазм, то есть саму работу желания, буквально явленную на экране. Действие, разворачивающееся на нем, тем более захватывает и погружает в «сон наяву», чем более оно соответствует этой бессознательной работе. Потому Метц говорит, в первую очередь, не о неких философских «фильмах-притчах», но о фильмах, рассказывающих отчетливые увлекательные истории, о том, что можно в наибольшей мере отнести именно к массовому кинематографу. Здесь, в результирующей захваченности сюжетом, проявляет себя природа фантазма. Возможно именно это свойство кинематографа проявлять природу желания позволяет Жижеку сказать, что именно кино может позволить нам в наилучшей мере понять сегодняшний мир. В предисловии к работе Метца О. Арансон замечает любопытный поворот в том, как эта книга ставит вопрос о кино. Арансон говорит: «Несмотря на то, что Метц в самом начале книги задается вполне традиционным и теоретически корректным вопросом “что может дать 150 психоанализ для анализа кинематографа?”, отчетливо заметно, как его рассуждение приводит к ответу на совсем другой вопрос: что может дать кино для лучшего понимания и психоанализа, и семиотики? Кино перестает быть предметом и становится аналитическим инструментом для познания образной материи, на которую любая теория накладывает свои ограничения, выявляя в ней по преимуществу знаки познания и понимания, знаки контроля и господства аналитического глаза. И психоанализ, и семиотика для Метца – дисциплины, открывающие новые типы знаков. И кино, понимаемое как материализованный онирический поток образов, оказывается удачным подспорьем в этой нелегкой работе»400. И далее, завершая свое предисловие, в форме некоего постскриптума, он ссылается на цитату из Мальро, присутствующую в работе Метца: «Театр несерьезен – серьезна коррида…» Он видит основную задачу в том, чтобы разглядеть эту серьезность в кино «при всей его примитивности и банальности», которая есть серьезность аффекта, а не изображения или представления401. Но здесь мы сталкиваемся с очень важной проблемой. Приведенная цитата и данное ей истолкование, по сути, противопоставляет некоторой очевидной несерьезности эстетического Там же. С. 123-124. Экзистенцией здесь следует назвать не столько непосредственность ощущения присутствия себя самого, но акцентировать, что это ощущение присутствия себя самого предполагает ощущение присутствия себя в мире, дается через ощущение непосредственности присутствия внешнего мира. В то же самое время «фильмическое состояние» нарциссически замыкает, как говорит Метц, либидо на Я и ведет к временной утрате интереса к внешнему миру. Главное, чего хочет Я, поясняет Метц, следуя Фрейду, – это спать, быть погруженным в сновидение полностью. (Там же. С. 127-131). 399 Метц указывает: даже «логичными сновидениями», согласно Фрейду, «чаще всего являются те, явное содержание которых, частично или полностью, совпадает с фантазмом в целом или с каким-либо из его элементов». (Там же. С. 157-158). 400 Арансон О. Семиотическое сновидение // Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. С. 17. 401 Там же. С. 20. 397 398 переживания, эстетического восприятия искусства серьезность работы желания, являющей себя, в частности, в кинематографе. Это предполагает также, что в искусстве (к примеру, в театре), мы скорее, напротив, отстраняемся от этой работы желания, производя с нею некое катарсическое освобождение (в любом из приписываемых этому загадочному понятию смыслов, медико-терапевтических или возвышенно-духовных: очищение от аффектов или очищение самих аффектов). Это означает, что искусство с его эстетической функцией всегда вводит в действие механизм сублимации, предоставляя нам прекрасные формы взамен глубинного содержания желания. Напротив того, кино десублимирует желание, магически погружая нас в развертывание фантазма как такового. Удивительная популярность простейших и наиболее примитивных фильмов, снимаемых в огромных количествах, эксплуатирующих стандартные сюжеты, использующих предсказуемые ходы, лишенных каких-либо художественных изысков может объясняться, в таком случае, не тем, что массовому зрителю требуется крайне примитивный продукт, но тем, что они потакают фантазматическому влечению, разрешают от бремени его невротических ограничений. Подобно снам, они ослабляют защитные барьеры сознания и дают слово бессознательному. В этом смысле анализ фильмов подобен анализу сновидений: это терапевтическая процедура, открывающая путь к обнаружению травмы. Стремление зрителей (чему охотно потакает массовое кинопроизводство) сталкиваться вновь и вновь с одними и теми же почти уже стирающимися в своей повторяемости ситуациями и образами не может быть сведено к простому желанию понятности – поскольку непонятное, необычное и шокирующее является здесь не менее привлекательным. Это желание скорее сравнимо с желанием ребенка слушать еще и еще раз одну и ту же сказку, поскольку сказка в ее фантазматической стандартности дает ему практически непосредственное удовлетворение. То же, что делает кино простым и понятным – это не стандартность сюжета, но, скорее, как уже говорилось, эффект реальности, эффект присутствия. Чем меньше остается сложности внешних смыслов, намекающих на то, что кино – это условная форма, нуждающаяся в рефлексивной трактовке или в структурном анализе, – тем более мы погружаемся в 151 фантазматическую грезу. Отчего, должно быть, тенденцией современного кинематографа становится создание все более живого и наполненного кинообраза, стремящегося к снятию плоскостной удаленности экрана (этой гегелевской «чистой зримости», находимой им в живописи, создающей иллюзорное пространство на плоскости) и конструированию объемного или даже окружающего зрителя изображения, с явным стремлением к полной включенности зрителя в пространство кинематографического сна402. Создание иллюзии заменяется созданием новой реальности. Это реальность, которую можно всесторонне ощущать, в которой можно присутствовать. Но все же (что наиболее ценно) присутствовать – в то же время отсутствуя, не экзистируя в качестве переживающей ее субъективности. Центр cogito распадается во сне, Любопытно отметить, что чем большим становится стремление к «эффекту реальности» – тем меньше требуется обращение к самой окружающей реальности. Наиболее сложные авторские картины снимались часто с максимальным вживанием актеров в ситуацию фильма. Так почти эталоном в этом смысле может служить культовый – но отнюдь не «популярный» – немецкий режиссер В. Херцог, требовавший возможно полного соответствия действительности, включая даже соответствие действительному длению времени. Так в знаменитой сцене перетаскивания корабля из фильма «Фицкарральдо» (1982), где в течение длительного времени железная махина практически не движется, и ее приближение трудно опознать как движение. Режиссер требовал от своих актеров полной отдачи и погружал их в условия, практически идентичные катастрофическим условиям, присутствующим в действии фильма. Съемки проводились в соответствующих местах – труднодоступных и диких районах Южной Америки, с участием действительно обитающих там полупервобытных индейских племен. И однако то, что мы получаем на выходе в фильмах периода его творческого расцвета – это отнюдь не эффект присутствия в некой реальности, но эффект почти непостижимой глубины смысла. В то же самое время, достижение эффекта присутствия в современных 3D фильмах достигается за счет почти полного ухода от реальности в сторону компьютерной графики. Фильм скорее рисуется, нежели снимается, и самое любопытное, что если на данный момент, судя по всему, этот способ требует огромных финансовых вложений, то уже появляется тенденция к их уменьшению. В конце концов, когда технически возможности позволят полностью нарисовать фильм, не прибегая к действиям актеров или к съемке реальных предметов, не сможет ли один человек сделать это не выходя из-за компьютера практически даром и просто в целях личного развлечения с той же легкостью, с которой каждый из нас способен погружаться в сон? 402 субъект теряется, и остается лишь чистое чувство, без того, кто чувствует 403. Это нечто вроде дальнейшей эстетизации, поскольку речь идет о дальнейшем погружении в чувство. Но подобная эстетизация уводит далеко за пределы эстетики. Там, где царствует чистая эмоция, не может быть ни отчетливой формы, ни строгих правил, а стало быть, оказывается ненужной и фигура автора-гения. Параллаксность эстетической рациональности снимается выходом за пределы рациональности – к чистому айстезису. 152 Вновь вспоминая изречение Гераклита, скажем: «сны», создаваемые современными способами продуцировать альтернативные реальности – в кино, в компьютерных играх и т.п. – погружают каждого в свою реальность. Однако уже нельзя сказать, что эта реальность «субъективна». Субъект в своей рефлексивной сосредоточенности, вероятно, был тем последним, что поддерживало в единстве реальность внешнего мира, полагая ее в качестве недостижимой и немыслимой, но все же регулятивно задающей принцип наличия общего пространства. На уровне тотального чувствования, когда каждый погружается в свой виртуальный мир, проблема общего пространства снимается сама собой. Оно просто не составляет более проблемы. 403 Вместо заключения. НОВОЕ МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ? Чтобы попытаться понять, что следует из такого превращения, обратимся вновь к примеру из кинематографа. Знаменательный и странный образец развития кинообраза в сторону вживания зрителя в ирреальное пространство предоставляет нашумевший фильм Дж. Кэмерона «Аватар» (2009), причем «знаменательным и странным» в данном случае может быть названо не столько техническое качество фильма, но некий иной, рефлексивный, металингвистический элемент, определяющий собой его сюжетную основу. Компьютерная графика и 3D съемка всецело направлены на создание эффекта присутствия в некой красочной, даже сверхкрасочной, головокружительной воображаемой реальности (что позволяет критикам обвинять фильм в исключительном внимании к спецэффектам). Однако сюжетная канва рисует нам довольно любопытную ситуацию. Речь идет о возможности некого двойного существования: существования наяву и во сне, в двух разных реальностях, в двух разных телах, одном «собственном» и другом – искусственно созданном для сновидческих прогулок по чужой планете. Две реальности, в которых существует герой фильма – «реальная» реальность военной базы и инвалидной коляски и сновидческая, воображаемая реальность чужой восхитительной планеты, по которой он уверенно движется в своем искусственном ловком и сильном теле – это одновременно противопоставление реальности яви и ирреальности сна, но и противопоставление двух альтернативных реальностей. Так что, в конечном счете, герой фильма оказывается в ситуации выбора: какую же из них, из двух реальностей, предпочесть? Это выбор, с одной стороны, представляет собой эпистемологический выбор: он должен быть совершен между реальным и ирреальным, виртуальным миром. А с другой – это выбор моральный, который должен быть совершен между двумя равными мирами, равно требующими действия и участия в них. В конце концов, герой предпочитает сновидческий мир – предпочитает его, как открыто декларируется, в моральном плане (исходя из принципа гуманности, отрицания возможности использовать другого в качестве средства для достижения 153 своих корыстных целей, и т.п.). Как ни странно, такая, казалось бы, высокоморальная и почти кантовская трактовка выбора, сразу бросающаяся в глаза, придает сюжету предсказуемость и банальность. Однако, с другой стороны, не является ли этот выбор более глубоким, чем описывает это простое моральное решение? Во-первых, с точки зрения эпистемологического выбора это решение более серьезно, чем с точки зрения этики. Чем является виртуальный мир? Только ли «бегством» от сложностей реальной жизни? Или, возможно, напротив, бегством от ее недостаточной реальности? В «Киногиде» Жижек упоминает эту же проблему, задаваясь вопросом: если скромный и тихий в «реальной» жизни человек проявляет себя в интернетпространстве как агрессивный, грубый и развязный – означает ли это, что он таким образом преодолевает свою «реальную» неудачу (так, словно бы признаком удачи, во вполне первобытной манере, была способность к грубой силе), пользуясь возможностью скрыть свое истинное лицо? Или, напротив, он показывает здесь, в виртуальном пространстве, свою истинную сущность, скрытую и сублимированную культурными требованиями «реальности»? Таким образом сразу возникает вопрос: так какой мир – воображаемый виртуальный мир желания или цивилизованный и строго структурированный «реальный» мир – более истинен в отношение экзистенциальной полноты существования? Вторая сложность, которая возникает в связи с описанным выбором – усложнение его морального порядка. Есть ли это выбор в рамках субъективистской парадигмы категорического императива или, возможно, это выбор между разными культурными парадигмами: демифологизированной рационалистической структурой европейского субъективизма и архаической мифологической реальностью подлинного, неразорванного, неопосредованного природного состояния, подобного тому, которое Зерзан описывает в своем «Первобытном человеке будущего»? Избираемое в итоге героем фильма новое блаженное состояние – это состояние единства и гармонии природного и человеческого, где, как в первобытной утопии Зерзана, человек чувствует природу помимо слов и помимо сознания, где он «танцует с лесом, танцует с луной». Причем в сновидческой реальности воображаемого лес и луна, естественно, также танцуют с человеком, а божественность природы не есть «сказка», но являет себя как мощная и непосредственно действующая сила, исполняя заветное утопическое желание воссоединения с богами, наполнения мира божественной энергией. Эта находимая в сновидении реальность гармонического взаимопонимания, этот ответный танец природы с человеком преодолевает демифологизирующую рациональность субъективизма. Или же наоборот, отказ от демифологизирующей структуры субъективизма, выбор в пользу сновидения – и есть условие обретения этой взаимности? Что является, возможно, непредусмотренным, но наиболее критичным элементом фильма – это указание на то, что в любом случае мы движемся в сторону сновидения, в сторону исполнения фантазма, достигая некой границы, где нарастание заложенной в сновидении субъективизации, эстетизации и следующей за ней виртуализации опыта переходит в качество вновь обретенной непосредственности. В целом, можно предположить, что если эстетическая рациональность обращала первоначальную мифическую данность божественной реальности в отстраненный и виртуальный объект автономного эстетического удовольствия, то дальнейшее развитие той же линии нарастания интереса к айстезису, к полноте его внерационального присутствия, ведет к превращению эстетического объекта в миф. До этой точки, пожалуй, эстетизацию и рационализацию можно было бы рассматривать как взаимосвязанные процессы. Мы уже говорили о том, что, возможно, именно в эстетике, в признании красоты результатом субъективного суждения наиболее явным образом проявила себя критическая мысль Просвещения. Однако увидеть перекличку эстетизации и рационализации можно и в других культурах. Так, исследуя исторические корни волшебной сказки В. Я. Пропп приходит к выводу, что сказка возникает как «профанация» архаического священного сюжета, мифа, который, отрываясь от своих обрядовых оснований, «вырывается на вольный воздух художественного творчества»404. Сказка, как он показывает, сохраняет весьма точную память о древних жестоких обрядах, связанных с ужасом перед действием неведомых 154 потусторонних сил, однако в своем изложении наделяет описываемые обряды другим смыслом – рационализированным или моральным. Действия, некогда бывшие священными, переосмысливаются сказкой как злодейство, которое призван преодолеть сказочный герой; фигуры, которые некогда соответствовали шаманам, общающимся с духами, превращаются в злых персонажей, деятельность которых следует преодолеть; итоги же сказки представляют детали магического ритуала, но переосмысленные в моральном духе. То есть сказка совершает рационализацию мифа в тот момент, когда развившемуся критическому сознанию человечества становятся непонятными причины осуществления древних жестоких обрядов405. Они становятся непонятными потому, что та степень сознания, та глубина постижения мира, которая прежде должна была сообщаться путем овнешненных действий, путем жестокости, реального выталкивания человека в процессе инициации на время в неведомый и опасный мир «таинственного леса», в котором обитали духи, и действительного столкновения с угрозой его биологическому существованию, теперь вот эта самая глубина становится внутренней, естественной, достижимой путем рефлексии. Углубление рефлексии ведет к тому, что если прежде «возвышенное» чувство, было достижимо лишь через временное, намеренное и соответствующим образом обставленное устранение «безопасного расстояния», отделяющего человека от бесконечно превосходящих его в своей мощи сил природы, то теперь один только созерцаемый образ превосходящих сил может вызывать его развитие, поскольку источник этого чувства отныне находится человеком в себе самом. В этот момент начинает формироваться индивидуализм моральной оценки и зарождаются основы свободного художественного творчества. То же, что раньше выступало в качестве реальности мифа, начинает интерпретироваться как художественный вымысел. Таким образом можно сказать, что в См.: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2009. С. 313. Этот момент Пропп связывает, в частности, с переходом к земледелию и оседлости. (См.: Там же. С. 10-12, 309312). 404 405 эстетической автономии европейского искусства, как и в автономизации и интернализации морального суждения, производимыми модерном начиная с Реформации, этот процесс отнюдь не зачинается, но лишь достигает пика своего развития. Миф превращается в сказку в тот момент, когда возникает автономное самосознание человека-как-субъекта, даже если он попрежнему высшие основания своей субъективной воли продолжает проецировать во вне себя, в некий идеальный метафизический мир. Делом критической мысли является лишь раскрытие субъективной природы этой проекции. Потому Л. Шестов полагал, что метафизическая мысль с самого начала своего развития претендовала на владение «ключами» от внеположной истины, подчиняя последнюю всецело действию собственных моральных, эстетических и эпистемологических предписаний. Что, конечно, исключало возможность допустить ее собственное, мистическое сверхразумное и сверхморальное бытие. Таким образом новоевропейский субъективизм можно рассмотреть как предел развития метафизики, а эстетику – как критически осмысленную замену последней. В работе «Дар смерти» (1992) Ж. Деррида пытается определить природу жеста, описываемого библейской историей об Аврааме. Кьеркегор полагал этот жест чрезвычайным актом веры, преодолевающим любую этическую позицию. Что заставляет Авраама идти против всех человеческих моральных законов и, молча, следуя лишь голосу Бога, приносить в жертву своего возлюбленного сына? Не совершает ли он этим, с человеческой точки зрения, страшное преступление? Проблема, которая более всего занимает Деррида – проблема молчания Авраама, который совершает свой поступок молча, никому не говоря о нем, не сетуя на свою судьбу и не жалуясь, поскольку то, что он совершает, не может быть сказано. Сказав о своем намерении, сообщив его другим, он разрушил бы саму возможность его осуществления, не потому, что был бы остановлен (возможно, его близкие оказались бы не менее богобоязненны, чем он), но потому, что суть приказа, обращенного к нему Богом, требовала полной ответственности, а значит, тайны. Это нечто, что не является сообщаемым. Это то, что находится только внутри и по отношению к чему любое сообщение было бы предательством. Этический долг вводит нас в 155 пространство всеобщего, в коммуникативное пространство, но абсолютный долг требует абсолютной отъединенности: внутреннее несоизмеримо ни с чем внешним. Тайна, которая характеризуется здесь, внутренняя, несообщаемая тайна, скрытый долг – не есть ли это тайна невыразимой субъективности? При этом Деррида утверждает: жуткая ситуация жертвы, беспричинно требуемой грозным приказом Бога, этого высшего Другого, и приносимой в молчании, не есть нечто из ряда вон выходящее, но представляет собой «обычный и повседневный опыт ответственности»406. Каждый из нас ежечасно вынужден совершать его, избирая те или иные действия, совершая те или иные поступки. «Я не могу ответить на зов, на просьбу, на обязательство, или даже на любовь другого, без того чтобы приносить в жертву другого другого, других других»407, – говорит Деррида. Он очень сильно расширяет сферу абсолютного выбора, лишая его той уникальности, которой его наделял Кьеркегор: «Когда я предпочитаю свою работу, просто отдавая ей свое время и внимание, когда я предпочитаю свою гражданскую или же преподавательскую и профессиональную деятельность, когда я пишу и говорю на общем языке… возможно я выполняю свою обязанность. Но в каждый момент я приношу в жертву и предаю все другие свои обязанности: мои обязательства по отношению к другим другим, которых я знаю или которых не знаю, миллионы других людей (не говоря о животных, которые даже в большей мере другие другие, чем люди), которые умирают от голода и болезней. Я предаю свои обязательства и верность по отношению к другим гражданам, по отношению к тем, кто не говорит на моем языке, и с кем я не говорю и кому не отвечаю…»408. Но представляется ли такое расширение правомерным, в свете той безусловной любви, которую, согласно библейской легенде, испытывал Авраам к своему сыну? А Деррида особенно Derrida J. The Gift of Death / Tr. by D. Wills. Univ. of Chicago press, 1995. P. 67. (Пер. с англ. наш. – С.Н.) Ibid. P. 68. 408 Ibid. P. 69. 406 407 тщательно останавливается именно на этом моменте: абсолютная верность предполагает жертву не чем-либо безразличным, но тем, что мы любим. Можно подойти к вопросу иначе. Ведь если чему-то в данном случае противостоит иррациональный, мистический жест Авраама – то он противостоит человеческому порядку ценностей, предполагая их иерархию. Можно предположить также, что если Авраам действительно слышал голос Бога и действительно верил в него, то этот голос задавал собою абсолютную иерархию ценностей, в которой он и только он является высшим, внешним, подлинно Другим, отдающим приказ, так что выбор оказывается практически невозможен. С другой стороны, если мы последовательно критически (как это было произведено развитием рациональной философской традиции) рассмотрим все основания веры в Бога и придем к выводу, что Бога – внешнего Бога – нет, мы вынуждены будем объяснить его выбор каким-либо иным образом: как следование своему внутреннему чувству долга, или как следование своим бессознательным желаниям и т.п. Таким образом метафизический Бог интернализируется. Это внутренний голос, внутренняя тайна заставляет нас сохранять ей верность. Но в конечном счете, возникает подозрение о фатальной произвольности любого выбора. И тогда действительно любой наш выбор окажется определенным не строгой системой ценностей, но не более чем субъективным предпочтением. Потому в тотально эстетизированном мире, где нет внеположного Бога и четкой иерархии ценностей, мы всякий раз оказываемся вынуждены совершать жест Авраама, принимая любое решение в ущерб тысячам других, возможных. Без обоснованной иерархии ценностей наш выбор не будет более этическим просто потому, что он не будет выбором между добром и злом. Однако сравнивая этот выбор с жестом Авраама, Деррида настаивает, что он будет также и не эстетическим, но религиозным. И здесь проявляется важнейшая деталь этого рассуждения. То, что стирается в нашем выборе по отношению к своему абсолютному Другому – другому человеку, другому занятию, другому языку или, как говорит Деррида, даже другому коту, которого мы кормим каждое утро, предавая тем самым тысячи других котов, умирающих от голода в этот момент, – как раз и может быть проявлено при сравнении этого выбора с выбором, 156 посредством которого Авраам сохраняет верность абсолютному Другому – Богу – предавая в тот же момент своих близких и своего сына. Выбор будет религиозным постольку, поскольку он направляется не изнутри субъекта, но извне: мы отвечаем здесь на зов Другого как на зов внеположной «радикальной сингулярности». И этот выбор есть наше становление самими собой, а становление самим собой есть становление ответственными в абсолютном смысле. Становление субъектом, способным взять на себя полную и абсолютную ответственность за себя происходит не перед лицом других других, это не публичная сфера морали. Но оно не есть также и внутреннее дело. Оно происходит, откликаясь на зов абсолютного Другого. Но где кроме как не в себе самом найти этого Другого и способность быть ему верным, невзирая на все прочие общественные обязанности? Где кроме как в себе найти источник веры? И все же в самом центре этого становления лежит непроницаемая тайна – взгляд Другого. В начале работы Деррида говорит: «…Трепет охватывает [человека] в момент его становления личностью, а личность может стать тем, что она есть, лишь будучи парализованной в самой ее сингулярности взглядом Бога»409. Потому можно сказать, что этот выбор и верность ему ни в коей мере не субъективны. Но не есть ли ужас, переживаемый в этом жесте и делающий его чрезвычайным – ужас, который охватывает субъективность при обнаружении своего собственного внутреннего действующего и определяющего начала вовне? Неслучайно, рассуждая о несообщаемости внутреннего, Деррида говорит: «Никакое проявление не может преуспеть в изображении внутреннего внешнего, или показать то, что скрыто»410. Если метафизическая вера в Бога может рассматриваться и обосновываться рационально как проекция субъективных представлений на внешний мир, а критическое ее осознание – как процесс интернализации этих «божественных» характеристик, 409 410 Ibid. P. 6. Ibid. P. 63. (Курсив наш – С.Н.) то процесс, с которым мы имеем дело здесь, можно назвать скорее экстернализацией самого субъекта, действующим началом которого оказывается взгляд абсолютного Другого. С несколько другой стороны к той же проблеме подходит немецкий теоретик О. Марквард. Его вопрос состоит в том, кто располагает сегодня тем опытом и теми безмерными знаниями, которые действительно на данный момент достигнуты. Он говорит: «…Никогда – а причина этого в современном триумфальном шествии экспериментальных наук – не имелось столь много нового опыта, как сегодня. Однако мы больше его получаем не сами, но другие получают его за нас. Даже такой специалист-эмпирик, как, например, экспериментальный физик, ставит сегодня самостоятельно в лучшем случае от двух до пяти процентов тех опытов, на результаты которых он должен полагаться, — ну хотя бы из соображений экономии денег и времени»411. Таким образом переизбыток знаний ведет к тому же, к чему когда-то приводил их недостаток: к тому, что мы вынуждены «жить понаслышке» и просто верить на неизвестных нам самим основаниях тому, что не имеем возможности узнать сами. Потоки информации оказываются столь велики и разнообразны, что просто невместимы никаким антропологическим субъектом, ни даже крупным интерсубъективным сообществом. «Таким образом, – говорит Марквард, – мы все больше вынуждены принимать на веру те опытные знания, которые были получены не нами и о которых мы знаем только понаслышке, по большей части из средств массовой информации — специализированных, рассчитанных на широкую публику и просто охотящихся за сенсациями… Это означает следующее: чем научнее становится опыт в нашем мире, тем более мы должны полагаться на веру…»412. Это ставит любого человека в положение ребенка, сталкивающегося с неким неведомым и таинственным миром информации. Но возникает вопрос: кто же, в таком случае, является носителем всей этой информации? Не существует ли она только в форме самого этого гигантского медиа-носителя, из которого мы черпаем мизерные ее доли по мере своих желаний и надобностей, составляя полученные нами ее крохи в мириадах сочетаний и претворяя в своих неповторимых и, в то же время почти неразличимых запросах? И таким образом не оказывается ли снова действующее начало, сам центр субъективности, вынесенным 157 вовне, в то время как любой индивид является только случайной объективацией его деятельности? В отличие от первобытного дикаря, живущего верой в совершенно невероятное мифическое устройство мира, но в то же время вынужденного самостоятельно мыслить и действовать, мы не можем делать ничего кроме как также верить мифическим образом, выхватывая разрозненные куски информации из недр ее носителя, но уже не испытываем необходимости ни обдумывать ее, ни действовать самостоятельно, поскольку за нас все продумано, и прописаны все схемы действия. Нам остается только избирать для себя подходящую и разыгрывать ее в качестве роли, не столько создавая себя, сколько будучи создаваемыми как некие произведения, творцами которых не являемся. С другой стороны, возвращаясь к уже цитировавшейся идее Дж. Агамбена, это, возможно, и есть новое состояние, дающее возможность организации мира и общения в имманентном плане, поскольку здесь «таковость» любого индивида не есть его собственная, «своя», субъективная таковость, но, как предполагал Агамбен, таковость в чистом виде. Поскольку источник ее, личная глубина ее присвоения вынесена во вне, в материальную, знаковую реальность, из которой может быть почерпнута и которой может быть вдохновлена. Весь мир индивидуальных действий и явлений становится лишь представлением этого экстернализированного субъекта, и таким образом он становится, на чем настаивает Марквард, фикцией, вымыслом. В то же самое время Марквард предполагает, что единственной антификцией в этом мире может стать то самое, что раньше было назначено творить фикции в первую очередь: искусство. Возможное «искусство как антификция» описывается им не в качестве того, что выражает или представляет некие переживания или смыслы, имеющие источником внутренний мир субъекта. «Искусство, как мне кажется, превращается в созерцание. Созерцание вынуждает к капитуляции всякий официальный постулат, с позиций 411 412 Марквард О. Эпоха чуждости миру // Отечественные записки. № 6 (15), 2003. С. 36. Там же. которого художественное произведение должно быть вымыслом. Задача искусства сейчас – увидеть еще не увиденное…»413, – говорит Марквард. Искусство может стать антификцией как тот элемент обширной медиасферы, который, ничего более не представляя, способен раскрывать сам механизм ее действия. Это искусство, которое можно понять как акт самораскрытия, собственный акт самосознания, производимый экстернализированным субъектом. Если вспомнить слова Б. Гройса, этот экстернализированный субъект-медиум есть предельно дегуманизированная структура, буквально противоположная жизни и чаяниям человеческого индивида. Это граница его жизни и чаяний, грозное внешнее сопротивление, указывающее на конечность нашего собственного «Я». И сообщение медиума, по словам Гройса, – это сообщение, посылаемое самой смертью. По мысли Маркварда также именно со смертью нас сталкивает антификциональное искусство. А его роль, соответственно, направлена на восстановление того чувства внутренней цельности и ответственности, о которой говорил как о «даре смерти» Деррида. «Если мир пытается мыслить и действовать по принципу: “как если бы смерти почти не существовало”… – искусство утверждает обратное: я умираю, значит я существую, и я действительно существовал, а не просто изобрел себя сам или был изобретен другими и жил как утопический реквизит»414. Вновь обращаясь к первому шагу превращения древнего мифа в вымысел и, следовательно, к первому шагу демифологизации мира – к сказке, – обратим внимание, что большую часть мотивов, легших в основу формирования волшебной сказки, Пропп также полагает связанной с представлениями о смерти и с обрядом инициации, который сам есть воспроизведение похоронного обряда, призванное ввести подростка в новое, взрослое существование. Здесь, фактически, присутствует мысль о взрослом человеке как о принципиально приобщенном к миру духов – к потустороннему миру. И таким образом, стать человеком в подлинном смысле слова – значит стать духовным существом, а стать духовным существом – значит приобрести опыт потустороннего, опыт смерти. Это отличает человека от природы, и следует вспомнить, 158 что К. Леви-Стросс указывал на резкое противопоставление, которое архаические культуры проводят между человеческим и природным существованием415. По сути, можно проследить прямую линию трансформации представлений о потустороннем мире как мире духов, через стадию религиозно-метафизической убежденности в существовании идеального или божественного мира – к представлению о духовном мире, о глубинном внутреннем содержании человеческого сознания, о тайном центре субъективности. Параллельно этому в сказке потусторонний мир духов постепенно начинает превращаться в некое волшебное царство, волшебную страну, мир вымысла, который можно понять также как мир сна или, в современном духе, как виртуальную реальность. Таким образом, потусторонний «нуминозный» мир духов, соседствующий в первобытном сознании с миром живых, демифологизируется последовательной рациональной рефлексией сразу в двух направлениях: с одной стороны, он переосмысливается, в духе Гегеля, как внутренний мир субъекта, с другой стороны, приобретает черты «волшебного царства» художественного вымысла. Словом, с течением времени представление о потустороннем приобретает все более расходящиеся в своих характеристиках черты прекрасной иллюзорности эстетически оцениваемой внешней формы и возвышенной глубины таинственного внутреннего чувства. В одной из статей, посвященных А. Хичкоку, Жижек говорит: «Сублимация не имеет ничего общего с “десексуализацией”, но имеет гораздо больше отношения к смерти: сила очарования, Марквард О. Искусство как антификция – опыт о превращении реального в фиктивное / Пер. Д. Захарьина // Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология. СПб., 2001. С.241. 414 Там же. С. 242. 415 См. об этом: Леви-Стросс К. Печальные тропики. М., 2010. Следует также отметить, что утопия единения природой, в этом смысле, остается исключительно эстетической романтической утопией. 413 которую источает возвышенный образ, всегда выдает присутствие смертельного измерения»416. Фантазматический де-сублимационный характер современного искусства, а в первую очередь, технологий создания виртуальной реальности, возможно, захватывает сознание так сильно именно потому, что способен воссоединять эти линии, погружая зрителя в «волшебную страну» сновидческого мира, наделенного собственной таинственной глубиной реальности. Сновидческая реальность, одновременно с тем, что это реальность желания, есть реальность за пределами жизни, реальность смерти, которая через процесс долгой рационализации была наконец обращена в многогранное пространство внутреннего мира. То же, с чем мы сталкиваемся в современном кинематографе417, – скорее обратная процедура, вновь экстернализирующая внутреннее пространство во внешнюю реальность потустороннего мира, или же мира, развертывающегося на экране. Уже упоминалось, что некогда В. Беньямин назвал опыт модернистского искусства шоковым. Еще более радикальным образом о шоковом характере искусства отозвался композитор К. Штокхаузен: после печально знаменитого падения башен-близнецов в 2001 г. он обмолвился фразой, резко осужденной критикой за крайнюю неполиткорректность (однако в настоящих условиях политкорректность едва ли может сопутствовать истине). Он выразил как будто бы некий скрытый восторг перед акцией, которую произвели террористы, устроив это грандиозное и гибельное шоу (заставившее западную цивилизацию на долгое время прильнуть к экранам в ужасе и в предчувствии конца мира), и назвал это «последним модернистским произведением искусства», тем, к чему стремятся художники, но чего им никогда не достичь. Реакция на эти слова сама стала моральным шоком, однако, можно сказать, что этот шок во многом основан на слишком морализированном отношении к искусству. Не были ли эти слова, скорее, чем признанием эстетической ценности произведенного действа, одновременно радикальным судом над самой эстетикой и над эстетически понимаемым искусством? И, более того, росписью в полном бессилии эстетически понимаемого модернистского искусства? Неслучайно ведь и сам Штокхаузен, по сути, отошел – хотя и лишь относительно – от художественной практики модерна, создавая медитативную затягивающую 159 деперсонализированную электронную музыку. Штокгаузен предельно четко обозначает основное стремление художника модерна. Не хочет ли он действительно шокировать, поразить, убить – и те самым, конечно же, преобразить – зрителя своим произведением? И между тем все его чаяния вынуждены обращаться во прах: зритель не преображается, он по-прежнему живет как жил, потому что то, с чем он сталкивается в искусстве – всего лишь вымысел. Значит то, чего хочет художник – это стереть границу вымысла, сделать вымысел реальностью, шокировать на самом деле. Но шокировать на самом деле – значит не более, чем просто убить или произвести еще какое-то разрушение в реальности. Однако тогда преображения вновь не произойдет. Художник может стать террористом, преступником – но в любом случае он не добьется своей цели. Преступление, убийство будет лишь последним произведением модернистского искусства, где искусство терпит окончательный крах и превращается в простое грубое насилие. Однако Беньямин связывал опыт шока не с деструкцией и разломом форм, но с потерянностью, и находил наибольшее соответствие ему в кинематографе, в этом сновидении наяву, погружающем в неведомую реальность и растворяющем в ней. Это реальность, где, вероятно, даже можно действовать, но действовать как во сне, без-субъектно, потерянно. Обратимся к еще одному кинематографическому примеру. А именно к той загадке, которую предлагает зрителю ставший культовым фильм Дж. Джармуша «Мертвец» (1995). Джармуш, как и Хичкок, является режиссером, выходящим за рамки определений «массового» и «авторского» кино. Его фильмы могут быть равно поняты как философские притчи, Жижек С. Исчезающие леди // Все, что вы всегда хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока). Ред. С. Жижек. М., 2004. С. 194. 417 Интерес к самой теме потустороннего и к теме смешения потусторонней и посюсторонней реальности в новейшем кинематографе (а в первую очередь в наиболее массовом, голливудском) так распространен, что, должно быть, не нуждается в пояснениях. 416 повествующие о чем-то, выражающие некие экзистенциальные и моральные смыслы, и как создание непрерывной и непосредственной кинореальности, которая развертывается сама по себе. Но можно сказать, что он раскрывает нечто в структуре самого кинообраза. Главная загадка фильма, о которой спорят критики, касается вопроса: о чем этот фильм? То есть о чем он повествует, что он выражает в качестве произведения искусства? Безусловно, интерпретаций здесь может быть бесконечно много. Предложим одну: возможно, это фильм о структуре и чаяниях самого искусства? Возможно его главный порыв автореференциален, и он хочет раскрыть то, каким образом действует и к чему стремится искусство – искусство поэта, художника, режиссера – причем не просто искусство, но искусство в его романтическом варианте, а значит эстетически понятое искусство. Фильм повествует о неком клерке Уильяме Блейке, который становится поэтом Уильямом Блейком, причем так, что осуществляет мечту, приписанную Штокхаузеном модернистскому искусству: инструмент его письма – оружие. Он осуществляет мечту романтика: поражать при помощи искусства, убивать искусством, однако оказывается, что сама эта мечта может быть осуществлена лишь постольку, поскольку действие разворачивается в изначально потустороннем пространстве, причем потустороннем в двойном смысле: во-первых, в кино-реальности «по ту сторону экрана» и, вместе с тем, в потусторонней реальности, созданной внутри нее (так что вторая является как бы мифическим отражением первой, создавая бесконечный ряд игры взаимных отображений до их полного исчезновения). Он может осуществлять свое непосредственное воздействие именно в качестве мертвеца: и рождение его как поэта является одновременно его смертью. Критики спорят: остается ли герой жив и пребывает в пространстве между жизнью и смертью, или умирает в начале фильма, а всё последующее странствие есть странствие посмертное? Но, кажется, это не так важно, и индеец сообщает глубокую правду, спрашивая: «Убил ли ты человека, который убил тебя?» Герой сперва смеется над этим вопросом как над наивным словоупотреблением, однако, возможно, оно не так далеко от истины: стать поэтом, осуществляющим силу своего воздействия тождественную убийству, клерк Уильям Блейк может только в результате радикального преображения, которое убивает его. Сначала он 160 должен быть убит, сражен – чтобы очутиться в той реальности, где сам может сражать. Это можно описать в терминах теории влияния Х. Блума, предлагаемой для интерпретации именно романтической поэзии: поэт-предшественник сперва должен сразить (поразить, очаровать) своего последователя, чтобы он преобразился, перестал быть человеком, и вошел в поэтическое пространство418. Если же он будет достаточно сильным последователем – он убьет своего предшественника, причем так, что вина за действия первого падет на него. Блум говорит о завершающем обратном влиянии, вбирающем поэта-предшественника в риторику поэтапоследователя, так что стихотворения первого кажутся написанными вторым. И действительно, в фильме вина за все убийства падает на изначально «убитого» клерка – и он, в конце концов, с гордостью принимает ее, добавляя к собственной поэтической силе, творящей новый мир. Сила художественного воздействия буквализируется в пространстве фильма. Выходя из пространства фильма мы можем сказать так: убийство в фильме можно рассмотреть как метафору воздействия искусства. В таком случае, фильм повествует об этом воздействии (или, скажем: Теория влияния, как ее предлагает Блум, рассматривает психологию отношений, причем всегда индивидуальных отношений, а не неких безличных бессознательных структур. За основу он берет фрейдовский психоанализ с его фиксацией на личной травме, на семейной истории. Однако эта психология, по Блуму, касается лишь семейных отношений поэтов-как-поэтов, но нигде не выходит в пространство, где поэты действуют как люди. Личные человеческие травмы людей-поэтов не рассматриваются здесь как значимые. Можно предположить, что гораздо большую, чем личная история человека-поэта с его человеческим эдиповым комплексом, значимость приобретает архетипический миф о борьбе бога нового и старого года за любовь великой богини, описанный в качестве основания любой поэзии Р. Грейвсом (См.: Грейвс Р. Белая богиня. Историческая грамматика поэтической мифологии / Пер. с англ. Л. Володарской. Екатеринбург, 2007). Так, по Блуму, новый поэт борется с поэтомпредшественником за единовластное и непосредственное обладание своею главной и интимной поэтической силой – своей музой. Но суть и трагедия борьбы состоит в том, что, побеждая, новый поэт всегда проигрывает, поскольку всегда сам становится тем, с чем боролся: он входит в царство предшественников, меняя тем самым всё пространство поэзии как таковой. И так, говорит Блум, производится новое значение в литературе. (См.: Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания / Пер. с англ. С. А. Никитина. Екатеринбург, 1998). 418 возможно также и о нем). Но, с другой стороны, обладая способностью создавать реальность – ту самую сновидческую, потустороннюю реальность, в которой только и может осуществиться такое воздействие, фильм оказывается в гораздо большей степени способным осуществить то, чего не могла осуществить поэзия. Он не только повествует, но вбирает зрителя в свое пространство – в то пространство, где искусство действует не как представление чего-то, но как реальное вторжение, как убийство, и где метафора оказывается буквальной. Таким образом, можно предположить, что киноискусство оказывается способным осуществить то, к чему стремилось, но чего не могло осуществить искусство, понятое как предмет эстетического восприятия. Вбирая зрителя в свое сновидческое пространство «за экраном», оно вбирает его в пространство, подобное описанному Проппом таинственному пространству «за рекой», в мир духов, в тот потусторонний мир, где происходит преображение человека и включение его в мир собственно человеческого. Погружение в это пространство подобно насильственному вторжению, составляющему суть первобытной инициации, и ведет к радикальному преобразованию, становлению человека человеком, способным к действию в человеческом обществе. Однако возможность такого вторжения оплачивается перенесением вовне, в потустороннюю реальность медиапространства, действующего центра субъективности. Вновь испытать трепет от столкновения с запредельным, не найдя его истоков в собственной внутренней глубине и не пережив его, соответственно, как отстраненное от всего внешнего, погружающее в себя самого возвышенное чувство, можно лишь в результате экстернализации субъективности. И возможно именно через создание сновидческих реальностей медиасферы потусторонний нуминозный мир духов, некогда обращенный рационализацией во внутреннюю глубину субъекта, возвращается во всем своем неведомом и, одновременно, восхищающем ужасе. Возвращается не в качестве метафизического мира «там вовне», но в качестве овнешненного, спровоцированного фантазма, многообразие и непостижимость которого вполне способны посоревноваться в своем многоцветии со всем, что могла породить архаическая вера в мифическую потустороннюю реальность. 161