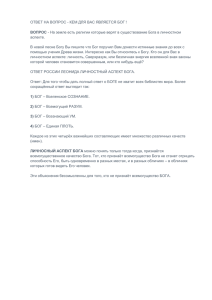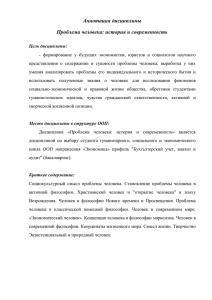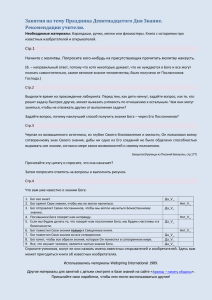VERBUM - 10 «Религиозно-нравственные - На главную
advertisement
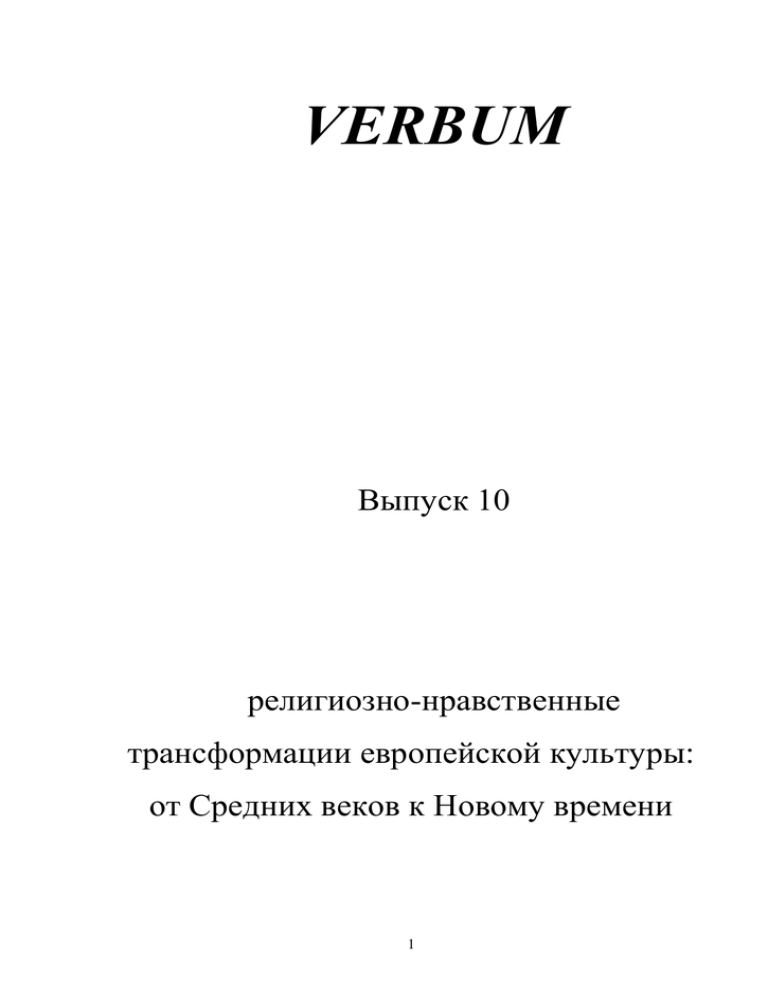
VERBUM Выпуск 10 религиозно-нравственные трансформации европейской культуры: от Средних веков к Новому времени 1 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО Философский факультет Центр изучения средневековой культуры Санкт-Петербургское общество изучения культурного наследия Николая Кузанского VERBUM Издается с 1999 года Выпуск 10 религиозно-нравственные трансформации европейской культуры: от Средних веков к Новому времени 2 Редакционная коллегия: О.Э. Душин, И.И. Евлампиев, Ю.В. Перов, А.Г. Погоняйло, Ю.Н. Солонин (председатель), Л.В. Цыпина, Д.В. Шмонин Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета факультета философии и политологии Санкт-Петербургского государственного университета Религиозно-нравственные трансформации европейской культуры: от Средних веков к Новому времени. Альманах / Под ред. О.Э. Душина, А.Г. Погоняйло. – СПб.: Издво С.-Петербургского ун-та, 2008. 3 СОДЕРЖАНИЕ Центр изучения средневековой культуры: 10 лет научной деятельности. I. Этические теории позднего Средневековья и духовные истоки Нового времени. О.А. Довгополова (Одесса) Природа разграничения уровней отторжения в картине мира раннего Нового времени. О.Э. Душин (Санкт-Петербург) Совесть и пробабилизм в этике Джона Локка. И.С. Кауфман (Санкт-Петербург) Этика в классификации наук у Декарта и Спинозы В. В. Лазарев (Москва). О переходе от ренессансного стиля мышления к новоевропейскому А.М. Толстенко (Санкт-Петербург) Ренессансный гуманизм и утопизм: от возвышенного к трагическому К.А. Шморага (Псков). Гуманистические и антигуманистические предпосылки современной европейской культуры II. Реформация и Контрреформация: этические и религиозные оппозиции. В. А. Бачинин (Санкт-Петербург). Социально-политическая теология Жана Кальвина. А. В. Гоманьков (Санкт-Петербург). Основания христианской культуры в исторической перспективе И.С. Кириллов (Санкт-Петербург) Образ Лютера в эпоху Просвещения П.А. Серкова (Москва). Эсхатология и этика пиетизма: от позднего Средневековья к раннему Новому времени III. Средневековая схоластика и философия Нового времени: преемственность и различия. К.В. Бандуровский (Переславль) Materia signata и res extensa: к пониманию материи у Фомы Аквинского и у Декарта И.Х. Гафаров (Вильнюс) Вторая схоластика Виленской иезуитской академии как философия раннего Нового времени А. А. Горин (Санкт-Петербург) Онтологический аргумент в понимании Карла Барта А.Г. Погоняйло (Санкт-Петербург) «Бог был для мира не сим одним…» М.В. Семиколенная (Санкт-Петербург) История как трагедия у Оттона Фрейзингенского Д.Р. Яворский (Волгоград) Этика Пьера Абеляра: от космического равновесия к персональной ответственности 4 IV. Учение Николая Кузанского и стратегии познания европейского философствования А.Н. Кондратьев (Казань) Античные истоки диалектического метода Николая Кузанского Х. Шталь (Трир) Неизвестная статья Алексея Лосева о Николае Кузанском и его трактате «De li non aliud» V. Россия и русская культура: между Средневековьем и Новым временем. Е.Г. Мещерина (Москва) Духовно-нравственные проблемы и «внешнее любомудрие» в произведениях Андрея и Семена Денисовых: традиции Средневековья в контексте культуры XVIII века Т.В. Чумакова (Санкт-Петербург) Этика и антропология Феофана Прокоповича. VI. Переводы и комментарии. Фома Аквинский. Комментарий к «О Троице» Боэция. Глава 4. Статья 2. Производит ли разнообразие акциденций различие вещей по числу? (Перевод К.В. Бандуровского и М.М. Гейде) Библиография основных публикаций Центра изучения средневековой культуры. Авторы выпуска. 5 Центр изучения средневековой культуры: 10 лет научной деятельности. Центр был создан в 1997 году при кафедре истории философии тогда еще философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, объединив преподавателей и аспирантов университета и других вузов города, увлеченных проблематикой философской медиевистики. Костяк группы исследователей составили доктор философских наук, доцент Олег Эрнестович Душин, доктор философских наук, профессор Игорь Иванович Евлампиев, доктор философских наук, профессор Александр Григорьевич Погоняйло, кандидат философских наук, доцент Лада Витальевна Цыпина, доктор философских наук, профессор Дмитрий Викторович Шмонин. Председателем стал декан факультета, доктор философских наук, профессор Юрий Никифорович Солонин. Участники творческого коллектива Центра выделили три главных направления исследовательской деятельности: изучение истории западноевропейского Средневековья в перспективе становления схоластической метафизики и формирования университетской учёности, при приоритетном внимании к главным представителям схоластического дискурса Фоме Аквинскому, Дунсу Скоту, Уильяму Оккаму; осмысление влияния средневековой ментальности на рождение новоевропейского духа в горизонте культурологических проблем Реформации и Контрреформации, их базовых религиозномировоззренческих оппозиций и дифференций, при акцентировании основных диспозиций «второй» схоластики (прежде всего, концепции Франсиско Суареса) и учения М.Лютера; исследование и экспликация ключевых богословских идей византийской православной мысли и философии в преломлении складывающейся отечественной средневековой традиции религиозно-духовной культуры. При этом важнейшим принципом исследовательских проектов Центра является междисциплинарный характер всех научных мероприятий. Участники Центра в меру возможностей стремятся привлечь специалистов самых разных гуманитарных профилей. За прошедшие годы в работе Центра принимали участие многие известные ученые, представлявшие научные школы не только Санкт-Петербурга и России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Так, в рамках постоянно-действующего теоретического семинара с докладами выступали доктор филологических наук, профессор Института Русской литературы РАН "Пушкинский дом" Г.М. Прохоров, доктор филологических наук, профессор филологического факультета СПбГУ Я.Н. Любарский; доктор искусствоведения, старший научный сотрудник Российского института истории искусств Е.В. Герцман; доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка филологического факультета СПбГУ В.В. Колесов; доктор исторических наук, член-корреспондент РАН И.П. Медведев; доктор исторических наук, ведущий научный 6 сотрудника Института востоковедения РАН К.Н. Юзбашьян; доктор исторических наук, профессор исторического факультета СПбГУ, заведующая кафедрой истории Средних веков Г.Е. Лебедева; профессора философского факультета СПбГУ Е.А. Торчинов, Р.В. Светлов, Б.В. Марков, Я.А. Слинин, А.Ф. Замалеев. В их докладах были поставлены актуальные проблемы изучения наследия средневековой философии и культуры не только Западной Европы, но и России, Византии, Армении, Китая. Из зарубежных коллег, непосредственно принимавших участие в научных мероприятиях Центра, можно назвать директора Института социальных исследований, руководителя программы антропологических исследований средневековой Европы ЖанаКлода Шмидта, профессора Клода Понаккио (Университет Квебека, Канада), профессора Симона Франклина (Кембридж, Великобритания), профессора Герхарда Подскальского (Институт Святого Георгия, Франкфурт-на-Майне, Германия), профессора Ханса-Вейтеля Байера (Институт византиноведения, Вена, Австрия), профессора, директора Института Святого Фомы Аквинского, ректора Херви Рикхофа (Католический университет Утрехта, Нидерланды), профессора А. Каумантоса (Афинский университет, Греция), профессора, директора Института исследований Кузанского Клауса Райнхарда (Университет Трира, Германия), профессора Агнешку Киевскую (Люблинский католический университет имени Иоанна Павла II, Польша), профессора Паулу Пико Эстраду (Институт исследований Кузанского, Буэнос-Айрес, Аргентина), профессора Петера Элена (Высшая школа философии, Мюнхен, Германия) и других. Их доклады и выступления позволили участникам Центра сформировать целостное представление о развитии основных направлений современных гуманитарных исследований в области медиевистики. За годы своей деятельности Центр организовал и провел ряд крупных российских и международных научных симпозиумов. В 1998 году состоялась конференция, посвященная 450-летию со дня рождения испанского философа и богослова Франсиско Суареса, её материалы нашли отражение на страницах первого выпуска альманаха "Verbum", издание которого было осуществлено при финансовой поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда. В сборник вошли исследовательские статьи, затрагивающие различные аспекты философского наследия Ф. Суареса, проблем Реформации и Контрреформации, перехода от Средних веков к Новому времени. Были опубликованы и некоторые избранные главы из "Метафизических Рассуждений" Ф. Суареса. В 1999 году участниками Центра был проведен расширенный семинар "Наследие Средневековья и современная культура", в ходе которого прозвучали оригинальные доклады, продемонстрировавшие реальную актуальность современного прочтения наследия средневековой культуры («Русское средневековье и проект грамматологии», 7 «Влияние исихазма в русской культуре: от Андрея Рублева до Андрея Тарковского», «Реконструкция веберовского анализа западного средневекового христианства в современной неовеберианской социологии» и другие). Материалы семинара были представлены во втором альманахе "Verbum". В сентябре 2000 года в рамках одного из главных направлений деятельности Центра была организована большая международная конференция "Византийское богословие и традиции религиозно-философской мысли в России», в которой приняли участие около 100 российских и 20 иностранных учёных. Заседания конференции проводились не только в стенах университета, но и в Институте русской литературы, в Русском музее. Отклики и информация о её проведении появились на страницах журнала "Вопросы философии", газеты "Известия", эмигрантского издания «Русская мысль». Все доклады были опубликованы в третьем выпуске альманаха "Verbum", который сразу же стал библиографической редкостью, поэтому участники Центра изыскали возможность сделать второе, исправленное и дополненное издание. В октябре 2001 года на философском факультете проходила международная конференция «Аристотель и средневековая метафизика». В её работе приняли участие исследователи из Армении, Бельгии, Голландии, Греции, Израиля, Ирландии, Киргизии и России. Конференция средневекового продемонстрировала аристотелизма в истории выдающееся становления значение средневековой традиции учености, объединившего в общем теолого-метафизическом пространстве богословские школы иудаизма, христианства и ислама. Все доклады и тезисы были представлены на страницах шестого выпуска главного научного издания Центра "Verbum". В сентябре 2003 года состоялась международная конференция «Лютеранство и лютеране в истории Санкт-Петербурга и России», посвященная 300-летнему юбилею города. В ее работе принял участие Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви в России и странах СНГ Георг Кречмар. Он выступил с живым, проникновенным докладом о лютеранско-православном диалоге и рассказал о тех трагических временах, когда верующие не делили христианство на конфессии перед лицом суровой внешней угрозы. В рамках конференции были рассмотрены различные аспекты становления лютеранства в Европе и России. Ее содержание получило отражение в седьмом альманахе "Verbum". В 2004 году основная деятельность участников Центра была сконцентрирована на написании учебного пособия «Философия западноевропейского Средневековья», которое вышло в издательстве Санкт-Петербургского университета в 2005 году. Кроме того, в 2005 году на базе Центра было создано Санкт-Петербургское общество изучения культурного наследия Николая Кузанского. Его почетным председателем стал доктор философских наук, профессор кафедры истории философии Константин Андреевич 8 Сергеев. Он высоко ценил идеи этого оригинального мыслителя и неоднократно обращался к ним в своих исследованиях. Главным событием научной жизни Центра в 2006 году явилась международная конференция «Наследие философствования». Она Николая стала Кузанского результатом и совместной традиции работы европейского с Институтом исследований Николая Кузанского при теологическом факультете университета Трира. В конференции принимали участие ученые из Аргентины, Германии, Польши, России, Украины. Это мероприятие открыло новое направление в деятельности Центра. Тем самым, проекты современных исследований преемственно совместились с широким философским интересом к наследию Кузанца в отечественной традиции культуры прошлого столетия. В рамках «Дней Петербургской философии-2007» Центр изучения средневековой культуры провел международную историко-философскую конференцию на тему "Религиозно-нравственные трансформации европейской культуры: от Средних веков к Новому времени", которая была приурочена к десятилетию научной деятельности Центра. Основная концепция конференции состояла в том, чтобы представить значение наследия Средневековья в горизонте новоевропейской философии и культуры. Подобная постановка проблемы продолжает программу предшествующих научных мероприятий научного сообщества. С докладами выступили исследователи из Белоруссии, Израиля, Киргизии, Литвы, Украины и, конечно же, России. Материалы конференции послужили основой для данного юбилейного выпуска альманаха “Verbum”. В ближайших планах Центра - создание собственного информационного ресурса со справочно-библиографической базой «Философская медиевистика». Кроме того, в рамках «Дней философии в Санкт-Петербурге - 2008» Центр предполагает провести международную научную конференцию «От пира к посту: трансформации культурных практик от Античности к Средним векам». Ее организация осуществляется совместно с Санкт-Петербургским Платоновским философским обществом и Институтом истории христианской мысли РХГА. 9 I. Этические теории позднего Средневековья и духовные истоки Нового времени. О.А. Довгополова (Одесса) Природа разграничения уровней отторжения в картине мира раннего Нового времени. Ценностный каркас той или иной эпохи представляет собой сложную систему ориентиров, сконцентрированных по условно «позитивному» и «негативному» направлениям. Если представить себе визуально результат действия этих векторов ориентации, можно получить своего рода метафорическую «карту» обжитого пространства. Получится нечто подобное физической карте – с обозначением уровней высот, но без параллелей и меридианов. Однако в карте обжитого мира эти линии превратятся в границы разных уровней близости и чуждости, приятия и отторжения. В центре окажется область нормального, хотя точки в центре не будет – самое близкое, «своё» всё равно оказывается пространством (в котором играют возможности), а не точкой пребывания наблюдателя. Различные же варианты выведенного из нормы в нашей карте стремятся к концентрическим окружностям, проходящим ближе или дальше нормального. Понятие обжитого мира не исчерпывается понятием нормы. Норма является нам только на фоне вне-нормального. «Не убий, не укради…» – в первую очередь человек усваивает то, что не должно присутствовать в его мире. Значит, отторгаемое также входит в обжитое пространство – в виде точного знания о неприемлемом. Стоит добавить, что в топографии обжитого мира вне-нормальное занимает более обширную площадь, чем норма, создавая многочисленные линии дополнительных разделений. Что-то мы готовы терпеть в силу неких обстоятельств. Что-то оказывается настолько неприемлемым, что мы согласны пожертвовать многим, в предельном случае жизнью, чтобы не дать проникнуть этому в наш мир. Хотелось бы сделать дополнительный акцент на составе пространства вне-нормального – здесь оказывается не только предельно отторгаемое, нестерпимое, но и то, что мы согласны терпеть в силу определённых обстоятельств. То, к чему мы проявляем толерантность. Современная мыслительная парадигма отводит толерантности и нетерпимости места на противоположных полюсах пространства столкновения ценностей, однако, это не единственный способ их трактовки. Попытавшись восстановить метафорическую схему обжитого мира, в пределах которой пребывал европеец эпохи перехода от средних веков к новому времени, мы увидим, что толерантность и нетерпимость составляют два уровня пространства вне-нормального. Представляется продуктивным рассмотреть соотношение 10 нормы, терпимого и нетерпимого в картине мира раннего нового времени – это не только создаёт дополнительные возможности, недоступные при прямом исследовании нормы, но и позволяет иначе воспринять привычные понятия, смысл которых кажется неизменным. В данном тексте представлена попытка рассмотреть проблему идентифицирующей роли отторгаемого, направив внимание не столько на факт выведения того или иного феномена за пределы пространства нормы, сколько на уровни отторжения, которое может быть смягчённым и предельным. Эпоха перехода от средних веков к новому времени предоставляет для такого анализа уникальный материал. Именно с этой эпохой связывается начало эры политической терпимости – принцип толерантности был впервые закреплён государством в законодательных актах. В то же время именно этот период, как показал М. Фуко, оказывается моментом оформления современной формы отторжения со стороны господствующей парадигмы мышления, эпохой «великого заточения». Мне показалось интересным в этой связи взглянуть в сторону Англии второй половины XVII в., ибо в несколько десятков лет здесь оказался впрессован опыт как правовых разработок в области терпимости-отторжения, так и философского обоснования интересующих нас проблем в работах Т. Гоббса и Дж. Локка. Выбор материала обусловливается, в частности, тем, что в исследованиях толерантности–нетерпимости Англию, как правило, обходят стороной. Английский опыт разграничения терпимого–нетерпимого способен сбить с толку любого исследователя, мыслящего в категориях прогресса и постепенного движения от нетерпимости средневековья к новоевропейскому идеалу консенсуса. Самую широкую терпимость здесь проявил диктатор Кромвель, который в своём программном документе «Орудие управления» (“The Instrument of Government”) провозгласил готовность приветствовать разные вероисповедания. Целиком новоевропейские проекты толерантности подготовили короли из династии Стюартов, получившие двойку на «суде истории». А флагман политической свободы – английский парламент – сопротивлялся не только диктатуре Стюартов, но и внедрению веротерпимости. Сказанное делает опыт английского размежевания терпимого–нетерпимого очень любопытным материалом для изучения принципов разграничения уровней вне-нормального. Позволю себе начать с анализа уровней отторжения, фиксируемых документами о веротерпимости эпохи правления католика Якова II Стюарта (1685–1688) и протестанта Вильгельма Оранского (1689–1702). Любопытно, что, будучи созданы политическими и конфессиональными противниками, документы демонстрируют единые принципы размежевания неприемлемых феноменов. Пространства нормы и вне-нормального имеют здесь разное наполнение, но принципы их заполнения остаются общими. К нормальному причисляются приверженцы королевской конфессии. Терпимость провозглашается по 11 отношению к представителям отличных от официальной деноминаций, которые доказали свою верность правящему монарху и полезность для дела процветания государства. Отказывают в терпимости тем, чья конфессия угрожает целостности государства. Удивительным при этом кажется абсолютное равнодушие авторов документов к содержанию убеждений (особенно, если учесть, что объектом интереса этих документов как раз и оказываются права различных конфессий). Как объясняется готовность терпеть некую конфессию? Дабы развеять сомнения в правильности употребления исторического понятия терпимости или толерантности, стоит заметить, что термины toleration и indulgence (снисхождение, попустительство) используются в королевских декларациях как абсолютные синонимы. Толерантность здесь отнюдь не приобрела современного смысла признания права каждого мировоззрения на существование, однозначно помещая терпимые объекты в пространство вне нормы. Итак, в одном из первых своих выступлений в качестве короля Яков II заявил о готовности покровительствовать англиканской (официальной!) церкви, мотивировав это уверенностью в том, что её принципы поддерживают монархию, а её члены продемонстрировали себя добрыми и законопослушными подданными1. Король готов поддержать чужую для себя церковь, руководствуясь не признанием неотъемлемого права человека искать свой путь к Богу, а тем, что её члены – добрые и законопослушные граждане. В Шотландской Декларации Толерантности 1687 года Яков II предоставляет терпимость умеренным пресвитерианам и квакерам при условии, что они не будут высказываться против блага и спокойствия королевства, а свои религиозные собрания не будут проводить в публичных местах2. Король готов терпеть их существование, но не пропаганду. В тексте английской Declaration of Indulgence 1687 года Яков печальным тоном короля-философа замечает, что был бы рад видеть всех своих подданных католиками, но это, увы, невозможно3. Поэтому, хоть и против своей воли, король готов оказать снисхождение тем, чей способ служения не отчуждает сердца подданных от короля, и чьи религиозные собрания являются мирными, открытыми, ненасильственными. В 1689 под эгидой Вильгельма Оранского был принят Акт Толерантности (Toleration Act) – документ, которому парламент придал законную силу, в отличие от документов Якова II4. Снисходительность государства здесь распространяется на группы протестантов-неангликан, осуществляющих церковные выплаты, которых требует Church of England (§ VI). Представители нонконформистского духовенства получили См.: Speech of King James II to the Privy Council, February 7, 1685. (Origin: http://www.jacobite.ca). См.: Scottish Declaration of Toleration, February 12, 1687. (Origin: http://www.jacobite.ca). 3 См.: Declaration of Indulgence of King James II, April 4, 1687. // English Historical Documents, 1660–1714. Edited by A. Browning. – London: Eyre&Spottiwoode, 1953. – P. 399–400. 4 См.: Toleration Act, 1689. // English Historical Documents, 1660–1714. Edited by A. Browning. – London: Eyre&Spottiwoode, 1953. – P. 400–403. 1 2 12 возможность продолжать свою деятельность на условиях принятия соответствующей присяги (§ VIII). Государство пообещало закрыть глаза на некоторые конфессиональные особенности нонконформистов, в частности, на невозможность принесения присяги (§ XIII), которую можно заменить подписанием соответствующей декларации верности (declaration of fidelity). Любопытным свидетельством принадлежности терпимого к сфере вне-нормального является требование выплаты своеобразного штрафа за принадлежность к нонконформистской конфессии (§ XIX), взимаемого официальным лицом, несущим ответственность за сохранение мира (clerk of peace). Таким образом, характер опасности, идущей от нонконформистов, детерминируется вопросами общественного спокойствия и безопасности. Текст приведённой в Акте декларации верности делает этот вывод ещё более очевидным. Диссентер должен был торжественно поклясться в верности королю Вильгельму и королеве Марии, а также в том, что он провозглашает еретическим любое учение, согласно которому правитель, отлучённый от церкви папой римским, может быть лишён власти. Диссентер клянётся также в том, что не поддержит распространения иностранной силы на территории Англии. Символ веры, который должны признать все, кто ищет терпимости, содержит самые общие постулаты христианства – его и католик подписал бы, если бы ему дали. Таким образом, документы католического и протестантского королей демонстрируют готовность терпеть тех, кто не угрожает целостности государства. Если же в чьих-либо взглядах усматривается возможность угрозы власти, их носителю в терпимости отказывают. Так, Яков II отказывает в попустительстве только радикальным пресвитерианам (так называемым Field-Conventiclers), ибо они не признавали церковную иерархию, а собрания свои проводили таким образом, что их нельзя было проконтролировать (собственно, название говорит само за себя – они собираются «в поле»)5. Люди, собирающиеся тайно для какой бы то ни было цели – опасны для государства, причём не в силу содержания своих убеждений, а в силу самого факта ухода от государственного контроля. Желание провести религиозное собрание втайне рассматривается как антигосударственная деятельность – неразрывная связь между заговором и стремлением остаться неконтролируемыми оказывается общим местом в текстах XVII в. То же король повторяет в английской Declaration of Indulgence 16876. Протестантский Акт Толерантности (Toleration Act) 1689 года объектом однозначного отторжения признаёт любую группу протестантов–неангликан, которая собирается для богослужения в помещении с закрытыми дверями7. Текст подчёркивает – „with the doors См.: Scottish Declaration of Toleration, February 12, 1687. (Origin: http://www.jacobite.ca). См.: Declaration of Indulgence of King James II, April 4, 1687. // English Historical Documents, 1660–1714. Edited by A. Browning. – London: Eyre&Spottiwoode, 1953. – P. 399–400. 7 Toleration Act, 1689. // English Historical Documents, 1660–1714. Edited by A. Browning. – London: Eyre&Spottiwoode, 1953. – P. 400–403. 5 6 13 locked, barred, or bolted” (§ V), чтобы никто не смог отговориться тем, что мы-де не запирали двери, а просто крючок накинули. Никакие бенефиции не будут предоставляться папистам, а также любому человеку, который отрицает доктрину Святой Троицы (§ XVII). Забегая вперёд, отметим, что природа отторжения папистов детерминируется также вопросами сохранения целостности государства, а не содержанием их убеждений. Таким образом, что католические, что протестантские величества не собираются терпеть тех, кто угрожает (реально, или гипотетически) целостности государства, отнюдь не интересуясь содержанием их убеждений. Но ведь и в более ранние времена отступники от официальной церковной доктрины вряд ли угрожали целостности государства, однако их почему-то терпеть не собирались. Мы не можем просто сказать, что, мол, времена изменились. Средневековая парадигма готова была терпеть, скажем, проституцию как меньшее зло (попустительство проституции позволяет предотвратить худший грех – содомию), а ересь однозначно отторгала – она есть чистое преступление. Вероятно, и в новоевропейской системе ценностных ориентаций можно найти то, ради чего, собственно, монарх провозглашает готовность терпеть то, что ему неприятно. Документы Якова II проливают свет на источник «попустительства». В тексте Шотландской Декларации Толерантности 1687 упоминается случай, когда снисхождение оказывается не по доктринальным соображениям, а в связи с владением бывшими церковными землями, секуляризованными в ходе Реформации. Король обещает поддерживать в полном объёме права собственников согласно законам своих предшественников и актам парламента8. С точки зрения короля-католика владение церковными землями – это грех, который в силу определённых причин остаётся без наказания. В тексте английской Declaration of Indulgence 1687 года [10] король повторяет своё обещание и делает акцент на том, что готов терпеть этот неприятный для него факт, ибо его целью как законодателя оказывается не просто прекращение склок между гражданами, но процветание государства9. В преамбуле к декларации король сообщает, что принимает этот документ для предоставления подданным возможности жить в лёгкости и спокойствии, для развития торговли и для поддержки иностранцев. К слову, в благодарственных письмах, которые посылали королю по поводу принятия декларации, говорится, что признание свободы совести даст толчок развитию торговли10, позволит гражданам быть уверенными в том, что король стоит на страже их собственности11. Ещё См.: Scottish Declaration of Toleration, February 12, 1687. (Origin: http://www.jacobite.ca). См: Declaration of Indulgence of King James II, April 4, 1687. // English Historical Documents, 1660–1714. Edited by A. Browning. – London: Eyre&Spottiwoode, 1953. – P. 399–400. 10 См.: Address of Thanks from the City of Gloucester, April 1687. // English Historical Documents, 1660–1714. Edited by A. Browning. – London: Eyre&Spottiwoode, 1953. – P. 398–399. 11 См.: Address of Thanks from the Presbyterians of London, April 1687. // English Historical Documents, 1660– 1714. Edited by A. Browning. – London: Eyre&Spottiwoode, 1953. – P. 397–398. 8 9 14 одно восторженное пресвитерианское письмо благодарит короля за право свободно служить Богу, причём авторы послания подразумевают под этим подтверждение королём того факта, что они сохранят право на свою собственность, «без которой они не смогли бы наслаждаться ничем, что могли бы назвать своим, без настолько сильного волнения, какое только можно представить»12. Таким образом, главным основанием терпимости оказываются не просто вопросы спокойствия гражданской общины. Законодателя интересует в первую очередь развитие благосостояния государства, ради которого можно проявить снисходительность к явно неприемлемым вещам – ложным верованиям. Гарантируя право собственности подданным, правитель заботится о том, чтобы эти подданные постарались приумножить богатства страны. Чтобы сделать картину более «контрастной», необходимо напомнить, что те, кто был неспособен приумножить благосостояние государства (к примеру, нищие), в это же самое время оказывались среди объектов достаточно жёсткого отторжения. Частная благотворительность осуждалась как потакание лени, а проблема нищеты решалась путём создания работных домов, призванных заставить бездельников послужить на благо государства. Таким образом, маргинал мог купить попустительство своему существованию только ценой внесения вклада в процветание государства. Признание факта невнимания к содержанию убеждений нонконформистов на фоне необходимости поддерживать безопасность и процветание государства недостаточно для того, чтобы увидеть движущие механизмы разведения по пространствам терпимого и нетерпимого в мыслительной парадигме XVII века. Мы зафиксировали только внешние проявления толерантности и предельного отторжения. Есть смысл попытаться выяснить, что именно заставляет отодвинуть на второй план те самые феномены, которые становились объектами предельного отторжения в предшествующие века. Попытка раскрыть механику процесса различения терпимого и нетерпимого приведёт нас к пониманию перераспределения акцентов в проблеме универсального и индивидуального в эпоху формирования новоевропейского ценностного скелета. Разъясняя цели политики терпимости, английские монархи говорят о мире и спокойствии государства, о развитии торговли и процветании граждан. Тот же акцент мы находим в работах одного из первых новоевропейских теоретиков толерантности – Джона Локка. В 1667 в известной работе, посвящённой терпимости, он писал о том, что создание законов для цели иной, нежели защита безопасности правительства и жизни, собственности и свобод народа, т.е. сохранения целостности, заслуживает суровейшего 12 См.: Humble Address of the Presbyterians, 1687. (Origin: http://www.jacobite.ca). 15 приговора на великом судилище13. Таким образом, Локк конечной целью существования государства видит сохранение целостности. Эта целостность соглашается оказаться единством во множестве, признав возможность существования в своих пределах представителей негосударственных конфессий. Необходимость видеть государство именно таким образом Локк доказывает, сославшись на то, что единственным надёжным способом уничтожить диссентеров является их уничтожение, что абсурдно, – поэтому необходимо думать не о том, как ввести их в лоно государственной церкви, а о том, как сделать людей с разным видением мира по крайней мере не врагами государства14. Таким образом, целое признаёт себя единством во множестве, но пугается проникновения на свою территорию чужого, которое может превратить эту целостность во что-то иное. Этот страх создаёт основания для возникновения наиболее общих контуров пространства отторжения в эпоху раннего нового времени. Именно опасностью для целостности государства объясняется, к примеру, упомянутое предельное отторжение католиков – они являются подданными другого государя и вынашивают планы переворота. Даже такой страстный защитник идеи терпимости как Джон Локк (который готов был праздновать пятницу с магометанином, субботу с иудеем, а воскресенье с христианином) не видел возможности сосуществования с папистами. Ведь они – подданные исключительно папы римского, который бренчит ключами от их совести и может освободить их от всех клятв, данных собственному государю15. Преследования католиков Локк не считает преследованиями за веру – кары падают на них как на врагов государства, как на тех, кто признаёт себя подданным иноземного государя и врага16. Красноречивым свидетельством уверенности Локка в правильности своего видения католиков оказывается пояснение причин уничтожения католиков в Японии – японское правительство было снисходительно к миссионерам до тех пор, пока у него не появилось подозрение, что религия – это всего лишь отвлекающий маневр, истиной же целью оказывается власть17. Таким образом, страх перед католиком – это страх перед иноземным врагом, тем более опасным, что он находится внутри государства и может «открыть ворота». Стоит напомнить антикатолические фобии, которые периодически охватывали Лондон в XVII в. – чего стоит только раскрытие в 1676 г. «папистского заговора» (к слову, сфальсифицированного), следствием чего оказалось изгнание католиков из Лондона и Вестминстера, а также из палаты лордов (куда они смогли вернуться только в 1829). Тогда же пять пэров-католиков были заключены под стражу, а королеву-католичку обвинили в попытке отравления короля (причём на уровне Локк Дж. Опыт веротерпимости // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. – М: Мысль, 1988. – Т. 3. – С. 73. Там же, С. 82. 15 Там же. 16 Там же. 17 Там же, С. 89. 13 14 16 парламента, а не слухов)18. А на волне следующей антикатолической истерии в 1688 в призывах парламента к Вильгельму Оранскому звучала та же нота – спаси Англию, ибо Яков допускает католиков в армию, а они не будут защищать это государство, ибо имеют иного господина19. Этот момент оформления образа иностранного врага, наверное, оказывается красноречивым свидетельством того, что государство начинает ощущать себя целостным единством, противопоставленным в реализации собственного интереса всему миру. Сообщество способно понять факт собственного существования только после проведения операции различения между собой и внешним миром – этот тезис Никласа Лумана20 помогает более четко увидеть изменения, которые происходили в самопонимании государства раннего нового времени. Неудивительно, что в новоевропейском самоидентифицирующем определении внешнего мира самым пугающим оказывается иноземная угроза. Отныне любой феномен, вызывающий подозрения, наделяется именно этой характеристикой. Тенденция новоевропейского сознания искать иноземного врага, естественно, не является изобретением исключительно Англии. Так, в годы Великой французской революции страх «заграницы» становится красной нитью текстов А. СенЖюста, который даже на суде против короля говорил, что Людовика следует судить не как француза, а как иностранного врага. В политический оборот прочно входит понятие заговора. Подчёркиваю, вопрос не в том, что европейца начинает банально пугать «заграница», а в том, что пугающее в собственном пространстве начинает наделяться чертами иностранного врага. Это полезно помнить, чтобы не наступить на грабли, заботливо подставленные исследователю историческими источниками. В частности, ярким примером подобного излишнего доверия к источнику оказываются рассуждения Юлии Кристевой (в «Сами себе чужие»), которая на основе изучения периодики времён французской революции XVIII века сделала вывод о том, что иностранцы пользовались в Париже дурной славой, ибо распространяли идеи атеизма, коробившие французов. Если присмотреться к образу «идеального отторгаемого», рисовавшегося французскими властителями дум от маркиза де Сада до Робеспьера, мы заметим, что атеизм и отсутствие привязанности к родине являются непременными атрибутами мерзавца. Если бы Кристева учла этот момент, она не рисовала бы Робеспьера, возглавлявшего шествие на антихристианском, по сути, празднике Верховного существа, борцом за сохранение идеалов христианства, якобы разрушавшегося иностранцами. Иностранец не был более атеистом, чем француз, – иностранец виделся более атеистом, ибо француз был уверен, что корни тлетворных практик тянутся с чужой территории. И всякий, кто вёл себя в Lodge R. The Political History of England: In twelve volumes. – Vol. VIII. – London, 1910., P. 155. См.: Selections from the Invitation to the Prince of Orange, June 30, 1688 // English Historical Documents, 1660– 1714. Edited by A. Browning. – London: Eyre&Spottiwoode, 1953. – P. 120–122. 20 См.: Луман Н. Общество как социальная система. – М.: Логос, 2004. – 232 с. 18 19 17 какой-то мере вне-нормально, вызывал в тот момент подозрение в причастности проискам «заграницы» (не конкретного вражеского государства, а именно всего монолита внешнего, не принадлежащего нашей общности). Дихотомия «мы–иностранцы» возникает в европейском сознании не раньше момента формирования национального государства. Используя образ врага-идентификатора, государство преобразуется в механизм тотального оправдания существования этой общности, этой гражданской общины. Целью государства оказывается сохранение собственного существования в максимально неизменной форме. Противопоставив себя не единичным опасностям, приходящим извне, а тотальному наступлению внешнего, государство неизбежно ставит перед собой вопрос необходимости тотального контроля внутреннего пространства – внешней опасности можно эффективно сопротивляться, только будучи уверенным в безопасности и предсказуемости того, что признано своим. Неизбежно из этого идеологического бульона вырастает и понятие внутреннего врага. Я не открою ничего нового, если скажу, что именно эпоха раннего нового времени создала, с одной стороны, механизм тотального контроля, а, с другой, – специфический механизм собственного воспроизводства. Можно просто отправить читателя к выводам Мишеля Фуко21. Государство в эпоху раннего нового времени превращается из родовой собственности монарха в институцию, существующую за счет чётко выверенной системы воспроизводства. Чтобы такая система действовала, к ней нельзя подпускать тех, кто находится по ту сторону нормы. Поэтому именно взгляд в сторону вне-нормального предоставляет исследователю дополнительные возможности в создании выпуклого образа ценнейшего и неприкосновенного для определённого исторического момента – изучив комплекс воспринимаемого вне нормы, мы точнее определим контуры нормального. Неприкосновенными с момента формирования новоевропейской парадигмы оказываются сферы государственного управления, образования и обороны. Именно невозможность допуска в эти сферы представителей негосударственных конфессий (которых можно терпеть в каком угодно другом месте) тщательно оговаривают акты толерантности Стюартов и Вильгельма Оранского. Речь ведь идёт не о полном уничтожении или изгнании, а только о недопуске в сферы воспроизводства. Даже католики могли спокойно жить в Англии, если не пытались пробраться в армию, в учителя или в сферу управления. Как видится сущность терпимости и нестерпимого одному из первых в европейской традиции теоретиков толерантности Джону Локку? Толерантность есть отказ от уничтожения феноменов, отличающихся от общественно разделяемого идеала, ради предотвращения большего зла или ради достижения некоей выгоды. Несовершенство и См.: Фуко М. История безумия в классическую эпоху. – СПб: Университетская книга, 1997. – 576 с.; Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанный в Коллж де Франс в 1974–1975 учебном году. – СПб.: Наука, 2004. – 432 с. 21 18 даже порок допустимы, если с их помощью можно умудриться добиться выгоды для общества. Локк замечает, что иногда даже Бог соглашается, чтобы Его законы подлаживались под человеческие: Его закон запрещает порок, а человеческий – устанавливает для порока допустимую меру22. Однако это возможно только в том случае, если правитель изобретает способ поставить порок на службу воспитанию добродетели (не меняя отношения к пороку как злу). Мерилом размежевания терпимого–нестерпимого у Локка оказывается государство: очевидно, что даже придумавший оправдание краже правитель никогда не согласится сделать законным клятвопреступление или измену, ибо они губительны для человеческого общества. Благо государства может стать основанием для перетолкования божественных законов и сущности порока и добродетели23. При этом Локк фиксирует и ситуацию, в которой в пространство отторжения попадают люди, которые просто просят дать им возможность вести собственный образ жизни. Почему это происходит? Мыслитель приходит к выводу, что проблема зиждется именно в необходимости контроля за жизнью каждого со стороны государства. Целостность государства не пострадает от определённого количества инакомыслящих, но если их станет больше, государство почувствует себя неуверенно в возможности сохранять целостность и перейдёт в наступление на источник дисбаланса. Локк замечает, что этих людей преследуют не из-за того, что они придерживаются того или иного взгляда или вероисповедания, а из-за того, что было бы опасно иметь такое количество инакомыслящих, какого бы мнения они не придерживались24. Таким образом, оказывается, что те, кто требует просто оставить их в покое, создают своеобразное поле слепоты государства, куда оно иногда начинает бить именно вслепую. Этот момент необходимо иметь в виду, когда мы пытаемся очертить контуры пространства отторжения – простое перечисление объектов отторжения не даст нам чёткой картины. Упомянутые рассуждения Локка о преследованиях инакомыслящих не за содержание убеждений, а за их наличие подводят нас к одной из значимых проблем понимания смысла различения нормального–вне-нормального в мыслительной парадигме раннего нового времени. Удивительное на первый взгляд равнодушие к содержанию людских убеждений демонстрирует нам оборотную сторону оформления новых оснований понимания жизни человеческого общества. Обоснование расслоения ценностных уровней можно проследить по текстам правовых документов, которые регулировали взаимоотношения конфессий в Англии второй половины XVII века. Обратившись к тексту Бредской декларации, провозглашённой Карлом II Стюартом перед коронацией в 1660, мы увидим призыв к будущим подданным оставить религиозную Локк Дж. Ук. соч., С. 76. Там же. 24 Там же, С. 78. 22 23 19 ненависть в прошлом: «Так как страсти и злоба нашего времени вызвали разногласия в религии, разделившие людей на враждующие между собой партии (каковая враждебность будет устранена или лучше понята в случае свободного обсуждения этих разногласий), мы объявляем свободу совести, и что ни один человек не должен быть тревожим или осуждаем за религиозные разногласия, не нарушающие мира в королевстве…»25. А в Declaration of Indulgence 1688 года Яков II Стюарт призывает своих подданных отложить всю частную вражду, а также необоснованную зависть26. Различия в убеждениях граждан оказываются в этом контексте не более чем частными сварами. Все эти ревности и злоба – нечто случайное и незначительное на фоне вопроса об интересах общего. То есть, нет никакой сущностной разницы между взглядами граждан, просто в силу природной ограниченности люди не видят дальше собственного носа – свой взгляд на мир только кажется им особенным. Для того и существует государство, чтобы создать истинную картину значимого. Итак, если государство становится всем, то частные убеждения оказываются в разряде акциденций, случайных соединений элементов миропонимания. Государство переходит в разряд общего, индивидуальные особенности – в разряд случайного, конечного, и, в итоге, незначительного. Не входит ли этот вывод в противоречие с традиционным убеждением в наличии в духовной парадигме раннего нового времени развитой идеи индивидуальности, убеждённости в уникальности каждого отдельного индивидуума? Противоречия нет. Акцент на случайности индивидуального видения мира появляется в процессе построения новоевропейской системы ценностных ориентаций – именно понимание неповторимости каждого индивидуального варианта убеждений делает такой единичный образец неприемлемым для строительства Порядка. Как соотнести ценность индивидуальной совести и необходимость создания общей системы благопристойной жизни социальной общности? Остроту этого вопроса для человека XVII в. нельзя недооценивать. Вероятно, ход мысли такого откровенного мыслителя как Томас Гоббс демонстрирует этот момент наилучшим образом. В «Левиафане» есть ремарка о том, что Господь выбирает для каждого человека его собственный путь к истине. Как Господь выбирает дорожку своим верным, только Ему ведомо; поэтому вмешательство в способ служения может оказаться бунтом против Бога. Но мы живём в обществе, цель которого – обеспечение безопасности жизни каждого. Гоббс ссылается на утверждение о том, что всё, делающееся против совести, оказывается грехом, и возражает – отличия между убеждениями разных людей могут привести к смуте – ибо каждый будет покоряться верховной власти, только если её повеления получат его одобрение. Таким образом, любое учение, утверждающее Бредская декларация (4 апреля 1660) // Хрестоматия по истории средних веков/ Под ред. Н.П. Грацианского и С.Д. Сказкина. – М.: Учпедгиз, 1938. – С. 267. 26 См.: Declaration of Indulgence of King James II, April 27, 1688. // English Historical Documents, 1660–1714. Edited by A. Browning. – London: Eyre&Spottiwoode, 1953. – P. 400. 25 20 греховность действий, производящихся против совести, оказывается учением, противоречащим гражданскому обществу27. В традиционной дихотомии универсальное–акциденция общественные и частные ценности разводятся по двум полюсам, приобретая дополнительные характеристики именно в соответствии с отнесением к тому или иному ориентиру. На стороне универсального оказывается публичное, общечеловеческое, санкционированное Богом, целое. На другом полюсе концентрируются частное, индивидуальное, случайное, конечное. Автоматически к этому списку прибавляется ценностная характеристика – второстепенное. Таким образом, человеку раннего нового времени была хорошо известна неповторимость индивидуальности, однако в общепринятой иерархии ценностей она оказывалась «во втором эшелоне». Чтобы понять ситуацию, достаточно отстраниться от современных оценочных характеристик, которыми мы подсознательно награждаем понятия индивидуальности, личности. Несмотря на признание частного второстепенным, никто не обманывался насчёт возможности сделать всех одинаковыми. Вероятно, именно это даёт возможность М. Фуко говорить об индивидуализации власти – она начинает оперировать не группами, а индивидами, осваивая возможность фиксировать наименьшие отклонения от нормы28. Тотальный контроль со стороны школы, церкви, полиции, административных органов – явление новоевропейское, возникновение которого обусловлено знанием об индивидуальной неповторимости каждого человека. Именно поэтому каждый человек должен отныне подлежать контролю как можно большего количества инстанций. Упомянутое распределение ценностных ориентиров начинает участвовать и в организации повседневной жизни человека XVII в., не требуя постоянного вмешательства властных механизмов. Строительство собственных ценностных ориентаций, которые не обесценивали бы индивидуального мировидения, но и позволяли бы его носителю оставаться членом общества, становится актуальным вопросом для человека, который уже успел оценить преимущества и опасности бытия индивидуальности. В раздумьях лорда Болингброка, одного из самых остроумных и откровенных мыслителей второй половины XVII – первой половины XVIII в., поиск точки равновесия между частным и публичным, наверное, достиг оптимума. Болингброк полагает, «…что общепринятые взгляды заслуживают должного уважения и что следует подчиняться установленным в обществе обычаям, даже если те и другие (как это часто бывает) бессмысленны и смешны. Но речь идёт лишь о внешнем подчинении, никоим образом не умаляющим свободу собственного Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Избранные произведения в 2 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1964. – С. 336–337. Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанный в Коллж де Франс в 1974–1975 учебном году. С. 69– 70. 27 28 21 суждения. Более того, наша обязанность подчиняться, хотя бы внешне, распространяется только на те взгляды и обычаи, которым нельзя противостоять или от которых нельзя отклониться, не причинив вреда или не нанеся оскорбления обществу»29. Как ни удивительно, Болингброк более ценным, нежели проявление индивидуальности, считает искусство притворства. Человек наполнен страстями (которые могут привести его только к бессмысленной гибели), но если он будет вести себя подобно умеренному и мудрому гражданину, это может изменить его природу к лучшему. Примером тому оказывается Сократ, который от природы был злым, но с помощью разума преобразил себя в образец добродетели30. Что может лучше продемонстрировать упомянутую второстепенность частных убеждений (здесь уже на уровне повседневного мышления), чем эти рассуждения о необходимости собственную индивидуальность спрятать как можно дальше? Итак, лучше притворяться порядочным человеком, нежели просто быть «самим собой» – последнее оказывается самым прямым путём к тому, чтобы продемонстрировать собственное несовершенство и, кроме того, к тому, чтобы закрыть себе возможность приблизиться к совершенству. Болингброк описывает именно то, что Мишель Фуко обозначил как феномен «исправимого индивида», признание существования которого приводит к жизни многочисленные механизмы корректировки и контроля31. Существует ещё один момент, который необходимо обозначить, разыскивая основания ранненовоевропейского взгляда на нормальное, терпимое и нетерпимое. Даже если человек усвоил все требования Болингброка, кто даст ему гарантию, что избранный им образец отвечает именно норме универсального? В средние века ориентироваться в системы ценностных координат предлагали за счёт находящегося в душе каждого человека естественного закона – его там поместил Бог, чтобы в сетях греховного мира человек мог отыскать ответ в собственной душе. Но в раннее новое время такой ориентир кажется несовершенным. Все люди разные, душа каждого наполнена страстями – если искать ответ в душе, можно принять за естественный закон именно страсть. А страстями руководствуются только звери. Человека отличает разум, и только с его помощью можно достичь усовершенствования собственной природы и природы общества. Уже цитированный Болингброк даже любовь к отечеству выводит из разума, а не из аффектов. Вот главная линия отторжения в раннее новое время – новая парадигма отбрасывает всё неразумное. Различение между нормой и отторгаемым в начале нового времени проходит по линии разумное–неразумное. Эту проблему подробно описывал М. Фуко в «Истории безумия», однако, отыскивая механизмы создания иерархических отношений между нормальным–терпимым–нетерпимым, мы находим дополнительные аспекты даже в Болингброк. Письма об изучении и пользе истории. – М.: Наука, 1978. С. 7. Там же, С. 24. 31 Фуко М. Ненормальные. С. 81 - 82. 29 30 22 проблеме различения разумного и неразумного. Поэтому, пользуясь выводами Фуко, позволю себе продвигаться вперед в согласии с логикой, подсказанной источниками, избранными для анализа. Итак, только разум даёт человеку возможность отличаться от зверя. Используя разум, человек пытается избавиться от зависимости от природного начала и, как ни удивительно, превращается в искусственное существо. Любой намёк на то, что не освящено разумом, необходимо уничтожить как угрозу утраты бдительности часовым людского общества. Вновь обращусь к Болингброку – с какой горячностью он набрасывается на увлечение легендами или сказками про фей, колдовство, волшебные приключения! Или, к примеру, на бессистемное накопление знаний, которые никогда не будут использованы. Просто нелепо, если не преступно тратить время на подобную ерунду! А почему бы человеку не использовать своё время, как ему вздумается, можем спросить мы с колокольни своего «постмодернистского» опыта? Потому, ответил бы Болингброк, что высшей целью людского существования является усовершенствование общечеловеческого опыта, человеческой природы. Своего рода само-селекция с помощью разума. Мы вновь вернулись к дихотомии Общего и Индивидуального – она существовала в период раннего нового времени и в виде примата целей усовершенствования человеческой природы и качества человеческого сообщества в целом. Наверное, именно поэтому в период раннего нового времени начинает настойчиво звучать тема «что скажут потомки». Возникает ощущение новой общности – общности разных поколений, соединённых общей историей. Примат этой общности воспроизводит уже упомянутый эффект – индивидуальное, внутреннее, зависимое от страстей человеческое существование оказывается достойным выведения на второй план ради усовершенствования человечества. В этой перспективе человеческие убеждения выступают синонимом неспособности человека придерживаться чувства меры – зацикленность на одной идее делает человека неспособным увидеть более широкую перспективу. Разумный же человек тем и отличается от невежды, что может за столом переговоров достичь понимания с другими разумными людьми. Не может быть, чтобы с помощью разумных доводов не было найдено решение любой проблемы. Человеку раннего нового времени казалось, что только неразумие становится источником конфликтов, что эти конфликты оказываются наследием тёмного прошлого, которое (наследие) со временем исчезнет. В этом контексте, к слову, возникает несколько аспектов отторжения, которые обычно остаются вне сферы внимания исследователей. В первую очередь хотелось бы остановиться на ненависти раннего нового времени к фанатизму в каком бы то ни было 23 его проявлении – требование умеренности действий не позволяло оправдать фанатика как человека, который руководствуется страстями, а не разумом. Одним из первых про приступы дурноты от существования фанатизма заявил Томас Гоббс. Болингброк с отвращением говорит, что единственным преимуществом религиозного фанатизма перед светским оказывается то, что его последствия более кровавы, а ненависть – более неуёмна32. Во времена, последовавшие за Славной революцией 1688 г. в Англии так называемый энтузиазм (феномен, который сегодня мы обозначили бы именно как фанатизм) осуждался в такой степени, что всякая декларация собственных убеждений (политических или религиозных) в публичной сфере начала восприниматься как проявление дурного тона. К концу XVII в. «энтузиазм» расценивался как единственная причина гражданской войны, и малейший намёк на вовлечение других в сферу собственных убеждений начал восприниматься как социальный грех. Вскоре Д. Юм поблагодарит правительство за то, что оно ставит фанатика и разбойника на одну доску. Степень нетерпимости увеличивается по мере уменьшения в объекте рассмотрения уровня подчинённости разуму. Возможно, именно это спровоцировало нагнетание какойто иррациональной (с современной точки зрения), звериной нетерпимости к определённым явлениям, которые, кажется, как раз должны были казаться человеку раннего нового времени детскими глупостями. Охота на ведьм, которая достигла высшего размаха как раз в начале нового времени, – лучший тому пример. И не нужно наступать на грабли, подставляемые наследием эпохи Просвещения – это не было «пережитком» тёмного прошлого, ибо «тёмное прошлое» про такие вещи и не догадывалось. Если мания поисков ведьм охватила Англию в меньшей мере по сравнению с остальной Европой, то наследники английской традиции на американской почве сбалансировали картину, явив миру в XVIII в. неведомый Европе размах аутодафе. Чтобы не впасть в самообман, что охота на ведьм как раз и есть то проявление фанатизма, против которого боролись мыслители раннего нового времени, вспомним Жана Бодена, который декларировал уважение к любому вероисповеданию и одновременно стяжал славу классика демонологии и видел ведьму едва ли ни в каждом тёмном углу. Возможно, прав Э. Ле Руа Ладюри, предполагая, что дьяволизация сверхъестественного на исходе средневековья спровоцировала охоту на ведьм: связь женщины со сверхъестественным признавалась всегда, что и сделало её в начале нового времени союзницей дьявола. Сверхъестественное так далеко от разума… И по мере отдаления от разума всё более жестоким становится отторжение. Как заметно изменяется наполнение инвариантных пространств метафорической схемы обжитого мира (нормальное–терпимое–нестерпимое) в момент перехода от 32 Болингброк. Ук. соч., С. 47. 24 средних веков к новому времени! То, что средневековье выводило в пространство вненормального, в своих предельных контурах детерминировалось нуждами существования христианского мира. Терпимым признавалось то, что было однозначно дурно, но помогало избежать ещё худших грехов. Нетерпимыми же оказывались феномены, своим существованием нарушавшие божественный порядок и не предотвращавшие ничего худшего – гомосексуализм как преступление против богоустановленного порядка (поэтому и терпима проституция – пусть это грех, но не извращение природы, и кто не может противостоять похоти, пусть лучше идёт в дом терпимости) и ересь как извращение божественного слова. В начале нового времени мотивация разграничения нормального, терпимого и нетерпимого остаётся сходной – терпим то, что позволяет избежать худшего, не терпим то, что угрожает основам мира. Но «классификация» объектов нового мира направляется уже другими ценностными ориентирами. В пространстве терпимого оказывается то, чему не могли дать места в этом мире средние века, – отличные от официальных религиозные взгляды. Решение предоставить разным религиозным убеждениям место под солнцем диктовалось стремлением избежать большего зла – столкновений между гражданами, угрожающих целостности и процветанию государства. Вектор расширения терпимости в этом направлении к XVIII в. захватил в Англии не только христианские деноминации, но и иудеев (ибо какая нам разница, во что они верят, если они вносят вклад в благосостояние государства). Объекты предельного отторжения определяются на той же основе – невозможно терпеть то, что угрожает целостности государства, а также того, кто не вносит вклад в благосостояние своего отечества. Раннее новое время оказывается тем кратким моментом в истории, когда классический объект терпимости – проституция – теряет санкцию на существование, оказываясь в пространстве «великого заточения». Ту же судьбу разделили маргиналы, занимавшиеся попрошайничеством или тем, что воспринималось как попрошайничество. Уровни отторжения эпоха начала нового времени распределяет в соответствии с близостью или отдалённостью от комплекса общего (государство, целостность человеческого сообщества, разум). Готовность терпеть парадигма эпохи демонстрирует по отношению к разнообразию признанием индивидуальных доминанты убеждений, интересов корригируемых общества. Сфера с помощью неcтерпимого разума наполняется феноменами неразумного, направляемого страстями, того, что в силу своей единичности и случайности угрожает целостности общего. Место христианского мира занимает государство. 25 О.Э. Душин (Санкт-Петербург) Совесть и пробабилизм в этике Джона Локка. Обратившись к философии морали Джона Локка, перед исследователем возникает серьезная проблема обоснования самого предмета осмысления. В анналах истории новоевропейской мысли его учение традиционно ассоциируется с сенсуализмом в теории познания и либерализмом в области политической философии, этика же не считается его приоритетной сферой философствования. На фоне выдающихся представителей философии морали Нового времени этика, как отмечает В. Виндельбанд, являлась областью, «меньше всего разработанной Локком».33 Однако в современной западноевропейской литературе имеется не только множество отдельных статей, но и специальные монографии, посвященные рассмотрению его нравственной философии.34 Этическое учение Джона Локка принципиально значимо для понимания его теории либерализма. Выступив в качестве родоначальника этого направления политической философии Нового времени, его подходы в сфере моральной рефлексии представляются в данном контексте достаточно интересными для современных изысканий. В чем-то они незыблемы и сегодня, но в определенных нюансах его мысли прослеживаются некоторые противоречия, поэтому необходимы уточнения. Уже первый самостоятельный шаг Локка в область философских исследований его ранняя работа «Опыты о законе природы» - имеет значение с точки зрения осмысления его этических предпочтений. По сути, это - его черновые записки к курсу лекций в Крайст-Черч колледже, относящиеся к шестидесятым годам и извлеченные из его архива. Многие ученые отмечают, что его главный философский трактат «Опыт о человеческом разумении» был инициирован этической проблематикой и содержит оригинальные построения в области философии морали. «Задачи Локка, - отмечает в этой связи Ричард Аарон, - были всегда практическими. Одна из целей его философского труда Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. Т. 1. От Возрождения до Канта. СПб, 1908, С. 219. Примечательно, что и в монографии советского исследователя Г.А. Заиченко «Джон Локк», нет отдельного раздела, посвященного моральной философии британца. См.: Заиченко Г.А. Джон Локк. М., 1988. Однако авторы работы «Краткая история этики» А.А. Гусейнов и Г. Иррлитц представили английского мыслителя в качестве приверженца сенсуалистической этики и натуралистического эвдемонизма, включив рассмотрение его теории в соответствующую главу. См.: Гуссейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. М., 1987, С. 370-377. 34 См.: Chappell V. Locke on the Freedom of the Will. // Locke’s Philosophy: Content and Context. Oxford: Oxford University Press, 1994; Colman J. John Locke’s Moral Philosophy. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1983; Lowe E.J. Necessity and Will in Locke’s Theory of Action. // History of Philosophical Quarterly 3 (1986), P. 149163; Mattern R. Moral Science and the Concept of Persons in Locke. // Philosophical Review 89 (1980), P. 24-45; Mendus S. Personal Identity and Moral Responsibility. // Locke Newsletter 9 (1978), P. 75-86; Mendus S. Locke: Toleration, Morality and Rationality. // John Locke: A Letter Concerning Toleration in Focus. London: Routledge, 1991, P. 147-162; Schneewind J.B. Locke’s moral philosophy. // The Cambridge Companion to Locke. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, P. 199-225; Schouls P.A. Reasoned Freedom: John Locke and the Enlightenment. Ithaca: Cornell University Press, 1992; Sprute J. John Lockes Konzeption der Ethik. // Studia Leibnitiana 17 (1985), S. 127-142; Vienne J.-M. Malebranche and Locke: The Theory of Moral Choice, a Neglected Theme. // Nicolas Malebranche: His Philosophical Critics and Successors. Assen: Van Gorcum, 1991, P. 94-108. 33 26 состояла в том, чтобы установить доступно ли человеку моральное знание. «Опыты» сформировались в беседе между друзьями о «принципах моральности и откровенной религии», и ясно, что один из самых важных выводов работы, на взгляд ее автора, заключался в том, что точная наука морали возможна. Во всех его трудах Локк принимал в качестве фундаментального принципа постулат, что человек знает достаточно для того, чтобы жить добродетельной и праведной жизнью, если он захочет. Его способности вполне адекватны для морального познания. Однако моральное знание обычного человека, хотя и достаточно для его потребностей, не точное. И вопросы, которые должны быть поставлены здесь, таковы: возможна ли наука о морали, сопоставимая с математикой; можно ли построить необходимую незыблемую истинную систему морали. «Опыт» дает утвердительный ответ. Наука морали возможна». 35 В данном контексте примечательным выглядит тот факт, что классический представитель новоевропейского эмпиризма, как и рационалист Бенедикт Спиноза, рассматривал этику в качестве «настоящей науки», которая составляет «задачу человеческого рода вообще»,36 и сопоставлял ее при этом с математикой. Для него этика, подобно математике, являлась отвлеченной дедуктивной наукой, но менее достоверной, так как нравственные идеи, по своему существу, более сложные. Такого рода сложные составные идеи подчас обладают единственным репрезентирующим символом, которым является слово, поэтому в сфере рассуждений о нравственности велика опасность впасть в абстрактную игру в слова. Как и в математике, в философии морали исследуется взаимосвязь между идеями, их соответствие между собой вне зависимости от опыта реального мира. Вопросы нравственности решаются не в перспективе существующего положения дел, не в связи с тем, как они реализуются в действительности, а обладают собственной идейной самостоятельностью. Их самодостаточность обусловливается тем, что они имеют предписывающий характер. «Если в умозрении, т.е. в идее, верно то, что убийство заслуживает смертной казни, то это будет так же верно, - разъясняет свою позицию Локк, - и в действительности для всякого действия, сообразного с идеей убийства». 37 И все же британский философ сохраняет строгую приверженность сенсуализму в этической теории, выступая в роли своеобразного alter Ego новоевропейского рационализма. «Если Локк сделал меньше, чем другие для того, чтобы представить детализированную систему естественного закона, то он посвятил гораздо больше внимания, чем они, тому, чтобы разработать эпистемологию морального закона», указывает Д.Б. Шнивинд, автор статьи «Моральная философия Локка». 38 Исходная 35 Aaron R.I. John Locke. Oxford, 1965, P. 256. Джон Локк. Сочинения: в 3-х тт. Т. 2, М., 1985, С. 125. 37 Там же, С. 43-44. 38 Schneewind J.B. Locke’s moral philosophy. // The Cambridge Companion to Locke. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, P. 219. 36 27 установка его этической теории - это жесткий отказ от всех естественных диспозиций и врожденных принципов в рамках нравственного самосознания индивида. Как и в теории познания, где он, как известно, отстаивал эпистемологический принцип «tabula rasa», его главным положением в сфере регуляции практической жизнедеятельности человека являлся постулат об изначальной индифференции нашего сознания в области морали. Согласно британскому философу, у нас нет каких-либо особых прирожденных познавательных органов или способностей для освоения моральных норм и правил. «Его точка зрения, - отмечает исследователь, - была таковой, что наилучший способ сделать моральное знание естественным состоял в том, чтобы показать, что оно объяснимо таким же образом, каким является обычное эмпирическое знание. Это устойчиво соединило бы его с научным и математическим знанием и с тем знанием, которое, как думал Локк, мы могли бы иметь о Боге вне Откровения. Мы могли бы объяснить моральные понятия, апеллируя к информации, полученной чувствами, и достичь моральных заключений, показав как идеи, включенные в нравственные убеждения, необходимо связаны одна с другой».39 Английский мыслитель полагал, что Бог дал нам разум, достаточный для того, чтобы постичь все необходимые знания о морали, оставаясь такими, каковы мы есть. Всякое наше знание о нравственности имеет естественное происхождение и, по сути, является гедонистическим по своим основаниям. Наши идеи о благе и зле производны от наших идей об удовольствии и страдании: благо есть то, что причиняет удовольствие, зло - то, что причиняет страдание. При этом Локк не был примитивным гедонистом, так как его понимание наслаждения заключалось, прежде всего, в признании умственного удовольствия (вкушение вкусно приготовленного мяса вскоре забудется, а память о добрых делах сохранится на многие годы). Рассуждая о принципах нравственности, британский философ не мог избежать понятия совести. Как известно, слово «совесть» (; syneidesis; conscientia; synderesis) греческого происхождения и восходит к , что означает «я знаю вместе с». Это предполагает знание о другой личности, которое может быть использовано в доказательство «за» или «против» неё. Отсюда близка к значению «давать показания, свидетельствовать». Латинское conscientia является транслитерацией syneidesis. Экспликация данного понятия в истории европейской культуры была инициирована опытом христианской мысли. Измерение внутренних глубин человеческой личности, оказавшееся столь значимым в практике интроспекции в эпоху Средних веков, стало важнейшей проблемой христианской формы философствования. Общей основой для средневековых споров о статусе совести послужила метафорическая интерпретация Иеронима, представленная в его работе «Комментарии на книгу пророка Иезекииля». 39 Ibid. 28 Вслед за библейским текстом (Иез. 1; 4-14), он описывает четыре удивительных существа с видом человека, льва, тельца и орла, и каждое аллегорически истолковывает. Трём первым образам соответствуют разумная, яростная и вожделеющая части души человека, что полностью согласно с традиционным платоновским делением («Государство» 4, 436B441B), а четвёртая, довлеющая над всеми остальными, есть совесть. При этом Иероним считал, что «искра совести» неуничтожима даже в груди Каина. Однако при переписывании его трактата в XII веке произошла ошибка, когда вместо syneidesis было написано synderesis, что впоследствии сыграло примечательную роль. Таким образом, стало возможным отделить понятие «совесть» от synderesis, которое было отождествлено с «искрой совести» Иеронима. В лексический оборот схоластики термин synderesis ввёл Пьер из Пуатье. Он, как и другие средневековые мыслители считал, что позитивное действие совести может быть утрачено, а synderesis никогда, что сохраняет даже для самого последнего грешника надежду на возможность раскаяния и преодоления зла. Весомое влияние в истории схоластического дискурса приобрел трактат «Сентенции» Петра Ломбардского, который поставил вопрос об интерпретации совести, но не давал ясных и однозначных ответов. Первый трактат, который установил четкий образец для последующих авторов, был написан Филиппом Канцлером около 1235 года. Его главное сочинение «Сумма о благе», куда вошёл и «Трактат о совести», пользовалось широкой популярностью в тринадцатом столетии. Уже Филипп строго разграничивает совесть и synderesis, поясняя, что первая, имеющая лишь совещательный характер и относящаяся к применению правил, способна к ошибке, тогда как второй, предписывающий эти правила, никогда. При чём synderesis выступает в качестве «внутреннего света» разума и всегда направлен на благо, являясь специфической особенностью человека, исключительной и единственно истинной, сохранившейся после грехопадения Адама, ибо даже сам разум через действие воображения ошибается. В ответ на аргумент о еретиках, упорствующих в своих заблуждениях и, значит, не испытывающих воздействия synderesis, он говорил, что в них парализована данная способность в силу недостатка веры, которая является основой всякого блага. И всё же synderesis может «заволакиваться» грехом, когда совесть руководствуется желаниями низшей части души, именно тогда душа лишается дара мудрости, который связан с synderesis, но даже при этом она не утрачивает его полностью, так как и еретики В этической теории Локка совесть - это наше собственное суждение о нравственной правильности или порочности наших действий.40 В таком понимании он не вышел принципиальным образом за границы средневековых схоластических учений, так как Фома Аквинский, например, также рассматривал акт совести в качестве процедуры 40 См.: Джон Локк. Ук. соч. Т. 1, М., 1985, С. 119. 29 суждения по поводу осуществления и последствий наших действий. Но для Локка она абсолютно не имеет никаких заранее заданных нормативов и не является врожденным принципом. Этим он преодолевал не только характерное для рационализма Нового времени признание врожденного статуса нравственных постулатов, но и традиционное для схоластического дискурса понимание совести через призму synderesis как своеобразного реликта до-греховного состояния человека. Как известно, он аргументирует свою позицию, обращая внимание на то, что многочисленные преступления совершаются людьми без каких-либо угрызений совести. Он, в частности, не побоялся прийти в противоречие с библейским текстом (2 Римл. 2; 14-15), на что указывали его современники и оппоненты. В этом смысле личность для Локка свободна, социально автономна, она ничем не предопределена заранее, мы действуем по собственному выбору. Наши действия ограничены только незыблемыми законами природы. Мы сами решаем прыгнуть или не прыгнуть с высокого обрыва. Однако мы не можем прыгнуть и полететь, ибо не в наших силах нарушить закон земного притяжения. Кроме того, свобода для британского философа - это удел целостного человека, всей нашей личности, а не только воли. Воля же есть сила ума или сила хотения, которая собственно решает совершать или не совершать определенное действие. Она предстает в роли своеобразного «беспокойства» ума по поводу недостающего блага, к которому стремится разум. Но «…решение воли, подчеркивает Локк, - следует непосредственно за суждением разума». 41 Уже в его первой работе «Опыты о законе природы» утверждается подобное признание приоритета рассудка над волей. «Познание предшествует согласию», - пишет он в своих черновиках.42 Таким образом, в этической концепции Локка разумное суждение является и критерием оценки результатов действия, и необходимым условием выработки соответствующей стратегии поведения, и основанием процедуры морального акта. Приостановка действия дает нам возможность для обдумывания всех вероятных последствий поступка, что задает соответствующие горизонты реализации теории пробабилизма в учении британца. Вероятностный характер наших суждений в сфере морали определяется тем, что мы не способны познать до конца результаты наших действий и вычислить все возможные последствия. В данной области мы часто обладаем лишь видимостью соответствия на основании не вполне достоверных доводов. Однако и здесь существуют аподиктические суждения, не вызывающие сомнений. В качестве примера у Локка можно найти следующие высказывания: «где нет собственности, там нет и несправедливости»; «никакое государство не дает полной свободы»..43 Высшей достоверностью в концепции английского философа обладают простые свидетельства Там же, С. 334. Джон Локк. Ук. соч. Т. 3, М., 1988, С. 35. 43 Джон Локк. Ук. соч. Т. 2, М., 1985, С. 27. 41 42 30 Откровения. По своим нравственным основаниям христианство для него - религия простая и понятная. Локк обращает внимание на то, что вера по-своему дополняет разум: «…вера дала решение там, где разум оказался недостаточным»44. С другой стороны, он строго ограничивает значение религиозного чувства. Разум должен быть уверен, что Откровение является истинным Богооткровением, а не религиозным исступлением или мистическим видением. Оно также не должно быть навязано сложившейся привычкой веры, воспитанием, господствующими традициями. Согласно его пониманию, разум совпадает с естественным Откровением: «разум - это естественное Откровение, … Откровение - это естественный разум»45. И все же ключевым критерием наших моральных суждений выступает нравственный закон. «Нравственное добро и зло есть поэтому лишь согласие или несогласие наших сознательных действий с некоторым законом, по которому, согласно воле и власти законодателя, нам делают добро или зло», - утверждает Локк46. В этой связи и совесть можно рассматривать в качестве суждения о наших действиях согласно с моральным законом. Поступок будет добродетельным или злым в зависимости от того, согласуется ли он с законом. Согласие с законом обеспечивает нам удовольствие в виде соответствующей награды, тогда как за противоправные акты мы подвергаемся наказаниям и претерпеваем определенные страдания. Философ выделяет три вида законов: Божественный, гражданский и общественного мнения или доброго имени. Божественный закон устанавливает меру греха и исполнения долга, обретается же либо с помощью разума, либо путем Откровения. Гражданский закон есть мерило преступления и невиновности, общественного мнения - добродетели и порока. Добродетельный характер поведения приносит реальную пользу для законопослушных граждан, так как обеспечивает удовольствие. Повеления власти, тем самым, выступают в качестве нравственного долга: «…это то, чего требует долг, …что каждый обязан совершать или не совершать по повелению более высокой власти».47 Таким образом, в этической теории Локка наши обязанности возникают не из чувства самосохранения, как у Гоббса, а из воли другого (законодателя), которую гражданин осознанно готов исполнять не только в силу страха перед будущим возможным наказанием, но и в связи с пониманием законного статуса этого другого. «Нормы происходят только из воли, но единственные идеи, которые действенны для нашего понимания законодательной деятельности воли, являются такими, как власть и санкция. Эмпирическая эпистемология отвергает какой-либо иной источник нормативной силы», - подчеркивает Д.Б. Шнивинд48. Повиновение власти приобретает Там же, С. 175. Там же, С. 178. 46 Джон Локк. Ук. соч. Т. 1, С. 406. 47 Джон Локк. Ук. соч. Т. 3, С. 37. 48 Schneewind J.B. Op. cit., P. 221. 44 45 31 значение своего рода Божественного обязательства. «…обязательство накладывается волей каждого другого человека, занимающего более высокое положение, например монарха или родителя, которой мы подчиняемся по божественной воле. …мы обязаны подчиняться им потому, что так желает Бог и так повелевает нам, и, следовательно, повинуясь им, мы повинуемся также и Богу», - утверждает Локк. Тем самым, в его теории происходит смешение сферы легитимности и морали, государственного закона и общественной нравственности, против чего, как известно, выступил И. Кант. Гражданин и человек как моральный субъект совмещаются в одном измерении, у личности не остается возможности для рефлексии власти, для осмысления собственной отстраненной позиции по отношению к государству. Подобная концепция британского мыслителя открывала характерную для становления буржуазной новоевропейской культуры перспективу освобождения личности в качестве субъекта исключительно самостоятельных решений и предпочтений в выборе нравственных стратегий поведения, одновременно возлагая на нее предельно возможную персональную ответственность перед государством и обществом за свои действия. Если человек ничем не предопределен в сути своей нравственной природы, то он несет абсолютное бремя суда за последствия своих поступков. В этом смысле можно полностью согласиться с высказыванием Э.Ю. Соловьева о том, что «естественное право» Локка «формулировало новый политико-юридический идеал: идеал общества, в котором каждый человек с самого начала признается в качестве индепендента-труженика-собственника».49 Но у данной интерпретации есть своя “dark side of the Moon”. С точки зрения понимания этой «темной» обратной стороны получалось так, что, если человек не способен добиться успеха и процветания в своих трудах, если он беден и не включен в сообщество преуспевающих собственников, то в подобном положении виноват он сам, и, более того, он достоин наказания, государство имеет законное право регламентировать существование такого «аутсайдера». Отсюда следовал суровый нравственный ригоризм этической теории Локка в отношении к бедности как таковой и конкретно ко всем «пауперам». Бедность, с его точки зрения, уже в силу своего социального статуса достойна преследования, так как причастность к ней потенциально создает основу для преступления. Причина бедности, согласно его пониманию, есть «не что иное, как ослабление дисциплины и испорченность нравов». 50 Пауперы в этом смысле если не напрямую, то в возможности являются преступниками. Поэтому пространство их жизнедеятельности должно быть строго ограничено и регламентировано соответствующими нормами закона. Таким образом, с одной стороны, Локк как бы Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. Очерки по истории философии и культуры. М., 1991, С. 165. Tully J. Governing conduct. // Conscience and Casuistry in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1989, P. 66. 49 50 32 освобождает человека от всех превратных нравственных постулатов прошлого, от пережитков феодализма и средневековой схоластики с ее теориями synderesis’а и совести, с другой стороны, он закладывает фундамент для экспликации суровых дисциплинарных пространств государственной власти. При этом он разработал и предложил очень строгие законы, направленные против бродяжничества. С 1660 по 1670 годы он выдвинул более ста различных дисциплинарных уложений, которые пусть и не стали общенациональными, но большинство из них почти сразу же применялись в его родном Бристоле. Его цель, как подчеркивает исследователь Д. Тулли, состояла в том, чтобы «использовать закон, флот, телесные наказания, угрозы божественного воздаяния, экономические стимулы и повторяющийся труд с трех лет и старше для того, чтобы создать индивидуальность, которая приобретет привычку к послушанию и полезному труду».51 Главная стратегия в деле перевоспитания пауперов, по Локку, заключалась в том, чтобы заставить их работать, так как добродетель связана с трудом, а порок - с бездельем. Для реализации данной программы предполагалось создавать специальные исправительные учреждения, работные дома, применять процедуры контроля перемещения и депортации, вплоть до ссылки на работу на королевском флоте. Все действия власти при этом приобретают характер подлинной заботы о благе общества, бедняки не имеют права на протест, их собственная естественная свобода, их неотъемлемые человеческие права вполне законно регламентируются суровыми дисциплинарными процедурами. Они даже должны испытывать своего рода удовольствие от осознания того, что власть предпринимает по отношению к ним подобные правомочные мероприятия. Конечно, выдающийся британский философ сделал очень много для истории новоевропейской мысли. В этом контексте его заслуги необходимо рассматривать в перспективе его собственного времени, в горизонте той либеральной политической идеологии, которая привнесла новые ценности буржуазного духа. Они были направлены против пережитков феодализма с его приоритетом аристократии крови, на утверждение принципов индивидуализма, образа активного, предприимчивого, способного самостоятельно решать свою судьбу человека и гражданина. При этом в силу своих приоритетов и главных моральных интенций Локк отстаивал систему жестких дисциплинарных пространств власти, он был против расхлябанности, безделья, попрошайничества, пауперизма, что воспринималось в качестве необходимого момента в рамках средневекового общества. Новый дух раннего буржуазного мира отнюдь не отличался мягкотелостью и христианским милосердием. Примечательным представляется тот факт, что идеи Локка получили своеобразное преломление в современных 51 Ibid, P. 68. 33 политологических дискуссиях. В частности, в рамках разночтений понимания либерализма между американскими философами Джоном Ролзом и Робертом Нозиком, одним, как полагают исследователи, из новейших приемников Локка. Суть дилеммы очень близка позиции британского мыслителя Нового времени. Один утверждает необходимость социального регулирования и уравнивания возможностей. Другой отстаивает приоритет равноправия и предельной независимости людей в качестве субъектов регламентации со стороны государства. Проблема, действительно, имеет актуальное политическое значение и содержит в себе мощную этическую подоплеку: либо мы признаем право бедных и асоциальных людей на государственную поддержку и помощь, предполагая соответствующие налоги, либо мы даем предельно возможную свободу, ограничивая вмешательство государства. Первая позиция подразумевает наличие совести или нравственного чувства взаимопомощи у преуспевающих граждан, но она ведет, с одной стороны, к усилению государства, к бюрократизации, к коррупции, с другой стороны, стимулирует иждивенческие настроения среди пауперов. Вторая позиция способствует активности и самостоятельности членов общества, но оставляет за бортом социальной поддержки всех аутсайдеров. Таковы социально-этические альтернативы теории либерализма, которые уже были очерчены Локком. 34 И.С. Кауфман (Санкт-Петербург) Этика в классификации наук у Декарта и Спинозы Читая философские трактаты мыслителей Нового Времени нельзя не заметить изменений, происходящих в осмыслении этических вопросов. Несомненно, эти изменения связаны как с реформой рациональности, свершившейся благодаря научной революции, так и с преобразованиями в социальном и культурном порядках европейской цивилизации в целом. Однако изменения, имевшие место при переходе от Средних веков к Новому времени (или «Раннему Модерну») и касающиеся статуса этики, были связаны с рядом микроизменений. Если мы посмотрим, какое место занимает этика в классификации наук в схоластических университетских учебниках, то, в целом, оно остается прежним. Трансформации этического и морального дискурса связаны, в своих существенных моментах, с «возрождением» и влиянием стоицизма, оказавшимся крайне востребованным для самых различных модусов дискурса модерна – от обоснования толерантности до правовых и экономических концепций. Другим истоком изменений в этике было место этики в классификациях наук, предложенных в ключевых текстах новоевропейской философии. Новоевропейская философия возникает на фоне процесса переосмысления взаимовлияния и взаимоопределения между философией (в более точном смысле мы, разумеется, должны говорить о метафизике) и целым рядом наук; в первую очередь, речь идет о таких науках как математика и механика, однако не менее важным было и взаимовлияние между метафизикой и теологией, психологией, этикой и политикой.52 Важнейшее место в трансформации этики занимают учения Декарта и Спинозы. Связь средневековой философии с концепциями Декарта и Спинозы изучается уже, наверное, более полутораста лет и количество работ на эту тему давно могло бы сформировать отдельную библиотеку. На мой взгляд, связь учений Декарта и Спинозы со средневековой философией проявляется и в этике, точнее в соотношении метафизики и этики. Основное произведение Спинозы названо Этика, т.е. наукой о человеческом поведении, а Богословско-Политический Трактат, кстати, превосходящий Этику по объему и многими рассматриваемый как столь же значимое произведение, столь же важное для Спинозы, вообще посвящен политике (части практической философии), более того политике, одновременно автономной, но и требующей строгих и точных методов Многие (а каком-то смысле все) из названных наук в семнадцатом и восемнадцатом столетии очень часто рассматривались как разделы «естествознания». Разумеется, в большей степени это касалось психологии, моральной философии, политики – например в виде теорий, что возникновение и развитие наций и государств обусловлено исключительно естественными, природными причинами. Но это касалось и теологии, что отразилось в возникновении и разнообразном использовании термина «физико-теология». Но даже если все указанные науки и включались в «естествознание» (границы которого были достаточно неопределенными), то это отнюдь не исключает понимания самими мыслителями различия (демаркации) между этикой и физикой, или между психологией и механикой. Даже методы могут использоваться схожие – это вовсе не означает, что отсутствовали сознание их различия. 52 35 поиска баланса между различными интересами, между, по сути, сторонами конфликта. Что касается Этики, то это вообще очень редкий случай: трактат по онтологии, теории познания и психологии, вообще сочинение по философии как таковой, назван именем одной из частей философии, причем практической, деятельной части. Возможность такого отождествления содержится в принципе у Платона, но можно скорее говорить о традиции, условно обозначаемой как «неоплатонизм», столь значимой для средневековой философии.53 При этом хорошо известна специфика арабского и еврейского неоплатонизма – сближение этики и теологии, вообще приоритет этики (деятельности) над верой (точнее дел над верой – поэтому принцип sola fide для еврейской традиции представляется несколько некорректным) и одновременно сближение этики и познания, понимание знания как самопознания и самоочищения.54 Более того, необходимо помнить, что средневековая мысль может быть понята как «теоцентризм» в том смысле, что в ней требуется тождество блага и истины, то есть благо понимается как основание мышления. Близость подобных тем философии Спинозе несомненна,55 однако сопоставление познания и самосовершенствования (самоочищения56) характерно для некоторых непосредственных современников и предшественников Спинозы, например Арнольда Гейлинкса и ближайшего друга Людовика Мейера, усвоивших многие идеи и выводы Декарта57. В сущности, связь метафизики и этики достаточно разработана у Декарта. Если мы обратимся к его философии, то, на первый взгляд, для него, разумеется, интерес к этике достаточно второстепенен.58 Тем не менее, некоторые рассуждения Декарта на эту тему 53 Rudavsky, T. Matter, mind and hylomorphism in Ibn Gabirol and Spinoza // H. Lagerlund (ed.), Forming the Mind. Essays on the Internal Senses and the Mind/Body Problem from Avicenna to the Medical Enlightenment. P. 207-235. 54 Так, Вулфсон приводит примеры средневековых классификаций наук, в коих этика ставится выше метафизики: «Ихван Аль-Афа, Аль-Мукамма и Бахья Ибн Пакуда рассматривают этику как часть теологии. Более того, иногда пересматривается и соотносительное значение этики и метафизики – … метафизика становится предварением этики… В его собственном этическом трактате, Обязательства сердца, Бахья дает конкретный пример, помещая исследование богословских вопросов в начале книги в качестве некоего введения к последующему изучению проблем этики» – Wolfson, H. A. The philosophy of Spinoza. Harvard University Press, vol. I, p. 38. 55 Сравнение логики (методологии) с медициной, название самого раннего сочинения – Трактат об очищении интеллекта.. 56 Так Гудмен истолковывает emendatio: «emendatio означает очищение и исправление; а Цицерон говорит «tota civitas emendari et corrigari solet continentia principium» (Законы 3.13). Разумеется, данное истолкование не является единственным, однако характерно, что оно появляется в контексте сопоставления Спинозы со средневековой еврейской философией. 57 Мейер и Гейлинкс, опубликовавший в 1665 году Этику, являются примерами (по мнению ван Бунге достаточно характерными) того, как «голландские мыслители XVII века соединяли свой традиционный стоицизм с уроками, почерпнутыми из моральной психологии Декарта» – van Bunge, W. Spinoza’s Jewish identity and use of context // Studia Spinozana, S. Nadler; M. Walther, E. Yakira (eds.), vol. 13: Spinoza and Jewish Identity, p. 111. Также см. Aalderink, M. Spinoza and Geulincx on the Human Condition, Passions, and Love // Studia Spinozana, Wiep van Bunge (ed.), vol. 15: Spinoza and Dutch Cartesianism. Wuerzburg: Koenigshausen & Neumann, 2006, p. 67-87 и Van Ruler, H. Geulincx and Spinoza: Books, Backgrounds and Biographies // Ibid., p. 89-106. 58 Тем не менее, некий переводчик Декарта составил учебник по этике из фрагментов трактатов и писем Декарта: Этика, содержащая метод и краткое изложение, к пользе учащегося юношества (Ethice: In 36 крайне важны. Известно его высказывание (из письма к Пико, являющегося одновременно предисловием к французскому переводу Принципов Философии), что «вся философия подобна дереву, корни которого – метафизика, ствол – физика, а ветви, исходящие от этого ствола, – все прочие науки, сводящиеся к трем главным: медицине, механике и этике. Последнюю я считаю высочайшей и совершеннейшей наукой, которая предполагает полное знание других наук и является последней ступенью к высшей мудрости».59 Здесь этика следует из метафизики и физики, что кажется соответствующим (особенно если подчеркивать, что именно физика – несомненно новая, механицистская, а отнюдь не аристотелевская – является фундаментом этики) основным идеям новой философии.60 Однако перед этим Декарт говорит немного другое: «тот, кто обладает только обычным и несовершенным знанием, которое можно приобрести посредством четырех вышеуказанных способов, должен прежде всего составить себе правила морали, достаточные для руководства в житейских делах, ибо это не терпит промедления и нашей первой заботой должна быть правильная жизнь»; лишь затем Декарт предлагает заняться логикой (но не школьной логикой, а истинной логикой, т.е. методом), математикой, метафизикой, физикой и далее «должно также по отдельности исследовать природу растений, животных, а особенно человека, чтобы быть в состоянии приобретать прочие полезные для него знания»,61 т.е. этика стоит в начале и в основе философии. Более того, следует, что этика у Декарта, в духе Гегеля, есть начало и завершение философии. Если мы обратимся к взглядам Спинозы, то помимо известного сопоставления метода Спинозы, геометрического порядка изложения и взглядов его предшественников и современников на природу математики и математического метода можно отметить связь метода с другой наукой – медициной. Напомним, что в письме 59 Чирнхаус (сам профессиональный математик) сообщает Спинозе: «Вы указали мне метод, которым Вы пользуетесь для нахождения истин, Вам еще не известных. Из своего опыта я нахожу, что метод этот превосходен и в то же время весьма легок, насколько я его понимаю. Могу сказать, что его одного было уже достаточно, чтобы сильно продвинуть меня в математике». Эта ситуация напоминает историю из первых писем – в письме 8 ученик и последователь Спинозы де Фрис также говорит об обучении: «Я прохожу теперь курс анатомии, дошел уже почти до половины; окончив его, примусь за химию и таким methodum et compendium, gratia studiosae juventutis, concinnata). Этот учебник был издан в Лондоне в 1685 г. Трактат состоял из трех частей – «Часть первая о величайшем благе, счастье и свободной воле: часть вторая – о страстях; и часть третья – о любви… Часть первая состояла из латинского перевода писем Декарта к Елизавете; часть вторая представляла сокращение трех частей латинского периода Страстей души; часть третья состояла из переводов на латинский писем Декарта к Шаню и Елизавете» – Ariew, R. Descartes, the First Cartesians, and Logic, p. 242 и note 6. 59 Декарт, Р. Сочинения в двух томах. М.: «Мысль», 1989-1994. Т. I, с. 309. 60 Хотя и это положение не представляется чем-то самоочевидным – «Что означает построение морали как науки, следующей из физики? Как нам понимать утверждение, что медицина, механика и этика являются высшими науками?» – Ariew R. Descartes and the tree of knowledge // Synthese, Vol. 92 (1992), p. 102. 61 Декарт, Р. Там же. 37 образом пройду — по Вашему совету — всю медицину». Де Фрис был одним из первых читателей Этики, поэтому он был хорошо осведомлен в философии Спинозы. Медицина, назначение коей – забота о человеческом теле – в целом в европейской философской и научной традиции может быть истолкована как часть этики. Ее задача – усовершенствование и воспитание тела. Не попытался ли де Фрис использовать метод Спинозы как облегчающий продвижение в изучении медицины (подобно Чирнхаусу в математике)? Сам Спиноза сравнивает логику и медицину опосредованно: «Перехожу, наконец, к другой части этики, предмет которой составляет способ или путь, ведущий к свободе. Таким образом, я буду говорить в ней о могуществе разума (Ratio) и покажу, какова его сила над аффектами и затем – в чем состоит свобода или блаженство души: мы увидим из этого, насколько мудрый могущественнее невежды. До того же, каким образом и каким путем должен быть разум (Intellectus) совершенствуем и, затем, какие заботы должно прилагать к телу, дабы оно могло правильно совершать свои отправления, здесь нет дела, ибо первое составляет предмет логики, второе - медицины». Таким образом, логика имеет этическую цель, пусть (до определенного момента) достаточно ограниченную. Наконец это подтверждает логический трактат Чирнхауса «Медицина духа», вышедший в 1687 году, в коем логика предстает уже как подлинная реформа всей человеческой деятельности (эту целостность Чирнхаус вслед за Спинозой называл «Дух», Mens). 38 В. В. Лазарев (Москва) О переходе от ренессансного стиля мышления к новоевропейскому. 1. Начало философии Нового времени связано с возникновением того способа мышления, который появился в ХУП веке в учении Рене Декарта во Франции, Бенедикта Спинозы в Нидерландах, Томаса Гоббса и Джона Локка в Англии, Готфрида Лейбница в Германии. В рационализме Рене Декарта (1596 – 1650) выпукло очерчен тот исходный пункт, которым определено дальнейшее развитие. Это – научно-философский метод Декарта, утверждавшийся в естествознании в трудах Галилея, Кеплера, Ньютона. В философии эмпиризма такое воззрение было возвещено Фрэнсисом Бэконом (1561 – 1626) и впервые обрело строгую теоретическую оформленность в картезианском учении о методе. В природе философии Декарта имеет смысл отличать источник, из которого она проистекает, от самой ее сущности. Исследователи не без основания выделяют в содержании мышления гуманистов эпохи Возрождения ряд таких существенных сторон, которые с равным успехом могут быть отнесены и к содержанию идей ХУП века (и даже к Просвещению ХУШ в.). До известных пределов это удовлетворяет потребностям понимания, именно, покуда речь идет о предмете познания, а не о способе постижения. В идейном материале слишком очевидна непосредственная преемственность. Переход же от одной формы мышления к другой, превращение одной в другую, напротив, требует значительных усилий и для осуществления его, и для постижения, ибо здесь встречаются прежде всего расхождения, а не сходства, не преемственность, а разрыв. В самом деле, почему Декарт наотрез отказывается читать предложенную ему «Метафизику» Томмазо Кампанеллы, в которой он мог бы найти много созвучного тому, о чем размышлял сам? Два мыслителя обитают в весьма несходных мирах, принадлежат различным эпохам. Современники в хронологическом смысле, они не являются современниками в культурно-историческом смысле и имеют совершенно несходные, даже несовместимые друг с другом представления о научности, о философствовании. Неприятие ренессансного способа понимания – таково первоначальное к нему отношение новоевропейских мыслителей, сменяющееся затем попытками положительно освоить плодотворные его идеи в новой системе знания и понимания. Извлечение этих идей сопровождается очищением их, освобождением от старой формы. К ней самой по себе нет никакого интереса. Так, Лаплас стремится отделить астрономические изыскания Кеплера от «химерических идей», которыми тот часто сопровождал идеи собственно 39 научные (уже в новоевропейском смысле научности). Объяснение Кеплером расположения тел солнечной системы законами музыкальной гармонии, смешение истинных открытий с плодами воображения и пифагорейскими спекуляциями, почитаемыми им «душой и жизнью» астрономии, - вот что, по мнению Лапласа, отталкивало таких умов как Декарт и Галилей от кеплеровских прозрений и открытий. Столетия обработки, ассимиляции и систематизации идей Возрождения сделали эту эпоху более близкой нам и, как кажется, понятной. Появилось даже представление о постепенном перерастании ренессансной философии в новоевропейскую. Такой взгляд основывается на обычае уяснять смысл первой не в ее собственном культурологическом контексте, не в ее собственных понятиях, а в контексте и в понятиях, сформированных уже в Новое время, в системе пришедших на смену ренессансным – более разработанных и логически стройных – позднейших интеллектуальных построений. После негативистского отношения к ренессансному строю сознания появилась, таким образом, еще одна крайность: игнорировать своеобразие ренессансной мысли, судить о ней в отвлечении от формы этой мысли, по вылущенному из нее содержанию некоторых положительно воспринятых от нее идей, уже обработанных в современном духе, модернизированных. Это оказывается по существу сведением двух форм мышления к одной, современной. Преследуя цель понять ренессансную мысль в ее своеобразии и самобытности, проникнуть во внутреннюю логику этого мышления, правильно будет обращать внимание прежде всего не на предметы размышлений возрожденцев, а на их способ видения, - не на то, о чем они мыслят и рассуждают, а на то, как мыслят и рассуждают. 2. Раскрепощению сознания, его освобождению от средневековых догм и догматического способа мышления сопутствовали в эпоху Ренессанса открытия многих новых сфер для философского анализа, проникновение в которые прежде считалось совершенно недопустимым. Сферу возможностей для человеческих дерзаний, как безусловно открытую нашему уму, обосновывает Николай Кузанский: в абсолютной возможности все возможно, допустимы даже противоположные друг другу суждения, всякая истина может оспариваться, все утверждения являются лишь предположениями, все они имеют право на существование, и всевозможные мнения могут согласовываться. Ренессансная форма мысли оказалась открытой всему и допускала в себе пересечение и сочетание всего, что угодно: всё существует в сопряжениях со всем прочим и все познается в сравнениях, по сходствам и различиям. Т. Кампанелла развивает целую теорию аналогизирующего мышления. Постижение мира по заключенным в нем подобиям 40 подчас приводит к неожиданным и поразительным предвосхищениям позднейших открытий. Выявить сколько-нибудь стройную рациональную систему в воззрениях представителей эпохи Возрождения еще никому не удавалось, и по новоевропейским критериям такая Недостаточность ренессансном форма мысли расценивалась концептуально-логической философствовании как эклектическая, оформленности интуитивно-художественной хаотическая. восполнялась «доработкой». в Груз непроверенных знаний у мыслителей этой эпохи растет с расширением их познавательной сферы, и сомнения уже со времен Петрарки все увеличиваются, - линия ренессансного скептицизма получает завершение у Мишеля Монтеня, соотечественника и почти уже современника Декарта. Расшатывая всяческие догмы религии, а заодно и очевидные истины, хотя и не до основания, ренессансный скептицизм колеблет и собственную позицию, но не разрушает себя окончательно. В духе Ренессанса Монтень, чуждаясь крайностей, избегает и радикального сомнения – крайности, в которую могло бы вовлечь последовательное проведение до конца его собственного (скептического) подхода. Мыслитель впадает в растерянность перед последним решительным шагом, откуда мог бы начаться совершенно новый путь познания, к картезианству. 3. Взявшись реформировать всю предшествующую философию и расчищая место для новой, Декарт затрагивает и ренессансные учения, - в них он не находит таких незыблемых начал, которые нельзя было бы оспаривать, а на столь шаткой основе нельзя построить ничего прочного. Он дает отставку и возрожденческому всеведению – такой форме знания, где много непроверенного, предположительного; вероятностными суждениями, сколь бы ни было в них предчувствия истины, сомнения не преодолеваются. Те, кто строят остроумнейшие догадки и предположения о вещах многосложных и темных, после многих трудов сами, наконец, «убеждаются в том, что, не получив никаких знаний, только увеличивают сомнения», - говорит Декарт62. Он отвращает взор от такой философии, которая «дает средство говорить правдоподобно обо всем и вызывать восхищение у менее сведущих»63. Он восстает против такого мышления, которое в своем стремлении к истине никогда не приходит к ней; ополчается против основывающейся на подобиях форме мысли: аналогизирующее мышление никогда не гарантирует от ошибки, утверждает Декарт в первых строках «Правил для руководства ума». 62 63 Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 83. Там же. С. 263. 41 Чтобы обрести нечто прочное и неизменное в познании, надо осуществить радикальное преобразование внутри философии, откуда должны заимствоваться принципы наук, и установить достоверные принципы прежде всего в ней. А для этого следует отрешиться от всех мнений, принятых на веру, и начать все сначала, с самого основания. Доверять можно «только совершенно достоверным» познаниям, «не допускающим никакого сомнения»64. Такое знание Декарт устанавливает в принципе cogito. Столь нелепо предполагать несуществующим того, кто мыслит, в то время, пока он мыслит, что, невзирая на самые крайние предположения, мы не можем не верить, что заключение: я мыслю, следовательно, существую, истинно и что оно, поэтому, есть первое и вернейшее их всех заключений, представлявшихся уму, кто методически располагает свои мысли»65. О несомненности существования самого сомневающегося, т. е. мыслящего, говорится и у Кампанеллы (в первых 14-ти параграфах его «Универсальной философии»), но у него эта мысль служит началом произведения, а у Декарта (в напечатанном в то же время, в 1637 году, «Рассуждении о методе») – началом мышления. У Кампанеллы это положение о познавательном начале прямо-таки терялось в массе прочих высказываний, ничего общего с ним не имеющих, а у Декарта делалось основополагающим принципом. 4. Возрожденческая мысль слишком увязала в различных контекстах, чтобы быть способной осуществить новое начинание, - превратить один из полемических аргументов, соответственно, отдельное положение, один из доводов против разъедающего скептицизма, в принцип развертывания системы достоверного знания. Декарт ради единственной истины отстраняет все «вероятное», а у Кампанеллы – целый ворох гипотез, от которых он никоим образом не отказывается, масса непроверенных идей, домыслов и допущений, расстаться с которыми он не может и не желает. Нужны были, как видно, какие-то существенно измененные условия, которые позволили бы освободить указанное положение от ренессансного круга мысли, ибо имманентного развития к новой системе в данном случае не получается, а обнаруживается разрыв. Сопоставление особенностей этого метода с тем, что дано Возрождением, свидетельствует скорее о серьезном расхождении, чем о преемственности. Возрождение не стремилось вылущить мышление как таковое из различных сплетений, отделить его от чувственных образов, представлений, от всего, что не есть мышление само по себе. А у Декарта мышление, абстрагированное от всего, отправляется 64 65 Декарт Р. Избранные произведения. С. 81. Там же. С. 428. 42 от самого себя как чего-то самодостоверного, и философия обретает в чистом мышлении – или, что то же, через него создает себе – свою собственную почву. Когда говорят, что рационализм Декарта противостоит сенсуализму, эмпиризму, чувственно-опытному познанию, то это требует существенных оговорок и уточнений. Декарт не отвергает напрочь чувственность как источник познания, он только напоминает, что этот источник еще не чист, не выверен рационально, и потому невозможно возводить чувственность в принцип истинного познания. Для ренессансного мышления характерна насыщенность разнообразным, порой странным фактическим материалом, поэтически-фантастической чувственностью, разрозненными и случайными наблюдениями. У Бернандино Телезио, Франческо Патрици, Джордано Бруно, Томмазо Кампанеллы порыв к чувственно-опытному знанию еще не сопровождался научно разработанным экспериментальным методом. Ренессансная разносторонность и совмещение всякого рода спорных мнений воспринимаются Декартом как разбросанность, как отсутствие строгости и точности. Мало цены в его глазах имеет стремительное интуитивное схватывание глубочайших тайн бытия в нетерпеливом полете мысли на крыльях фантазии, предчувствование и угадывание величайших истин, провидчество в многосложных вопросах, - «не из многозначительных, но темных, а только из самых простых и наиболее доступных вещей должны выводиться самые сокровенные истины»66. Совершенно в том же духе ведутся рассуждения у Галилея в «Диалоге о двух главных системах мира - Птолемеевой и Коперниковой»67. Новая наука во времена Декарта занята такою же проблемой преобразования в способе постижения. Метод Декарта требует неукоснительного соблюдения выработанных им точных и простых «правил ума», препятствующих принятию ложного за истинное, требует последовательности и систематичности, проработки всех необходимых ступеней и звеньев в деле отыскания истины, которая открывается лишь мало-помалу и только в некоторых, а не во всех сразу вопросах. Вместо необузданной торопливости и извлечении самых отдаленных следствий нужен самый тщательный анализ: разлагать и разлагать сложное на предельно простые составные части и повсюду доискиваться первых начал. В каждом деле, в любой отрасли знаний есть простое начало. Есть множество различных начал. Задерживаться на представлении об этом, значит находиться еще только у порога философии, как ее понимает Декарт. Философия не могла бы дать безусловных и прочных принципов познания для всех наук. Если бы не установила их прежде в себе самой, если бы сама не начинала с «самого простого и доступного пониманию». 66 67 Там же. С. 112- -113. Галилей Г. Избранные труды: В 2-х т.М., 1964. Т. 1. С. 199. 43 Но самое простое, согласно принципу Декарта, дано в оторванности от чувственных образов, от привычных, естественных представлений, - в абстракции от всего этого, в интеллектуальной абстракции, в мысли. Отвага картезианского начинания заключается, между прочим, в том, что здесь нет боязни односторонности, абстрактности, абсолютизации (предпочтительнее было бы назвать это «идеализированием», превращением предметов мысли в идеальные объекты, в идейные образования), нет боязни резких разграничений, доходящих до разрывов и противопоставлений, - с этого здесь все как раз и начинается. Это есть приведенный в систему, методично осуществляемый разрыв с ренессансной мыслью. Круг всеобщей взаимосвязи и взаимозависимостей разрывается и превращается в цепь причин и следствий. Первое в этой цепи не может быть следствием, поэтому требуется доискиваться в ней «самых простых и абсолютных начал». Исследования первоначал и есть овладение философией, и вместе с тем собственно философствование. Философия становится у Декарта вполне самостоятельной дисциплиной, в ней все свое: начало, предмет, метод, принцип. Особая предметность философии (мышление), ее принцип и ее метод созидаются и развиваются вместе, составляя единый процесс самопроектирования и самоконструирования. Философия уже в силу внутреннего ее характера получает у Декарта свое естественное возвышение и расширение, - она должна быть абстрактно-теоретической дисциплиной, учением о методе всех наук, ей подобает стать наукой наук, царицей наук, «все принципы наук должны быть заимствованы из философии»68. Философский разум у Декарта стал не только самозаконным, но сразу начал превращаться в нечто большее, в законодателя всего. Здесь уже пролагается дорога к просветительству ХУШ века. Ренессанс не способен был сообщить философии столь высокого статуса. Ренессансная философия внешним и внутренним образом была настолько сращена с другими формами сознания, что даже там, где она приобрела большую или меньшую обособленность, в ней все же оставалось примешано много не-философского, - по выражению Гегеля, «много мути»69. Обновленная Декартом, философия снова вступает в сопряжения и связи с отличными от нее формами сознания, но уже иначе: на основе впервые обретенной самостоятельности. 5. Если бы отличие картезианского способа мышления от ренессансного заключалось лишь в большей действенности рационалистического момента, в его интенсивности и экстенсивности, то связь, преемственность между этими двумя формами легко было бы 68 69 Там же. С. 275. Гегель. Г. В. Ф. Сочинения. В 14 т. Т. 11. М., Л., 1935. С. 169. 44 свести к количественному прогрессу и мерному перерастанию одной в другую. Тогда продвижение можно было бы представить как постепенное совершенствование одного и того же идейного материала, и в таком случае у Бруно усматривался бы лишь «плохой» спинозизм, у Кампанеллы – «недоразвитое» картезианство. Но новоевропейская мысль зачастую именно так и стремилась выразить ренессансную - в своих, а не в ее собственных понятиях, и степенью приближения к себе как эталону «совершенства» измеряла и оценивала достоинства и недостатки ренессансной формы рационализма. Между тем достоинства этой формы неотделимы от ее «недостатков». Без того, что в более позднюю эпоху справедливо считалось устаревшим для рационализма, недостатками в нем (магия, мифологичность, гилозоизм, и т. д.), философия Возрождения была бы не тем, что она есть. Мерило ее совершенства – не вне ее, а в ее собственном общем типе, в ней самой. Конечно, она продвигается от полного или частичного признания средневекового мировоззрения к частичному или полному его опровержению и содержит в себе тенденцию от мистики к рационализму (отличному от средневеково-схоластического), но не более как тенденцию, к тому же не очень устойчивую. Рационализм здесь пока еще спорадически возникает и угасает в массе прочих оттенков, присущих философии этой эпохи и содержащих зародыши совсем иных, расходящихся и спорящих между собой, направлений мышления. Такое многоголосие по самой своей сути не может привести к какому-либо однозначному результату. Необходимости выхода к картезианству и только к нему - нет, это лишь одна из многих возможностей, не более необходимая, чем все прочие. Исследователи справедливо подчеркивают многостороннюю – даже «бесконечную» - переходность культуры Возрождения и его философии. Переходность состояла не в механическом прибавлении к средневековой доктрине новых элементов и простом отбрасывании старых представлений, но в удержании своеобразной и органичной цельности формы знания70. Как цельность она продвигалась к своему концу и как цельность была отброшена Декартом в его новом начинании. Ренессансная философия (как и вся предшествующая ей) должна была восприняться сначала негативистски, чтобы затем, уже в новом концептуальном контексте можно было положительно использовать ее интеллектуальные завоевания и развить далее добытое в ней ценное содержание. Без такого перерыва постепенности не было бы и настоящей преемственности, а было бы просто дальнейшее развертывание одной и той же формы. См.: Горфункель А. Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977. С. 5, 42, 342 – 344; Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978; Баткин Л. М. Итальянские гуманисты: Стиль жизни и стиль мышления. М., 1978. С. 84 – 85, 147 – 148, 170, 177. 70 45 Поэтому и генезис картезианской системы не сводится к заимствованиям. Подмечаемое в картезианском подходе Герценом «что-то суровое и аскетическое»71 указывает на внутреннюю собранность и цельность совсем не ренессансного происхождения. В установке Декарта, как и в устройстве его системы, заключено прочное единство, неразложимое и не сводимое к составным частям и не объяснимое из ренессансных посылок, которые, в свою очередь, несмотря на многообразие импликаций, или вернее, в силу этого, заключают в себе качественный предел развертывания. Возьмем, к примеру, Эразма Роттердамского, пожалуй, самого выдающегося из гуманистов Северного Возрождения. Исследователи отдают должное его замечательной широте охвата: можно сказать, ничто не остается не «высвеченным» им, в любой области этот активный, беспокойный ум разведывает и пролагает путь для позднейших интеллектуальный усилий. «Он угадывает золотые и серебряные жилы проблем, которые надлежало вскрыть. Он чует, он чувствует их, он на них указывает, но этой радостью первооткрывателя чаще всего и удовлетворяется его нетерпеливо рвущийся дальше интерес, и собственно разработку, извлечение сокровищ, раскопку, промывку, оценку он оставляет тем, кто идет за ним. Тут его граница»72. Так почти каждый деятель Ренессанса обнаруживает те или иные отдельные черты, которые свойственны уже другому времени, выявляя тем самым свою резкую противоречивость73. Предвосхищение механицизма у Леонардо да Винчи, нового космологического взгляда у Николая Коперника, спинозизма – у Франческо Патрици и Джордано Бруно, деизма – у Бернандино Телезио, картезианства у Томмазо Кампанеллы, другие подходы к философии Нового времени, прообразы, предвестия, запросы ее, - все это явления, принадлежащие самому Возрождению, последние высшие его напряжения, и вместе с тем они суть моменты его самоотрицания, разложения (что не следует принимать только как деградацию, но, скорее, как величественный закат); в возрожденческой мысли они остаются только филиациями, - в отправной пункт они превращаются только внутри иного, уже не принадлежащего Возрождению, способа мышления, картезианского. Между этими двумя типами мышления есть и нечто сближающее их, и нечто расталкивающее. Если «между ними что-то есть», то оно - можно заранее сказать – должно выразиться в таком противоречивом феномене, который разделяет и – именно благодаря разделению – связывает обе формы, служит переходным звеном между ними и делает их действительно двумя особыми ступенями развития. С обеих сторон – с каждой по-своему – оно должно находить определенное утверждение и, вместе с тем, подвергаться негации. Как переходное звено оно должно быть некоторого рода Герцен А. И. Письма об изучении природы // Герцен А. И. Сочинения: В 9 т. Т. 2. М., 1955. С. 257. Цвейг С. Триумф и трагедия Эразма Роттердамского. М., 1977. С. 101. 73 См.: Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. С. 290 – 291. 71 72 46 продолжением Возрождения, - таким, которое явилось бы вместе с тем отрицанием Возрождения и в свою очередь отрицалось бы им; оно должно быть в какой-то мере и предпосылкой философии Нового времени, и вместе с тем быть отрицаемо ею и отрицать себя в качестве такой предпосылки. Такое опосредование между двумя явлениями должно снимать себя в качестве опосредования и делаться чем-то непосредственным, самим по себе, особым явлением. Этим явлением была целая историческая полоса революционного переворота – Реформация с пронизывающим ее духом протестантизма. Вклиниваясь в качестве сложного опосредования между философией Возрождения и Нового времени, протестантизм оказывается в противоречивой – родственной и чуждо-враждебной – связи с каждой из них. Поэтому нам предстоит рассмотреть по-отдельности его отношение к той и другой философии. 6. Ренессансный тип мышления в его историческом развитии ведет от итальянского гуманизма (как наиболее репрезентативной формы Возрождения) к так называемому Северному Возрождению, в котором отчетливее всего обнаруживаются «чувствительные» точки соприкосновения и расхождения идей Возрождения и Реформации. У Эразма Роттердамского, самого блестящего представителя Северного Возрождения, гуманизм выступил в одеянии христианского благочестия и сочетался с идеями внутренней церковной реформы и реставрации евангельской чистоты первоначального христианства. В «Руководстве христианского воина» (1511 г.) нравственное совершенствование человека рассматривается им как условие и отправной пункт христианского совершенствования. Человеческое преемственностью в предусмотренном Богом знание и мировом порядке вера связаны и образуют нерасторжимую гармонию. В концепции Эразма запечатлен путь ренессансного гуманизма: от признания высокого значения человечности и человеческого достоинства и на основе этого – к высшим ценностям религии откровения, сверхчеловеческим, сверхразумным, божественным; от возрождения и обновления человека к возрождению и обновлению христианина. Можно сказать, что у Эразма по сравнению с итальянскими гуманистами смещен пункт наблюдения, а не способ видения. Особое место в этом переходе от светского гуманизма к христианскому принадлежит флорентийским неоплатоникам (Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, и др.). Под влиянием предреформационного движения Савонаролы в итальянском гуманизме обозначилась переходная грань: в нем то светский гуманизм приобретает сугубо религиозную окраску, то религиозный – светскую, каждый непременно выступает то формой для другого, то содержанием другого. Ни светский 47 гуманизм Возрождения, ни христианский не порывает со своими культурно- историческими контекстами. Напротив, религиозная реформация, приняв лишь незначительную долю культурных традиций Возрождения, очень скоро заглушила и подавила в себе богатство прочих его потенций многостороннего развития, и противопоставила себя ренессансному гуманизму в целом. Реформация оказалась направлением более радикальным, более непримиримым к традиционной феодальной идеологии – католицизму, нежели гуманизм. Она характеризуется иным, чем в гуманизме, отношением 1) – к вере и 2) – к рациональному познанию. 7. В протестантизме мы имеем, с одной стороны, продолжение развития христианского вероисповедания, интенсификацию его (христианин по набожности превращается в христианина по убеждению), и именно поэтому, с другой стороны, это течение оказывается мощной оппозицией католической церкви, новым начинанием, активной стороной разложения средневекового католицизма. Путь перестройки личности в протестантизме, согласно замыслу своему, предполагается проложить через возвращение к первоначальным основам христианства, по осмыслении которых обнаруживается, что все средневековое устройство религиозной жизни решительно противоречит им. Мартин Лютер обесценил соблюдение внешних форм обрядности и усилил религиозность перенесением ее во внутренний мир христианина. Спасение заключается не в «делах» («добрые дела» католицизма), а в вере. Не добрые помыслы, а крепкая вера и только вера ведет к спасению. Для этого даже собственное желание верующего должно быть уничтожено: его воля должна раствориться в божественной воле и целиком совпасть с нею; но как только он «почувствовал» это, он уже свободен в действии, его не стесняют никакие пределы, - ни законы, ни заперты, он творит все, что только захочет, «потому что» он хочет только то, что хочет Бог. Так мрачное и суровое протестантское учение делалось источником несокрушимой энергии, необходимой для революционных переворотов. Воспринятое от Аврелия Августина учение о божественном предопределении (в жесткой форме, исключающей всякую свободу воли) делало протестантскую позицию неприступной. Неизбежным следствием учения о предопределении был фатализм. Августин безуспешно стремился увязать и примирить божественное предопределение и свободу человеческой воли. Разум отчаивается постичь это совмещение. Начиная с Петрарки, люди Ренессанса жили все тем же неразрешимым противоречием, принимали на себя его напряженность и выдерживали. Прекраснейшие 48 произведения эпохи – в изобразительном искусстве, живописи, поэзии, философии, живое свидетельство, что неким чудесным и таинственным способом они справлялись с ним. Момент свободы человеческой воли широко используется и разрабатывается в Возрождении, момент несвободы – «рабства» воли (Лютер) – ставится во главу угла в протестантизме. Протестантское непреклонное проведение одностороннего принципа предопределения, развертывание его в жесткую систему императивов, неустрашимость перед следствиями, - все это служит неким прообразом стиля мышления Нового времени, в первую очередь картезианского. Однако протестантское отношение к интеллектуальной деятельности требует более подробного рассмотрения. 8. Сосредоточение на вере и расторжение уз с разумом не было равнозначно освобождению разума от веры. Разум был оставлен в распоряжение средневековой схоластической философии, под которой Лютер понимал философию вообще и гневно отвергал ее. Само по себе протестантское очищение веры (борьба как против разума, сращенного с верой, так и против веры, сращенной с разумом) еще не могло стать одновременно непосредственным условием автономии разума и сделаться тождественным свободному развитию философии. Ближайшей целью в протестантизме была не свобода философии, а свобода от философии. Преобразование религии еще не простиралось на философию. Протестантизм непосредственно работал над устранением старой, схоластической философии, а не над созданием новой. Протестантизм столкнулся также с философской мыслью Возрождения. Взятому в качестве непреклонной веры, или субъективного мнения, признаваемого и выдаваемого за непреложную божественную истину, протестантизму противоположен как ренессансный скептицизм, поскольку в последнем всякое утверждение означает не более как мнение, так и последующая новоевропейская научная мысль, которая требует исходить не из веры, а из достоверных истин. Ренессансу, протестантизму и философии Нового времени, рассматриваемым в их типологических отношениях к вопросу об истине, соответствуют три модуса признания истинности: мнение, вера и знание, или, выражаясь логически, три вида суждений: проблематическое, ассерторическое и аподиктическое. Это кантовское логическое деление приобретает также и исторический смысл. Сомнение преодолевается не религиозным рвением, а познанием, прочная истина достигается не верой, а рациональным постижением. На этом стоит Декарт. Императив к обретению истины и уверенность в ее достижимости Декарт усваивает не от скептиков. Разделяя взгляд на слабость и несовершенство имеющейся в распоряжении рациональной 49 способности, он не отвергает ее в пользу веры, а ищет и открывает путь совершенствования и преобразования этой способности. Сомнение превращается у него из умонастроения в метод, позволяющий не только избежать заблуждений, но и установить истину. Протестанты обретают в вере воображаемую истину, - не ту и не там. А скептики именно отрицанием способности человека к достижению действительной истины и воздержанием от категорических суждений сами лишают себя истины. Столкновение обоих направлений предстало перед Декартом проблемой: с одной стороны, в вопросе об истине не должно быть индифферентизма, а с другой – в принятии и утверждении ее не должно быть ошибки. Преодоление Декартом как ренессансного скептицизма, так и протестантского догматизма утверждение новоевропейского способа мышления. 50 веры знаменует решительное А.М. Толстенко (Санкт-Петербург) Ренессансный гуманизм и утопизм: от возвышенного к трагическому. Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать, что в ренессансной антропософии идеальное не противопоставлялось телесному, а утопизм и гуманизм были соизмеримы с миром. Имели место обожествление мира и героизация человека. Напротив, в послеренессансную эпоху утопия и гуманизм выступили не как аспекты меры самой реальности, а как способы ее деконструкции. Обожествление мира и героизация человека были заменены культом разума и добродетели. В эпоху Ренессанса на первый план выходит «эстетика» собственной самости в противовес религиозно-нравственной интенции Средних веков. Не только весь средневековый уклад бытия признается бесчеловечным и нелепым, но и средневековый человек со схоластической ученостью объявляется человеком без лица. Кого же с точки зрения гуманистов можно назвать личностью? Личностью отныне можно назвать нового человека, который изучает все то, что связано с природой человека. Studia humanitatis школа, которая культивирует новый тип знания и закладывает новый архетип человеческого пребывания в мире. Человек, а не Бог выступает центральной и созидательно действующей силой мироздания. Именно ренессансный гуманизм увидел в человеке «бога», который раскрывает все движущие причины во вселенной и способен преобразовывать все сущее в гармонию высшего порядка. Так, Агриппа Неттесгеймский (1486-1535) говорит о себе, что он никого не щадит; он гневается, ругается и все расшатывает; что он сам есть философ, демон, герой, Бог и вообще все. Парацельс (14931541) провозглашает: пусть не принадлежит другому тот, кто может принадлежать только самому себе. Человеческое бытие оказывается непрерывным творением в ориентации на высшие смыслы, образы и символы. Ренессансный гуманизм был неотделим от любовно-магического постижения мира. Среди фундаментальных человеческих ценностей выделялась, с одной стороны, практически расчетливая предприимчивость, инженерно-техническая изобретательность, способность владеть правилами политического искусства; с другой стороны, предвосхищающее мышление, способное заранее проектировать свою познавательную программу. Все это приводило к изменению прежней структуры человеческого сознания. Происходила подмена художественной природного реальностью. Она мира сконструированной определенным образом и перспективно- культивируется и возделывается, а знание о ней предстает в виде правил, проектирующих и обеспечивающих предельную сферу поиска в науках о природе и человеке. 51 С эпохи Возрождения начинается процесс превращения науки в исследование, при этом эксперимент становится возможен там и только там, где познание природы уже превратилось в исследование. Тем не менее, в этот период мир воспринимается прежде всего изобразительно, мистически и магически. В условиях отсутствия прочной социальной основы, т.е. гражданственности и законности, становясь зодчим, скульптором и живописцем, человек был призван разоблачать все тайны природы и открывать для всего сущего «спасительные лекарства»74. Исследование природы здесь еще не стало свободным исследовательским предприятием, но уже имеет вид «изобретения», «художественного изображения» и «строительства», обнаруживающих скрытый смысл природных явлений, и это свидетельствовало о магическом предназначении человека как центра и «скрепы» мира. С помощью изобретений и наук человек получил доступ к божественной сущности в здешнем и нынешнем мире. По словам Л.М. Баткина, ренессансный идеал человека и совершенного общества осмысливался как уже однажды осуществившийся в период античности. Поэтому обращение мыслителей Возрождения к античности было далеко не случайным. Античность для гуманистов была «чем-то совершенно вещественным и живым»; она «заполняла зрение и мысли, они сами себя чувствовали античными… живущими в героическом и возвышенном универсуме»75. Как бы в противовес морально-юридическому средневековому универсуму в эпоху Ренессанса на первый план выдвигалась эстетика жизни. В Прекрасной даме таится вся душа мира, в ней красота мира высвечивает космические дали и горизонты. Петрарка (1304-1374) говорит: «Отлагательство… прекрасного дела позорно, равно как долгое обдумывание благородного поступка…» (Книга о делах повседневных, 12). В «Декамероне» Боккаччо (1313-1375) наглядно и доходчиво излагает основной ренессансный миф, согласно которому без любви «ни один смертный не может иметь в себе никакой добродетели или блага» (IV, 4). Силы симпатии пронизывают ренессансный миропорядок, и если бы не было противоположных им сил антипатии, тогда, как отмечает М.Фуко, весь мир можно было бы свести к образу нераздельного тождества. Ренессансное мышление, будучи в своей основной интенции магическим, оказывается формой символических сближений. Сила симпатии есть внутреннее тяготение друг к другу вещей и явлений. Она связывает воедино все со всем, и, в конечном счете, весь мир оказывается однородным и единородным целым. Вот почему пантеизм - основной настрой ренессансной мысли. Самоощущение человека в современности и внутри истории неотделимо от понимания его места в мироздании. И здесь важно отметить следующее. Древние греки понимали бытие как природу, которая определяет все сущее, включая богов и людей. Они Подробнее об этом см.: Сергеев К.А. Ренессансные основания антропоцентризма. СПб., 1993. С. 192 и далее. 75 Баткин Л.М. Ренессанс и утопия // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. М., 1976. С. 229. 74 52 были космическими существами, а не космическими пришельцами, поскольку они пребывали не только среди вещей и событий, но и среди богов, среди небожителей. Средневековая мысль понимает бытие как Слово, коль скоро Слово сначала было у Бога, и Слово есть Бог, есть творящее и правящее начало всего сотворенного сущего. В горизонте такого понимания бытия человек в силу грехопадения и лишенный райского состояния оказывается всего лишь странником на земле. Ренессансный же человек понимает бытие как мир, включающий в себя природу и историю, в силу чего он неизбежно вовлекается в стремление быть сугубо земным существом. Отныне он стремится к самосозиданию. Мир и человек в эпоху Ренессанса совместимы и совместно образуют согласованное единство, обнаруживающее свое совершенство в красоте и через красоту. Иначе говоря, в стремлении к гармонии, красоте и любви заключается одна из фундаментальных черт ренессансного мировосприятия. Речь идет прежде всего о метафизике любви, которая восходит к философии Платона. Ренессансный платонизм возрождает понимание эросной сферы красоты, в которой происходит рождение и преображение всего сущего. В этой связи внимания заслуживает антропософия М.Фичино (1433-1499). Согласно М.Фичино, красота есть действенное и гармоническое сопряжение всего природно-сущего. Она является в мир как свет, освещающий причастность всех вещей к Абсолютному. Как «свет ангела сияет в ряду множества идей, а превыше всего множества должно быть единство, которое есть источник всякого числа, необходимо, чтобы он проистекал от единого начала всех вещей, которое мы именуем собственно Единым. Итак, вполне простой свет собственно Единого и есть бесконечная красота, ибо он не замутнен грязью материи, как красота тела, не меняется с течением времени, как форма души, и не распадается на множество, как красота ангела»76. Для Фичино природное и идеальное в неудержимом взаимном любовном влечении сплетаются в прекрасную ткань миропорядка. Вещественный космос именуется «убранством», «упорядоченностью», «совершенством», «пропорциональностью» всех частей мира. Это родной дом, место всех природных вещей, среди которых человек есть существо исключительное, связанное с Богом как абсолютной Красотой. «Красота, - некий акт или луч оттуда [от Бога] проникает во все… Он украшает ум порядком идей, душу наполняет рядом логосов, природу укрепляет семенами, материю украшает формами. Но подобно тому, как один божественный луч солнца освещает четыре элемента – огонь, воду, землю и воздух, так один божественный луч озаряет ум, душу, природу и материю. И как тот, кто посмотрит на свет в этих четырех элементах, увидит луч самого солнца и обращается через него к лицезрению высшего света солнца, так и тот, кто созерцает и любит красоту в любом из этих четырех порядков - уме, душе, 76 Фичино М. Комментарий на «Пир» Платона. // Эстетика Ренессанса. Т. 1-2. М., 1981. Т. 1. С. 216-217. 53 природе и теле, - созерцает и любит в них сияние Бога и в такого рода сиянии созерцает и любит самого Бога»77. Согласно Фичино, сфера красоты, которая есть излучение и сияние благостной истины, и есть возможность единения чувственно преходящего и идеального. Именно красота опосредствует чувственно изменчивый и идеальный мир, через нее происходит приобщение чувственно-изменчивых вещей к истинному бытию. Все, что присутствует в поле зрения и созерцания, является светоносным, приемлет в себя и возвещает своей формой любовь как бытийную силу всего космического порядка. Поскольку Эрос, пронизывающий мир, в своей изначальной сути есть непреходящее стремление к красоте, влекущей к благу и истине, то благодаря ему человек оказывается способным к чистому созерцанию истины, постижению бытия как блага и совершенства. Как подлинный путь к любви Эрос устремляет человека к его андрогинному началу, в котором преодолевается расколотость человеческого существа. Только через эрос-любовь осуществляется восстановление человека во всей и присущей ему изначально целостности. В стремлении к мудрости человек способен преображаться так, что его мышление становится свободным от всего чувственного. Тем самым его мышление становится памятливым, восприимчивым ко всему высшему и в силу этого достигающим чистого умосозерцания. В «Комментарии на “Пир” Платона» Фичино отмечает: «Это учение Платон раскрыл в письме к царю Дионисию, когда утверждал, что бог - причина всех прекрасных вещей, как бы начало и источник всей красоты. “Вокруг царя всего, говорит он, - расположено все”. “Вокруг царя” означает: не внутри, но вовне, ибо в боге ничто не может быть составным. Но что означает это выражение “вокруг”, Платон разъясняет, когда добавляет: “Все существует благодаря ему. Сам он есть причина всего прекрасного”, как бы сказав, потому они все вокруг царя, что к нему, как пределу, по природе своей все возвращается, так же как от него, как начала, все произошли»78. Мир и человек в эпоху Ренессанса совместимы и совместно образуют согласованное единство, обнаруживающее свое совершенство в красоте и через красоту. Иначе говоря, гуманисты имели дело с совокупностью вещей и процессов, которые в эпоху Ренессанса человек обнаруживал вокруг себя как соразмерную ему совокупность вещей и процессов, простиравшуюся в непрерывной взаимосвязи. Этот непрерывный порядок вещей обнаруживал все более и более одномерный систематический вид. Если в эпоху античности мир воспринимался пространственнотелесно и для этого совершенно не требовалось постигать пространство исключительно как систему отношений между высотой, шириной и глубиной, то благодаря Н.Кузанскому подготавливается осмысление трехмерной, линеарно-плоскостной протяженности. Единственным средством соединения и систематизации в рамках новой перспективы 77 78 Фичино М. Комментарий на «Пир» Платона. Т. 1. С. 156. Фичино М. Комментарий на «Пир» Платона.. Т. 1. С. 154. 54 Кузанского служит линия, иначе говоря, оптика однородной субстанции, понятой как гомогенная материя, единство которой обеспечено соединением неразличимых частей с однородной, бесконечной малой протяженностью, однородной формой и однородной функцией. Об этом говорят названия некоторых глав «Ученого незнания»: «О том, что бесконечная линия есть треугольник», «О том, что максимум, в переносном смысле, относится ко всему как максимальная линия к линиям». Ряд глав повествуют о том, что бесконечная линия есть шар, о том, что есть только одно бесконечное основание всего и все ему по-разному причастно. У всех ограниченных существ сущность и существование различаются, тогда как в неограниченном бытии, или в Боге как основании всего, они совпадают. «Бесконечность есть адекватнейшая мера конечных вещей, хотя конечное совершенно и несоизмеримо с бесконечным»79. Едино-единственное универсальное бесконечное бытие максимума Бога конкретизируется в конечных формах и немыслимо вне многообразия чувственно-воспринимаемых единичностей. Иначе говоря, благодаря математическим символам Кузанскому удается не просто показать, но и доказать, что Бог и мир настолько тесно связаны и проникают друг друга, что, говоря о Боге, нужно иметь ввиду мир, и, наоборот, говоря о мире, нужно подразумевать Бога. «Бог есть свернутость всякого бытия любой существующей вещи, и, творя, он развернул небо и землю; поистине Бог есть все - свернуто, то есть в виде божественного интеллекта; поэтому Он и есть тот, кто все развертывает, творит, создает…»80. Хотя своим универсальным единством Бог как максимум охватывает все, так что все получающее бытие от Абсолюта - в нем и он - во всем, однако он не имеет самостоятельного существования вне множества, в которое он определился, т.е. вне конкретности, от которой он неотделим, его нет. «Итак, свернутость всего едина и нет одной свернутости для субстанции, другой для качества, третьей для количества и так далее, потому что есть только один максимум, совпадающий с минимумом, где свертываемое разнообразие не противоположно свертывающему тождеству… В едином Боге свернуто все, поскольку все в Нем; и Он развертывает все, поскольку Он во всем»81. Достаточно вспомнить «Corpus Areopagiticum», в котором подчеркивается инаковость бесконечного и непознаваемого бытия Бога конечному миру, чтобы увидеть, с каким энтузиазмом Кузанский настаивает на том, что бесконечное бытие Бога и конечное бытие мира сродственны и до известной степени неразличимы. В качестве истинного эпоха принимает все то, в чем природа и искусство сходятся. Таким образом, идеальное не противопоставляется телесному, а телесное не мыслится вне духовного. Этот вывод касается не только ренессансной антропософии, но и ренессансной утопии. Ее своеобразие состоит в том, что осмысление действительности в ней Кузанский Н. Апология ученого незнания // Сочинения в двух томах. М., 1980. Т. 2. С. 29. Кузанский Н. Апология ученого незнания. С. 27. 81 Кузанский Н. Об ученом незнании. Т. 1. С. 104. 79 80 55 осуществлялось, прежде всего, в художественной форме. Поэтому сущность ренессансной утопии не сводима к наличию несомненного проекта «отыскания истины». Совершенный город или образец не находится вне мира, на небе или в стране Утопии, но присутствует в некоем конкретном городе, ставящемся в пример. Например, в проекте «идеального города» Альберти (1404-1472) человек имеет дело с каким угодно окружением вне зависимости от его приятия или отрицания. Строительство и обживание неотделимы друг от друга, ибо пребывать в определенном месте и жить – это значит строить и реально обживать природное и социальное пространство. Возделывание как культивирование земли и сооружение зданий, строительство кораблей, конструирование и изобретение механизмов и т д. - все это Альберти отождествляет с подлинным обживанием или возделыванием. Альберти создавал проект «идеального города», но его зодческая наука преследовала цель не преобразования наличного общества по образу идеального города, а обживания природного и социального окружения. По словам Л.М. Баткина, в эпоху Ренессанса «духовные образцы, примеры, как взаимно и равно необходимые, здесь не лишены еще скрытого смысла, согласуются для приближения к изначально-единственной Истине, используются как рядоположенные, но не как окончательные»82. Метафизика и медицина, исцеление греховного человеческого существа - такова конечная цель гуманистов эпохи Ренессанса. В их лице получает обоснование библейское учение о человеке как цели и завершении мироздания, как микрокосме, в котором отражается весь природный макрокосм. В этой связи первоначальная ренессансная мысль сориентирована на медицину и магию, которые в качестве искусств были призваны помочь разуму преодолеть болезни и пороки, присущие человеческой природе. Одновременно медицина и магия составляли тот дискурс, в котором мыслители эпохи Возрождения усматривали превосходство человека над всем реально существующим. М. Бахтин отмечает, что это была единственная эпоха, пытавшаяся ориентировать всю картину мира, все мировоззрение именно на медицину. В эту эпоху пытались осуществить требование Гиппократа, переносили мудрость в медицину и медицину в мудрость. Ведь врач-философ равен богу83. К тому же в университетах философию читали «доктора теоретической медицины», которые также назывались «философами». Не является исключением из этого правила известный утопист и гуманист Кампанелла (1568-1639). Свой труд по медицине он рассматривает как завершение своей философии. Медицина учит тому искусству, которое Кампанелла называет «некой практической магией» (quaedam magica praxi). К магико-астрологическим рассуждениям обращена и его наука о природе, согласно которой все природные вещи существуют Баткин Л.М. Итальянский гуманистический диалог XV века // Из истории культуры Средних веков и Возрождения. С. 178. 83 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 298299. 82 56 именно в силу присущего им чувства симпатии и антипатии. Его «Город Солнца» также наполнен разного рода магическими символами. Так, по словам Кампанеллы, «Солярии доказывают, что блуждающие светила в определенных частях мира связываются симпатией с явлениями высшими и потому задерживаются там дольше, почему и говорится, что они поднимаются в абсиде»84. Небо и земля, природа и дух, бог и человек – все стремится друг к другу в любовном влечении. Такой настрой ума приводит к восстановлению античного смысла мира как космоса. Однако обитатели «города Солнца» сочетают в себе трезвую расчетливость с оккультизмом, поскольку то и другое взаимно подкрепляло веру в «звездное» предназначение человека. «Они восхваляют Птолемея и восхищаются Коперником... И они твердо верят в истинность пророчества Иисуса Христа о знамениях в Солнце, Луне и звездах»85. Солярий осознает себя в статусе центральной и связующей инстанции всевозможных реалий обживаемого им космоса. «Посему ожидают они обновления мира, а может и конца. Они признают, что чрезвычайно трудно решить, создан ли мир из ничего, из развалин ли иных миров или из хаоса, но считают не только вероятным, а напротив, даже несомненным, что он создан, а не существовал от века»86. Будучи опосредствующим звеном между интеллигибельным и телесным порядком вещей, солярий может во всем сущем заново раскрывать божественную и вечную благодать бытия, извлекать из глубин природы ее магическую мощь, с тем чтобы она служила и соответствовала его расчетам. Здесь на первый план выдвигается образно-конструктивный принцип. Познание соотносится с изобразительной техникой, тем самым ему становится доступным все то, что может стать конструкцией и картиной. Образы и символы призваны устанавливать всюду универсальные пространственные очертания, одинаково присущие всем вещам. Создается картина мира, где метафизика призвана выступать верховной судящей инстанцией. «Верховный правитель у них – священник, именующийся на их языке “Солнце”, на нашем же языке мы назвали бы его Метафизиком. Он является главою всех и в светском, и в духовном, и по всем вопросам и спорам он выносит окончательное решение. При нем состоят три соправителя Пон, Син, Мор или по-нашему: Мощь (Власть), Мудрость и Любовь»87. Обосновывая легкость усвоения наук при помощи картин, Кампанелла сближает архитектуру, скульптуру и живопись «солнечного» города с науками, посредством которых человеку представляется уникальный шанс преодолеть социальную бесформенность и перейти к упорядочению и обживанию мира88. «По велению Мудрости Кампанелла. Город Солнца. // Утопический роман XVI-XVII веков. М., 1971. С. 183. Кампанелла. Там же. С. 181. 86 Там же. 87 Там же. С. 146. 88 Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. В 3-х тт. М.-Л., 1934. Т. 2. С. 11. 84 85 57 во всем городе стены, внутренние и внешние, нижние и верхние, расписаны превосходнейшею живописью, в удивительно стройной последовательности отображающей все науки. На внешних стенах храма и на завесах, ниспадающих, когда священник произносит слово, дабы не терялся его голос, минуя слушателей, изображены все звезды, с обозначением при каждой из них в трех стихах ее сил и движений»89. «Город Солнца» отмечен печатью магического ореола образа человека, ум которого соизмеряет себя с существующими реалиями и непосредственным окружением. В этом проекте социальной гармонии солярии Кампанеллы все еще преобразуют какое угодно окружение. Изображения математических фигур сближаются Кампанеллой с изображением всей земли, картинами законов и нравов ее обитателей. В «Городе Солнца» собраны изображения и образы разного рода минералов, источников, лекарственных препаратов, метеорологических явлений, сопровождающиеся пояснениями о сходстве явлений небесных с земными и их связи с человеческим телом и применением в медицине. Магическая цель сходств и подобий, симпатий и аналогий между вещами призвана обратить взор человека на подлинную сущность растительного и животного царства, всех вещей в мироздании и самого мироздания в целом. В этой связи Кампанелла говорит: «Я был совершенно поражен, увидев рыбу-епископа, рыбу-цепь, панцирь, гвоздь, звезду, мужской член, в точности соответствующих по своему виду предметам, существующим у нас»90. Истина мира заключается в том, что человек может, исходя из самого себя, означивать мир согласно своей сущности, изменять это сущее как таковое. Ренессансный гуманизм провозглашает человека существом, которое само способно осуществлять в высшей степени совершенную форму своего бытия и тем самым одновременно раскрывать все тайны природных вещей, наделяя их «собственными именами», доискиваться и прокладывать путь к заранее определяемой истине. Освобождая себя от обязанности внимать библейскому Откровению и состоять в церковной общине, человек сам избирает для себя то, что его обязывает и что ему необходимо. Человеческий разум, подобно божественному, превращается в способность к «первоначалам действенным, требующим обоснования своего преимущественного положения, при наличии чего должно получиться то, на что рассчитывают и с чем считаются. Так понятый разум есть полагающееся на себя устанавливание условий, обусловливающих бытие всего природно-сущего, в качестве какового это устанавливание условий само есть и удостоверяет себя как таковое среди мира сущего»91. В послеренессансную эпоху утопия стала символом распада художественномагически-изобретательного проекта исцеления мира и человека. В ней центр тяжести Кампанелла. Там же. С. 147. Там же. С. 148. 91 Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Время и бытие. М., 1993. С. 162, 165. 89 90 58 вынесен за пределы реального – из настоящего в будущее, в выдуманные страны и недоступные места. «Утопия изображала город, устроенный совершенно иначе, чем какие-либо города прошлого и современности. Она была проектом, не имеющим прецедентов в истории рационального исправления реальности и бросала ей вызов»92. В своих отношениях с античностью поздний Ренессанс может считаться гигантским предприятием культурной псевдоморфозы. Это, возможно, его лучшее определение. В стремлении открыть античность он создает что-то совершенно новое93. Так, «реконструкция» античного стиля у известнейшего архитектора XVI века Палладио (15081580) была по сути его заменой. «Спящая Венера» Джорджоне (ок. 1477-1510) и Тициана (ок. 1480-1576) кажется античной по теме и исполнению, но на деле не имеет прообраза в древности, являясь полностью созданием итальянского XVI века. Появляется римский барочный идеал телесности, который выражает трагический диссонанс эпохи заката Ренессанса. Согласно Г. Вёльфлину, «вместо стройных и упругих фигур ренессанса появляются массивные, крупные, малоподвижные тела с преувеличенной мускулатурой и развевающимися одеяниями (тип Геркулеса). Радостная легкость и гибкость исчезают. Все становится более тяжелым и прижимается к земле под гнетом своей тяжести. Лежащие фигуры тупо неподвижны, лишены какого-либо напряжения. В то время как Ренессанс чувствовал все тело и за облегающими одеяниями постоянно видел его очертания, барокко упивалось цельными массами. Лучше ощущалась материя, чем внутренняя структура и членение. Плоть здесь недостаточно твердая; она мягка, бессильна и не обладает упругостью мускулатуры Ренессанса. Члены связаны, несвободны и неподвижны в суставах; они находятся в плену у массы; фигура остается внутренне зажатой. Но это лишь одна из сторон: массивность здесь всегда сочетается с сильным движением, которое достигает порой мощи и безудержного размаха. Изображение движения вообще основная цель барокко. По мере развития стиля темп движения все ускоряется, становясь, наконец, торопливым и стремительным»94. Это эпоха трагического диссонанса, всеобщего оцепенения и неподвижности. И коль скоро между волей и телом произошел разрыв, при всей стремительности движения отдельных частей ведущим мотивом человеческого духа становится все же состояние бездомности, бессилия и аморфности. Для ренессансного космоса были характерны две уравновешивающие друг друга силы: сила, которая тянет вверх, и сила, которая тянет вниз. В эпоху заката Ренессанса и в Новое время сила всеобщего тяготения преобладает над силой левитации. Она становится всеобщим законом движения всех без исключения тел: тела падают, потому что их природа зависит исключительно от силы тяготения. Баткин Л.М. Ренессанс и утопия // Там же. С. 229. Бибихин В.В. Новый ренессанс. М., 1998. С. 290-291. 94 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб., 2004. С. 144. 92 93 59 Появившиеся диспропорции в восприятии мира хорошо видны на примере Микеланджело (1475-1564). «В то время как в античности все действия были проявлениями свободной личности и в любой момент могли быть сдержаны, а мотивы их - скрыты, мужчины и женщины Микеланджело, наоборот, представляются нам безвольными порождениями внутреннего чувства... Массивное, почти геркулесовское строение тел. Впечатление беспокойства усилено открытым противопоставлением частей тела (контрапост). Напор чувств словно разрывает фигуры, но движение их сковано... Некоторые образы Микеланджело, как говорил Я. Буркхардт, на первый взгляд дают впечатление не возвышенно-человеческого, а подспудно-чудовищного»95. «Мировая грусть» - таков настрой, которым пропитано творчество этого великого мастера. На первом плане утверждаются возбуждение и страстное напряжение, словно речь идет о грядущей победе, требующей необычайной затраты сил. Дикий порыв для мощного ускорения вперед без всякой мысли о счастливом исходе. Примечательно то обстоятельство, что великому скульптору так и не удалось воплотить в своих произведениях идеал счастливого бытия. Уже по этой причине Микеланджело стоит вне Ренессанса. Его трагическое мировосприятие лишь отражает наступивший факт уничтожения индивида и вопрошает о некоторого рода метафизическом утешении по поводу этой смерти. Подобно тому как, только всматриваясь в целое, можно понять всю глубину гамлетовской трагедии, так и творчество Микеланджело можно понять, только принимая во внимание всеобщий язык его живописи и скульптуры, выражающий не частности, а именно сущность тех трагических событий. Говоря языком Ф.Ницше, его трагическая «дионисическая» мудрость принципиально противоположна «аполлоническому» настрою классического Ренессанса. Аполлоническое начало в человеческой мысли, находит свое символическое выражение в победе теоретического разума, науки над трагическим восприятием мира Микеланджело и Шекспира. Наука «стремится разложить миф; она ставит на место метафизического утешения земную гармонию, даже своего собственного deus ex machina, а именно бога машин и плавильных тиглей, т. е. познанные и обращенные на служение высшему эгоизму силы природных духов; она верит в возможность исправить мир при помощи знания, верит в жизнь, руководимую наукой, и действительно в состоянии замкнуть отдельного человека в наитеснейший круг разрешимых задач, где он весело обращается к жизни со словами: «я желаю тебя: ты достойна быть познанной. Это извечный феномен: всегда алчная воля находит средство, окутав вещи дымкой иллюзии, удержать в жизни свои создания и понудить их жить и дальше»96. Время творчества позднеренессансных мыслителей, таким образом, приходится не на эпоху осмысления гармонии и красоты бытия, а на эпоху decadence, т.е. на эпоху 95 96 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. С. 148. Ницше Ф. Т. 1. С. 126. 60 осмысления трагического положения человека в мире. Это время суровое по самой своей сути. Эта суровость проявляется во всех сферах: в религиозном самосознании светское вновь противопоставляется церковному, откровенное наслаждение радостями жизни исчезает. Тассо (1544-1595) избирает для своего христианского эпоса героя, утомленного миром. В обществе, в социальных отношениях господствует сдержанность; вместо свободной грации Ренессанса появились серьезность и достоинство; вместо легкой и веселой игривости - торжественная и шумная роскошь. Пестрые разнообразие и индивидуальность раннего Ренессанса ушли в небытие. Подобно античным поэтам, творцы Ренессанса любили вникать в каждую деталь; отдельное существование, взятое во множестве различных аспектов, вызывало у них неподдельный интерес и требовало фундаментального созерцания. В эпоху упадка повсюду утверждалось стремление только к величественному и значительному. Свойственная раннему Ренессансу удивительная интимность в переживании каждой отдельной формы в эпоху decadence теряет свою значимость и привлекательность. «Отдельное и ограниченное, пластическая форма теряют свое значение; работа идет с эффектами масс, даже с самыми неуловимыми элементами: свет и тень становятся непосредственными средствами выражения»97. Способность к пластическому сопереживанию, тонкость понимания правящих в космосе сил симпатии и антипатии, ценность индивидуального существования - все это теряет свою значимость в мировосприятии мыслителя-новатора, который уже был нацелен на способность переживать и воспринимать только величественное, бесконечное и непостижимое. Такое новое состояние человеческого бытия можно передать следующими словами: «отречение от понятного», «потребность в захватывающем», «чары механицизма». В одном из своих писем Шиллер определял сущность эпохи упадка таким образом: «Красота - для счастливого поколения, несчастное же нужно попытаться растрогать возвышенным». Художественная, перспективистская наука Ренессанса была радикально преобразована в мышление предвосхищающее, ориентированное на постоянное выдвижение гипотез и на экспериментирование. Утопия как таковая есть результат дальнейшего развертывания ренессансного содержания идеи humanitas, но в условиях, когда обожествление мира и героизация человека уступали место новой науке с ее культом разума и добродетели. Ренессанс создал интеллектуальные предпосылки утопии, но утопия как сфера свободнопроизвольного конструирования языка постижения мира, как сфера, в которой вещи утрачивают свою материальную устойчивость и редуцируются к протяженности, претерпела трагическую судьбу. Не случайно появление утопии совпало с появлением послеренессансной трагедии. 97 Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. С. 153. 61 К.А. Шморага (Псков) Гуманистические и антигуманистические предпосылки современной европейской культуры Современная западная культура при всяком удобном случае не забывает подчеркивать одно из главных своих достижений – демократию, точнее, свободное общество, в котором человек живет не под властью какой-либо, внешней для него необходимости, а в соответствии со своими фундаментальными, естественными, потребностями, самостоятельно отвечая на самые главные для себя вопросы. Принято считать, что такое положение дел – закономерный результат эволюции или революции взглядов человека в ходе чего постепенно происходило усиление роли человека во всех сферах жизни, в том числе экономической и социально-политической. Особенно принято выделять здесь роль гуманистической мысли и философов Просвещения. Даже не пытаясь оспаривать их значение в популяризации свободолюбивых общественно-политических взглядов, необходимо, тем не менее, обратить внимание на место в формировании идеалов свободного общества мыслителей, стоящие подчас на принципиально иных, по сравнению с гуманизмом, позициях. И может статься, что, идя по такому пути, мы выясним, что внутренняя логика формирования современной культуры далека от позиций исключительного человеколюбия. В европейской философской традиции представления о человеке длительное время строились на основе оптимистического признания его целостности. Хотя и признавалось, что полнота людского существования нарушается страстями, все-таки акцент всегда делался на возможность абсолютного исправления такой ситуации. Корни подобных представлений нужно, вероятно, искать у истоков человеческой культуры, до которых только может дотянуться современный исследователь – в древних культах. Среди них наибольшее влияние на формирование европейской цивилизации оказала, конечно, религия античной Греции. Отсутствие в миропонимании Эллады таких понятий как грех или справедливость (понимаемые как величины вселенские) прослеживается и в сохранившейся до наших дней репутации греков как людей с ощутимой долей лукавства. Отмечено это и в изданной на рубеже XIX и XX веков книге «Иллюстрированная история религий» под редакцией профессора Д.П. Шантепи де ля Соссей: «Но, насколько мы знаем религию обыкновенных граждан, становится удивительным, до какой степени в круге ее идей нравственный долг отступает на задний план»98. Причины столь незавидного места нравственного начала в жизни древних эллинов определяет кн. С.Н. Трубецкой. Из его описания можно сделать вывод, что власть необходимости с одной Иллюстрированная история религий под редакцией профессора Д.П. Шантепи де ля Соссей. Изд. второе. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, Российский фонд мира, 1992. –Т.2. -С.206 98 62 стороны, и господство олимпийских богов, победивших «множество темных, подземных, чудовищных сил»99 с другой, наталкивала на мысль о том, что зло – это внешняя или даже сверхъестественная сила, бороться с которой могут только такие же потусторонние существа. Роль простого смертного – наладить контакт, союз с ними. Таким образом, в сознании древних отсутствует основа для представлений о поврежденности, неполноценности человеческой природы. Более того, в их сознании жила уверенность о возможности собственного автономного существования. Но это автономность не в нынешнем смысле самоопределения. Человек самостоятелен только тогда, когда он является ладной частью мирового порядка, в который он встроен наравне с богами. Если только в этой грандиозной системе происходит малейший сбой, он, как любой кризис в современной глобальной экономике бьет по правым, виноватым и даже тем, кто вообще стоял в стороне. «Идея компенсации – не идея субъективной вины, но идея возмещения ущерба, нанесенного порядку»100 – так характеризует основу религиозно-нравственных представлений античной Греции А.А. Столяров. Но как же избежать нарушения порядка и гарантировать его сохранение? Как свидетельствует С.Н. Трубецкой, выход человек находит «в магии и в религии, а затем в философии и науке»101. Именно идея компенсации, стремление умиротворить ее, прямотаки вынуждает европейскую культуру все сильнее и сильнее уходить в философию и науку, раскручивающих с позиций разума нить причинно-следственной зависимости. Спустя несколько столетий это представление трансформируется в философии Платона в дуализм души и тела. Убеждение в целостности сущности человека, его идеального начала он высказывает уже в ранних диалогах (например, в «Протагоре»), считая, что благо вполне согласуется с приятным. Очень быстро разочаровавшись в такой точке зрения, он, тем не менее, не оставляет мысли о целостности, божественных возможностях сердцевины души человека. Это можно обнаружить и в его учении об идеях, в учении о познании, в его мнении о душе как о бессмертном начале движущем и самодвижущемся. В довершение этого в «Федоне» Платон говорит, что единственно достойная задача человека состоит в освобождении души от всего телесного, в ее сосредоточении на себе. С его точки зрения единственно достойная область познания – внутреннее умозрение души, поскольку лишь в ней таится знание о непреходящем. Вина за несовершенство и зло почти целиком падает на материю, объявляя тело – темницей духа. С.Н. Трубецкой. Курс истории древней философии. М.: Гуманит. изд. центр Владос; Русский Двор, 1997. – С. 61. 100 Столяров А.А. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. М.: ГЛК Ю.А. Шичалина, 1999. -С.23 101 С.Н. Трубецкой. Курс истории древней философии. М.: Гуманит. изд. центр Владос; Русский Двор, 1997. С. 60 99 63 На этих принципах основывались и социально-политические взгляды Платона. Его идея софиократии хотя и является утопией, но ее внутренняя логика еще очень и очень долго влияла на умы. Аврелий Августин – один из великих Отцов Церкви, хотя и не любил греческого, но в своих взглядах во многом находится под влиянием эллинского философа. Особенно это заметно в ранний период. И особенно в сфере обоснования возможности человека руководить собой, то есть быть началом движущим и самодвижущимся. Также заметно сходство идей раннего Августина с предшествующей традицией в его стремлении избежать действия закона компенсации, построив ясную логическую систему взаимоотношений Творца и творения. «Устрани распутниц из человеческих обществ и вожделение повсюду внесет беспорядок»102, замечает он относительно места зла в мире. Вообще говоря, трактат «О порядке» весьма примечателен в свете правильного выявления генезиса и развития августиновской мысли. Написанный в ранний период его христианского творчества, он вобрал в себя и языческие, и христианские влияния. Будучи наследником Античности, он не мог избежать попыток построить гармоничную систему мира, где каждая вещь имеет свое, пусть не всякому понятное место. Как уже было сказано, это делается в русле стремления не нарушить порядок мира. Потому что в противном случае из-за кулис выйдут разрушительные силы Хаоса, настолько страшные, что это приведет к полному крушению мира, апокалипсису. Поэтому Августин даже будучи уже вполне искренним христианином, стремясь в первую очередь избавить от малейшей тени сомнения имя Бога, формулирует взгляды, подчас входящие в противоречие с христианским мировоззрением. С его точки зрения мир, поскольку сотворен Богом, совершенен (в смысле упорядоченности), в нем нет ничего дурного. Всякое несовершенство он объясняет слишком узким взглядом людей на жизнь или нежеланием вдумываться в происходящее вокруг них: «Но ведь это то же самое, как если бы кто-нибудь, имея до такой степени слабое зрение, что взор его на мозаичном полу не мог бы охватить пространство, большее одного квадратика, стал бы укорять художника за неумение давать этим квадратикам порядок и известное расположение. Разве виноват художник в том, что его критик не способен воспринимать его мозаичные работы, сливающиеся во всей своей совокупности в одно прекрасное целое? Но ведь именно это и происходит с теми недалекими людьми, которые, не будучи в силах своим слабым умом объять всю совокупность и гармонию вещей, если что-нибудь причиняет им вред, и, по их мнению, этот вред велик, считают, что и во всем прочем царит великая мерзость»103. И он считает, что прекрасно будет все, даже то, что кажется О порядке. Цит. по: Бычков В.В. Этика Отцов церкви. М.: НПЦ Ладомир, 1995, Ч.2 -С. 364 Аврелий Августин. О порядке//Об истинной религии. Теологический трактат. Минск: Харвест, 1999. С.141 102 103 64 на первый взгляд ненужным или вредным: если что-либо существует, то на это есть какаято причина, входящая в общий порядок. В масштабах Вселенной все совершенно. И все-таки: как совместить совершенство Творца, созданного им совершенного целого с пусть лишь визуальным, но так бросающимся в глаза несовершенством отдельных частей? Ведь даже сам Августин называл нечестивых людей «нечестивыми», а недалеких «недалекими». Выйти из положения он пытается при помощи теории свободной воли. Но она, согласно уже упомянутому стремлению сохранить и гармоничность мироздания, и оправдать Бога, и не опорочить совершенство Его творения, привела, по сути к обратному результату. «Эводий. Значит, кто-то другой творит то зло, которое, как это ясно, не относится к Богу? – Августин: Конечно. Ведь зло, не могло бы появиться само по себе. А если ты спросишь, кто же именно творит его, то ответить будет нелегко: это не кто-нибудь один – ведь всяк творит свое зло. Поэтому если ты сомневаешься, то поразмысли над тем, что было сказано выше: злодеяния караются справедливостью Божьей. И они, конечно, не карались бы справедливо, если бы не совершались добровольно»104. Действительно, если человек не отвечает за свои поступки, как же можно его наказать или наградить? Одно и другое будет несправедливо. Идея наказания и ответственности приобретает смысл лишь тогда, когда поступки человека обоснованы рационально, а воля самостоятельно выбрала тот или иной вариант действия. Вряд ли Августин пытался утвердить человеческий произвол и обосновать величие человека. От таких идей он был далек. Подобные воззрения были ближе ученику Пелагия Юлиану Экланскому. Как замечает Е.Н. Трубецкой, по существу указывая также на связь аскетизма в духе Пелагия (направленного прежде всего на самоусовершенствование человека) и гуманизма: «Точка зрения Пелагия исходит из предположения умозрительного, из отвлеченного понятия человеческой личности абсолютно свободной, какая в опыте никогда не была наблюдаема. Аскетическое учение Пелагия, действительно перешло в светское пелагианство его ученика и последователя, знаменитого Юлиана Экланского. Характерным девизом всей этой светской проповеди Юлиана служит формула: «Человек, эмансипированный Богом»105. В мировой порядок в качестве действующей причины помимо его Создателя оказывается введено еще одно действующее лицо – человек. И тут же стала растворяться гармония космоса, а репутация Бога с рациональной точки зрения вообще оказалась под угрозой. Свидетельство тому – многочисленные споры и даже ереси появившиеся не без влияния трактата «О свободном выборе» Августина. Столяров А.А. Свобода воли как проблема европейского морального сознания. М.: ГЛК Ю.А. Шичалина, 1999. -С. 125 105 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Блаженного Августина. www.vechi.liter.ru, Ч. 2. -С. 12,14 104 65 Дабы исправить положение, епископ гиппонский прибегает к методу, в полноте своей реализованному в его теории предопределения и фундаментальном трактате «О Граде Божием»: разделением бытия на два пласта. Один – идеальный, но нездешний, который в этой жизни может быть только в сердце. Это Град Божий. Другой – реальный, но несовершенный Град земной. Он хотя и богоборческий, является средоточием несправедливости, но здесь и сейчас его наличие обойти нельзя: «Однако жизнь Града земного протекает по таким законам, которые не исключают и злых деяний. И с этим уже ничего не поделаешь: их нужно принять как неизбежность»106. Здесь Августин еще продолжает античную традицию, пытаясь сохранить целостного человека, введя в систему, объяснив хотя бы в глазах разума, его усилия стать лучше и то, что, несмотря на все упражнения, он к лучшему не изменяется. Но учение о Граде Божьем принадлежит уже не только прежней культуре. В нем есть уже предпосылки иного отношения к месту и цели человека в мире. Августин говорит о совершенно иной, не похожей на все, с чем прежде человек имел дело, природе этого Города. Он отвергает античное представление о единстве и совершенстве бытия, выражавшееся, в частности, в цикличном восприятии истории. Вместо круга, который считался законченной фигурой и с которым в еще пару столетий назад отождествлялся Космос, Августин предлагает линейную трактовку истории, причем имеющую и начало (грехопадение человека, основание Града земного), и конец (восстановление божественной справедливости, торжество Града Божьего). Этот взгляд совсем не характерен для античной культуры, но и в Средневековье с его телеологическими установками он вписывается не вполне. Но это уже те ростки, которые будут набирать силу все Средневековье и приведут, в конце концов, к крушению прежней культуры, в которой все статично, упорядоченно, где есть свое место и у человека. Причем место не такое уж незначительное, раз внутри такого мировоззрения было место и гуманизму гностиков, и гуманизму Пелагия. Пока же сохраняется культурное единство Античности и Средних веков, одной из существенных черт которого можно назвать гуманность, постоянные попытки сохранения человека как единого целого то в борьбе с темными демоническими силами, то с тяжелой природой материи, которая все время уводит людей от истины. И даже в тринадцатом веке один из великих последователей Августина Иоанн Дунс Скот будет следовать схожим путем, что и Отец церкви, пытаясь защищать возможность природы человека быть свободной, а, значит, целостной: «5. Называется [воля] свободной, поскольку в ее власти совершить акт, противоположный склонности, равно как и соответствующий [склонности], и не совершить, равно как совершить. 6… Таким образом, из этого можно Цит. по: Бычков В.В. Этика Отцов церкви. НПЦ М.: Ладомир, 1995. Ч.2, -С. 365 и прим.3 к этой странице: Ср. у Плотина: «… если бы не было зла, универсум был бы несовершенным». 106 66 заключить, что ни одно действие не проистекает в такой мере от нас самих, как воление воли»107. Стремление во чтобы то ни стало сохранить гармонию мироздания и доброе лицо человека сохраняется, несмотря на все «против», возникшие к этому времени и заключенные главным образом, в позиции христианства, в утверждении о непреодолимой для человека поврежденности его собственной природы и всего мироздания. Это привело с одной стороны к догматичности средневековой мысли, с другой – к ее внутренней несогласованности. Многие аскетические практики, учение об оправдании добрыми делами, разделение общества на клир, имевший особые привилегии на Страшном суде и мирян, таких привилегий не имевших – вот наиболее яркие противоречия ставшие результатом развития элементов античной культуры в христианском мировоззрении. Это не могло не привести к трансформации взглядов на человека, общество, власть, мир в целом. Наверное, самым характерным проявлением такой трансформации стал процесс, приведший не только и не столько к появлению новой христианской конфессии, но и нового типа культуры, началу Нового времени, стала Реформации, говоря о которой Энгельс сказал: «Революция началась в мозгу монаха». Этого монаха – Мартина Лютера Э.Ю. Соловьев характеризует так: «В Лютере - все причудливо, все «не по правилам»: он фидеист, который выступает против церковного авторитета; ортодокс, ополчающийся на догматику; мизантроп, провоцирующий в простолюдине чувство его человеческого достоинства»108. Но вместе с оценкой Лютера здесь звучит и оценка той традиции, которая своим существованием во многом обязана реформатору. Эволюция взглядов и веры Лютера напоминала эволюцию Августина. Да и события жизни, повлиявшие на формирование его взглядов оказались весьма похожи на путь Августина. Лютер, будучи обеспокоен прежде всего религиозными и эсхатологическими проблемами, находится очень близко к духу исканий Августина. Поэтому можно сказать, что Мартин Лютер является идейным наследником африканского мыслителя. Однако поставить между ними знак равенства или хотя бы подобия вряд ли возможно. Одно из отличий, которые сразу бросаются в глаза, заключается в том, что немецкий реформатор не пытается строить гармоничную систему, не пытается следовать логике. И вот парадокс: прежняя традиция, пытаясь оправдать мировую гармонию, сохранить целостность каждой части мироздания, в том числе и человека, достигает скорее обратного результата. По крайней мере человек живет в ней не как нечто целостное, а опутанный по рукам и ногам различными типами права. Как верно отмечает 107 108 Бл. Иоанн Дунс Скот. Избранное. Сост. и общ. ред. Г.Г. Майорова. М.: Изд. францисканцев, 2001. -С. 477 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас. М.: Изд. политической литературы, 1991. -С.54-55 67 Э.Ю. Соловьев проявления мизантропии, а по существу отказ от прежних попыток гармонизировать все противоречия внутри человека, у Лютера привели к пробуждению интереса к человеческой природе, попыткам описать пути доказательства человеческого достоинства. Такую попытку предпринимает уже сам реформатор. Книга «О свободе христианина» противоречива и не укладывается в рациональные рамки. В ней Лютер одновременно доказывает и нищету, и достоинство человека: «Христианин является совершенно свободным господином всего сущего и неподвластен никому; христианин является покорнейшим слугой всего сущего и подвластен всем»109. Сам Лютер поясняет, что между этими двумя утверждениями нет никакого противоречия. Ведь имея двойственную природу, человек, в котором победила духовная сущность, не нуждается ни в чем из вещей этого мира. Однако если верх берет физическая сущность – человек становится зависимым ото всего внешнего. Другая причина, по которой эти два высказывания истинны одновременно, заключается в том, что свободен внутренний человек по праву, а порабощает себя сам по любви. Есть только одно, что ограничивает человеческую свободу и, вместе с тем, является ее началом или гарантом – это Слово Божие, которое есть благовестие Божие о Сыне Его, явившемся во плоти, пострадавшем, воскресшем из мертвых и прославленным освящающим Духом Святым. И это же слово является источником всякого права, в том числе того, по которому христианин свободен: «Как оба царства (мира и Бога – прим. автора) стоят под правлением Бога, так эта двойственность снимается в единство божественной законной волей»110. Лютер не желает создавать что-то новое, тем более нечто свое. Он хочет вернуться к истокам. Только эти истоки настолько обросли всевозможными наслоениями, что для их очищения пригоден лишь молот. Здесь немецкий монах обращается к тому же методу, которым пользовался Исаия в древнем Израиле, ап. Павел на рубеже эпох и впоследствии, в XIX веке, Фридрих Ницше. Молот – это слово, взрывающее, разбивающее в пыль слежавшиеся пласты человеческих представлений или, как говорил Л. Шестов «твердынь, за которыми окопался разум»111. Одно из «взрывоопасных» положений учения Лютера заключается в отказе от идущей еще с Античности традиции устанавливать гармонию между Высшим началом и человеком: «Бессмысленно и кощунственно спрашивать «почему?» у божественной заповеди. Богооправдания нет. Бог в себе, а именно то, что собственно составляет Божество, для человека вообще непостижим, например, Бытие вне времени, до сотворения мира. Он открыл себя только внешне, именно в слове и деле, так Лютер М. «О свободе христианина» Избранное. СПб., 1997. стр.13 Johannes Heckel. Lex charitatis. Eine juristische Untersuchung über das Recht in der Theologie Martin Luthers. München, 1953. -S.47 111 Шестов Л. Афины и Иерусалим. – СПб.: Азбука, 2001. -С. 180 109 110 68 как только их в некоторой степени можно понять»112. Как ни странно, такое ниспровержение человека имело не отрицательные, как того опасался великий гуманист северного Возрождения и оппонент Лютера Эразм Роттердамский, а скорее положительные последствия. Хотя однозначно оценить последствия реформации вряд ли возможно. Несомненно одно: взгляды Лютера оказали влияние, выходящее далеко за пределы религиозной сферы и стали одним из существенных факторов формирования новой культуры, в которой живем и мы. В учении Лютера меняется представление об отношении Бога и человека, и связанная с ним идея власти. Из линейного процесса, постоянно подпитываемого диалектическими отношениями преступления и наказания, она приобретает совершенно иной, не характерный для прежней культуры, вид. Лютер не только провозгласил невозможность окончательно удостовериться в собственном спасении (еще на заре Средневековья это сделал Аврелий Августин). Он главным мотивом действий человека признал веру, целиком зависящую от Бога. Только в ней (solo fide) человек обретает автономию и ничто более – ни страх наказания, ни соблазн вознаграждения не может изменить этого. Кроме того, Лютер сравнивает человека с вьючным животным, за которое бьются Бог и сатана: «воля человеческая... словно вьючный скот. Она находится где-то посередине между Богом и сатаной. И нет у него никакой воли бежать к одному из этих ездоков или стремиться к ним, но сами ездоки борются за то, чтобы удержать его и завладеть им»113. Все это не может не навести на мысль, что конец истории немыслимый для Античности, признаваемый, но все же далекий для Средневековья, становится таким близким и осязаемым. Макро- и микрокосм меняются местами. Трагизм существования выходит за пределы иконы и богословия и становится частью личного повседневного опыта. С этой точки зрения становится еще ощутимее, почему для Лютера идея личной ответственности занимает столь важное место: конец человека – это конец мира. Такой подход сближает христианина Лютера и антихристианина Фридриха Ницше. И, наоборот, отдаляет принципы его учения от идей многих последующих мыслителей. Еще дореволюционные исследователи отмечали, что начиная уже с Меланхтона, протестантизм постепенно возвращается к рациональным методам средневековых мыслителей, поскольку они давали возможность выстроить целостное знание, создать гармоничную систему. Но ведь это как раз то, против чего выступал Лютер, как раз то, что скрывало от человека его истинную суть, не давало ему быть свободным, пусть и в 112 Johannes Heckel. Lex charitatis. Eine juristische Untersuchung über das Recht in der Theologie Martin Luthers. München, 1953. -S.52-53 113 Лютер М. О рабстве воли//Избранное. СПб., 1997. -С. 212 69 негативном смысле. А раз так, то невозможно было найти выход из ощущаемой всем естеством несправедливости мироздания и расколотости человеческой природы. Впервые после Лютера в европейской философии громко и четко на такой путь попытался выйти Фридрих Ницше: «Ницше первый из немецких философов обратился лицом к Лютеру и Библии»114. Только его неудачу можно объяснить отсутствием того фундамента, на который опирался реформатор – Бога, который, по мнению Ницше, умер. Впрочем, применительно к европейской культуре это не так уж далеко от истины. Смерть Бога, о которой так много говорил Ницше, во многом вызвана разрастанием европейского гуманизма. Как ни странно, именно данный факт явился одним из побудительных мотивов его творчества. Этот гуманизм не освободил человека, как своеобразная мизантропия Лютера, а только поработил его, привязав к гармонии вечных истин. Здесь заключается одно из главных противоречий современной культуры. 114 Шестов Л. Афины и Иерусалим. – СПб.: Азбука, 2001. -С.187 70 II. Реформация и Контрреформация: этические и религиозные оппозиции. В.А. Бачинин (Санкт-Петербург) Социальная теология Жана Кальвина. Лютеровской Реформации сопутствовал процесс интенсивного теологического и социально-философского творчества, расчищавший духовное пространство для утверждения новых религиозных, социально-политических и морально-правовых идей. Реформаторы отвергли основную массу тех социально-религиозных установлений, которые не следовали из Библии, не соответствовали библейским образцам и нормам. Это хорошо видно на примере учения Жана Кальвина115. Существует мнение, будто после Фомы Аквинского в христианском богословии не было столь же крупного теолога до тех пор, пока не появился Кальвин. Свой главный труд "Наставление в христианской вере" (1536) он написал во время пребывания в Базеле. Впоследствии теолог продолжал работать над ним, переделывать и дополнять, так что в конечном счете, объем сочинения увеличился в пять раз и составил четыре тома. Ясность богословской позиции и строгая логика ее обоснования поставили книгу Кальвина в ряд лучших произведений протестантской мысли и принесли автору европейское признание и неформальный титул "Аристотеля Реформации". Богословская позиция Кальвина прочно укоренена в библейском тексте. Он исходил из того, что существуют два типа Откровений Бога о Себе – природа и Священное Писание. Природу Кальвин воспринимал как книгу, созданную Богом, как живой, динамичный текст, состоящий из знаков и значений, изменяющийся в деталях, но неизменный в главном – в своей подчиненности Божьим законам. Он всегда стремился найти подтверждение каждой своей мысли в Священном Писании. Учение Иисуса Христа и его развернутая презентация апостолом Павлом в новозаветных Посланиях послужили Кальвину исходным основанием его теологических идей. Значительное влияние на него оказали также учение Августина и идеи Мартина Лютера. Цепочка прямых духовных связей от Иисуса Христа к апостолу Павлу, а затем к Августину и Лютеру составила теологическое родословие реформатора. Подобно своим духовным учителям, Кальвин, См.: Берд Ч. Реформация XVI в. в ее отношении к новому мышлению и знанию. СПб., 1897; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV – XVIII вв. Т. 1 – 3. М., 1986 – 1992; Вебер М. Избранное: протестантская этика и дух капитализма.М., 2006; Вебер Марианна. Жизнь и творчество Макса Вебера. М., 2007; Драгунов Г. П. Швейцария: история и современность. М., 1978; Зеленский Ю. Женева прошлая и современная. М., 1980; Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Книги I – IV. В 3-х тт. СПб., 1997 – 1999; Кальвин Ж. О христианской жизни. М., 1995; Ким Сун-чжон, Пиков Г. Г. Жан Кальвин и некоторые проблемы швейцарской реформации. Новосибирск, 1998; Лейн Т. Христианские мыслители. СПб., 1997; Маграт А. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994; Мережковский Д. С. Собр. соч. Реформаторы. Испанские мистики. М., 2002; Митер Х. Генри. Основные идеи кальвинизма. М., 1995; Порозовская Б. Д. Иоганн Кальвин, его жизнь и деятельность. СПб., 1891; Хегглунд Б. История теологии. СПб., 2001; Хубер В. Права человека и библейское законодательство // Права человека и религия. Хрестоматия. М., 2001; Цвинги У. Богословские труды. М., 2005; Protestantism, Capitalism and Social Science. The Weber Thesis Controversy. Lexington: D.D. Health, 1973. 115 71 был убежден, что в жизни нет ничего случайного, а все находится во власти Божьего предопределения. Ему удалось создать грандиозную религиозно-философскую систему, отличающуюся цельностью семантических, аксиологических и нормативных конструкций. Основные принципы учения Кальвина подразделяются на две группы. Первая включает в себя положения, которые являются общими для всех протестантов (неприятие власти римского престола, признание Священного Писания как единственного авторитетного вероучительного источника, отправление богослужений на родном языке прихожан и др.). Во вторую группу входят принципы, которые ставят кальвинизм на особое место в протестантизме. Они имеют специфическую теологическую и церковнообщественную направленность: 1) мир и человеческий род – это подобие арены, на которой Бог, величайший режиссер, воплощает Свой замысел, ставит Свою пьесу, содержание которой Ему одному известно от начала до конца; 2) вера в Бога – это великий дар Творца Своему творению; но не все люди способны принять этот дар и по-настоящему уверовать; среди них есть те, кто к вере изначально не предрасположен и потому обречен умереть в состоянии безверия; 3) причина таких различий между людьми - абсолютное преодпределение, согласно которому люди изначально разделены Божественной волей на избранных и осужденных; есть те, кому не дано ни уверовать, ни изменить свою посмертную участь, остающуюся непостижимой и составляющую тайну Бога; 4) ни одному человеку не дано точное знание об его предопределении, поэтому он не должен пытаться проникнуть в тайну Бога, а обязан искать веры, крепить ее в себя, служить Господу, вникать в глубинные смыслы Священного Писания и жить так, как оно требует; 5) безверие - самый тяжелый грех; ему нет оправдания ни на земле, не на небе, и от расплаты за него не спасут никакие добрые дела; 6) самая высшая духовная доблесть – истинная вера, которую Бог дает человеку навсегда; 7) труд – основная земная форма служения Богу; человек обязан избегать в своей социальной жизни праздности; его долг - интенсивно трудиться, добиваться профессиональных успехов, приумножать свое богатство, но не превращать обогащение в самоцель и все добытые средства вновь пускать в оборот; следует помнить, что все материальные ценности даны человеку во временное пользование. Учение Кальвина теоцентрично и существует в системе абсолютных смысловых и ценностно-нормативных координат. Основания этой системы следует искать в Библии, 72 которая является для женевского реформатора средоточием абсолютных истин, обладает непреложным авторитетом в силу того, что является не обычной книгой, не тем, что мы сегодня называем артефактами, а предстает как теофакт, т. е. реалия, имеющая сакральное происхождение. Библия для Кальвина - это Слово Божье. Через нее Бог предлагает людям оптимальные принципы социальной, политической, духовной деятельности, пригодные для всех времен, народов, обстоятельств и ситуаций. Бог выступает главным средоточием размышлений Кальвина. В философских системах Нового времени это не такое уж частое явление. У большинства европейских философов XVI – XX вв., а также у русских мыслителей серебряного века Бог не занимал столь важного места в их дискурсах. Библейская мысль «Ибо все из Него, Им и к Нему» (Рим. 11, 36) чаще всего отодвигалась ими на задний план. Рассуждения велись в основном о Божьем мире, но не о Боге, так что порой доходило до того, что Бог превращался в некую декоративную фигуру, на фоне которой разворачивался дискурсивный ландшафт авторской философской конструкции. Для Кальвина Бог – Первопричина всего сущего и должного. Под Его непосредственными и опосредованными влияниями проходит вся человеческая жизнь, развиваются цивилизация и культура, творят ученые, философы, художники и поэты. Он одаряет людей талантами и мудростью, подвигает их на продвижение по стезям, ведущим к идеалам истины, добра и красоты. Бог – это сила, дающая человеку свободу и одновременно вводящая ее в русло необходимости. Особенность этой необходимости в том, что она носит исключительно благой характер. Бог не желает человеку зла, не предлагает заведомо тупиковых проектов, не подвигает на опрометчивые решения. Он ведет человека подобно мудрому отцу, держащему маленького ребенка за руку, не позволяя тому ни упасть, ни свернуть с сторону, где его поджидают многочисленные опасности. Человек, разумеется, вправе «заявить своеволие» и вырвать свою руку из десницы Божьей, чтобы зашагать своим путем. Но это будет уже путь грехов, пороков, преступлений и неизбежных катастроф и поражений. В этом Кальвин твердо убежден, находя подтверждения своей правоты в библейском тексте. Кальвиновская картина социально-политического мира также теоцентрична. Бог в ней – главенствующая детерминанта, оказывающая определяющие воздействия на политическое сознание и политическую жизнь народов. Именно Бог вложил в человеческие сердца идею государственного устройства общественной жизни и стремление к ее практической реализации. Государство – это институт, посредством которого Бог обуздывает греховную человеческую природу и утверждает тот минимальный социальный порядок, без которого нормальная жизнедеятельность людей была бы невозможной. Бог допускает единоличных правителей, позволяет людям 73 создавать такие инструменты жизнеустройства законодательной, исполнительной и судебной как правительства, системы власти. Вся эта государственная «механика» рассчитана на издержки, связанные с греховной природой людей. Она имеет определенный запас прочности, позволяющий противостоять самым опасным проявлениям зла и нейтрализовать его разрушительную силу на всех уровнях социальной жизни. Впоследствии Кальвина обвиняли в том, что он слишком настойчиво проводил принцип моральной диктатуры Бога. Но надо отдать должное: данный принцип действительно оказался удивительно эффективным инструментом преобразования того социального хаоса, который царил в Женеве, в упорядоченный мир законности и стабильности. Трудно представить себе какой-нибудь альтернативный и столь же успешный проект социальных преобразований, который смог бы просуществовать много столетий и принести Женеве то благополучие и процветание, плодами которого смогли пользоваться много поколений ее жителей. Кальвин постоянно подчеркивал абсолютную свободу Бога, Который волен даровать благодать тем, кому пожелает. Распределяя сокровища спасения как Ему угодно, Он демонстрирует не только Свою свободу, но и мудрость и милость. Согласно кальвинистской доктрине, человек не может знать, что именно, спасение116 или погибель, предопределены ему в будущем Божьим промыслом, Бог не раскрывает этой тайны никому. Люди способны лишь строить предположения о характере ожидающей их посмертной участи. Своеобразным «намеком» на характер будущей участи конкретного человека кальвинисты считают степень плодотворности его профессиональной деятельности. Если человек не просто трудолюбив, но и успешен в своих делах, то получаемая им прибыль, В русском православном сознании тема спасения имела иной вид, отличный от протестантского «Русское религиозное сознание, - писал С. Л. Франк, - никогда не спрашивало, каким образом приходит человек ко спасению, через внутренний образ мыслей и веру или внешние действия. Обе части дилеммы, как ему представляется, предполагают слишком внешние [точнее было бы сказать рационализированные. – В. Б.] отношения между человеком и Богом, неподобающее разделение между ними. Ни внутренний субъективный человеческий настрой на религиозность, ни какие-либо действия человека не достаточны для того, чтобы установить внешнюю связь с Богом; только Сам Бог и Он один, по мере того, как Он завладевает человеком, если тот погружается в Него, может спасти его. Знаменитый августинопелагианский спор о соотношении между благодатью и свободной волей, который сыграл такую большую роль в истории западной церкви, также никогда всерьез не тревожил русское религиозное сознание. Ибо этот спор основывается на известном разделении и напряжении между человеком и Господом, между субъективно-внутренне-личным и объективно-внешне-надличностным моментом религиозной жизни, а именно это напряжение совершенно чуждо русскому метафизическому чувству» (Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 173). Когда С. Л. Франк писал подобным образом, то он имел в виду народное (массовое) православное сознание, ортодоксальность которого была обусловлена, во-первых, естественно-исторической отгороженностью от сопредельных конфессиональных миров, а во-вторых, элементарной богословской непросвещенностью. Таким образом, то, о чем пишет Франк и что явилось водоразделом, отделившим на Западе протестантизм от католицизма (принцип «sola fide»), в России не являлось предметом размышлений для массового религиозного сознания. Только в середине XIX в., когда в России начало набирать силу евангельское (протестантское) движение, эта проблема стала осознаваться российским христианами, тяготевшими к протестантизму, как нечто крайне важное для их духовного самоопределения. 116 74 состоятельность, знаки общественного признания свидетельствуют об его избранности к спасению. Богатство, приобретенное честным трудом – это не только результат личных усилий, но и дар Божий, свидетельство Божьих благословений. Если человек беден из-за того, что много грешит, имеет явные пороки, отличается расточительностью, легкомыслием, склонностью к праздности, то отсутствие успехов в делах позволяет предположить о том, что он не будет спасен и вечную жизнь не наследует. Такого человека Бог не станет благословлять ни при жизни, ни после смерти. В подобных случаях открывается истина: «предопределение есть не что иное, как порядок и осуществление Божьей справедливости, которая, хотя и таинственна, но безупречна»117. Если люди данного типа достойны именно такого предопределения, то нет никаких оснований сомневаться в том, что уготованная им Богом погибель вполне справедлива118. Они претыкаются на своем жизненном пути не потому, что этого желает Бог, но потому, что этому способствуют их личные грехи и пороки. То есть причины тех проклятий, под гнетом которых они влачат свое существование, следует искать не столько в Божьем предопределении, сколько в их испорченности и дурно направленной свободной воле. Причины, по которым Бог не помог этим людям выйти из их низкого, отверженного состояния, никому не ведомы и составляют тайну Божию, скрытую от человеческого разумения. И докапываться непостижимостью до премудрости них людям Божией – не следует. свидетельство Преклонение высоты перед положения человеческого духа. Кальвин соединяет в своих рассуждениях о предопределении свободу Бога со свободой человека. Это полностью соответствует сути библейского учения о богоподобии человека, получившего от Творца максимум даров, в том числе и свободную волю. Ею располагают как избранные, так и отверженные. Человек, не сумевший распорядиться этим даром должным образом, не вправе роптать на Бога, но вынужден возложить всю меру ответственности за свой жизненный крах, если таковой его настигает, только на самого себя, на свои уклонения от пути, предложенного ему Богом. То, что идея предопределения стала играть в кальвинизме роль ключевого принципа, объясняется ее начиненностью мощным социально-мировоззренческим и ценностно-регулятивным зарядом. Это позволило ей выдвинуться на авансцену моральноэтического дискурса, придало ей статус теологической доминанты. А то, что в теме предопределения речь идет о будущем, т. е. о том, чего пока нет в действительности, и что проявится лишь посмертно, помещает это понятие в типологический ряд возможного, но не действительного. При этом спасение, оставаясь вероятностью, превращается в цель индивидуального существования. Тем самым обнаруживает свою впечатляющую силу 117 118 Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. Т. 2. Кн. III. СПб., 1998. С. 410. Там же. 75 механизм телеологической детерминации. Возможное, вероятное спасение превращается в целевую причину, активно воздействующую на социальную жизнь человека из виртуального будущего. Таким образом, проблема жизненного пути человека и ожидающего его посмертного будущего обретает у Кальвина три смысловых измерения – теологическое (как идея предопределения), философское (как проблема телеологической детерминации) и этическое (как проблема личной ответственности). Но во всех трех случаях главной фигурой, с которой человек обязан соотносить свои помыслы, чаяния и поступки, выступает Бог. Согласно Кальвину, в человеке присутствуют две управляющие силы – одна для души и для вечной жизни, а другая – для тела и для жизни временной. Аналогичным образом в мире существуют два рода власти – церковь и государство. Обе они должны служить одному и тому же делу, подчиняются одному императиву, который в устах Кальвина звучал так: «Надо делать людям добро вопреки их воле». На первый взгляд может показаться, что этот тезис выглядит излишне жестким, бесцеремонным и даже бесчеловечным. Но стоит внести в него несколько уточняющих моментов, как он обретает совершенно иную семантическую и аксиологическую конфигурацию. Во-первых, Кальвин имеет в виду только те формы добра, которые прямо соотносятся с волей Бога, с Его заповедями и предписаниями. Речь здесь не идет о тех фальшивках, которые видаются людьми за добро, а на самом деле являются его противоположностями. Для Кальвина существует безошибочный критерий различений истинных форм добра от подделок. Это прежде всего Божье Откровение, содержащееся в Библии. Следовать за библейскими предписаниями –значит не ошибаться ни в большом, ни в малом. Кальвин это очень хорошо понимает и неуклонно следует данному правилу. Поэтому первая часть принципа, предписывающая «делать людям добро», обретает для него вид безусловного императива, которому он готов следовать всегда, при любых обстоятельствах, несмотря ни на какие препятствия. Вторая часть данного императива, настаивающая на том, что добро следует делать вопреки воле людей, предполагает, что речь идет о том человеке, чья антропологическая модель представлена в Библии. Это тот тип, о представителях которого говорится: «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3, 23). Это люди, чья свободная воля, в силу поврежденности их природы первородным грехом, неумолимо влечет их к порокам и преступлениям. Это люди, которым не хватает их собственных духовных сил, чтобы успешно противостоять искушениям греха и соблазнам зла. Они нуждаются в духовном водительстве и духовной поддержке. Поэтому не следует бояться ущемить их свободную волю, как не следует излишне церемониться с тем, кто поднес к своим губам яд, а следует решительно изъять его и дать вместо него лекарство, исцеляющее кандидата в 76 самоубийцы от темного соблазна, выводящее его из экзистенциального тупика. Таким максимально эффективным лекарством в глазах Кальвина является Слово Божье. Содержащееся в библейском тексте и доходящее до каждого, чьи уши отверзты, оно имеет только одну функцию - оздоровляющую, исцеляющую. Поэтому его необходимо использовать на в полной мере. Результат при этом будет непременно положительным и благотворным. Кальвин в этом убежден и потому считает, что к нему следует стремиться даже в тех случаях, когда духовно больные люди не верят в возможность исцеления или даже цепляются за свою болезнь, подобно тем, у кого поврежден рассудок. Строгая, неукоснительная теоцентричность мышления заставляет Кальвина с предельным вниманием относиться к нравственно-правовым предписаниям, содержащимся в Библии. Бог направляет жизнь и деятельность человека, чем бы тот ни занимался. Аналогичным образом Бог действует и по отношению к обществу. В социологии119 Кальвина ни общество, ни человек не являются самодостаточными системами. Для них как социальных субъектов важно категорическое нежелание выстраивать всю многосложную конструкцию своих отношений с реальностью так, как будто Бог не существует и, следовательно, никак не участвует в этом строительстве. Для них неприемлемы ни антропоцентрические, ни социоцентрические модели человеческого существования. Общество не является для Кальвина чем-то обособленным, стоящим над людьми и давящим на них своей массой. Оно представляет собой опосредующее звено, через которое человек связан с Богом. Именно через общество и различные элементы социальной системы Бог воздействует на личность, направляет ее движение в социальном пространстве. Человек, в свою очередь, выступает для социума тем началом, которое так же связывает его с Богом. Всё, что исходит от Бога и превращается в достояние общества, входит в социальную жизнь через людей. То есть возникает чрезвычайно сложная система взаимных опосредствований объективного и субъективного характера, в которую включены люди с их отношениями с Богом, социумом и друг с другом. Кальвин был убежден, что Бог может поддерживать социальный порядок, направлять жизнь народов посредством разных форм государственности – теократической, монархической, аристократической и республиканско-демократической. Вместе с тем, он понимал, что любая из них может оказаться либо достаточно эффективной, либо совершенно непригодной применительно к сугубо конкретным В данном случае речь идет о социальном учении Кальвина. Сам Кальвин не был социологом в современном значении этого слова. Но впоследствии, когда социология уже конституировалась в качестве самостоятельной теоретической дисциплины, среди кальвинистов стали появляться ученые-социологи, а среди социологов временами обнаруживались кальвинисты. В обоих случаях эти исследователи становились участниками процесса развития теоретического направления, которое получило название кальвинистской социологии. 119 77 социально-политическим реалиям. Все зависит от множества особенных и частных факторов и в первую очередь от того духовно-нравственного состояния, в котором пребывает данное сообщество. Форма государственного правления – это только инструмент, орудие Божьего труда. Материал же, на который обращен этот инструмент, может быть самого разного качества, как высокого, так и низкого. Из негодного материала даже при самом хорошем инструменте затруднительно будет создать что-либо стоящее. Если народ в своей массе богобоязнен и благочестив, то любая из указанных форм правления способна давать положительные плоды. Если же он пребывает в состоянии безверия и порочности, то ни одна из них не будет успешной. Но в любом случае с народа не снимается ответственность за состояние и качество той общественно-государственной жизни, которую он ведет. Идеи Кальвина не были чем-то сугубо теоретическим. Оказавшись в Женеве, Кальвин превратил их в практический инструмент социальных преобразований. Город представлял собой в тот момент средоточие беспорядков и разброда. В нем не было протестантских церквей, отсутствовал гражданский порядок, господствовало кулачное право сильных, периодически вспыхивали кровавые усобицы. Кальвин в первую очередь принялся за создание евангельской церкви и за наведение порядка путем утверждения внешнего дисциплинарного контроля за повседневным социальным поведением людей. Многим это не понравилось, так что вскоре реформатор был изгнан из Женевы. Однако после его отъезда город вновь погрузился в такую пучину беспорядков и бедствий, что женевский магистрат был вынужден отправить к Кальвину послание с просьбой вернуться. После трехлетнего изгнания Кальвин возвратился и начал налаживать цивилизованную религиозногражданскую жизнь. Суть преобразований, проводимых Кальвином, состояла в смене демократических институтов власти институтами теократическими. Главными социальными ориентирами стали дисциплина и порядок. «Будем бороться за святую власть дисциплины, - постоянно повторял он, - и сам Господь истребит дыханием уст Своих всех наших врагов». Реформатор черпал вдохновение из Ветхого Завета, где грех в израильском народе наказывался самым суровым образом. Он был глубоко убежден, что и в новозаветной церкви греховные отступления от требований религиозных норм заслуживают таких же суровых наказаний. Кальвин придавал большое значение духовной и социальной дисциплине в церковной и религиозно-гражданской жизни, неустанно говорил о ее важности. «Так некоторые люди, - писал он, - настолько ненавидят дисциплину, что самое имя ее внушает им ужас, нужно показать им их неправоту. Если ни одно сообщество, ни один дом, как бы 78 малы они ни были, не в состоянии существовать без дисциплины, то гораздо потребнее она в Церкви, которая должна быть устроена лучше любого хорошего дела и любого сообщества. Поэтому если учение Господа нашего Иисуса есть душа Церкви, то дисциплина подобна нервам, соединяющим члены тела и удерживающим каждый член в должном положении и состоянии. Таким образом, все желающие упразднить дисциплину и препятствующие ее укреплению на деле добиваются полного разрушения Церкви независимо от того, делают они это осознанно или неосознанно. Ведь если каждому позволить делать, что он хочет, к чему это, в конце концов, приведет? Но такая вседозволенность действительно наступила бы, если бы проповедь учения не сопровождалась частыми обличениями, исправительными вспомогательными средствами, призванными мерами и прочими поддержать учение и не позволить выхолостить его. Таким образом, дисциплина подобна узде, которой укрощают и обуздывают восставших на вероучение, и шпорам, с помощью которых подстёгивают медлительных и нерадивых, а также отцовской розге, служащей для того, чтобы незлобиво и с христианским терпением наказывать совершивших более тяжкие прегрешения»120. Процесс выстраивания системы новых социальных институтов был подчинен главенствующему принципу, который Кальвин сформулировал следующим образом: «Я одобряю лишь те человеческие институты, которые основаны на авторитете Божием и взяты из Писания»121. В следовании этому принципу реформатор оставался непреклонным максималистом на протяжении всего периода управления Женевой. Д. С. Мережковский, предпринявший попытку сравнительного сопоставления личности Жана Кальвина с личностью Мартина Лютера122, увидел в них двух вечно враждующих близнецов, напоминавших ему Авеля и Каина. Может быть, - высказывает он предположение, - они хотели бы убить друг друга, но срослись спинами так, что не только друг друга убить, но и в лицо увидеть друг друга не могут. Эта несколько экстравагантная метафора объясняется теми различиями в религиозном, метафизическом и социальном опыте, которые отличали Кальвина от Лютера. Если для Лютера, стоявшего у истоков Реформации, свобода стояла на первом месте, то для Кальвина, ставшего свидетелем гражданских усобиц, она – «чума», которую нельзя допускать в дом. Женевский теократ и слышать не желал о социальных свободах и ценил только свободу духовную и послушание. Лютер, в отличие от жесткого Кальвина с его установкой на тотальную регламентацию повседневной жизни мирян, доверял той интуиции религиозной свободы, Кальвин Ж. Указ. соч. Т. 3. Кн. IV. СПб., 1999. С. 219 – 220. См.: Маграт А. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994. С. 174. 122 Мережковский Д. С. Собр. соч. Реформаторы. Испанские мистики. М., 2002. 120 121 79 которая жила в истинном христианине. Макс Вебер позднее заметит: «Религиозному гению, каким был Лютер, легко дышалось в атмосфере свободного приятия мира, и до тех пор, пока сильны были его крылья, он не подвергался угрозе впасть в status naturalis»123. Для Лютера на первом месте стоял Новый Завет, для Кальвина – Ветхий Завет. Для Лютера важнее всего была евангельская Благодать, для Кальвина – жесткий ветхозаветный Закон, из которого тот черпал вдохновение для своих общественноцерковных и государственных преобразований. Если Лютер считал свободу от слепого следования букве Закона высокой привилегией верующих, то для Кальвина Закон – средоточие обязательных норм, к соблюдению которых следует стремиться, даже если достичь этого на практике невозможно. Лютер придал Реформации национальную, народно-германскую окраску. Кальвин вывел ее за национальные границы и придал ей устремленность к всемирности. Лютер фактически узаконил раздробленность церквей и их возрастающее приумножение. Кальвин открыл в реформационном движении волю к единству. Исследователи обратили внимание на характерное историческое совпадение: женевская теократия Кальвина и орден иезуитов Игнатия Лойолы возникли почти одновременно. Тот же Д. С. Мережковский увидел в Лойоле и Кальвине множество сходных черт. Он отмечал, что обоих церковных деятелей, католического и протестантского, сближало обладание тремя сходными типами воли, где первый – это воля к спасению не только личному, но и общему, второй – воля к порядку и третий воля к всемирности, всеохватности их проектов. Оба они произносили слова «Gloria Dei» одинаково благоговейно трепетными голосами. «Слава Божия» значила для обоих «Царство Божие» не только на небе, но и на земле. Для обоих на первом месте стояла «Церковь Воинствующая» («Ecclesia militans»). Для обоих Иисус Христос – Полководец, Военачальник, а христиане – войско Христово. Для обоих каждый человек – воин, сражающийся в одном из двух вечных станов, на стороне Бога или дьявола. Оба стремились к тому, чтобы Царство Иисуса Христа достигло самых отдаленных земель – от Европы до Бразилии и Китая. При этом принцип Лойолы, гласящий, что каждый человек должен быть «послушен как труп», вполне отвечал притязаниям Кальвина. Не случайно орудием последнего стала женевская инквизиция, мало, чем отличавшаяся от католической инквизиции. В сходстве позиций женевского реформатора и папского контрреформатора проявилось не только правило о действии, порождающем противодействие, но и обнаружилась некая симметричность действий двух выдающихся религиозных подвижников, находившихся в противостоящих друг другу враждебных конфессиональных станах. 123 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Ивано-Франковск, 2002. С. 130. 80 Мережковский осуждал Кальвина за излишнюю радикальность, за использование репрессивных методов, за присущую его мышлению холодную отвлеченность и механистичность: «Главная ошибка его в том, что насилие принято им как вечная правда Божия, как святость, не антиномично и трагично, а благополучно и безболезненно, как должное, и так, как будто вовсе не было Голгофы – величайшего насилия, совершенного людьми над Сыном Божиим… Жан-Жак Руссо выйдет из Кальвина, а из Руссо – Робеспьер. В опыте Женевской теократии видна нерасторжимая связь Реформации с Революцией. Нож гильотины выкован на огне Серветова костра»124. Эти обвинения, как правило, соседствовали с признанием несомненного успеха политической теологии и социальной политики Кальвина. Основанием подобного признания служило сопоставление двух состояний, в которых Женева пребывала до Кальвина, а затем при нем. До его приезда это была социальная система, находящаяся в состоянии аномии, утратившая жизнеспособность. Город оказался перед мрачной угрозой утраты независимости. Перед Кальвином, пораженным зрелищем тотального распада всех дисциплинарных начал, воочию предстала альтернатива: или гибельный хаос и устрашающая неизвестность, или жесткий, но спасительный порядок во всех, без исключения сферах повседневной жизни. Кальвин исходил из признания важности двух типов порядка – внутреннего и внешнего. Первый касался состояния духовного мира человека, его личных отношений с Богом. Второй имел социальную природу и был связан с состояние общественных нравов и гражданского правосудия. Несмотря на различие между ними, они не исключают друг друга, поскольку путь человека по направлению к духовному царству начинается уже в его земной, социальной жизни. Люди не вправе существовать вне всякого порядка, «словно крысы в соломе». Гражданская жизнь, организованная в соответствии с христианскими требованиями, должна, по мере возможности, готовить человека к переходу в жизнь вечную. А для этого ей не пристало быть погруженной в стихию варварства, идолопоклонства, злодейств и преступлений. Она должна отвечать требованиям порядка, нормам морали, законам справедливости и общего блага. Система гражданского управления должна быть организована так, чтобы обеспечивать общественное спокойствие, защищать собственность людей, утверждать нормы человечности, нравственности, достоинства и взаимного уважения. Структура гражданского устройства должна иметь три уровня и включать, вопервых, должностных лиц, выступающих блюстителями законов, во-вторых, сами законы и, в-третьих, народ, подчиняющийся законам и должностным лицам. Наивысшее место отводилось носителям административной власти, которых Библия называет богами из-за того, что они имеют особое поручение от Бога, выступают в качестве как бы Его 124 Мережковский Д. С. Собр. соч. Реформаторы. Испанские мистики. М., 2002. С. 14. 81 заместителей, призванных служить Ему в своих должностях и учреждать Божий порядок: «Давайте суд бедному и сироте; угнетенному и нищему оказывайте справедливость; избавляйте бедного и нищего; исторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят; все основания земли колеблются. Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы; но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей» (Пс. 81, 1-6). Обычным людям Бог дает право отправлять правосудие не от своего, человеческого имени и даже не от имени государства, тоже человеческого учреждения, но от имени Всевышнего. Это налагает на них величайшие моральные обязательства. К ним обращен библейский призыв: «Смотрите, что вы делаете; вы творите не суд человеческий, но суд Господа; и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас: действуйте осмотрительно; ибо нет у Господа, Бога нашего неправды» (2 Пар. 19, 6-7). Всё это не только высоко возносит тех, кто наделен властью, над другими людьми, но и налагает на них величайшую меру ответственности. «Разве, - задает Кальвин риторические вопросы, не изберут они для себя мерилом самое совершенное благоразумие, милосердие, неподкупность, умеренность и чистоту души, сознавая себя служителями божественной справедливости? Разве позволят несправедливости коснуться их судейского кресла, понимая, что оно есть престол Бога Живого? Разве дерзнут изречь устами своими несправедливый приговор, если будут помнить о том, что уста их призваны быть орудием божественной истины? Разве решатся собственной рукой подписать дурное распоряжение, зная, что она предназначена записывать решения Божьи? Короче говоря, если они будут помнить о том, что являются викариями Бога, то должны будут приложить все усилия и старания к тому, чтобы каждым своим поступком служить для людей образцом божественного провидения, защиты благости, любви и справедливости»125. Кальвин был глубоко убежден, что человеку, занимающему властные высоты и не имеющему личных отношений с живым Богом, невозможно устоять перед множеством соблазнов, удержаться перед наплывом бесчисленных искушений. Подведение же сакральных оснований по систему управления гражданской жизни возносит ее на ту нравственную высоту, которая, в противном случае, оставалась бы для субъектов власти недосягаемой. То есть гражданский порядок предполагает также и строгий порядок в делах веры. Люди не должны по собственной прихоти создавать новые законы, касающиеся религиозных форм почитания Бога. Вместе с тем, они должны иметь твердые гарантии того, что истинная вера будет защищена от любых попыток оскорблений и насилия с чьей бы то ни было стороны. Христианская церковь - это общество избранных людей, в котором должна осуществляться слава Божия. Но эта слава сможет проявиться только тогда, когда церковь будет во всем соответствовать предписаниям Священного 125 Кальвин Ж. Указ. соч. Т. 3. Кн. IV. СПб., 1999. С. 470. 82 Писания, будет хранить в чистоте Слово Божье и строго соблюдать церковную дисциплину. Размышляя в своем «Наставлении» о Боге-Творце, о воле Божьей и Божьем плане спасения мира, Кальвин подчеркивал, что человеку, имеющему личные отношения с живым Богом, никогда не следует спрашивать, почему Бог поступает так, а не иначе. Ответ всегда может быть только один - такова Его воля. Бог создал этот мир для Своей славы. У человека же нет самостоятельного предназначения, не соотносящегося с волей Бога, и нет никаких заслуг. Каждый из людей находится в полной власти Бога, Который еще до сотворения мира предопределил одних к спасению, других - к вечной погибели изза своих собственных грехов. Неукоснительное проведение в повседневную жизнь этих теологических принципов позволило Кальвину создать такую социальную систему, о которой шотландский реформатор Джон Нокс сказал, что это самая совершенная школа Христа из всех, которые когда-либо существовали на земле с апостольских времен. 83 А. В. Гоманьков (Санкт-Петербург) Основания христианской культуры в исторической перспективе Загадка христианской культуры Зрелище человеческой культуры завораживает. Мы склонны восхищаться культурными достижениями переворачивающих душу человечества. произведениях Есть нечто искусства, в поистине чарующее захватывающих в научных откровениях о природе, в глубинах философского анализа, в чудесах комфорта, поставляемых нам техникой и политической организацией общества. И вот, очарованные этим грандиозным зрелищем, мы начинаем думать, не особенно поначалу отдавая себе в этом отчёт, что культура есть нечто безусловно хорошее, что она хороша сама по себе, представляет собой некую ценность и сама может служить критерием хорошего и плохого при оценке того или иного явления. Положительный идеал христианской культуры отстаивали такие деятели русского религиозного ренессанса как о. Павел Флоренский126, Г. П. Федотов127, И. А. Ильин128. Хотя еще в 1931 г. Федотов сетовал на то, что он и его единомышленники оказываются в меньшинстве среди православной интеллигенции, однако по литературе первых десятилетий XX в. этого никак нельзя сказать. Идея положительности христианской культуры многими тогда провозглашалась и никем, по крайней мере, в письменной форме, не оспаривалась (может быть, правда, из-за того, что противники культуры в силу своих убеждений не стремились к распространению своих взглядов). А уж в наше-то время отрицать самоценность культуры считается чуть ли не богохульством. При этом как-то совершенно забывался и забывается тот факт, что христианство в момент своего зарождения было учением акультурным и даже антикультурным. Книжники и фарисеи, против которых была направлена проповедь Иисуса Христа, были, вероятно, прежде всего и больше всего носителями и адептами определенной культуры, и именно сохранение этой культуры явилось одним из решающих мотивов в вынесении Христу смертного приговора (Иоанн XI, 47 – 48)129. Уча нас не заботиться о завтрашнем дне (Матф. VI, 34), Христос осуждает всякую материальную деятельность впрок, деятельность, ориентированную в будущее, а именно такая «сверхвременность» рассчитанная на длительное существование созидаемых ценностей в будущем и одновременно обеспечивающая историческое преемство с См.: Священник Павел Флоренский. [Лекции по философии культа] // Богословские труды, 1977, сборник 17. М: изд-во Московской Патриархии, стр. 87 – 248. 127 См.: Федотов Г. П. Новый Град // Новый Град, 1931, № 1, стр. 3 – 7. 128 См.: Ильин И. А. Основы христианской культуры. Мюнхен: изд-во Братства преп. Иова Почаевского, 1990, 51 стр. 129 Здесь и далее ссылки на Священное Писание приводятся по изданию Синодального перевода. 126 84 прошлым (недаром музы у древних греков считались дочерьми Мнемозины, богини памяти) и является одной из неотменяемых основ всякого культурного строительства. И не напрасно в своей материальной жизни Господь советует нам уподобиться животным и растениям (Матф. VI, 25 – 30; Лук. XII, 22 – 28), не создающим никакой культуры и демонстрирующим тем самым, вероятно, самое разительное свое отличие от людей. Ценность чего бы то ни было, создаваемого в этом мире и средствами этого мира, по христианскому учению пренебрежимо мала в сравнении с ценностями «неотмирными», вечными ценностями Царства Небесного, ибо все, создаваемое в этом мире, будет уничтожено вместе с ним в конце времен, когда «земля и все дела на ней сгорят» (2 Петр. III, 10). «Религия Иисуса, – по словам А. Швейцера, – не религия преобразующего мир деяния, а религия ожидания конца света»130. В этом отношении чрезвычайно показательным представляется то место из Евангелия, где описывается, как ученики Христа, восхищенные чисто культурной значительностью иерусалимского храма, призывают и Его разделить их восторг. – Учитель, – говорят они, – посмотри, какие камни и какие здания! (Марк XII, 1). Что же отвечает им Божественный Учитель? – Видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено (Матф. XIV, 2). И затем следуют пророчества о конце света и Втором Пришествии… Величайшую культурную ценность всего человечества, и в особенности – той страны и того народа, в которых жил Христос, Он не признает за таковую! Ибо она – ничто перед лицом вечности, в которую она не войдет. «Итак появляется – у Эразма и отдельных представителей Реформации еще робко, но затем все явственней – соответствующая духу нового времени интерпретация учения Иисуса, согласно которой последнее представляет собой религию действия в мире. Исторически и фактически такая интерпретация неверна. Мировоззрение Иисуса в части, касающейся будущего естественного мира, в основе своей пессимистично. <…> И деятельный характер присущ этике Иисуса лишь постольку, поскольку она для достижения внутреннего совершенства, необходимого в свете прихода к Царству Божьему, требует от человека безграничной преданности своему ближнему. Проникнутая энтузиазмом, то есть внутренне ориентирующаяся на оптимистическое мировоззрение, этика в пессимистическом мировоззрении – такова грандиозная парадоксальность учения Иисуса»131. С приведенными словами Швейцера можно согласиться почти полностью за исключением тезиса о том, что оптимистическая интерпретация христианства возникает лишь на заре Реформации и в связи с ней. На самом деле эта интерпретация опирается на 130 131 Швейцер А. Благоговение перед жизнью (перев. с нем.). М.: Прогресс, 1992, С. 127. Там же. 85 гораздо более древнюю традицию. О. Александр Мень прослеживает ее и у Иоахима Флорского, мыслителя XII в., и в трудах таких богословов христианской античности как Папий, Ириней Лионский, Иустин Философ. А своими корнями она может быть возведена даже к писаниям ветхозаветных пророков132. Без анализа этой традиции все грандиозное почти двухтысячелетнее (и полуторатысячелетнее к началу Реформации) здание христианской культуры кажется еще более чудовищным парадоксом, чем тот, который был усмотрен Швейцером в его идеологическом фундаменте. Что заставляло всех этих людей строить и украшать храмы, писать книги и литургические гимны, совершенствовать организацию общества – в прямом противоречии с духом того учения, последователями которого они вполне искренне себя считали? Видели ли они сами это противоречие? Если не видели, то почему? А если видели, то как им удавалось его преодолеть? Попробуем разобраться в этих непростых вопросах. Апологеты: эсхатология и эстетика. Выше уже говорилось, что в самой культуре есть нечто привлекательное для человека, что-то манящее и чарующее. Определенная «музофилия», любовь к культуре была свойственна даже апостолам – непосредственным ученикам Христа и людям большей частью «некнижным и простым» (Деян. IV, 13; ср. также 1 Кор. I, 26 – 29). Тем паче она могла проявиться и проявилась у более отдаленных и вместе с тем более культурных последователей Иисуса из Назарета. В том эллинизированном античном мире, с которым столкнулось христианство, выйдя за пределы крошечной Палестины, принадлежность и приверженность культуре (и даже не столько какой-то конкретной культуре, сколько культуре вообще; «культурность») занимала центральное место в самосознании и самоопределении людей, горделиво противопоставлявших себя «диким варварам». Нигде, вероятно, феномены культуры (искусство у греков, государство у римлян) не стояли так высоко в иерархии ценностей, как это было в средиземноморской ойкумене. Никогда люди не были так близки к обожествлению культуры, как в первые века нашей эры133. Проповедь Христа (равно, как и Его Предтечи) начиналась словом «покайтесь!» (Матф. III, 2; IV, 17; Марк I, 15) и по отношению к миру носила в целом характер обличительный и обвинительный. Мир неизбежно должен погибнуть в своем отпадении от Бога, и историческая миссия христианства состоит не в спасении мира, а в спасении См.: Протоиерей Александр Мень. В поисках Пути, Истины и Жизни. История религии в семи томах. Том I. Истоки религии. М.: Слово, 1991, 287 стр. 133 О. Павел Флоренский этимологически выводит слово «культура» из слова «культ». Учитывая принадлежность общего для обоих слов корня латинскому языку, можно, однако, предположить и прямо противоположное происхождение: не «культуры» от «культа», а «культа» от «культуры»! И указание на этимологическую связь оказывается при таком взгляде скорее порицанием культа, чем похвалой культуре. 132 86 людей от мира, выключении, изъятии их из того процесса всеобщего распада и разрушения, который приведет к окончательному уничтожению в последние времена. Христианство есть религия мироотрицающая, и ее последователи неизбежно оказываются в положении острой оппозиции к миру: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Иоанн V, 19). Подобное обвинительное отношение к внешнему миру сохранилось и у ряда христианских учителей первых веков – Татиана, Феофила Александрийского, Тертуллиана, Киприана Карфагенского, Арнобия134. Однако среди них было много и тех, которые получили наименование апологетов, ибо цель своей идеологической деятельности видели, по словам Г. Г. Майорова, уже не в обвинении, а в защите «своих единоверцев перед судом языческой власти и языческой культуры»135. Возможность и необходимость такой защиты проистекала, очевидно, из того, что апологеты, приняв христианство, сохранили одновременно и культуроцентрическое мироощущение, свойственное античному миру, из которого они вышли. С музофилией неразрывно логически связан исторический оптимизм (по Швейцеру – совпадение целей индивида с целями универсума), вера в прогресс, в «светлое будущее», построение которого и является по существу конечной целью всякой культурной деятельности. Так в трудах апологетов (прежде всего уже упоминавшихся Папия, Иринея Лионского, Иустина Философа) зарождается христианский оптимизм, зарождается в виде учения о хилиазме – тысячелетнем царстве Христа, Царстве Божьем на земле. Новое небо и новая земля, о которых говорится в Апокалипсисе (Откр. XI, 1), возникают по учению хилиастов не как новое творение Божье после полного уничтожения существующего мира, а как результат совместной «богочеловеческой» деятельности по его постепенному усовершенствованию и преображению. Вряд ли можно говорить, что такая эсхатология имеет основание в Священном Писании (см. Пс. CI, 26 – 27; Ис. XIII, 9 – 13; XXXIV, 4; LI, 6; Иоиль II, 31; Матф. XXIV, 3 – 35; Марк XIII, 3 – 31; Лук. XXI, 7 – 33; 2 Петр. III, 10; Откр. VI; VIII – IX; XIII; XVI; XIX, 11 – 21; XX, 9 – 11; XXI, 1 – 2, 5, 10; XXII, 1), и, конечно, она разделялась далеко не всеми учителями Церкви первых веков. Весьма показательно в этом отношении то, что пишет Евсевий Кесарийский (первый историк Церкви) о Папии: «Он же передает и другие рассказы, дошедшие до него по устному преданию: некоторые странные притчи Спасителя, кое-что скорее баснословное. Так, например, он говорит, что после воскресения мертвых будет тысячелетнее и плотское Царство Христово на этой самой земле. Я думаю, что он плохо истолковал апостольские слова и не понял их преобразовательного и таинственного смысла, ибо был ума малого. Это явствует из его 134 135 Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. М.: Мысль, 1979. С. 9. .Там же, С. 71 87 книг; хотя большинство церковных писателей, живших после него, очень уважало его, как писателя старого, и мнение его разделяли, например, Ириней и другие»136. Тем не менее, хилиастической эсхатологии была суждена долгая жизнь в рамках христианского миропонимания вплоть до XX в., когда она получила утонченную философскую разработку, например, у П. Тейяра де Шардена. Теоретическая деятельность апологетов первых веков, впрочем, не нашла скольконибудь адекватного отклика у их современников в сфере практически-культурной. Слишком «неакадемической» была та борьба, которую вел с христианством античный мир. Вполне реальная для каждого христианина перспектива оказаться завтра на арене со львами отнюдь не располагала к деятельности по созданию «вечных» ценностей. Для христианства, загнанного в катакомбы, слишком очевидной была враждебность окружающего мира, равно как и бессмысленность любых попыток его исправить. Идеалом всякого христианина была мученическая смерть137, а вовсе не плодотворная жизнь. Эта постоянно переживаемая реальность собственной близкой смерти порождала у христиан первых веков и представление о «последних временах», т. е. ожидание близкого конца света, и как следствие – пренебрежительное отношение к достижениям культуры, обеспечивающим комфорт «нормальной» жизни, – представление, присутствовавшее в какой-то мере еще в проповеди апостолов (1 Иоанн II, 18; 1 Кор. VII, 29 – 31). И если апостол Павел был вынужден написать специальное увещание о необходимости физического труда для элементарного поддержания жизни (2 Фес. III, 6 – 12), то где уж тут говорить о творчестве «высших» культурных ценностей! Когда в анализе творчества даже самих апологетов мы переходим от эсхатологии к эстетике, то первое, что бросается в глаза, – это ее крайний утилитаризм. Апологеты первых веков не занимались эстетикой специально. Их учение часто называют антиэстетичным, т. к. оно было обращено против античной культуры с ее эстетизмом. За некоторыми искусствами они, впрочем, иногда признают право на существование в рамках христианского образа жизни, но только – как способствующими обращению души к Богу, созданию молитвенного настроения. «Поэтому образцом и идеалом художественного творчества практически во всех видах искусства становится уже со времен ранних христиан молитва (΄η ευχή, oratio) – речь, обращенная из глубины сердца к Богу, построенная по особым художественным законам. Молитва становится важным жанром христианского словесного творчества. Она активно влияла на характер всех видов Евсевий Памфил. Церковная история (перев. с греческого). М.: изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1993, С. 118-119. 137 Показательно в этом смысле поведение мученика Пантелеимона [12], который выдал гонителям своего наставника Ермолая (донесшего в свою очередь на двух своих сослужителей – Ермиппа и Ермократа), а затем сам повелел воинам себя убить, – поведение, кажущееся крайне безнравственным в контексте современной культуры. 136 88 и жанров раннехристианского и средневекового искусства, определяла особое, молитвенное настроение всего культового действа. Почти все виды христианского искусства возникли в связи с молитвой и должны были способствовать прямо или косвенно молитвенному общению человека с Божественной Первопричиной. Архитектура, музыка, песнопения, чтение молитв, сама структура молитв, а в более поздний период декоративное убранство храма, живопись, световая и обонятельная атмосфера в храме, – все эти эстетические средства были направлены на создание максимально благоприятных условий для молитвенного контакта человека с Богом»138. Искусство, таким образом, одобряется апологетами лишь как сугубо прикладное и вполне в духе идеи личного спасения. Оно имеет ценность не само по себе и не для обобщенной цели улучшения абстрактного мира, а только для вполне конкретной цели, осуществляемой здесь и сейчас: спасения данного конкретного человека, сближения его с Богом. Реальная и постоянная угроза немедленного физического уничтожения делает нелепой заботу о неведомых «грядущих поколениях». Не удивительно, что количество памятников христианской культуры, дошедших до нас от первых веков, ничтожно мало. Фактически начальное христианство не создало своей культуры, несмотря на музофилию отдельных своих представителей. Подлинное рождение христианской культуры должно быть отнесено к эпохе Константина Великого. Император Константин и праздник Воздвижения Христианская гимнография называет мучеников «добропобедными»; та же идея победы – центральная в общем мученическом тропаре139, хотя с точки зрения обычного, житейского здравого смысла событие, трактуемое в этих текстах как победа (уничтожение; мучительная и позорная казнь), должно рассматриваться скорее не как победа, а как поражение. Это одно из проявлений той общей парадоксальности или даже абсурдности христианства в свете «мирской» мудрости, на которую неоднократно указывал апостол Павел (1 Кор. I, 18 – 24; III, 18 – 19) и которая является лейтмотивом заповедей блаженства (Матф. V, 3 – 12; Лук. VI, 20 – 26). Императору Константину также была обещана и дарована победа силою Креста, память о которой запечатлена в тропаре Кресту140. Однако эта победа была победой отнюдь не в «христианском», а в самом что ни на есть прямом и обычном смысле – военной победой над противником. Повелев солдатам начертать Крест на своих щитах, Бычков В. В. Эстетика поздней античности. II – III века. М.: Наука, 1981. С. 208-209. «Мученик Твой, Господи, (имярек) во страдании своем венец прият нетленный от Тебе, Бога нашего, имея бо крепость Твою, мучителей низложи, победи и демонов немощные дерзости. Того молитвами спаси души наша» См.: Псалтирь следованная. Ч. II. М.: изд-во Московской Патриархии, 1978. С. 307. 140 «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство» См.: Там же, С. 336. 138 139 89 Константин превратил его из знамения в знамя. С этим едва уловимым изменением оттенка в звучании и смысле слова связан, тем не менее, величайший водораздел в христианском мироощущении. Особое почитание Креста Господня, ставшего знаменем всего дела императора Константина, выразилось в раскопках, предпринятых его матерью Еленой в Иерусалиме и увенчавшихся обретением подлинного Креста, на котором был распят Христос. Церковь канонизировала Константина Великого (равно как и его мать, Елену) в чине равноапостольных, несмотря на его далеко не праведную жизнь. Событие же обретения Креста получило название Всемирного Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня и стало величайшим двунадесятым праздником вместе с событиями, относящимися к земной жизни Иисуса Христа и Божьей Матери. Ставя это событие в один ряд с другими, отстоящими от него на 3 века, Церковь придала ему статус факта священной истории, факта, непосредственно относящегося к «божественному домостроительству», т. е. к спасительной миссии Сына Божьего. Отныне Крест – знамя христиан – воздвигнут над всем миром. Весь мир теперь находится под его благодатным и преобразующим воздействием. Мир осеняется и освящается действием Креста. Отныне кресты засияют на бесчисленных маковках церквей141, они будут ставиться на перекрестках дорог, осенять двери домов и городские ворота, густым «лесом» заполнят кладбища. Начинается христианизация мира. Нетрудно видеть, что это была попытка практической реализации идеи хилиазма, возникшей в учении апологетов первых веков. Чаяния близкого конца света не оправдались. Стало ясно, что он может наступить в неопределенно далеком будущем. Гонения, постоянно создававшие для каждого христианина угрозу немедленной смерти, прекратились. Все это способствовало тому, что христиане начали строить «нормальную» земную жизнь в надежде, что именно она, а не ее отвержение, в конце концов, приведет их к Царству Небесному. Они начали создавать ценности, служащие для улучшения этой жизни. Другими словами, они начали строить христианскую культуру. Учреждение Воздвижения в качестве двунадесятого праздника явилось, таким образом, актом рефлексии Церкви, попыткой придать мистически-онтологический статус изменению Ее собственного сознания. Став императором в 323 г., Константин не стал первым императоромхристианином (крещение он принял лишь на смертном одре), но он стал первым христианским императором. С него начинается разработка и осуществление идеи симфонии, построения христианской империи. Именно христианская империя и стала рассматриваться как реализация хилиастических чаяний, как воплощение Царства Церковь с крестом, хотя бы где-нибудь на отдаленном пригорке, – непременный атрибут русского пейзажа – истина, до последней глубины прочувствованная таким великим пейзажистом как Левитан. 141 90 Божьего на земле. Именно идея сохранения и распространения (в идеале – на весь мир) христианской империи вдохновляла оборонительные и наступательные войны, которые почти непрерывно вела Византия на протяжении своей истории. И именно на почве осознания и усвоения этой новой ценности «в мирном тылу» империи родилась идея деятельности «во славу Божью» – исходная и центральная (т. е. исключительно плодотворная) идея всей христианской культуры, перешагнувшая далеко за пространственные и временные границы Византии. Мы из своего XXI века удивляемся и не понимаем, зачем в XVI в. Старцу Филофею потребовалось провозглашать Москву третьим Римом, какой смысл вкладывался в эту формулу. Такое недоумение свидетельствует о том, как далеко ушло наше понимание христианской культуры от ее первоисточника – христианской империи. А ведь именно об этом нравственном и логическом обосновании всякого культурного строительства заботился Филофей, поставленный перед загадочным для православного сознания XV – XVI вв. фактом крушения Византии. Наше современное отношение к культуре есть лишь крайний результат этого процесса забвения ее истоков, который начался еще при Константине Великом. Культура стала самоценной, превратилась из средства в цель. Новейшие реставрационные работы показали, что византийские мастера тщательно отделывали и украшали даже те детали, которые, как предполагалось конструкцией храмов, никто и никогда не увидит. Можно ли представить себе более резкий контраст с утилитарной эстетикой первых веков?! Ясно, однако, что изменения коснулись не только эстетики. Они захватили все мировосприятие и всю этику христиан, вступивших в пору средневековья. Вероятно, наиболее последовательное философское и богословское обоснование (если можно, конечно, говорить о христианско-богословском обосновании представлений, находящихся в прямом противоречии со словами Самого Христа) это новое христианское сознание получило в трудах Максима Исповедника (580 – 662 гг.), где, по словам С. С. Аверинцева, «активность человека, выступающего спасителем всей твари, как Христос выступил спасителем самого человека, акцентирована с такой силой, какую очень редко можно встретить в истории средневековой мысли»142. Монахи. Хорошо известно, что монашество возникло как реакция на прекращение гонений. Мир первых веков нашей эры был для христиан злом в своем собственном «мирском» смысле: он преследовал их, лишал чести и состояния, мучил и убивал. Но он был (и остался) злом и в специфическом христианском смысле, был тем, к чему не следовало 142 Культура Византии. Вторая половина VII – XII в. М.: Наука, 1989. С. 37. 91 стремиться, не следовало прилепляться сердцем, что нельзя было делать своим идеалом. Страдания, дискомфорт, отделенность от общества были внутренней потребностью христианства. И если мир, заявив о своей лояльности к христианам, перестал поставлять им эти «блага», они должны были принять их добровольно, отвергнув предлагаемую миром дружбу как соблазн. И если раньше христиане прятались от мира, то теперь они должны были от него бежать. Естественно, что такое бегство от мира означало и бегство от культуры, и жизнь первых отшельников в культурном отношении находилась на весьма низком уровне. Необходимости удаления от мира и «всех дел его» (т. е. от культуры) посвящены многие страницы писаний преподобных отцов-подвижников: Антония Великого, Макария Египетского, аввы Дорофея, Исаака Сирина и др. Подобное пренебрежительное отношение к культурным «ценностям» сохранилось кое-где в монашестве и до настоящего времени. «Московский журнал» опубликовал в 1994 г. воспоминания «Афонская повседневность» православного серба Павле Рака о посещении им «монашеской республики» Афона. Одна страничка этих воспоминаний настолько характерна и показательна, что хочется процитировать ее целиком: «Скит Святого Иоанна Предтечи кажется на первый взгляд крепостью. Удачно расположенный на небольшом склоне с выходом прямо к морю, со стенами, кажущимися солидными и прямоугольными, и со своей красавицей церковью в центре, при золотистом предвечернем свете он умиротворяет взгляд, мысли и движения. А изнутри, вблизи, впечатление меняется: разрушается иллюзия цельности. Кривые стены, подпертые лесами, вздутая или облупившаяся штукатурка валяется во дворе. В самой церкви, от куполов вниз по стенам, как молнии, извиваются опасные трещины, некоторые размером с ладонь. Фрески на северных стенах церкви смыты, вниз по штукатурке плачут пятна. Вся водища этой гнилой зимы обрушилась именно с севера, нашла малейшую выемку, расширила ее и в течение нескольких месяцев пожирала все на своем пути. Эти несколько румынских монахов без чьей-либо поддержки должны сейчас обновить церковь, покрыть свинцом, остановить стихию. Как им это удастся, если они малочисленны и одни? И повсюду, на всех афонских тропинках, путешественник находит брошенные домики без дверей и окон, развалины их лестниц, без потолков. Находит церквушки и часовни, чьи каменные купола заросли плющом, из-за плюща и кустов к церквям часто и подойти невозможно. Находит уцелевшие трапезные маленьких скитов, где на столах и скамьях валяется с паутиной перемешанная солома. Путешественник входит в комнаты, огонь в очагах которых в последний раз был разведен разломанными брошенными кроватями. Он с недоверием вступает на ветхие балкончики, давно заросшие одичавшим 92 виноградом, находит в помещении сотни и даже тысячи разбросанных и заплесневелых русских книг, напечатанных здесь до революции, а потом никому не нужных. В то же самое время, хотя и реже, путешественник проходит мимо совсем новых домов и церквушек, иногда построенных усилиями одного монаха, келиота, строившего свое жилище рядом с заброшенными, но пригодными старыми кельями. Мы вышли из праха и в прах вернемся. Тем более в прах обернутся дела рук наших, это временное убежище, которое мы по воле Божьей состряпали для наших земных нужд. Святогорца ничто не должно связывать с этим миром, в котором он лишь скромный прохожий, меньше всего его должна связывать жалость к этим бедным домикам, которые, слава Спасителю, послужили какому-то подвижнику земным приютом, в котором он больше не нуждается. Строительство и разрушение – суета этого мира: ценность сотворенного человеком видна, когда оно зарастает плющом. Только святыни пощажены от этой монашеской незаботливости о материальном. Все литургическое должно быть красиво, очень красиво, потому что литургией души спасаются. Все, что святители жизнью своей освятили, надо тщательно беречь, потому что на этом мир держится. Мощи святые, чудотворные иконы, облачения и митры, чаши и книги в драгоценных переплетах благоговейно передаются из века в век. Но самые большие святыни – не на каждый день и не для всех. И будут показаны лишь тем, о которых монахи думают, что те получат духовную пользу. Все это: афонская диалектика заботы и незаботы о вещах – иногда доводит до отчаяния археологов, реставраторов и искусствоведов, которые до сих пор не знают, какие сокровища хранятся в монастырях и скитах, в каком состоянии находятся эти ценности, насколько безвозвратно пропадают. Сберечь ли каждый камень на своем месте, каждый нюанс живописи, каждую балку? Или сберечь душу? Потому, что мы – прах и во прах вернемся»143. Эта антикультурная тенденция сохранилась, однако, в монашеской среде лишь коегде и скорее в виде исключения, а не правила. Как показал Л. П. Карсавин144, аскетический мироотрцающий идеал монашества очень быстро размывался после каждой из периодически повторявшихся попыток его обновления энтузиастами-подвижниками. Монашество «обмирщалось», исторически оно оказывалось несостоятельным перед натиском мирских соблазнов и в первую очередь – соблазна культурой. Не удивительно поэтому, что очень быстро из укрытий от культуры монастыри стали превращаться в свою противоположность. По мере того, как представления о самоценности культуры все шире и глубже внедрялись в христианское мироощущение, очень многие монастыри становились «культурными центрами», хранившими и насаждавшими «ценности» 143 144 Рак П. Афонская повседневность // Московский журнал, 1994, № 2, С. 23 – 24. См.: Карсавин Л. П. Монашество в средние века. М.: Высшая школа, 1992, 191 стр. 93 культуры среди окружавшего их «дикого» средневекового мира. Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин, Иоанн Скот Эриугена и Ноткер Заика, Михаил Пселл и Роджер Бэкон, Франческо Петрарка и Андрей Рублев были монахами. Весьма характерно в этом отношении житие святого Иоанна Дамаскина. При вступлении его (уже известного церковного писателя, поэта и композитора) в монастырь старец, которому он отдан был в послушание, запретил ему что бы то ни было сочинять, считая, очевидно, что это не полезно для его личного духовного совершенствования, Однако потом старцу во сне явилась Божья Матерь и повелела ему «не заграждать источник, могущий источать сладкую и изобильную воду». После этого Иоанну было разрешено вернуться к его литературным и музыкальным трудам, и он вошел в историю Церкви как крупнейший христианский философ, богослов и гимнограф. Культуроотрицающая и культуроборческая функция со временем перешла от монахов к людям иного типа святости, иного пути спасения – к юродивым, этим «иррегулярным монахам» или «казакам от монашества» по выражению В. С. Соловьева. Юродивые были всегда несравненно малочисленнее монахов. Кроме того, даже и они не смогли удержаться на высоте поставленной культуроборческой задачи: уже в житии блаженной Ксении Петербургской повествуется о том, что она носила кирпичи на строительство Смоленской церкви145. Е. З. Баранов приводит легенду о том, что Василий Блаженный собирал деньги на храм, который впоследствии был назван его именем 146. Конечно, история эта – чистейший вымысел, но характерно, однако, что в XX в. такая легенда об одном из самых известных в России юродивых уже могла существовать, не вступая в противоречие с народными представлениями о юродстве во Христе. Оказавшись практически не жизненным, монашеский аскетический идеал продолжал, однако, существовать именно в качестве идеала, т. е. в сфере чисто теоретической. Приведенный выше пример со старцем Филофеем показывает, что культура имеет тенденцию развиваться независимо от своего теоретического обоснования. Реальные творцы культуры, как правило, не задаются вопросом «зачем?» Их основной стимул – подражание творчеству предшественников, которым они восхищаются. Что же касается теории, то Швейцер (с восточным христианством, видимо, вообще не знакомый) характеризовал господствующую средневековую идеологию как «мироотрицающее мировоззрение церкви», «коренящееся в средневековом мышлении и христианстве миро- и жизнеотрицание», «родившееся из пессимизма древнехристианское и августинско-средневековое представление о Царстве Божьем»147. Естественно, что на См.: Житие блаженной Ксении Петербургской. // Канонизация святых. Поместный собор Русской Православной Церкви, посвященный юбилею 1000-летия крещения Руси. Троице-Сергиева лавра, 6 – 9 июня 1988 г. Стр. 107 – 115. 146 См.: Московские легенды, записанные Евгением Барановым. М: Литература и политика, 1993, 301 стр. 147 Швейцер А. Ук. соч., С. 124-125. 145 94 Востоке, где фактически все средневековье протекло под знаком Византийской империи – родины и, так сказать, «воплощения» христианской культурной идеологии, – эта мироотрицающая концепция была распространена гораздо меньше, чем на Западе. И хотя идея построения Царства Божьего на земле (в виде так называемого папоцезаризма, т. е. претензии церковной иерархии на светскую власть) не была чужда так же и Западу, а по масштабам практически-культурного строительства он нисколько не уступал Востоку, в теоретическом мышлении его пессимизм явно преобладал над оптимизмом. 95 И.С. Кириллов (Санкт-Петербург) Образ Лютера в эпоху Просвещения По распространенному мнению, бытующему, в том числе благодаря М.Веберу, переход от Средних веков к Новому времени совершился – с социологической и историко-культурной точки зрения – посредством Реформации. Ее лидером и зачинателем по праву считается «основоположника» Мартин Лютер, которого иногда определяют современного образа мышления. Однако это в качестве утверждение совершенно не очевидно, ведь хорошо известна позиция Лютера в споре, например, с Эразмом о свободе воли; да и учение Лютера об оправдании вряд ли можно считать краеугольным камнем нашей картины мира. Действительно, то, чему учил Лютер, его собственные слова, и то, что мы о нем знаем, довольно далеко отстоят друг от друга. И этот факт имеет свою историю. В целом, можно говорить о том, что современное понимание Лютера сложилось в XVIII в., и, соответственно, к этому же периоду относится наша оценка Реформации. Но что мы, собственно, о них знаем? – В первую очередь то, что Лютер выступил против католической церкви и ее учения, против практики индульгенций и доктрины оправдания добрыми делами, против главенства Папы Римского в вероучительных вопросах. И конечно же, всем памятна фраза Лютера: «на том стою и не могу иначе!», которая, якобы, и решила исход дела в пользу реформы. Разумеется, есть факты, документы и свидетельства, но также и их интерпретация: труды и поступки Лютера в разные времена и разными авторами оценивались по-разному, соответственно, разным было и отношение к его деятельности как религиозного писателя и реформатора. Темы, которыми был занят век Просвещения, унаследованы, во многом, от предшествующей эпохи, преимущественно, от XVII и даже XVI столетия, и были христианскими по своей сути, со всем присущим протестантизму жестким ригоризмом и стремлением к чистоте. С другой стороны, эти заимствованные понятия обрабатываются и используются таким образом, что их наполнение меняется едва ли не на противоположное по смыслу. Это в полной мере касается и фигуры Мартина Лютера Собственно, постреформационное время ознаменовалось фиксацией образа Лютера, восходящего еще ко времени его жизни. В общем, считалось, что Лютер – это посланный самим Богом пророк и, следовательно, наделенный особым даром человек, «ангел судного дня», который был призван восстановить изначальную чистоту евангельской вести. В этом видел свою задачу и сам Лютер: он желал реформировать не Церковь, но лишь ее учение, которое из-за неверного понимания его было затемнено и более не способно вести к спасению. И в этом состояло коренное отличие 96 «виттенбергской Реформации» от «швейцарской»: Лютер отвергал конкретную форму схоластического богословия, в то время как Цвингли реформировал нравы отдельного города и не видел – изначально – необходимости в доктринальных изменениях. Как это ни парадоксально, но именно деятельность Лютера и его последователей способствовала возникновению того, что иногда называют «протестантской схоластикой». Ее основной чертой стал упор на систематизации учения с обращением к философии Аристотеля, хотя сам Лютер, как, впрочем, и Меланхтон мало придавали этому значения, и тем более Лютер призывал богословов воздерживаться от аристотелизма и не слишком полагаться на слабый и испорченный разум. Для Лютера более важным было восстановить правильное понимание отношений Бога и человека, которое должно строится на принципах sola fide, sola scriptura, sola gratia, т.е. спасение достижимо лишь через веру, явленную в Библии и опирающуюся на принцип непостижимой божественной благодати. В конце концов, достоверностью истины для Лютера была одна только вера.148 XVII столетие мало что изменило как в образе самого Лютера, так и в области теологии. На незыблемости восприятия Лютера и его учения было построено все самосознание лютеранской ортодоксии в период конфессионализма. Однако уже в этот период проявляются ростки будущих ожесточенных дискуссий внутри лютеранства. Это было связано, в первую очередь, с появлением нового видения человеческих способностей. Так Лейбниц и его последователи Христиан Томазиус и Христиан Вольф отвели гораздо больше места человеческому разумению, поручив ему важную роль познания Бога, мира и человека ради будущего блага человека. Название сочинений Вольфа «Разумные мысли…» особенно показательны и говорят сами за себя. К середине XVIII века ученики Вольфа заняли многие философские и богословские кафедры германских университетов и исподволь решительно формировали новое понимание отношений Бога и человека.149 Опасность, впрочем, заключалась не только в этом, сколько в набирающем популярность пиетизме, движении, которое выступило против тех застывших и, во многом, внешних формах, которые приняла лютеранская ортодоксия в XVII в. Пиетизм был ориентирован на более личностное понимание Писания и противопоставил догматизму богословов живую веру150, которая, по мнению пиетистов, лежит в основе христианства и рождается при постоянном обращении как к самому Богу, так и к тексту Библии. Учение не должно подменять личную веру; таким же образом и Лейбниц считал Подробнее о лютеровском богословии см. М.Лютер 95 тезисов. СПб., 2002; МакГрат А. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994; Хегглунд Б. История теологии. СПб., 2001; Хусто Л.Гонсалес История христианства. СПб., 2006. Т.2.; Martin Luther. Sonderband aus der Reihe TEXT+KRITIK, hrsg. v. H.L.Arnold. 1983. 149 Об этом периоде см. напр. Kantzenbach Fr.W. Protestantisches Christentum im Zeitalter der Aufklaerung. Guetersloh 1965. SS.15-78. 150 См. Хусто Л.Гонсалес Указ соч. С.183-194. 148 97 некоторые догмы одними только спекуляциями. Многие пиетисты полагали, поэтому, что Реформация, заменив одно учение другим, остановилась, не достигла своей цели, и должна быть продолжена. Вместо строгого следования догматическому вероучению пиетизм предложил личную набожность, мистическое переживание и его осмысление, а также сделал упор на понятие совести человека, ведь как раз «совесть», или внутренняя уверенность, не позволила Лютеру отказаться от своих взглядов и намерений. Изменения коснулись и отношения к Лютеру. Так, Филипп Якоб Шпенер (16351705), основатель пиетизма, представлял себе Лютера лишь как человека, принесшего свободу веры, а последователь Шпенера, Готфрид Арнольд заявил, что Лютер не только дал свободу, но и сам был свободен в своих действиях, т.е. не принуждаем к совершению реформы, что могло следовать из ортодоксального взгляда. Пиетизм также впервые обращается непосредственно к личным качествам Лютера, чтобы понять его исходные мотивы и попытаться воспроизвести их. Именно здесь начался тот разрыв с традицией, который привел к современному пониманию Лютера и его дела. Шпенер, при всем почтении к Лютеру, был все же, в отличие от него, отрицательно настроен к букве церковной догмы, считая ее сугубо вторичной, что было бы немыслимо для Лютера. Арнольд перенес это недоверие уже на все учение Церкви, что делало столкновение с церковными властями неизбежным. Ортодоксия не приняла новых идей переходной эпохи, ни рационализма, ни пиетизма151, считая их угрозой существованию лютеранства. Она попыталась лишь сохранить в чистоте свое правоверие и по возможности противостоять новомодным течениям. В центре ортодоксального видения Лютера все также стояло его учение и лишь затем его личные качества и обстоятельства. Согласно ортодоксальной точке зрения, выраженной например, Каспаром Лешером, Эрнстом Саломо Киприаном (1673-1745) и Валентином Эрнстом Лешером (1673-1749), учение Лютера согласно с истиной, вследствие чего отход от какого-либо положения учения означал бы также искажение истины. Учение поэтому должно остаться неизменным, как и сам Бог, от которого оно исходит. Именно из подобного рода соображений исходила критика церковных историков, например Flacius Illyricus, в адрес Меланхтона, которую повторяет В.Э.Лешер: «склонность к философскому христианству, которое… надо, наконец, преодолеть»152. По глубокому убеждению ортодоксальной партии, от чистоты и истины учения Церкви зависит святость объединенных в церкви христиан и, следовательно, забота о сохранении ортодоксальности есть, с другой стороны, забота о душе и ее спасении. Правильное же учение – это то, которое соответствует словам Лютера. Ведь через Лютера Церковь Знаменателен диспут, состоявшийся 28 апреля 1716 г., который назывался «Лютер как антипиетист». Val.Ernst Loescher Ausfuerliche Historia motuum zwischen den Evangelisch-Lutherischen und den Reformierten. Leipzig und Frankfurt 1723. Цит. по Zeeden E.W. Martin Luther und die Reformation im Urteil des deutschen Luthertums. Freiburg 1950. Bd.1. S.202-203. 151 152 98 сознает себя «в точнейшем согласии»153 со словом Божьим, зафиксированным в Библии. Эта точка зрения, разумеется, не была новой, но лишь логически продолжала традицию понимания Св.Писания как богодухновенного и потому почитала Библию как дело Св. Духа. Однако эта верность букве и серьезность совершенно не была принята в XVIII веке. Даже многие теологи сторонились этого и довольно часто отходили от догмы154, что позволило ряду исследователей говорить о том, что просвещение теологии произошло «изнутри»155. В любом случае, можно смело говорить о постепенном распаде конфессионального самосознания лютеранства. В то время как ортодоксия все больше замыкалась на себе, она все больше напоминала осажденную со всех сторон крепость. К началу XVIII века произошло то, что сыграло в дальнейшем решительную роль: пиетические настроения, проникнув в университеты, соединились с рационализмом и с проникшим в Германию из Англии деизмом. Догмы и ранее мыслившиеся незыблемыми постулаты все чаще стали подвергаться критике и подробному изучению, исходящими из желания дать новое, не столь узкое, основание религии.156 Этому в немалой степени способствовало распространение исторической критики Библии. Историческая перспектива, введенная в проблемное поле религии, совершенно изменила расстановку сил. Теологическое историописание, начатое еще Августином, сменилось на фактическое рассмотрение истории. Христианское мышление предполагает отбор событий и их упорядочивание согласно оценке и точке зрения, которые всегда даны вместе. Такой подход отныне признан неверным и заменен на принцип полноты и «естественности», ради исключения ошибок и суеверий. Что, в свою очередь, радикально изменило и рассмотрение фигуры Лютера. Так, Иоганн Георг Вальх (Walch) (1693-1775) отделил жизнь Лютера от его реформационной деятельности, его «природные» задатки от того назначения, которое ему было дано Богом, чтобы попытаться «естественным образом» объяснить Реформацию.157 Но подобный взгляд привел к тому, что Лютера перестали рассматривать как пророка, наделенного сверхъестественным даром, для распространения света Евангелия это не было необходимо. С другой стороны, утвердилась точка зрения, по которой появление Лютера было все же необходимым событием, поскольку с ним была связана определенная Val.Ernst Loescher Ausfuerliche Historia... Цит. по Zeeden E.W. Op.cit. S.206. См.: Scholder K. Grundzuege der theologischen Aufklaerung in Deutschland // Aufklaerung, Absolutismus und Buergertum in Deutschland, hrsg. v. F.Kopitzsch. Muenchen 1976. 155 См.: Boedeker H.E. Die Religiositaet der Gebildeten // Wolfenbuetteler Studien zur Aufklaerung. Bd.11. Heidelberg 1989. S.145-195. 156 Кроме того, рационализм требовал все проверить на соответствие разуму, в т.ч. и религию, и точка зрения Д.Юма вовсе не была исключительной: «Наша пресвятая религия основывается на вере, а не на разуме; и есть надежный способ явить ее суть – подвергнуть ее таким испытаниям, выдержать которые она как будто бы никак не может» (цит. по Хусто Л.Гонсалес op.cit. С.120). Вероятно, стоит также принять мнение о том, что чем больше Просвещение пыталось дать рациональное основание религии, тем больше места оно оставляло вере. 157 См.: Zeeden E.W. Op.cit. S.213ff. 153 154 99 цель, а именно, избавление от тирании Рима; а вовсе не учение об оправдании, которое все дальше отходит на задний план. Это все еще была попытка доказать, что Реформация совершилась благодаря божественному вмешательству, однако аргументы теперь носили исключительно эмпирический характер. В конце концов, этот ход позволил Просвещению открыть в истории божественный замысел, руководимый благой целью улучшения земной человеческой жизни. Миф о Лютере-пророке истины был разрушен чуждым всякой потусторонности и тайны разумом. В фигуре Лютера на первый план вышли его личные качества: добродетель, мудрость, прагматизм – все те качества, которые столь ценились в XVIII столетии. Лютер стал целью для всякого человека, как раньше этой целью был Христос, а образ Лютера должен был выполнять сугубо дидактическую и наглядную роль. Он стал мыслиться, прежде всего, как ученый, как защитник собственной веры против принуждения извне, как набожный и мужественный божий человек. Таким образом, величие и значение Лютера определялось уже не столько через его религиозное деяние времен Реформации, сколько через зримые последствия этой Реформации: через распространение свободы, в первую очередь. Следующий шаг сделал Иоганн Саломо Землер (1725-1791), отец современной исторической критики Библии, который, исходя из наследия пиетизма, провел разделение между «личной религией» и официальным церковным «учением», между «внутренним» и «внешним» в христианстве. Для него писания Нового Завета – это уже не богодухновенное Откровение, но исторический источник. Отсюда, Лютер и Реформация тоже могут рассматриваться как исторические события, к которым и подходить необходимо соответствующим образом. Обратившись сперва к лютеранской ортодоксии, Землер называет ее позицию по отношению к наследию Лютера рабской и губительной. Подлинный призыв и смысл Реформации кроется не в конкретных словах или теориях, а в способе «отношения к Богу» Лютера.158 Таким образом, личность Лютера выходит здесь на передний план, в то время как его догматические соображения учитываются все менее. Но даже Лютер-человек воспринимается далеко неоднозначно: Землер отмечает в его характере непреклонность и резкость, даже жесткость по отношению к противникам, что тут же подвергается осуждению. Впрочем, для Землера главным было то, что Лютер принес свободу, причем как от внешнего давления римской Церкви, так и внутреннюю свободу совести и мышления.159 Вместе с тем размывается понятие «учения» и «догмы»: они больше не понимаются в качестве окончательных и неизменных, на чем настаивала ортодоксальная партия; напротив, они предстают в качестве «неизбежно локальных», иных для стран и Semler J.S. Versuch eines fruchtbaren Auszugs der Kirchengeschichte. Halle1773. Цит. по Zeeden E.W. Op.cit. S.229. 159 Op.cit. S.233. 158 100 эпох. На этом основании разрушается и понятие «конфессии» с его привязкой к единоличному праву обладания истиной: истина связана с внутренним убеждением и состоит в «добрых представлениях, которые полезны для всех христиан». 160 Конечно, это привело Землера к утверждению толерантности и осуждению государственно-церковного давления со стороны ортодоксов. Конфессиональное учение может быть необходимо для внешнего объединения своих приверженцев в церковном сообществе, но никогда для принуждения к какой-либо определенной вере. Это учение требуется для сохранения спокойствия и порядка в Церкви161, т.е. абсолютно внешним образом. Поступки же против свободы совести мыслятся как нехристианские, не соответствующие духу лютеранства. Землер писал, что внутренняя религия независима от Библии, от проповеди и сакраменталий: «сила христианства не может быть связана ни с греческой, ни с латинской или с немецкой Библией, также не с проповедниками и не с таинствами»162 - они составляют лишь подготовку к подлинному христианству или есть его внешнее выражение. Последний решительный шаг на этом пути принадлежит Готхольду Эфраиму Лессингу (1729-1781), который благодаря своему писательскому таланту и фактически лютеровской нетерпимости окончательно разрушает старопротестантские представления о Лютере и его заслугах, а также кладет конец протестантской схоластике, вступив в прямую и открытую дискуссию с ее наиболее ярким представителем Иоганном Мельхиором Геце (1717-1786), главным пастором Гамбурга. Лессинг, в отличие от прочих упомянутых нами авторов, не был профессиональным теологом, впрочем, он обучался богословию в Лейпциге и происходил из семьи лютеранского пастора, что делало религиозную проблематику для него родной стихией. Но не только это отличает его: Лессинг ведет свою борьбу как бы на два фронта, противопоставляя себя, с одной стороны, ортодоксии, а с другой – неологии, или рационалистической теологии, предпринявшей резкую критику религии и понятия Откровения на основании исторических сведений о недостоверности библейских посланий. Во многом, взгляды и аргументы Лессинга очень схожи с взглядами Землера, но при этом они более насыщенны и потому более действенны. Лессинг все так же испытывает глубочайшее уважение к Лютеру и считает даже, что Лютер был «одним из величайших людей, которых когда-либо видел свет»163. Вместе с тем, почтение к Лютеру не перерастает у Лессинга в преклонение перед ним, в «идолопоклонство», в чем он как Semler J.S. Versuch einer freien theologischen Lehrart. Halle 1777. Цит. по Zeeden E.W. Op.cit. S.234. Op.cit. S.251. 162 Op.cit. S.260. 163 Rettung des Lemnius. Zweiter Brief // Samtliche Schriften, hrsg v. K.Lachmann und F.Muncker. 1886-1924. Bd.V. S.43. 160 161 101 раз упрекает ортодоксальную партию. Лессинг, как он сам пишет, даже специально ищет «человеческие черты» в Лютере, его недостатки164, в том числе для того, чтобы показать его величие и в этом. И кроме того: «следы человечности… более поучительны…»165 Но это ничуть не мешает ему обрушиться с критикой на Лютера за его бескомпромиссность и преследование своих оппонентов166, что было в новинку - об этом все знали, но не говорили открыто; наоборот, это подтверждало решимость Лютера бороться за чистоту веры. Дело тут в том, что Лессинг считает толерантность важной чертой христианства, а нетерпимость относит на счет папства. Лютер, по его мнению, не смог преодолеть духа папской политики и потому был столь резок. С этой же позиции Лессинг обрушивается на ортодоксию, полагая ее приверженность букве Библии и учения Лютера не более, чем новой тиранией и новым «папством». 167 Дискуссия с пастором Геце, открыто столкнувшая ортодоксальную точку зрения на религию и идеологию Просвещения, раскрывает замысел Лессинга. Лессинг считает себя правоверным последователем Лютера, причем более точно ухватившим замысел реформатора, нежели ортодоксальные теологи, и, видимо, защищает дело Лютера от его Церкви. «Лютер, ты! Великий непонятый человек! И менее всего понятый теми близорукими ослами, которые, с твоими туфлями в руках, испуская крики, но внутренне равнодушные, медленно плетутся по протоптанной тобой дороге!... Кто принесет нам, наконец, христианство таким, какому ты хотел бы научить нас, какому учил бы нас сам Христос!»168 Как и Землер, Лессинг полагает внутреннее конституирующим по отношению к внешнему, что заставляет его отрицательно относиться к буквальному прочтению Библии и буквальному пониманию слов Лютера. Лессинг отвергает не только абсолютный и непогрешимый авторитет Лютера и завершенность Реформации, но и авторитет Св. Писания, как конечного источника истины. Так понятая Библия – это ее обожествление, возведение книги, где не слишком много смысла, в ранг идола «библиопоклонство» (Bibliolatrie), как это называет сам Лессинг, или: «рабское уважение… перед материальной книгой».169 Он приходит к заключению, что в Библии еще не содержится вся религия, так же, как в трудах Лютера не содержится все его учение. Дух христианства тем самым резко противопоставляется букве Библии, а дух Лютера – его собственному учению. «Истинный лютеранин желает быть защищенным не сочинениями Лютера, он желает быть защищенным духом Лютера; а дух Лютера требует, по меньшей мере, что никому из людей не должно препятствовать в познании истины по Там же. Там же. 166 В частности, этой теме посвящен ряд т.наз. оправдательных сочинений, напр. Rettung des Hier.Cardanus, Rettung des Lemnius и пр. 167 Указ.соч. 168 Absagungsschreiben an Goeze. Februar/Maerz 1778 // Samtliche Schriften. Bd. XIII. S.101. 169 Bibliolatrie // Samtliche Schriften. Bd. XVI. S.470ff. 164 165 102 его собственному разумению.»170 Что делает спор с Геце особенно напряженным и в тоже время бесперспективным: этот взгляд неприемлем для ортодоксии. В этот момент проявляется второй основной мотив полемики Лессинга. В то время как Геце мог с полным для себя основанием заявить, что Лессинг разрушает основы евангельской веры, Лессинг полагает себя спасителем христианства. Ведь вольнодумцы и враги веры, пишет он, нападают, в первую очередь, на достоверность слов Библии, думая тем самым подорвать основу христианства.171 Однако различие религии и Библии спасает дело, поскольку даже плохо продемонстрированная и доказанная истина остается истиной172. Истина – это нечто «необходимое» и ее уверенность невозможно поколебать никаким «случайным» историческим свидетельством.173 И в этом пункте Лессинг, конечно, радикально расходится с Лютером, который так далеко не заходил хотя бы потому, что не верил в способности человеческого разума. Лессинг же, напротив, познание «необходимой» истины христианства предоставляет именно разуму и видит ее содержание, в первую очередь, в набожности и в добродетели, т.е. в делании.174 «Что толку правильно верить, если неправильно живешь?»175 Лютер в этом смысле был для Лессинга примером, которому все должны последовать, так же, как в свое время примером для ранних христиан был Христос: они оба принесли людям некое (простое) знание о Боге и спасении. Однако размышление над ним и попытка его доказательства привели к забвению и искажению истины. Впрочем, Лессинг, в конце концов, теперь уже от разума и его прогресса ждет прояснения истины, т.е. правильного понятия о Боге176, ведь Лютер показал, что человек может достичь такого знания. Вместе с тем символическое восприятие Лютера, как принесшего свет истины пророка, вновь оказывается востребованным; из него лишь удаляется конфессиональная привязка: и Христос, и Лютер в равной степени были учителями человечества. И если ортодоксы имели в виду свет учения, т.е. догматическое богословие, то Просвещение – свет разума, освобождающий от цепей суеверий и ограниченности религиозной догмы, и свободное разумное делание. На этом круг замыкается: понимание Лютера как светоча истины, пройдя через столетия, хотя и претерпело значительные изменения под влиянием общей секуляризации и даже, может быть, дехристианизации, ничуть не потеряло своей притягательной силы. 170 Anti-Goeze. Erster Beitrag // Samtliche Schriften. Bd. XIII. S.143f. Axiomata III // op.cit. S.114. 172 Rezension fuer “Kritische Nachrichten aus dem Reihe der Gelehrsamkeit”, 1751. 155.Stueck. Dienstag, den 28.Dezember // Gesammelte Werke, hrsg. v. P.Rilla. Berlin, Weimar 1968. Bd.3. S.71. 173 Ueber den Beweis des Geistes und Kraft // Op.cit. Bd.8. S.14. 174 Здесь однако должен быть поставлен разумный вопрос: не возвращает ли исподволь Лессинг учение об оправдании добрыми делами?, впрочем, в большинстве случаев, это относят к «практичности» и деятельной позиции Просвещения в целом. 175 Gedanken ueber den Herrnhuter // Samtliche Schriften. Bd.XIV. S.157ff. 176 Die Erziehung des Menschengeschlechtes // Gesammelte Werke. Bd.8. 171 103 Эпоха Просвещения развенчала миф о «сверхъестественном» Лютере, но взамен создала образ мужественного человека, борющегося за собственную правду и посмевшего, наперекор всему, бросить вызов устоявшейся практике и предрассудкам, и тем самым изменившего мир. Превращение Лютера в «доброго пастыря» принадлежит уже XIX веку. 104 П.А. Серкова (Москва) Эсхатология и этика пиетизма: от позднего Средневековья к раннему Новому времени Значение пиетизма для немецкой культуры Нового времени сопоставимо со значением Просвещения для общеевропейской культуры. Оба процесса шли параллельно. Являясь религиозным движением, вышедшим из лона протестантской ортодоксии, пиетизм не имеет ничего общего с критическими по отношению к религии настроениями Просвещения. Однако у этих двух движений есть точки соприкосновения. В пиетизме, также как и в Просвещении, присутствует антропологическая концепция, которая в Новое время вышла на первый план. Именно эта концепция, тесно связанная с воззрениями пиетизма на будущее, будет предметом данной статьи. В формировании антропологических воззрений пиетизма не последнюю роль играли средневековые представления, так что в этой концепции, принадлежащей во многом Новому времени, можно проследить преемственность с ранними мистическими и спиритуалистическими традициями. Хотя предпосылки к возникновению нового типа благочестия существовали задолго до 70-х годов XVII века, но все же пиетизм, как движение религиозного обновления принято начинать с фигуры Филиппа Якоба Шпенера (1635 - 1705). Прошедший школу ортодоксального лютеранства в Страсбургском университете, где его наставником был Иоганн Конрад Даннхауэр, и в то же время впитавший в себя веяния сепаратизма и критики церкви (вальденсы, лабадисты), Шпенер первым легитимировал подспудно зревший в лютеранской ортодоксии с начала XVII века новый тип благочестия, стремившийся перенести акцент с учения на жизнь. Свои мысли он изложил в сочинении «Pia desideria», вышедшем в 1675 году. «Pia desideria» считаются программным сочинением, своего рода манифестом пиетизма. Написанные на одном дыхании, они являются монолитом шпенеровской мысли. Сам Шпенер, будучи плодовитым писателем, впоследствии говорил, что все остальные его сочинения являются лишь развитием мыслей, уже содержавшихся в «Pia desideria». Основная интенция книги – в требовании обновления, реформирования церкви. Полное название сочинения соответствует его интенции: «Сердечное стремление к богоугодному улучшению истинных евангелических церквей» («Pia desideria oder Hertzliches Verlangen nach gottgefälliger Besserung der wahren evangelischen Kirchen»). «Pia desideria» состоят из трех частей. За диагнозом испорченного состояния церкви следует прогноз улучшения в будущем, за которым следуют рассуждения о конкретных средствах и способах улучшения церкви. 105 Первая часть «Pia desideria» представляет собой констатацию плачевного состояния современной церкви и вероучения. Шпенер анализирует причины этой ситуации, которая, по его мнению, связана с пренебрежением к вопросам благочестия в пользу «правильного учения», то есть доктринальных споров и догматики. В лютеранской церкви XVII века, согласно Шпенеру, произошло нарушение равновесия между «учением» и «жизнью». Неправедная жизнь контрастирует с правильным и четким учением, выработанным в течение XVII века в лютеранстве. С помощью тезиса о правильности учения Шпенер отграничивается от радикальных течений, критиковавших церковь, таких, как, например, спиритуализм Кристиана Хобурга, считавшего испорченную жизнь следствием неправильного учения177. Тем самым, Шпенер четко позиционирует себя в качестве приверженца ортодоксального лютеранства. Шпенер дистанцируется от индефферентного отношения к церкви спиритуалистов. Если для последних всякая форма церкви как института считалась «Вавилоном», то для Шпенера, как и для всех лютеранских ортодоксов, «Вавилоном» остается папский Рим. Однако, согласно Шпенеру, исход из вавилонского пленения не был завершен с Реформацией. Лютеранской церкви также все еще присущи некоторые черты «Вавилона». Перед тем как предложить программу конкретных реформ по улучшению состояния церкви, Шпенер во второй части «Pia desideria» излагает свою концепцию «упования на лучшие времена» («Hoffnung besserer Zeiten»). Эта концепция является теологически самой важной, так как явно выходит за рамки лютеранского ортодоксального учения. Эта же тема интересует нас больше всего в контексте данной статьи, поэтому целесообразно будет остановиться на ней подробнее. 1. Учение Шпенера об «уповании на лучшие времена» и наследие хилиазма. Уникальность учения Шпенера об «уповании на лучшие времена» заключается в том, что в нем произошел отход от эсхатологических представлений, идущих еще от Лютера и развитых в протестантской ортодоксии. Суть ортодоксальной протестантской эсхатологии состояла в ожидании Страшного Суда и конца света. Апокалиптические настроения, возникнув в конце Средневековья, были унаследованы Реформацией, и, постепенно усиливаясь в течение XVI и XVII века, достигли своего апогея после Тридцатилетней войны. Признаки близости конца света видели в нашествии турок, в кометах, эпидемиях болезней178. Эта же эпоха была временем обострения хилиастических настроений. Берущие начало из иудаизма представления о Тысячелетнем царстве на Земле Кристиан Хобург (Christian Hoburg, 1607 - 1675), лютеранский теолог, спиритуалист. В своих трудах «Spiegel der Mißbräuche« и »Ministerium Lutherani Purgatio« Хобург критикует лютеранскую церковь как «новый Вавилон», противопоставляя ей «мистическую теологию». 178 Ср. Lehmann, Hartmut. Das Zeitalter des Absolutismus. Gottesgnadentum und Kriegsnot. Stuttgart-Berlin-KölnMainz, 1980. 177 106 были восприняты и христианским учением, со времен Реформации привлекая радикальные течения, являясь «сокровенной темой Нового времени»179. Лютеранство, однако, решительно отвергало хилиастическое учение. В XVII веке, когда Валентин Вайгель в своих сочинениях открыто выступил за хилиазм, когда розенкрейцерские сочинения возвестили общую реформацию всего мира и предстоящий aureum saeculum, когда в различных частях Империи стали слышны голоса пророков хилиазма, лютеранская ортодоксия вынуждена была усилить свою борьбу с этим течением. Многие теологи выпустили труды, в которых пытались опровергнуть хилиастическое учение. Иоганн Герхард (1582 - 1637), один из самых известных и почитаемых теологов того времени, в очередном томе своего монументального труда «Loci theologici», вышедшем в 1622 году выступил с обширной критикой хилиастского упования на будущее. Эта критика стала основой антихилиастской позиции ортодоксального лютеранства вплоть до пиетистских споров. И все же, несмотря на ожесточенное сопротивление, уже в XVII веке хилиастские нотки проникают в ряды самой ортодоксии. В 1623 году Пауль Эгард (Egard, 1579 – 1655) перенес, в противовес лютеранской ортодоксии, Тысячелетнее царство в будущее и предрекал его скорое пришествие. Сочинение Георга Лоренца Зайденбехера (Seidenbecher, 1623 - 1663) «Chiliasmus sanctus» (1660), опубликованное в Амстердаме в обход цензуры, несмотря на это, стоило священнику его места. Генрих Аммерсбах (Ammersbach, 1632 1691), в своих сочинениях «Geheimnis der letzten Zeiten» и «Betrachtung der gegenwärtigen und zukünftigen Zeiten» указал на явные противоречия в ортодоксальной критике хилиазма. По мнению Аммерсбаха, аргументы Эгарда и Зайденбехера не противоречат лютеранскому учению. Аммерсбах открыто пропогандировал хилиазм, призывая вернуться к учению о будущем Тысячелетнем царстве, учению, которое присутствовало уже у ранних христиан. Разгорелся скандал и Аммерсбах удержался на своем месте только благодаря покровительству прусского курфюрста, выступавшего за толерантную церковную политику180. Борьба против аммерсбаховского хилиазма еще продолжалась, когда Шпенер в 1675 году издал свои «Pia Desideria», где в осторожной форме изложил пиетистское «упование на лучшие времена». Итак, Шпенер не был первым лютеранским теологом, склонным к хилиазму. Но он был первым теологом, официально представившим это учение в лютеранской ортодоксии и, что еще важнее, Шпенер обеспечил хилиазму широкую поддержку в рядах лютеранских теологов. Петер Циммерлинг охарактеризовал Adam, Alfred. Lehrbuch der Dogmengeschichte I, 1977, S. 33. Цит. по: Wallmann, Johannes. Reich Gottes und Chiliasmus in der lutherischen Orthodoxie. In: Wallmann, Johannes. Theologie und Frömmigkeit im Zeitalter des Barock. Tübingen 1995 S. 105 – 123, Здесь S. 105 180 Wallmann, Johannes. Reich Gottes und Chiliasmus in der lutherischen Orthodoxie. In: Wallmann, Johannes. Theologie und Frömmigkeit im Zeitalter des Barock. Tübingen 1995 S. 105 – 123, Здесь S. 123 179 107 деятельнсть Шпенера как смену парадигм в теологии181. Мысль об «уповании на лучшие времена» проходит красной нитью по всем сочинениям Шпенера, являясь не просто одним из учений, но основой, базовой мыслью его концепции. Впервые об «уповании на лучшие времена» Шпенер высказывается в приватной переписке, в письме к Йоханне Элеоноре Петерсен 182 (декабрь 1674): «Если бы Бог пожелал даровать совокупной церкви необычайную радость, то не желали бы мы ничего лучшего, чем если бы его промыслами пришло бы постепенно время свершиться тому, что было Им заповедано и предначертано во утешение верующих в Него. Ах, если бы уже в сей год Бог позволил бы наступить тем весенним дням, которых мы ожидаем перед последними скорбями и последующим за ними новым летом!»183. В «Pia desideria» мысль о лучших временах была введена в официальный лютеранский дискурс. Надо оговориться, что в «Pia desideria» Шпенер говорит о лучших временах для церкви, при этом понимая под словом «церковь» отнюдь не партикулярную лютеранскую конфессию. Шпенер понимает церковь скорее экуменически в смысле «совокупное христианство» («gesamte Christenheit»)184. Конечно, у Шпенера идет речь преимущественно о лютеранской церкви, но при анализе испорченного состояния церкви он сознательно занимает универсальную позицию. Он смотрит в первую очередь на «состояние христианства в совокупности» («Zustand der gesamten Christenheit»)185, или «христианских церквей» («Christlichen Kirchen») 186 . Объектом его упований является «совокупная истинная церковь» («Die gesamte wahre kirche»)187. Экзегетически Шпенер основывается на библейских пророчествах об обращении иудеев188 на 18 главе Апокалипсиса189, а также позднее на Лк. 18, 8. Эти пророчества 181 Zimmerling, Peter. Einführung. In: Spener, Philipp Jacob. Schriften. Hrsg. von Erich Beyreuther. Bd. VI. 1. Hoffning besserer Zeiten – Erwartungshorizonte der Christenheit. Hildesheim, Zürich, New York. 2001. S. VII – XXIII, здесь С. XXIII 182 Йоханна Элеонора Петерсен (Petersen), урожденная графиня фон Мерлау (1644 – 1724). Сторонница Шпенера, автор теологических трактатов, герменевтических сочинений, духовно-назидательной литературы. Вместе со своим супругом и соавтором, пастором Иоганном Вильгельмом Петерсеном оказала влияние на формирование радикального крыла пиетизма. 183 „Solte aber Gott der gesamten kirche eine sonderbare freude geben wollen, hätten wir nichts besseres zuwünschen, als ob seine weißheit allgemach die zeit kommen wolte lassen der erfüllung derjenige dinge, die er noch zu trost seiner gläubigen verheisset und auffzeichnen lassen. Ach, sollte dieses das jahr sein, da Gott wolte lassen anfangen die jenigen fruhlingstage anbrechen, welche wir noch vor den letzten trübsalen und darauff folgenden neuen sommer warten!“. Spener, Philipp Jacob. Briefe aus der Frankfurter Zeit 1666 – 1686. Bd. 1. 1666 – 1674. Hrsg. von J. Wallmann. Tübingen 1992. S. 858f 184 Cp. Schmidt, Martin. Wiedergeburt und neuer Mensch. In: ders. Wiedergeburt und neuer Mensch. Witten 1969 S. 147. „Kirchenbegriff Speners ist grumdsätzlich und praktisch ökumenisch gerichtet“. 185 Spener, Philipp Jacob. Pia desideria: oder Herzliches Verlangen nach Gottgefälliger Besseung der wahren Evangelischen Kirchen/ sampt einigen dahin einfältig abzweckenden Christlichen Vorschlagen Philipp Jacob Speners D. Predigers und Senioris zu Franckfurt am Mayn; sampt angehengten Zweyer Christlichen Theologorum darüber gestelten und zu mehrer Aufferbauung höchstdienlichen Bedencken. Frankfurt am Mayn/ zu Verlegung Johann David Zunners. Gedruckt bey Johann Diederich Fritgen. M DC LXXVI. Hrsg. von Kurt Aland. Berlin 1964 (В дальнейшем = PD) S. 9 (Здесь и далее перевод автора статьи). 186 PD, S.10 187 PD, S. 44 188 Ср. ссылка на Рим. 11, 25-26 и Ос. 3.4-5 в PD, S. 43f 108 Шпенер считает еще не сбывшимися. С их исполнением «совокупная истинная цековь перешла бы в намного более благословенное состояние, чем сейчас»190. Шпенер пишет: «Если мы взглянем на Священное Писание, то нам не приходится сомневаться, что Господь заповедовал некоторое лучшее состояние своих церквей здесь на земле»191. Это упование вкратце можно описать так: обращение евреев, окончательное падение папства, устранение всех помех и препятствий вере. Это означает отход от традиционного лютеранского ожидания близости Страшного суда. Шпенер принципиально отказывается вычислять дату конца света: «я остаюсь при своем мнении, что я не буду предпринимать попытки определения как долго и как далеко желаннейший день Господень, но что он, однако же, не настолько близок, чтобы мы его каждодневно ожидали и утешались, напротив, что остались различные пророчества в Писании, свершение которых следует ожидать еще в будущем»192. Это не означает окончательной де-эсхатологизации настоящего, но «движение», которое переживается в настоящем, является наступлением ожидаемого блаженного Царствия Божия. Сколько бы параллелей не встречалось в лютеранской ортодоксии, в том, что касается улучшения состояния церкви, жалоб на ее плачевное положение, но нигде нет соответствий шпенеровским «Pia desideria». Отличие Шпенеровской концепции от всех предшествующих идей реформирования церкви заключается в том, что это реформирование не только желательно, но и осуществимо. Тем самым настоящее и будущее обретают совершенно новую динамику, которая наполняет новым содержанием старые, многократно артикулированные требования и жалобы. Будущее и настоящее совершенно конкретны и связаны друг с другом. Ожидание улучшения церкви не откладывается на неопределенное будущее, но уже в настоящем возвещает о себе. Это движение к будущему требует ответственного сотрудничества каждого отдельного христианина. По словам Шпенера, уповая на лучшие времена, недостаточно просто ожидать их, но надо «не медля проводить в действие то многое, что должно быть сделано с одной стороны для обращения иудеев и духовного ослабления папизма или, с другой стороны для улучшения наших церквей. И даже если мы будем видеть перед своими глазами, что цель не может быть достигнута целиком и полностью, Ср. ссылка на Апк. 18.19. в PD, S. 44. Это место из Библии Шпенер истолковывает как предвестие падения папского Рима. 190 «die gesamte wahre kirche werde in einen viel seligern und herllichern stande gesetzt werden/ als sie ist». PD, S. 44 191 «Sehen wir die heilige Schrifft an, so haben wir nicht zu zweiffeln, daß Gott noch einigen bessern zustand seiner Kirchen hier auff Erden versprochen habe». PD, S. 43 192 «so bleibe ich bey meinem satz, ob ich mich nicht unternehme zu determinieren, wie lang u. wie weit der höhsterwünschte tag des Herrn seye, daß er gleichwohl auch noch so nahe nicht seye, daß wir uns seiner so zu reden täglich zu versehen und zu getrösten hätten, vielmehr daß unterschiedliche propheceyungen in der schrifft noch übrig sind, derer erfüllung vorhin zu erwarten seye» Spener, Philipp Jacob. Schriften. Hrsg. von Erich Beyreuther. Bd.11. Theologische Bedenken und andere briefliche Antworten. Theil.1. (1700). Teilbd. 1. Nachdr. der Ausg. Halle 1700. Hildesheim, Zürich, New York 1999. S. 218f 189 109 то, по меньшей мере, делать столько, сколько возможно»193. Таким образом, в пиетизме происходит изменение позиции человека, из пассивного ожидания Страшного суда к активному соучастию в деле строительства будущего. Судьба отдельного человека связана с движением истории. Будущее больше не замкнуто, не закрыто, оно открывается все больше и больше для ответственной деятельности отдельного человека. Новый взгляд на будущее тесно связан с формированием новой антропологической концепции. Итак, пиетизм, впитавший в себя хилиастические настроения предшествующей эпохи, вытесненные лютеранством на периферию, способствовал отходу от пессимизма и апокалиптических настроений. Темы vanitas и memeto mori, которыми был пронизан XVII век, уступили в пиетизме место мысли о новом рождении, составляющей центр антропологической концепции пиетизма. 2. «Новое рождение» и «новый человек»: антропологическая концепция пиетизма В центре антропологической концепции пиетизма стоят понятия «нового рождения», «нового бытия», «нового человека». Хотя они существовали и раньше, в позднесредневековой мистике, но именно в пиетизме эти понятия заняли центральное место, повлияв на антропологические представления Нового времени в целом. По мнению Пауля Грюнберга, понятие «нового рождения» («Wiedergeburt») вышло в пиетистской сотериологии на первый план, оттеснив на периферию понятие оправдания194. Мартин Шмидт считает, что тема нового рождения, являющаяся базовой для пиетистской теологии, была по существу подготовлена мистическим спиритуализмом 195. Поэтому при рассмотрении антропологической концепции Шпенера нельзя не учитывать влияние на него предшествующей спиритуалистской традиции. Прежде всего надо отметить влияние на становление взглядов Шпенера трактата Теофила Гросгебауэра196 «Глас дозорного из разоренного Сиона» («Wächterstimme aus dem verwüsteten Zion», 1661). В приложении к этому трактату, которое называется «Правильный урок нового рождения» («Treuer Unterricht von der Wiedergeburt»), Гросгебауэр определяет «новое рождение» как внутреннее обращение. Крещение само по себе, как внешний церковный ритуал, не очищает человека. Для спасения требуется именно внутреннее обращение с помощью веры. Шпенер следует этому пониманию нового рождения. Именно «заново родившемуся», «новому человеку» посвящены многие 193 «so viel eins theils zu bekehrung der Juden und geistlicher schwächung der Pabstthums oder andern theils zu besserung unserer kirchen gethan werden mag, zu werck zu richten nicht säumig sein: und ob wir wohl vor augen sehen solten, daß nicht eben der gantze und völlige zweck erhalten werden könte, auffs wenigste so vieles thun als möglich ist». PD S. 45 194 Grünberg, Paul. Philipp Jacob Spener Bd. I. Hildesheim 1988, S. 449 195 Schmidt, Martin. Wiedergeburt und neuer Mensch. In: ders. Wiedergeburt und neuer Mensch. Witten 1969, S. 24 196 Теофил Гросгебауэр (Grossgebauer, 1627 – 1661), лютеранский теолог, один из важнейших предшественников Шпенера, указавший на необходимость реформирования лютеранской церкви 110 его сочинения. Первые высказывания о «новом человеке» мы находим уже в «Pia desideria»: «наше совокупное христианство состоит во внутреннем или новом человеке, душой которого является вера, а ее деяния – плоды жизни»197. Свои мысли о «новом рождении» и «новом человеке» Шпенер развивает в так называемых «Берлинских проповедях о новом рождении», изданных под названием «Der hochwichtige Articul von der Wiedergeburt». В этих проповедях, прочитанных им во время пребывания в Берлине с 1691 по 1694 год и изданных в 1694 году, он соединяет плоды своего интенсивного чтения Лютера с представлениями спиритуализма, а также с собственным опытом придворной и городской барочной культуры уходящего XVII века в своеобразное понимание христианства, указывающее путь в будущее. «Новое рождение», являющееся ключевым моментом в «Берлинских проповедях», представляет собой теологическую конструкцию, сочетающую в себе в неразрывном единстве понятия «веры», «оправдания» и «нового человека»198. В понятии «нового рождения», по признанию самого Шпенера, он придерживается исходящего от Иоханна Арндта движения благочестия, которое делало упор на живой вере и внутреннем благочестии, обновлении и изменении сердца199. Сам стиль проповедей Шпенера, простой и ясный, унаследовал многое от Арндта. Мы не найдем в них ни пустых абстракций, ни экстатических интонаций, ни темных пророчеств. Зато довольно часто Шпенер апеллирует к разуму слушателей/читателей. Шпенер избегает теологической полемики и концентрирует свое внимание на сотериологии и этике, то есть на системе спасения, фундаментальной ситуации человека перед Богом и необходимости нового рождения, а так же на образе мыслей нового человека и блаженстве нового бытия. Основная фраза для понимания значения «нового рождения»: «Итак, мы видим, как это часто говорится, что для христианина недостаточно лишь свершать те или иные части внешнего богослужения, также недостаточно время от времени совершать то или иное доброе дело. Но мы должны стать совершенно иными людьми, обрести совершенно иные сердца и дух, и потому быть совсем иначе расположенными, чем мы были расположены 197 «Unser gantzes Christentum bestehet in dem innern oder neuen menschen, dessen Seele der glaube und seine würckungen die früchten des lebens sind». PD, S. 29 198 Rüttgardt, Jan Olaf. Zur Entstehung und Bedeutung der Berliner Wiedergeburtspredigten Philipp Jacob Speners. In: Spener, Philipp Jacob. Schriften. Hrsg. von Erich Beyreuther.Bd. VII. 1. Der hochwichtige Articul von der Wiedergeburt (1696) 1715 S. 1 - 112 Здесь S. 100 199 Иоганн (Йохан) Арндт (Johann Arndt, 1555 - 1621). Лютеранский теолог. Его сочинения «Книги об истинном христианстве», вводящие в лютеранское учение богатое наследие средневековой мистики (Св. Бернард, Таулер, «немецкая теология» и др.) повлияли на формирование в рамках лютеранской ортодоксии т.н. движения «нового благочестия» и заложили основы пиетистского благочестия. Шпенер высоко ценил сочинения Арндта. Сам за себя говорит тот факт, что главное сочинение Шпенера «Pia desideria» впервые увидело свет в качестве предисловия к собранию проповедей Арндта. 111 от природы, и чем расположены, как правило, другие люди»200. Важны не новые поступки или мысли, но тотальное обновление всего человека, его новое бытие. В 62й проповеди Шпенер объясняет, в чем заключается истинное христианское бытие: не в «одном знании», «не во внешних церемониях или исполнении богослужения», также не в «остальном внешнем поведении». «Но то истинное, что делает нас христианами есть внутренний новый человек (…) новое существо. Оно должно сначала быть сотворено в новом рождении, и впоследствии поддерживать и продолжать обновление, в двух частях: с одной стороны, в том, чтобы впредь одной верой оставаться со Спасителем и искать с его праведностью своей праведности; с другой стороны также и в остальной праведности и святости, что означает, усердствовать во взращивании всех христианских добродетелей. В этих частях состоит совокупность нашего христианства в том, что касается упражнения в нем»201. В «Проповедях о новом рождении» царит трезвый, почти просвещенческий дух. Опыт в них выступает наряду со Священным Писанием в качестве автономного источника познания. Например: «то, что мы слышим из слова Божия (…), то имеем мы также и в собственном опыте»202. Познание веры приходит «как из Его Слова, так и из собственного опыта»203. Но не только внутренний опыт важен в понятии «нового рождения». Если в средневековой концепции «ветхого» и «нового человека» подчеркивалось, что «новый человек» - это исключительно внутренний человек, то в пиетизме прослеживаются заметные изменения по сравнению с позднесредневековой мистикой. Баланс «внешнего» и «внутреннего» изменяется. Как замечает Мартин Шмидт, «Подражание Христу» из императива, дающегося извне, становится жизненной функцией, исходящей изнутри»204. Более того, «внутренний человек» становится в «новом рождении» внешним человеком. Учение Шпенера отличается тем, что делает акцент на повседневном опыте индивида. Совершенствование – это совершенствование в жизни. Тем самым «новое рождение» тесно связано с этикой, с поступками человека, с добрыми делами. Многие исследователи „Sehen wir also/ was so offt gesagt wird/ es seye zu dem Christentum nicht genug/ nur diese und jene stücke des äusserlichen gottesdienstes zu verrichten/ sondern auch nicht nur dieses und jenes gutes zu weilen zu thun/ sondern einmal wir müssen gantz andere menschen werden/ ganz andere hertzen und geist bekommen/ folglich gantz anders gesinnet seyn/ als wir von natur gesinnet gewesen/ und andere leute ins gemein auch gesinnet sind“. Spener, Philipp Jacob. Schriften. Hrsg. von Erich Beyreuther.Bd. VII. 1. Der hochwichtige Articul von der Wiedergeburt (1696) 1715 (В дальнейшем = Wiedg.) S. 221. 201 „Sondern das rechte/ was uns zu Christen macht/ ist der innere neue mensch/ ... eine neue creatur. Diese muß erstlich in der wiedergeburt gewircket seyn/ und nachmal in der erneuerung erhalten und fortgesetzt werden/ und solches in beyden stücken: einer seits/ daß man immerfort mit glauben allein an seinem Heyland hangen bleibe/ und in dessen gerechtigkeit die seinige suche; andern theils auch in der übrigen gerechtigkeit und heiligkeit/ das ist/ allen christlichen tugenden zu wachsen beflissen seye. In diesen stücken stehet die gantze summa unsers Christenthums/ was dessen übung anlangt». Wiedg. 1008f 202 „Was wir aus Gottes Wort davon hören/wir auch in eigner erfahrung haben“(Wiedg. S. 282) 203 „so wol auß seinem Wort als aus eigner erfahrung“ (Wiedg. S. 976) 204 Schmidt, Martin. Speners Wiedergeburtslehre. In: Zur neueren Pietismusforschung. Hrsg. von Martin Greschat. Darmstadt 1977 S. 9 – 33, здесь S. 20 200 112 отмечают, что в пиетизме произошло возвращение этики в лютеранство205. Как известно, Лютер был равнодушен к вопросам «добрых дел», для него главное – вера. Противоположность пиетистского учения Лютеру заключается в перфекционизме. Настойчиво пытаясь способствовать «овнешнению» внутреннего человека, Шпенер идет противоположным Лютеру путем. Дистанция между ними заключается, прежде всего, в различном понимании Бога: парадоксальному высказыванию Лютера о том, что Бог избирает и любит грешника, противостоит рациональное требование пиетизма (только будучи полностью праведным, в мыслях и в делах, человек может быть принят Богом)206. В этом стремлении к полному «овнешнению внутреннего»207 состоит пиетистский перфекционизм. В проповедях Шпенера постоянно подчеркивается возможность человека к совершенствованию. Его высказывания о совершенствовании в жизни носят не рекомендательный, но директивный характер. От человека требуется не новое поведение, но новое бытие. Лютеранское свободное пространство адиафоры208 теряется, все попадает под требование обязанности209. Динамика «нового рождения» и совершенствования индивида не ведет у Шпенера к фанатизму или сектантскому сепаратизму, потому что группирующийся вокруг понятия «нового рождения» комплекс представлений и учений дополняется вторым самостоятельным высказыванием: «упованием на лучшие времена», о котором речь шла выше. Надежда Шпенера на улучшение церкви, общества и науки осторожно уклоняется от ожиданий конца света, которыми был наполнен предшествующий период. Судный день отодвигается в далекое будущее, тем самым пробуждая дремлющие в образе нового рождения этические импульсы и привязывая их к интенсивным преобразованиям в церковном и социальном мире. В связи с этим надо заметить, что пиетизм не только внес новую струю в лютеранскую теологию, но был чрезвычайно ангажированным в социальном плане движением. Стоит только упомянуть реформу образования ближайшего соратника Шпенера, Августа Германа Франке (1663 – 1727), его деятельность на ниве социальных преобразований в Саксонии. В пиетизме намечается нововременное христианство, все больше и больше эмансипирующиеся от церкви, не привязанное к институту и богослужению, теологии и учению, ритуалам и таинствам. В «Берлинских проповедях» очень редко говориться о Ср. Rüttgart, Jan Olaf. Heiliges Leben in der Welt. Grundzüge christlicher Sittlichkeit nach Philipp Jacob Spener. Bilefeld 1978. S. 187f 206 Schmidt, Martin, Op.cit. S. 33 207 Ibidem. S. 21 208 Понятием «адиафора» в христианской этике обозначаются поступки, не относящиеся ни к сфере должного, ни к сфере запрещенного, которые могут как совершаться, так и не совершаться человеком, не влияя на его спасение 209 Rüttgardt, Jan Olaf. Zur Entstehung und Bedeutung der Berliner Wiedergeburtspredigten Philipp Jacob Speners. In: Spener, Philipp Jacob. Schriften. Hrsg. von Erich Beyreuther.Bd. VII. 1. Der hochwichtige Articul von der Wiedergeburt (1696) 1715 S. 1 - 112 Здесь S. 103 205 113 причастии, крещение понимается не как само «новое рождение», но как «купель нового рождения». Христианство из учения все больше становится феноменом жизненного мира. Вырисовывающийся сдвиг от учения к жизни, от схоластики к опыту, от догматики к этике соответствует акцентированию внимания на новом человеке, который отделяет себя от церкви как благочестивый субъект от объективного мира церковности 210. Эпохальное значение учения Шпенера в том, что оно не только закладывает основу пиетизма, но и более того, предвещает последующее теологическое Просвещение. Идея прогресса, как в отдельной человеческой жизни, так и в историческом измерении, присутствующая у Шпенера и у других пиетистов, является нововременным элементом в теологии. Тем самым пиетизм, произошедший из лютеранской ортодоксии и впитавший в себя наследие позднесредневековой мистической, спиритуалистской и хилиастической мысли, стоит на пороге Нового времени. 210 Rüttgardt, Jan Olaf. Op.cit. S. 107f 114 III. Средневековая схоластика и философия Нового времени: преемственность и различия. К.В. Бандуровский (Переславль) Materia signata и res extensa: к пониманию материи у Фомы Аквинского и у Декарта Философские идеи обладают бытием sub specie eternitatis, однако имеют свою историческую судьбу. Почему одни идеи становятся актуальными и насущными, переворачивающими мир, другие, ничуть не менее эвристичные и обоснованные, отправляются в запасники мысли сразу или спустя недолгий период популярности? Дело в самой идее или в том, что она берется в оборот вешними силами, становится необходимым элементом в совсем не философском механизме? Этот вопрос часто становится нитью каких-либо конкретных историко-философских исследований. Однако меня более интересуют не те идеи, в которых «взорвалась атомная бомба», а те, которые не имели значительного резонанса, порой даже в философской среде, но которые обладают неиспользованным потенциалом, хранят в себе нереализованные возможности. Философия в наше время является синонимом отвлеченности, неактуальности («ну, это философский вопрос»). Революции и войны, которые происходят в наше время, вопреки пророчеству Ницше, происходят совсем не из-за философий. Однако, возможно, философия нужна будущему, как хранилище возможностей. Декартово понимание материального мира имело впечатляющую судьбу, которая едва ли порадовала бы самого Декарта. Однако схожее понимание существовало и до Декарта, равным образом как и альтернативные, не менее интересные концепции. В этой статье я намечу сопоставление учения Декарта о res extensa с представлениями о материи, которые существовали в средневековом аристотелизме и, прежде всего, у Фомы Аквинского. Возможно понимание протяженности как свойства, существенного для понимания материи, но не составляющего существо материи, таила в себе возможность совершенно иного научнотехнического прогресса, чем тот, который мы наблюдаем. Одним из самых впечатляющих исторических поворотов в мировоззрении является переход от аристотелевской естественнонаучной парадигмы, господствующей в течение двух тысячелетий, к нововременной, переход от качественной физики к количественной. Согласно Аристотелю, математика изучает отделенные от материи и материальных качеств (таких как движение, изменение) объекты, поэтому применение математики к физическим объектам невозможно. Платон, который высоко ценит математику, как науку совершенствующую душу и помогающую нам постигать мир подлинного бытия, так же отрицал применимость математики к миру становления. 115 Разумеется, попытки математизировать естествознание или хотя бы механику, предпринимались и раньше. По свидетельству Диогена Лаэртского пифагореец Архит Тарентский (ок. 435 – после 360 до н.э.) первый упорядочил механику, приложив к ней математические основы, и первый свел движение механизмов к геометрическому чертежу. В Средние века преодолеть аристотелевскую парадигму стремились Томас Брадвардин, оксфордские (мертонские) «калькуляторы», Николай Орем211. Николай Кузанский предлагает проект установления удельного веса различных веществ, благодаря чему можно было бы «вернее прийти к тайнам вещей и многое познать в большем приближении к истине»212. Опыт механиков, ремесленников, инженеров, строителей, так же стимулировал обращение к математическим расчетам. Однако, как отмечает П.П. Гайденко, для создания естественнонаучной парадигмы, которая могла бы конкурировать с аристотелевской, недостаточно отдельных, даже успешных попыток применения математики к научным исследованиям или техническим устройствам. Необходимо теоретическое осмысление математизированного естествознания, которое и было совершено Декартом213. Наиболее важным элементом нововременной парадигмы является понимание протяженности как основного, сущностного свойства материального мира. Именно отвлекаясь от вторичных свойств предмета, мы получаем возможность выразить протяженность и связанные с ним качества математически. Как приходит Декарт к идее res extensa, всем известно и хорошо изучено; напомню вкратце ход его рассуждений. Декарт стремится построить естественную науку как строго аксиоматико-дедуктивную систему, которая могла бы дать нам истинные представления о мире. Дедукция должна опираться на аксиому, которая была бы абсолютно несомненна. Поэтому Декарт подвергает радикальному сомнению все знание, которое мы получаем от других людей, от наших органов чувств и от внутреннего ощущения нашего собственного тела. Все перечисленные источники познания могут в принципе вводить нас в заблуждение. Единственное несомненное положение – если я заблуждаюсь, то должен существовать «я», субъект заблуждения. Но если даже ложное мышление (заблуждение) требует несомненного существования субъекта, то правильное требует этого a fortiori, отсюда знаменитое «я мыслю, следовательно, я существую». Однако в рамках сознания Декарт обнаруживает идею совершенства и идею собственного несовершенства (ведь я могу обманываться). Таким образом, я не могу быть причиной собственного бытия, иначе, обладая идеей совершенства, я сотворил бы его совершенным. Таким образом, должна Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в средние века. М.: Наука, 1989. С. 286-327. Николай Кузанский. Простец об опытах с весами // Николай Кузанский. Сочинения в 2 тт. Т. 1. М.: Мысль, 1979. С. 445. 213 Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII-XVIII вв.). Формирование научных программ нового времени. М.: Наука, 1987. С. 140. 211 212 116 быть внешняя причина моего бытия, причем причина совершенная (т.е. Бог), иначе идея совершенства не могла бы возникнуть. Но если существует Бог, то должен существовать и материальный мир, по крайней мере то, что мной воспринимается ясно и отчетливо; в противном случае получилось бы, что Бог меня обманывает, что противоречит его совершенству. Ясно и отчетливо я воспринимаю не вторичные свойства предмета (цвет, запах и т.д.), а протяженность, следовательно, именно протяженность является сущностным свойством материального мира, а математика – адекватными описанием res extensa. Рассуждение Декарта уязвимо для критики – бросается в глаза то, что оно во многом инспирировано культурно-историческими предпосылками его времени: активно используются традиционные аргументы (возражение Августина против скептицизма академиков, «онтологический» аргумент в пользу бытия Бога), видно некритическое отношение к постулату причинности (в котором усомнился через пол века Мальбранш, а затем Юм). Тем не менее, понимание материального мира как протяженного становится элементом господствующей парадигмы, если не как результат убедительной дедукции, то как гипотеза, которая далее подтверждается успехами математизированного естествознания и развитием основанных на нем технологий. Однако оппозиция «аристотелевская физика – нововременная физика» лишь задает контуры некоторого проблемного поля. В рамках аристотелевской физики понимание того, что представляет из себя материя, не остается неизменным. Тексты Аристотеля не столько дают целостную и законченную концепцию материи, сколько ставят вопросы и концептуализируют ряд парадоксов, которые затем решались различными мыслителями, следующими аристотелевской парадигме. Рассматривая вопрос о «первых сущностях», Аристотель выдвигает два критерия, которым должны удовлетворять первые сущности: (1) быть субъектом, но не предикатом; (2) быть познаваемыми. На первый взгляд эти критерии кажутся противоречащими друг другу. Первому требованию соответствует «это нечто», индивидуальный предмет, который, однако, не может быть объектом научного исследования. Второму требованию – универсалии, но они могут выступать в качестве предиката. Противоречивость данных критериев ставила мыслителей перед выбором одного из них, в результате чего сформировались позиции номинализма, признающего первыми сущностями именно индивидуальные объекты и реализма в его сильной версии, признающего первичной реальностью универсалии. Аристотель, не признававший обособленную реальность форм (за исключением Перводвигателя, являющегося чистой формой, и души, возможность существования которой без тела у Аристотеля проблематизируется), избирает средний путь слабого реализма: первичными сущностями являются предметы, в которых 117 конкретно соединяются и их индивидуальная уникальность, и их видовая принадлежность. Однако такая позиция совершенно не снимает напряженности проблемы, а переносит ее в другую плоскость. Возникает вопрос, каким образом сосуществуют в конкретном объекте индивидуальное и универсальное? Аристотель не дает развернутого ответа, однако он намечает путь решения, полагая основанием индивидуации материю214. Боэций, благодаря которому раннее латинское средневековье получило логические сочинения Аристотеля, не воспринял идею материи как принципа индивидуации и объяснял различия индивидов иначе: "Что касается различия по числу, то его создает разнообразие акциденций. Ибо три человека разнятся между собой (distant) не родом, не видом, но именно своими акциденциями. И даже если мы постараемся мысленно отнять от них все [другие] акциденции, все же место, занимаемое каждым, будет другое, и вообразить всех троих в одном месте мы не сможем при всем желании: ведь два тела никогда не могут занять одно и то же место; а место – это акциденция. Значит, эти люди составляют численное множество потому, что являются акцидентальным множеством."215 Стоит отметить, что в этом месте Боэций проводит мысленный эксперимент по отмысливанию различных свойств от вещи, аналогичный знаменитому опыту с кусочком воска у Декарта, и получает схожий результат: представить вещь без занимаемого места (= протяженности) невозможно. Однако Боэций мыслит протяженность как акциденцию. С другой стороны, философия раннего средневековья была инспирирована скорее платонической и неоплатонической философией, и понимание материи развивалось отчасти в следовании этой традиции, отчасти в отталкивании от нее. Поэтому на протяжении всего тысячелетнего развития средневековой философии велись дискуссии относительно понимания материи216. Прежде всего ранние христианские мыслители (Псевдо-Дионисий Ареопагит, Августин) отвергали самостоятельное существование идей и соответственно вечность материи или существование материи до форм. Сложность представлял также вопрос о том, существует ли идея материи у Бога до сотворения мира и сотворена ли материя прежде форм (согласно Августину она со-сотворена (concreata), согласно Иоанну Скоту Эриугене имеет прообраз в Боге 217). Христианское понимание Разработанного учения о материи как принципе индивидуации у Аристотеля нет. Об этом говорится как о чем-то очевидном в контексте рассуждения о довольно далеких вопросах. Так, самое известное место является доказательством того, что космос (небо) един: космос есть первое движимое, приводящееся в движение первым неподвижным двигателем. Но первый двигатель есть чистая форма, в нем отсутствует материя как начало численного множества, поэтому он один, следовательно, космос тоже один. Аристотель. Метафизика. 1074 a 33-35. Рус. пер. см.: Аристотель. Сочинения в 4 тт. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 314. 215 Боэций. Каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества // Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. М.: Наука, 1990. С. 146-147. Перевод Т.Ю. Бородай. 216 См. об этом: McMullin E. (ed.) The Concept of Matter in Greek and Medieval Philosophy. Notre Dame, Indiapolis, 1965. 217 О разделении природы, 3,5. 214 118 волевого творения мира из ничего не позволяет мыслить материю платонически, как источник разрушимости и несовершенства218. В результате распространения аристотелевского понимания материи и формы в арабском (с IX в), а затем и христианском мире (XIII в) возникают новые проблемы: критика универсального гилеморфизма, основывающегося на платонической традиции219, дискуссии о множественности и единстве субстанциальных форм220, споры о начале индивидуации. Авиценна, проясняя аристотелевский тезис о материи как о "начале индивидуации", вводит понятие "формы телесности" или "общей формы", первой формы, предшествующей другим и делающей материю телом, обладающим определенными количественными измерениями, поскольку неопределенная материя не может быть основой для различия индивидов221. Согласно же Аверроэсу, один субъект может обладать только одной субстанциальной формой222, и если бы материя получила форму телесности, то все остальные формы были бы акцидентальными223. В качестве основания индивидуации Аверроэс выдвигает “материю с неопределенными измерениями”. На См. например: Дионисий Ареопагит. Божественные имена. 4.28. Хотя еще у Августина можно обнаружить высказывания об особой, спиритуальной материи ангелов (De Gen. ad lit. 5, 5), однако только Ибн Гебироль, в книге “Источник жизни” (Fons vitae, XI в.) создал концепцию, названную “универсальным гилеморфизмом”, согласно которой все сотворенные вещи, в том числе и духовные субстанции, состоят из формы и материи. Этой концепции придерживались Вильгельм де Ла Маре, Ричард из Медиавиллы, Бонавентура, Роджер Бекон, Дж. Пеккам и др. Фома Аквинский подверг критике эту теорию, поскольку составность духовных субстанций из формы и материи противоречит универсальности их действия (De ens, 3), а также поскольку составное из материи и формы — разрушимо. Для объяснения составности духовных субстанций, нематериальность которых он утверждал, Фома дополнил дихотомию форма-материя дихотомией сущность-существование (основываясь на идеях Боэция (De Trin. 2)); таким образом нематериальные субстанции состоят из формы-сущности, являющейся основанием их различия, и акта существования. 220 Учение об универсальном гилеморфизме явилось основой для теории множественности сущностных форм. Ряд философов (Дж. Пеккам, Р. Килуордби, Вильгельм де Ла Маре, Матфей из Акваспарты, Ричард из Медиавиллы) признавали, что материя претерпевает ряд оформлений, начиная с первичного оформления формой телесности (согласно Р. Бекону — светом) и кончая последней формой, придающей вещи завершенный вид (forma completiva). Сторонники этого учения утверждали, что не только интеллектуальная душа является сущностной формой человека, но и другие. Особую позицию занимали сторонники дуализма (Генрих Гентский, Годфрид Фонтенский), признававшие наличие в человеческом существе двух форм — интеллектуальной души и “формы телесности”. Признание множественности сущностных форм позволяло объяснить в физике — процесс смены форм (вещь, утрачивая одну из форм, не превращается в первоматерию, а сохраняет низшие формы, могущие послужить материей для другой более высокой формы); в антропологии — наличие в человеческой душе различных потенций; в христологии — решить проблему, связанную со статусом тела Христа в период между смертью и воскресением. Теория единства субстанциальной формы, выдвинутая Иоанном Бландом (в 1230 г.), наиболее яркое выражение получила в трудах Фомы Аквинского и его последователей. Согласно Фоме, признание “формы телесности” в качестве сущностной означало бы акцидентальность всех остальных форм, поскольку одно сущее оформляется одной сущностной формой. Множественность способностей он объяснял тем, что более высокая форма, интеллектуальная душа человека, может выполнять действия более низких форм, делая человека существом чувствующим, живым, телом, субстанцией (De spiritualibus creaturis, a. 3). Теория единствa субстанциальной формы позволяла утвердить психофизическую целостность человека и была необходима для признания бессмертия индивидуальной человеческой души (вопреки аверроистскому признанию бессмертия только активного интеллекта). Эта концепция вызвала резкое осуждение со стороны Этьена Тампье, Р. Килуордби и Дж. Пеккама, однако вскоре была признана официально. Особую позицию в этом вопросе занимал Бонавентура, выдвинувший компромиссную концепцию “формального различия” интеллектуальной, чувственной и вегетативной душ (Bonaventura, II Sent. dist. 15, a. 1, q. 2 ad 3); ему следовал и Дунс Скот, подчеркивавший вместе с тем реальное различие души и “формы телесности”. 221 Met., 2, 2. 222 Sermo de subst. orb., 1. 223 Epitom. in. Met. 2. 218 219 119 латинском Западе это понятие встречается многократно у Альберта Великого, следующего аристотелевской традиции; Альберт рассматривает как начало индивидуации материю, однако не в собственном смысле (как полную неопределенность и потенциальность), а материю как субъект формы224. С пониманием материи как принципа индивидуации также связана проблема познания. Если материя не познаваема, то можем ли мы познать индивидуальные вещи? Ведь в конечном итоге познание должно быть направлено на индивидуальное, так врач должен применять свои знания не к больному вообще, а к конкретному заболевшему человеку. Но познавать мы можем только общее, науки об индивидах быть не может. Это противоречие зафиксировано Аристотелем, однако в виде открытой проблемы225. В христианской или мусульманской парадигме требование познание индивидуальных вещей усиливается, ведь Бог мыслится как личность, творящая индивидуальные предметы. Познание только общего не было бы в таком случае истинным познанием226. Вопрос о материи как принципе индивидуации рассматривается в ряде работ Фомы Аквинского. Наиболее подробно понимание материи изложено в трактате «О сущности и сущем» (1252-56)227, некоторые коррективы внесены позже в «Комментарии к «О Троице» Боэция» (1255—1259)228. Существует также анонимный трактат «О природе материи и неопределенных измерениях»229, который ранее приписывался Фоме, и который во многом следует томистскому пониманию. В небольшом по объему раннем трактате «О сущности и сущем» Фома Аквинский излагает основы своей метафизики. Сущность составных субстанций включает в себя и форму и материю – без формы вещи не были бы познаваемы и не относились к какому либо виду или роду. Но только форма также не может быть сущностью составных субстанций, иначе физические субстанции ничем не отличались бы от математических (таков был и аргумент Аристотеля против Платона). Причем материя не является чем-то дополнительным, акцидентальным, выступая началом индивидуации. Однако такое определение требует уточнения. Поскольку сущность включает в себя и форму, и индивидуализирующую ее материю, то она может рассматриваться только как особенное, а не общее; но таким образом получилось бы, что общее не имеет определения. Для того чтобы разрешить это противоречие, Фома использует оппозицию означенная/неозначенная материя (materia signata/materia non signata). Означенная материя существует в определенных измерениях (sub determinatis О понимании формы и материи в средние века см. подробнее: Бандуровский К.В. Форма и материя // Новая философская энциклопедия в 4 тт. Т. 4. М.: Мысль, 2001. С. 263. 225 См.: Аристотель. Метафизика (1039 b 27 — 1040 а 2) // Аристотель. Собр. соч. в 4 тт. Т. 1. М., 1976. C. 217. 226 Об индивидуальном как цели познания см.: Бандуровский К.В. О познании. Введение // Фома Аквинский. Учение о душе. СПб.: Азбука, 2004. С. 323-340. 227 Thomas von Aquin. De ente et essentia. Das Seiende und das Wesen. Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1983. 228 Sancti Thomae de Aquino expositio super librum Boethii de Trinitate. Rec. B. Decker. Leiden, 1955. 229 De natura materiae et dimensionibus interminatis. Еd. I. M. Wyss. Frieburg-Louvain, 1953. 224 120 dimensionibus), имеет определенную высоту, длину и ширину, определенно в пространстве и времени. В понятии человека также наличествует представление о том, что человек – материальное существо, имеющее кости и плоть, но эта материальность понимается неопределенно. Т.о. Сократ отличается от человека вообще означенностью материи, «этой костью» и «этой плотью». Однако материя становится означенной не из своей собственной природы, поскольку материя сама по себе никак не определена, а от формы. Здесь представляется парадокс: индивидуация является следствием материи, а не формы, которая обща, но определенность материи берется от формы. Чтобы разрешить этот парадокс, Фома Аквинский вводит различие тела как рода субстанции (человек есть живое существо, а живое существо есть тело) и тела как интегральной части (тело – часть человека). Тело как род, есть нечто протяженное, то, что имеет три измерения. Однако такое определение является результатом мысленной абстракции. В реальности пространственная определенность является результатом действия формы, но не «формы материи», а более высокой, а стало быть способной выполнять действия более низкие. Рассматривая тело как таковое, мы не принимаем в расчет, что оно оформлено той или иной формой, более или менее совершенной, формой каменности, чувствующего или разумного существа. В таком случае понятие тела будет рассматриваться как род. Подобно этому, говоря о роде «живых существ», мы отвлекаемся от того, является ли оно животным или человеком; род, таким образом, выступает в качестве материального принципа, неопределенно предполагающего то или иное формальное совершенство (perfectio). Однако, говоря о теле, как о части живого существа, мы полагаем, что телесность не предполагает какоголибо более высокого совершенства, и если такое совершенство добавляется, мы рассматриваем как нечто иное по отношению к телу, как душу, чувственную или разумную. Если телесность мыслится не как нечто, строго исключающее форму, а как безразличное к форме (ведь обладая любой формой – камня, растительной или животной души, тело получает существование и может обладать измерениями), то такая телесность мыслится в определении рода, в то время как форма остается неопределенной. Если же форму, неопределенную в роде, определить, например, как форму «человечности», то эта форма выступит видообразующим отличием, образуя вид «человеческое существо» как нечто составное, включающее в себя как форму («человечность»), так и материю, но материю неопределенную, «вообще». Исходя из отношения рода и вида мы можем провести аналогию в различии вида и индивида – как существующее неопределенным в роде (форма) становится определенным в виде, так и существующее неопределенным в виде (материя) становится определенным в индивиде. Эту аналогию мы проводим в 121 едином мыслительном поле, поскольку то, что существует в индивиде, существует также в виде и в роде, но только неопределенно. Таким образом, логос «человека», обозначаемый определением, которым оперирует естественная наука, рассматривается без «этой конкретной» материи, но подразумевает соединение с материей в общем смысле. Таким образом, «логос» материальной вещи представляет собой абстракцию универсального от частного, а не формы от материи. Поэтому сама по себе изменчивость вещей подлунного мира не может препятствовать научному рассмотрению: естественные вещи изучаются наукой как подверженные изменению, возникающие и исчезающие, но при этом рассмотрению не подлежит конкретная возникающая и уничтожающаяся вещь. В «Комментарий к «О Троице» Боэция», глава 4, статья 2 («Производит ли разнообразие акциденций различие вещей по числу?»230), Фома несколько меняет свою позицию, относительно того, следует ли мыслить материю означенную выступающую как принцип индивидуации, подлежащей определенным измерениям, как это полагалось в «О сущем и существовании». Определенные измерения задаются определенной мерой и формой, благодаря чему совершенные сущие можно рассматривать под категорией количества. Однако такие измерения не могут быть началами индивидуации, поскольку получилось бы, что индивид, меняя количественные характеристики, не был всегда нумерически одним и тем же. Определенные измерения могли бы быть основанием индивидуации небесных тел, которые, согласно космологическим представлениям того времени всегда состоят из одной и той же материи, не убывающей и не пребывающей. Но если мы применим тот же критерий для индивидуирования тела из подлунного мира, в котором постоянно пребывает и убывает материя, то получится, что в разное время перед нами нумерически разные индивиды. Поэтому Фома предлагает рассматривать в качестве основания для означенной материи "неопределенные измерения", которые имеют некоторые границы, но в этих границах могут свободно варьироваться (как, например, это происходит в случае с цветами: всякий предмет может изменять свой цвет, но существуют пределы, за который их цвет не может выходить, не перестав при этом быть цветом: черный и белый, или ультрафиолетовый и инфракрасный). Так или иначе, материя сама по себе не может быть началом ни видового, ни нумерического различия: началом видового различия она является в той мере, в какой подлежит общим формам, а началом нумерического различия – коль скоро она подлежит измерениям. Поэтому в некотором смысле можно говорить, что нумерическое различие возводится к материи, или что оно возводится к акциденциям, подразумевая только акциденцию "количества". Все другие акциденции, в том числе, "место", являются не началами индивидуации, а началами познания различия индивидов, или "знаками", 230 См. ниже перевод этой статьи. 122 указывающими на это различие, и только в этом переносном смысле могут быть названы "началами индивидуации". Вопрос о началах индивидуации нужно рассматривать в более широком контексте, обратившись не только к анализу отдельной индивидуальной вещи, но и к пониманию причины ее происхождения. Именно в этом лежит подлинное основание индивидуации. Согласно Фоме, первая причина разделения, а значит, и множественности, происходит из первичного отрицания и утверждения, выраженных в оппозиции "сущее" – "не-сущее". Это разделение служит основанием множественности, и в той степени, в какой "сущее" является иным по отношению к "не-сущему", мы можем говорить об инаковости как причине множественности; и, в частности разделение материи, подлежащей неопределенным измерениям является причиной различия индивидов, а также различия мест, занимаемых нумерически различными телами. Поэтому различие мест само по себе является скорее признаком, но не причиной, нумерического различия. В случае различия субстанций основанием является различие отличительных признаков, конституирующих вид. Но различие самих первых простых вещей не может быть объяснено возведением к еще более первым и простым, потому что это привело бы к уходу в бесконечность. Первые и простые вещи должны быть различными на основании себя самих. Так, наиболее общий термин – "сущее" не может заключать в себе различия согласно самому сущему, поскольку "сущее" отлично только от "не-сущего", следовательно, одно сущее отличается от другого только потому, что в его понятии заключено отрицание другого сущего. Поэтому в первых родах отрицательные положения не являются опосредованными каким-либо другим основанием различия. Первое сотворенное сущее отлично от своей причины и это отличие конституирует множественность в сущем: сотворенное сущее является как бы не-сущим по отношению к своей причине. множественность На этом возникает основании вследствие Авиценна некоторого и Аль-Газали порядка, полагали, существующего что в происхождении первых субстанций. Здесь мы обратимся к "Сумме теологии"231, где Фома излагает и критикует позицию Авиценны аналогично тому, как он делает это в "Комментарии на "О Троице", но гораздо более ясно и развернуто. Авиценна атрибутировал различие сотворенных вещей вторичным деятелям: Бог (первая интеллигенция), познавая себя, производит вторую интеллигенцию, в которой сущность отлична от существования (поскольку тождество сущности и существования Авиценна атрибутирует только Богу), и, таким образом, в ней происходит соединение потенции и акта. Вторая интеллигенция познает себя двояким образом: как потенциальное сущее – и согласно этому производит и движет тело неба, и как актуальное сущее – и 231 S. th. I q. 47 a.1. 123 согласно этому производит душу неба. Таким образом, различие конституируется при порождении второй интеллигенции и проецируется ей на все то сущее, которое она в дальнейшем сотворит. Фома критикует позицию Авиценны: в этом случае творение мира не было бы собственным действием Бога и разнообразие сотворенных сущих не содержалось бы в интенции Бога, а происходило от соединения многих причин, то есть, было бы случайным232. Но для Фомы разнообразие творения вовсе не является чем-то случайным: напротив, оно является следствием божественной благости. Нет никакой необходимости полагать порядок порождения первых сущих для того, чтобы получить разнообразие творений, ведь у первой причины может существовать множество первых действий на основании того, что одно сущее подражает какому-либо аспекту единого и испытывает недостаток в другом, тогда как другое сущее, напротив, обладает этим недостающим, но испытывает недостаток в том, чем обладает первое. Поэтому именно весь универсум разнообразных творений является отображением божественной благости. Бог творит разнообразные сущие, так, чтобы недостатки одних восполнялись достоинствами других и единая простая благость Бога в творении предстает как совокупность многообразных сущих. Поэтому первая причина разделения, а значит, и множественности, происходит из отрицания и утверждения: первым познается сущее и не-сущее, на основании которых конституируется самое первое различие, а затем – множественность. В этой множественности первых простых вещей сохраняется указание на первичное противопоставление "сущего" "не-сущему" как на первую причину разделения и множественности: ведь мы познаем "эту вещь", подразумевая, что она не есть другая вещь, "место", подразумевая, что оно не есть ни "время", ни "отношение", ни какая-либо другая категория, а "это место" как отличное от "того". Поэтому после сущего как неделимого обнаруживается множественность первых простых вещей, которая, в свою очередь, является основанием множественности составных, согласно тому, что вторичная В "Сумме теологии" (q. 45, a. 5.) Фома доказывает, что творение не может атрибутироваться какому-либо вторичному агенту, следующим образом: то, что наиболее универсальные действия должны восходить к более универсальным и первичным причинам, не отрицают ни неоплатоники, ни Авиценна. Поскольку наиболее универсальным действием является бытие, оно должно быть собственным действием первой и наиболее универсальной причины, то есть — Бога. Фома ссылается на "Книгу о причинах" (De Causis prop., III.), где говорится, что "и интеллигенция, и наша душа дает бытие лишь постольку, поскольку действует посредством божественного действия". Но если к понятию "творения" относится произведение бытия как такового, без определенности в отношении того или другого конкретного сущего, то возникает вопрос: нельзя ли атрибутировать творение конкретных предметов каким-либо вторичным агентам? Ведь такой агент может быть причастным собственному действию какого-либо другого агента инструментальным образом, действую в силу другого. Так, Авиценна, а также Петр Ломбардский (Sent. IV, D, 5.) полагали, что такие действия тоже относятся к креативным. Однако Фома отвергает это учение, отличая креативные действия от диспозитивных, то есть, таких, которые создают в материи определенную расположенность к тому, чтобы воспринять действие первого агента. Однако для того, чтобы вторичный агент мог производить собственное действие, должно уже существовать некоторое бытие, в частности - бытие материи, которую он мог бы располагать соответствующим образом. 232 124 причина действует только в силу первой причины233: можно сказать, что цвет существует и познается нами как то, что не есть звук, не есть тело, не есть поверхность и так далее, а красный цвет – как то, что не есть ни синий, ни зеленый и т.д. Что же касается инаковости, то она может быть названа причиной множественности на том основании, что инаковость вещей по отношению друг к другу следует из их различия. Можно сказать, что "инаковость" есть первое, что указывает нам на различие вещей в нашем опыте: прежде, чем мы путем рассуждений узнаем о причине множественности вещей, мы уже имеем некоторое первичное знание об этой множественности, а именно – что вещи являются иными по отношению к нам и иными по отношению друг к другу. Поэтому и Боэций оперирует словом "различие". При этом если речь идет о различии в первой множественности, то "различие" (diversitas) следует понимать как "разделение" (divisio), поскольку разделение не требует того, чтобы обе части разделяемого были сущим. Но Боэций говорит о множественности составных, а не простых вещей, поэтому слово "различие" вполне допустимо в этом случае. Ведь Боэций выводит множественность составных вещей из различия по роду, виду, числу и т. д. Но из этого не следует неравенство Лиц в Троице, поскольку понятие "составленности" неприменимо ни к Лицам, ни ко всей Троице: ведь Троица не является родом, в котором сходятся Отец, Сын и Святой Дух. Различие между понятиями "творения" и "порождения" можно пояснить следующим образом: при порождении Сына (или исхождении Духа) Бог производит из Себя нечто, равное ему по совершенству, и именно поэтому не может произойти никакого отторжения или разъединения: Бог остается единым, и в то же время троичным. Но благость Бога такова, что переступает свои пределы, поэтому Бог (вся Троица) производит мир посредство другого акта, а именно – акта творения, подразумевающего отторжение или отчуждение сотворенного, и в этом случае первичное разделение бытие/небытие трансформируется во вторичное разделение "того" и "другого" бытия, "неба" и "земли", "света" и "тьмы", на основании которого происходят более частные разделения, по прежнему сохраняющие смысл разделения, но воспринимающиеся (во всяком случае, человеком) уже как различия или вариации, иначе говоря, как вещи, инакие по отношению друг к другу. Проблема материи как начала индивидуации была предметом споров как во времена Фомы, так и в посттомистской философии234. В русле томистского понимания См. Книга о причинах. § 1. Русский перевод опубликован в: Историко-философский ежегодник'90. М., 1991. С. 189-209. Арабский текст и средневековый латинский перевод см. в: O. Berdenhewer. Die pseudoaristotelische Schrift “Über das reine Gute”, bekannt unter den Namen “Liber de Causis”. Freiburg (Switz), 1882. (Переиздан в Frankfurt-am-Mein, 1957). 233 125 следуют Эгидий Римский, называвший принципом индивидуации "протяженную материю"235 и Петр из Абано, определявший его как материю, существующую под точно означенными измерениями236. Гервеус Наталис, перечисляя три основные современные концепции принципа индивидуации, называет принципом индивидуации материальных субстанций количество237. Вторая традиция отвергает томистское учение; так, Генрих Гентский отвергает материю или количество в качестве принципа индивидуации, выдвигая вместо них понятие "двойной негации": отрицания раздельности внутри самого предмета и отрицания сходства его с другими, внешними ему предметами 238. В качестве последнего основания индивидуации рассматривается Бог. Бонавентура, занимавший среднюю позицию, исходя из того, что в определенном нечто всегда обнаруживаются два начала — форма и материя, полагает, что индивидуация происходит на основании соединения материи и формы239. Того же взгляда придерживался Ричард из Миддлтауна240. В 1277 г. эдиктом парижского епископа Эьена Темпье томистское учение о материи как принципе индивидуации было осуждено, прежде всего, из-за вывода из этого учения о том, что в мире духовных сущностей не может быть более одного индивида, относящегося к одному и тому же виду. В отличие от аристотелианского понимания материи как чистой потенции, не существующей и непознаваемой отдельно, Дунс Скот считал материю актуальной сущностью, поскольку Бог не творит чистую потенциальность241; Бог также может сотворить материю без формы242. Однако Дунс Скот отвергает материю в качестве принципа индивидуации из-за ее постоянной изменчивости243, рассматривая в качестве принципа индивидуации "позитивную сущностность" (entitas positiva) 244, которая позднее будет связана с понятием индивидуального различия (differentia individualis), или "этости" (haecceitas)245. В номиналистическом течении вопрос о принципе индивидуации практически снимается. Так, Уильям Оккам говорит, что всякая единичная вещь является См.: Assenmacher J. Die Geschichte des Individuationsprinzips in der Scholasik : Forschungen zur Geschichte der Philosophie und der Pädagogik, I. Band / Heft 2 / Herausgegeben von Arthur Schneider und Wilhelm Kahl. Leipzig, 1926. 235 Aegidius Romanus. Quodlib. I, 2. 236 Petrus Abanus. Conciliator controversarium, quae inter medicos et philosophicos versantur. Venetiis, 1565. Петр из Абано (Petrus de Apono или Petrus Aponensis, 1246–1320, философ, первый профессор медицины в Падуанском университете. 237 Hervaeus Natalis. Quodl. III, 9. Hervaeus Natalis Brito (Hervé, или Harvey, или Hervey Nedellec, прозванный Doctor rarus, c.1260-1323), теолог и логик из ордена доминиканцев, автор Summa Totius Logicae, приписываемой также Фоме. 238 Henricus de Gandavo. Quodl. II, qu. 8 239 Bonaventura. Sent. III, d. 10, a. 1, q. 3. 240 Richardus de Mediavilla. Quodl. I, q. 8. 241 Duns Scotus. Op. oxon. II, dist. 12, q. 1, n. 11. 242 Duns Scotus. Op. oxon. II, dist. 12, q. 2, n. 3. 243 Duns Scotus. Lib. sent. II, d. III, q. 5. 244 Duns Scotus. Lib. sent. II, III, 2 (corollarium). 245 Duns Scotus. Scholion ad II Sent. d. 3, p. I, a. 2, q. 2, n. 2. 234 126 единичной сама по себе246. Он признавал реальное существование только у индивидуальных вещей и отрицал наличие универсальных форм как в вещах, так и в божественном уме (поскольку это ограничивало бы божественную свободу). Материя, согласно Оккаму, как часть индивидуального сущего, также индивидуальна, актуальна и постижима, а форма обладает протяженностью и частями247. Их единство обеспечивается более высоким онтологическом статусом формы. Дуранд из Сен-Пурше обсуждает этот вопрос, однако, преимущественно, отрицая томистскую позицию: бытие как связь формы и материи уже является индивидуальным количественным бытием, которому не требуется особого принципа индивидуации248. Ф. Суарес в "Метафизических диспутациях" дает обзор истории проблемы индивидуации249, однако сам не допускает никакого внешнего принципа индивидуации; согласно Суаресу, существует лишь внутренний принцип индивидуации, который всякая сущность содержит сама по себе. Позиция Суареса оказала влияние на философию Лейбница; в "О начале индивида" он говорит: "всякий индивид индивидуируется всей своей сущностью"250. Лейбницу, в свою очередь, следует Х. Вольф: "под началом индивидуации подразумевается достаточное основание, внутренним образом присущее индивиду"251. Если рассматривать проблему индивидуации вне теологического контекста и рассматривать материю как единственную причину индивидуации, то концепция Фомы может показаться «самым слабым местом томистской теории»252. Однако даже если абстрагироваться от теории креационизма, сложно согласиться с тем, что здесь мы имеем дело со слабостью томизма. Скорее данная проблема является «аномалией» по отношению к аристотелевской парадигме и не разрешима в принципе. Единственная (в рамках естественной науки) возможность – выход за рамки парадигмы, к новым интуициям и аксиоматике, своего рода интеллектуальное обращение. Собственно, такой интеллектуальный прорыв, оставшийся в то время без последствий, и совершает Фома Аквинский. В Новое время уже Декарт осуществляет аналогичный мыслительный шаг, «отмысливая» от кусочка воска все «вторичные качества» и оставляя в конечном итоге протяженность в качестве «первичного качества». Декартовская res extensa во многом схожа с томистской materia signata quantitate, однако историческая судьба этих понятий совершенно различна; декартовское понятие «протяженной вещи», как известно, легло в основу количественной физики, современной НТР и машинной цивилизации. 246 Wilhelm Ockham. Sent. I, dist. II, q. 6. Wilhelm Ockham. Summulae in. 1. Phys. I, 19, 21. 248 Durand de Saint-Pourçain, Sent. II, III, 3, 14. 249 Suarez F. Disp. met. V, sect. 6. 250 Leibniz G.W. De principio individui, 4. 251 Wolf Ch. Ontologia, 228. 252 Meyer H. Thomas von Aquin, Sen System und seine geistesgeschichiliche Stellung. Paderborn, 1961. S. 637. 247 127 Однако в отличие от Декарта, Фома Аквинский не считает протяженность сущностным свойством, которое конституирует субстанцию. Количество, конечно, акциденция. Но некоторые субстанции находятся в зависимости от чего-то другого или в отношении к другому и не могут быть поняты без этого отношения. Естественнонаучное понятие (классический аристотелевский пример – курносость) не может быть понята без отношения к конкретной материи (в данном случае к носу), математическое – без отношения к качественно неопределенной материи. Различные акциденции образуют некоторую иерархию – количество привходит в субстанцию прежде, чем качество, и это определяет различие в способах абстрагирования в случаях естественнонаучного и математического рассуждений. В ходе математического осмысления мы абстрагируемся именно от качества, но не от количества как первичной акциденции, без которой тело вообще не могло бы быть познано как тело даже в самом абстрактном виде. Таким образом, математика является не наукой со своим особым предметом и не чисто инструментальной наукой, как логика253; ее предмет – те же тела, тот же мир, который изучается в естественных науках, и она также подчиняется требованию соответствия между понятием и положением вещей. На основе такого подхода вполне можно было бы осуществить проект математизации естествознания, однако, менее радикальный, чем просвещенческий проект, базирующийся на картезианской парадигме. В этом проекте количественное естествознание не вытесняло бы качественное, а дополняло его. Вопрос о статусе логики обсуждался Боэцием (Боэций. Комментарии к Порфирию. Кн. 1, 3 // Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. М., 1990. С. 8-9), но вопрос о том, является ли логика частью или инструментом философии, продолжал дебатироваться (ср. Avicenna. Logica. I c. 1, f. 2rb 51-2va 9. Opera Latine. Venetiis, 1508.; Dominicus Gundisalvi. De divisione philosophiae. Ed. L. Baur. BGPhMA IV 2-3, 1903. p. 69, 21-70). Фома Аквинский склоняется к тому, что логику не следует причислять к теоретическим наукам, поскольку спекулятивное познание самоценно, а логика изучается ради использования в других науках. 253 128 И.Х. Гафаров (Вильнюс) Вторая схоластика Виленской иезуитской Академии как философия раннего Нового времени. Вторая схоластика как школьная философия раннего Нового Времени развивалась на территории Белоруссии преимущественно иезуитами. Основным центром ее распространения была Виленская академия, созданная в 1578 году254. К основным персоналиям этой традиции относятся Мартин Смиглецкий (1563—1618), Лукаш Залусский (1604—1676), Аарон Александр Олизаровский (около 1628—около 1659), Сигизмунд Лауксмин (1596—1670), Пётр Скарга (1536—1612) и Теодор Биллевич (сер. XVII в.—XVIII в.). Понятие "вторая схоластика", введенное Карло Джиаконо (Carlo Giacona) в работе "Вторая схоластика" (La seconda scholastica)255, удачно определяет иезуитскую философию того времени, поскольку фиксирует как преемственность форм философской культуры, заимствованных у средневековой мысли, так и своеобразие круга вопросов и проблем, которые возникли перед этой традицией в раннее Новое время. Действительно, наисущественнейшей чертой схоластики не только как философской деятельности в интересах церкви и веры, но и как определенного модуса философствования, был специфический способ приращения, использования и передачи знаний, тесно вплетенный в повседневность средневековых университетов и университетов раннего Нового времени. Этот тип культуры мышления опирался на особые исследовательские и дидактические процедуры и связанный с ними способ письма. Продолжая эту мыслительную традицию, вторые схоласты подчеркнуто провозглашали приверженность и уважение к авторитетам. Однако, в отличие от философствования братьев иных орденов, наследование иезуитами традиции средневековой философии носило своеобразный, двойственный характер. Иезуиты более других стремились отвечать вызову времени. Основной задачей, которая стояла перед ними, было не сохранение аристотелевской мысли или идей Св. Фомы в аутентичном виде, но создание целостной и непротиворечивой философской системы, которая могла бы конкурировать с ренессансными и протестантскими проектами. Именно иезуиты выдвинули постулат о "следовании духу Св. Фомы", изменяя при этом его "букву" в основных метафизических предпосылках. Иезуиты тщательно воспроизводили нюансы рассуждений 254 Хотя на территории польской Короны и функционировали учебные заведения других братств, также как и "вольные университеты", в Великом Княжестве Литовском католическая философия была представлена преимущественно иезуитами (кроме академии в Вильно, тут также действовали коллегии в Орше, Смоленске и Пинске). 255 Aduszkiewicz, A. Od scholastyki do ontologii: dwa studia / Adam Aduszkiewicz. — Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1995. S. 11. 129 Отцов Церкви и христианских докторов, но использовали их так, чтобы истолковать и объяснить с их помощью изменения окружающей их реальности. Изменения же были значительными. Они определялись переломом традиционного мышления Старой Европы и началом развития первой (так называемой "эндогенной" модернизации) 256. К тому же с началом Реформации уже существующие конфессии и ереси дополнились новыми. В этих исторических условиях основными вопросами, на которые вынуждены были отвечать философы, были вопросы адаптации философской традиции к существующим условиям. Особенно актуальными эти проблемы были для временного и пространственного Пограничья 257 — Италии, Испании и белорусских территорий. Специфическая двойственность второй схоластики проявилась в особенностях ее философского письма. С одной стороны, вторая схоластика прокламировала использование наследия схоластики средневековой. Так, со схоластикой был связан специфический стиль письма — по характеристике польского исследователя Юлиуша Доманьского (Domański) — безличностный, схематичный и педантичный и, вместе с тем, бедный, так как отбрасывал всё, что не работало непосредственно на логичность выводов.258 К тому же строй схоластического мышления отличается своеобразным интеллектуализмом, выражающимся в представлении об универсальности логических операций, в склонности к концептуализации и абстрагированию. Вторые схоласты продолжали рассматривать деятельность философа как чисто интеллектуальную, ее структуру очерчивали акцентированная речевая формула и специфический, заимствованный из логики путь построения дискурса. Интеллектуальная деятельность вторых схоластов, как и деятельность их предшественников, была направлена на выработку путей категориального постижения и решение теоретических вопросов. Общей чертой всей схоластики является глубокая вера в возможности инструментария, которым пользуется разум. Судя по всему, вторые схоласты, как и схоласты ранние, не имели и тени сомнения в ценности чисто рационалистических исследовательских процедур, которые опирались на общие понятия. По мнению Доманьского, схоластический способ философствования в целом отличается стремлением к выработке всеобщей интеллектуальной конвенции, которая 256 В определении европейской модернизации XVII в. как "первой" или "эндогенной" мы следуем систематическому анализу Энтони Гидденса и Ульриха Бека См.: Beck, U., Giddens, A., Lash, S. Reflexive Modernisierung: Eine Kontroverse / Ulrich Beck, Antony Giddens, Scott Lash . — Frankfurt: Suhrkamp, 1996, S. 9—11. 257 Теория Пограничья рассматривает коллажность, гибридность и фрагментированность ряда культур, в том числе и белорусской, как их сущностные характеристики, то есть черты субстанциональные, а не акцидентальные. Эвристическая ценность теории Пограничья заключается не только в том, что она выступает в качестве конкретного академического направления или междисциплинарного поля исследований культуры, но может рассматриваться как "общая рамка в контексте политики знаний всего региона" См.: Памятники философской и общественно-политической мысли Белоруссии XVII — первой половины XVIII века. — Мн., 1991. С. 7. 258 Domański, J. Scholastyka / Juliusz Domański // Studia Filozoficzne, 2 (289), 1989. S. 14. 130 стала бы для человеческого разума универсальным инструментом, в которую входят наравне с дидактическими процедурами формы письма и единообразный технический философский язык, опирающийся на логические способы упорядочивания дискурса. С другой стороны, для средневековых схоластов философия была лишь методом, который дает результат только в области, доступной разуму, и максимально эффективно может быть применен для решения проблем в сфере теологии — в пространстве веры, покоящемся на внерациональных основаниях, на Откровении. Поэтому в Средневековье философия не преподавалась как отдельная дисциплина, а была включена в "свободные науки" в качестве диалектики, вспомогательного знания, занимающегося обоснованием логических процедур исследования. Иезуиты второй схоластики, хоть и сохраняли, как было отмечено выше, специфический логицизм и интеллектуализм средневекового философствования, само философствование наделяли в системе знания совершенно иным значением. С усилением раннемодерной уверенности во всемогуществе разума и познаваемости мира, философия занимает в иезуитской системе образования "выделенное" место. Это нашло отражение в появлении такого феномена как "курсы философии". Первым курсом такого рода были "Метафизические диспуты" (Disputationes metaphysicae) "отца" иезуитской философии, саламанца Франсиско Суареса, которые появились на свет благодаря необходимости в упорядочивании и систематизации Аристотеля. Именно "Диспуты" положили начало появлению в схоластической традиции самостоятельных целостных учебников по философии. Курсы и учебники составляют основу письменного наследия Виленской школы — большинство текстов, созданных ее профессорами, было написано в этих специфических жанрах раннего Нового времени Интегрированные и унифицированные курсы были не только новым видом философского письма, но и новым подходом к преподаванию философского материала. Курсы объединяли систематическое изложение философии, разделенной на четыре части — логику, физику, метафизику и этику. Принципиально новым в жанре курсов была выразительная репрезентация философии как своеобычной, состоящей из нескольких дисциплин, области знания, а также стремление целостно и упорядоченно изложить все ее содержание. В отличие от средневековых философских текстов, курсы не оставляли места неуверенности и сомнению адресата и не давали возможности сбалансировать различные мнения. Напротив, адресат должен был подчиняться интеллектуальному могуществу логического рассуждения, которое опиралось на четкие предпосылки и вело к ясным и однозначным выводам. Необходимость выработки такого жанра как курсы определялась, в числе прочего, и спецификой адресата данных текстов. По своим целям иезуитская образовательная политика, в отличие от политики других орденов, была нацелена не только на подготовку священников, но 131 и на обучение светских особ. Еще одной целью, которую принимали во внимание иезуиты, была полемика с иноверцами и еретиками. Важные для иезуитов всей Европы, эти проблемы были всё же значительно более явными на испанском и белорусском культурном пространстве. Изменение приоритетов образовательной политики порождало потребность в метафизике, принципиально отличной от метафизики высокой схоластики. Новая метафизика должна была быть не только более простой (в сравнении, например, со скотистсткой), но и более формальной (в сравнении, например, с томистской) и, к тому же, она должна была быть в состоянии конкурировать с идеями философов Нового времени. В Белоруссии, кроме того, возникала потребность в первичном ознакомлении с идеями католического философствования на тех территориях, где не было традиции католичества. Именно в "Диспутах" Суареса был заложен фундамент такой метафизики. Тезисы "Диспутов" носили явственный отпечаток нововременного мышления. Для них характерен эссенциализм и то, что можно назвать "познавательным идеализмом". Показательно, что на белорусском пространстве эти черты были развиты и эксплицированы вплоть до полного логического завершения. Эволюция метафизики иезуитов к эссенциализму и "познавательному идеализму" можно продемонстрировать на примере развития в философии второй схоластики концепта ens rationis и граничащего с ним "гнезда понятий". Репрезентативной для анализа белорусской школы философствования может служить концепция Мартина Смиглецкого, изложенная им в работе "О ментальном сущем"259. В раннее Новое время томистская теория предикации не удовлетворяла интеллектуальным запросам современников. Понятия схоластической философии изменялись и модифицировались последователями Фомы так, чтобы они отвечали представлениям о мироздании и структуре познания, существующем в нововременном сознании. В метафизике Фомы понятие ens rationis не играет важной роли. В ней оно выступает в рамках разделения двух значений понятия существования. простой грамматической функцией Первое из них является глагола "быть", который употребляется для предицирования, второе — выражает экзистенциальный акт обладания актуальным существованием. Формальным объектом познания для Фомы является универсальная категория существования материальных сущностей, их актуальное существование, а не сами вещи с предицированным глаголом "быть". В философии же Суареса мы видим уже совершенно иную характеристику познания. Для Суареса познание ориентировано на сами индивидуальные сущности и должно завершиться формулированием понятия, обозначающего вещь. Согласно с его теорией, при следовании законам логики Śmiglecki, M. O bycie myślnym / Marcin Śmiglecki // Filozofia i myśl społeczna w latach 1700—1830. T. 2. / Red. nauk. M. Skrzypek. — Warszawa: IFiS PAN, 2000. S. 331-351. 259 132 формулирование понятия не может не быть истинным. Гарантией этого выступает совпадение сущности и существования. Актуальное существование, экзистенция становится просто атрибутом, который может быть отброшен. Предмет познания для Суареса — не существование как таковое, но объективное (в качестве объекта познания) существование вещей. В этой теории мы уже видим становление новоевропейского субъект—объектного противопоставления, тематизированного Декартом. Немецкий исследователь Карл Эшвалер указывал, что существовало два возможных пути развития метафизики Суареса. Первым вариантом был отход от схоластической терминологии и математизация философии — этим курсом пошел ренессансный аристотелизм. Другим вариантом было развитие понятия ментального сущего. При таком развитии это понятие становится основой для Ars Magna всего познания260. Именно этот второй путь развития идей Суареса и выбрал белорусский иезуит Мартин Смиглецкий. Очерчивая ментальное сущее как предмет исследования логики, он, несомненно, находился под влиянием взглядов, изложенных в последнем диспуте Суареса. По мысли Суареса, ментальное сущее не имеет собственной сущности, чем принципиально отличается от реального. По Смиглецкому, как в ментальном, так и в реальном сущем необходимо отличать два элемента: "сущность" (essentia) и "способ ее существования" (modus existendi). Быть сущим — значит, быть сущностью, обладающей определенным модусом существования 261. Ментальное сущее не является чистым отрицанием реального сущего, но по-своему является сущим — сущностью с присущим ей способом существования. Ментальное сущее — это такая сущность, которая не существует и не может существовать реально, или такая, которая возникает в противовес реальному способу существования. Оба автора, провозглашая себя последователями Фомы, допускают сущностное отступление от его позиции. Как было отмечено ранее, согласно Фоме, сущность не может обладать существованием (реальным существованием) как атрибутом. Понятие существования разделяется у него на два понятия — чисто логическую предикацию (вещь есть что-то) и экзистенциальное понятие обладания существованием (вещь обладает существованием — esse habet). Таким образом, онтология Фомы не сводится только к гносеологии. Однако для Суареса и Смиглецкого, как для философов Нового времени, вопрос о познании становится более актуальным, чем вопрос о принципах мироздания. 260 Eschweiler, K. Die Philosophie der spanischen Spätscholastik auf den deutschen Universitäten des siebzehnten Jahrhunderts / Karl Eschweiler // Spanische Forschungen der Görres-Gesellschaft I, Aschendorff, Münster, 1928. S. 251-325. 261 Очевидно, что согласно философии Фомы нельзя говорить о том, что сущее является сущностью. Но, следуя Суарезу и тем, кто развивал его философию, не только сущее реально совпадает со своей сущностью, но и "Существование сущего не отличается реально от его сущности", как утверждал, например, в своей "Общей философии" Лука Залусский См.: Памятники философской и общественно-политической мысли Белоруссии XVII — первой половины XVIII века. — Мн., 1991. С. 108. 133 Для Смиглецкого способом существования, присущим ментальному сущему, иначе говоря — ментальной сущности, является существование в разуме, в то время как реальной — реальный способ существования, то есть, за пределами разума. Одновременно Смиглецкий подчеркивает, что за пределами разума сущее может существовать либо в акте, либо в потенции. Поэтому необходимо выделить два реальных способа существования сущего: актуальный и потенциальный. Следует заметить, что для Смиглецкого акт и потенция не являются — как это было для Фомы — двумя элементами, которые конституируют реальное сущее, но выступают как два способа существования реальных сущих. В конце концов, Смиглецкий идет дальше, отождествляя потенциальный способ существования с возможностью (possibilitas) и далее с непротиворечивостью. В основе рассуждений Смиглецкого о сущностях и путях их существования находится одно утверждение, а именно: сущность сама в себе есть сущность реальная или ментальная и относится к разряду действительных или не действительных сущих. Смиглецкий говорит о связи между сущностью и присущим ей способом существования. Действительная сущность является действительной независимо от ее фактических воплощений. Она является действительной — относящейся к разряду действительных сущих — независимо от того, существует ли она "в себе" или в познающем разуме. Не обладание сущностью актуальным существованием означает, что она является реальной — она реальна сама в себе, так же, как сама в себе она является сущностью возможной или невозможной. Принцип возможности и невозможности — а тем самым реальности и нереальности — Смиглецкий редуцировал до выяснения внутренней противоречивости непротиворечивости или можно непротиворечивости выявить границу сущности. между Благодаря сферами категории вещественных и невещественных сущностей. Иными словами — первым и основным принципом сущего является принцип непротиворечивости. Аристотель в "Метафизике" обращал внимание на многозначность термина "возможность". Он подчеркивал, что существуют такие возможности, которые имеют лишь общее название с понятием реальной потенции262. Фома в комментарии к "Метафизике" четко разграничил логическую возможность и реальную потенцию как элемент, конституирующий реально сущее. В случае логической возможности и невозможности мы имеем дело только с ментальным сущим. В этом случае возможность касается только познавательного, а не реального порядка. Действительно, с позиции возможности, мы можем в некотором смысле говорить о реальных состояниях, но только в том смысле, что утверждение логической невозможности утверждает и несуществование вещи. Логическая возможность имплицирует только бесспорность существования, а не 262 Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения в четырех томах. — Т. 1. —М.: Мысль, 1975. С. 163. 134 реальную потенцию и не имеет ничего общего с реальной потенцией как элементом действительности, которая возникает в связи с актом. Смиглецкий же приписывает реальность тому, что возможно. Эта концепция связана с отличным от томистского способом интерпретации акта и потенции. Акт и потенция — как мы уже говорили — являются, по Смиглецкому, не элементами рационального сущего, но способами существования сущих. Здесь Смиглецкий находится под очевидным влиянием Суареса. Актуальное существование (existentia) является одним из способов реального существования сущностей. Существование в потенции, отождествляемое с возможностью существования, также является реальным способом существования. Однако ответы Суареса относительно этого иного способа существования противоречивы. С одной стороны, в "Диспутах" он приписывает сущему в потенции реальное существование (XXXI, 2, 1), с другой — отказывает ему в реальности (XXXI, 1, 13). Смиглецкий же без всяких сомнений определенно утверждает, что существование в потенции является реальным способом существования. Уточняя характеристику этого способа существования через понятие essentialia, он доходит до отождествления существования в потенции с логической возможностью и подчеркивает, что гарантом реальности того, что возможно, является Бог как "порождающая потенция", которая может (в смысле "обладает силой") сделать каждый бесспорный элемент сущностных качеств действительным. Таким образом, не только спорность в познавательном порядке говорит о спорности в реальном, но и бесспорность в познавательном порядке говорит о реальности в онтологическом порядке. Способ понимания Смиглецким реального сущего определил основное направление исследований сущего как такового, как основанного на противоположности экзистенциально прочитанной томистской метафизики. Предметом исследований метафизики является не реальное сущее как сущность, актуализированная через существование, но сущность внутренне непротиворечивая. При таком понимании метафизики речь идет не о вопросе о последней причине реально существующей действительности, но о выяснении как и почему то, что возможно, стало возможным. Разум человека использует принцип непротиворечивости, очерчивает условия возможности и невозможности и выводит общие законы того, что непротиворечиво. Таким образом, значение акта существования в реальном сущем редуцируется до минимума. Реальное существование является лишь дополнением реальной в себе сущности, вызывающим лишь изменения способа ее существования. С концепцией реального сущего как возможного тесно связана субъективистская тенденция, лежащая в основе теоретико-познавательного идеализма. Очевидно, что Смиглецкий, как и иные его современники, стоял на позиции познавательного реализма — 135 человек познает реальность независимо от его познавательных актов. Однако речь идет об определенной тенденции, которая проявилось уже во взглядах Суареса и была усилена Смиглецким. Метафизический анализ такого сущего происходит на основе исследований сущего в его предметном существовании. Тем самым познаваемый предмет теряет связь с существующей реальностью. И если между, с одной стороны, Суаресом и Смиглецким, а с другой — Декартом, существует приинципиальное отличие во взглядах на тему генезиса сущего в его предметном существовании, понятие "существование" выполняет одни и те же функции в их взглядах. Поле предметного анализа становится непосредственно полем метафизического постижения. Таким образом, анализ особенностей письма, речевых средств и метафизических оснований мышления второй схоластики виленцев дает показательный результат. Уже основатель Саламанской школы, доминиканец Франциск де Виторио, как впоследствии и его ученики-иезуиты, сознательно стремился пересмотреть философию Фомы Аквинского с тем, чтобы приспособить ее к новым обстоятельствам. Именно это делало вторую схоластику второй. Иезуитская метафизика была не столько продолжением средневековой мысли, сколько нововременным проектом. По нашему мнению, иезуитская мысль не была "реликтовой формой" старого мышления, враждебной новым тенденциям. Только лишь анализ иезуитских форм преподавания показывает нововременной характер их мышления. А исследование метафизических концептов показывает, насколько далеко иезуиты раннего Нового времени ушли от средневековья. Понятие существования для них постепенно стало логической категорией, употребление которой приводило их к такому же гносеологическиоптимистическому взгляду на мир, что и у просветителей. Особенно это важно для виленской школы иезуитской мысли. Если в саламанской мысли реальные сущие только иногда определялись как реальные через их логическую возможность, то для виленцев понимание реальности как логической возможности и вероятности стало единственным. 136 А. А. Горин (Санкт-Петербург) Онтологический аргумент в понимании Карла Барта В истории европейской мысли онтологический аргумент Ансельма Кентерберийского приобрел значение своеобразного камня преткновения. В разные периоды к нему обращались самые видные мыслители, открывавшие новые горизонты понимания этого доказательства, соответствующие их времени. В XX веке существует свой философско-теологический подход к интерпретации аргумента, связанный с именем Карла Барта. В ситуации кризиса устоявшейся просвещенческой цивилизации Барт вместе с единомышленниками выдвинул и последовательно развил новую теологическую программу. Такой видный богослов и историк религии, как А.Гарнак, считал, что движение, возглавляемое Бартом, не получит широкого распространения. Тем не менее, эта программа вызвала мощный резонанс не только в теологических, но и в собственно философских кругах. Барт является одним из крупнейших теологов и философских мыслителей прошедшей эпохи. Некоторые называют систему Барта крупнейшим движением со времен Фомы Аквинского. Г. Кюнг ставит Барта в ряд таких основоположников христианских теологических парадигм, как св. Павел, Ориген, Августин, Фома, Лютер и Шлейермахер. Идейное движение, связываемое с именем Барта, имеет несколько названий, подчеркивающих различные атрибуты его наследия. Основные – это теология кризиса, диалектическая теология, неоортодоксия. «Кризис» подчеркивает, с одной стороны, социо-культурологическое измерение проекта: сама реальность цивилизационного кризиса возводится Бартом к глубокой трансформации умственных оснований его мира, обрушившегося в войну. Другая сторона «кризиса» – богословская: отношения человека с богом носят принципиально кризисный характер, требуют радикальной переоценки всех оснований жизни, мышления, самого бытия. Барт творчески соединяет эти два аспекта, развивая важные темы современного идеализма и экзистенциализма. Название «диалектическая теология» указывает на связь бартианства с диалектическим методом, применяемым в духе методологии Киркегора, как антиномической диалектики, где тезис и антитезис не снимаются в синтезе. Понятие «неоортодоксии» более религиоведческое, обозначая новый, после Лютера, этап развития идеологии протестантизма, подчеркивает преемственность теологического проекта, разрабатываемого с помощью нового метода. Барт осуществляет своеобразный протестантский ренессанс идей «отцов Реформации», закладывая новую страницу в теологии. Фактически бартианская концепция мало сказалась на культурологической стороне христианской жизни. Однако, являясь генетически евангелической теологией, система Барта нашла свое признание как 137 универсальная и общезначимая среди виднейших представителей теологическо- философской мысли своего времени (фон Бальтазар, Кюнг, Ранер). В качестве методологического основания своего творчества Барт указывает на онтологический аргумент Ансельма Кентерберийского. Логика превосходства реального над вероятным, онтического над ноэтическим, определяет подход Барта к конструированию теологических программ. Барт пишет книгу об Ансельме и онтологическом аргументе в связи с его значением для теологического метода. В диалектической динамике веры и знания в учении Барта невозможно никакое спекулятивное оперирование идеей бога без предварительного обретения ее содержания. Таким образом, Барт указывает на особую роль логики онтологического аргумента. Однако книга Барта об Ансельме и значении онтологического аргумента для построения аутентичных философско-теологических программ – возможно наименее читаемая и цитируемая в широких кругах. Тем важнее пристальнее вглядеться в эти методологические построения. В середине 1920-х годов Барт приступает к работе над задуманным как многотомное сочинение Обзором христианской догматики. В 1927 году выходит 1-й том: Учение о слове божьем. Пролегомена к христианской догматике. Поднятые здесь вопросы касаются не значения, возможности и самого места теологических исследований в структуре знания, что ранее относилось к богословским пролегоменам, но заключается исключительно в развитии самой теологической доктрины. Тем самым, налицо смещение акцентов: учение о слове бога есть фундамент теологии, и ничто иное не применяется в качестве основы. Однако эта книга не получиал продолжения и вот почему. В 1930 году Барт вел семинары по истории теологии в университете Бонна. Один из первых семинаров разбирал классический для европейской теологии текст Ансельма Cur Deus Homo (а многие тексты Ансельма стали классическими для крупных разделов христианского богословия и европейской философии). Годом позже Барт публикует работу об онтологическом аргументе как ключевом аспекте всего философскобогословского проекта Ансельма. Близкая встреча с Ансельмом породит не только эту книгу о теологическом методе Ансельма, но станет основой для перестроения бартовской догматической работы заново. Изменится и название: теперь это не христианская, а Церковная догматика. В чем же заключается такое значение Ансельма для Барта? Заголовок Fides quaerens intellectum подчеркивает основную интенцию творчества самого Барта, перенятую им приверженность платоновской линии в западной философии и конкретно теологии. Эта схема наиболее выпукло разработана именно в творчестве 138 Ансельма Кентерберийского, признанного одним из отцов схоластики. Барт сам подчеркивал особую значимость этой книги в его теологии263: Глубинная суть (моей теологической позиции) состоит в следующем: в те годы я постепенно освобождался от последних пережитков антропологических концепций в изложении христианской доктрины. Важным свидетельством этого освобождения является памфлет Нет!, написанный против концепции Э.Бруннера в 1934, но еще более значима в этой связи книга об аргументе Ансельма, вышедшая в 1931. Среди всех моих текстов я рассматриваю этот, как написанный с наибольшей достоверностью. Но до сих пор это наименее читаемая из моих работ. Почему же Барт так высоко ставит Ансельма? Уже в предисловии к книге он указывает, что считает аргумент Ансельма очень проникновенным и стабильным элементом теологии. При внимательном к нему отношении он может стать весьма поучительным для современной теологии, в смысле конструирования адекватного теологического метода. Примечательно, что в самом начале части Церковной догматики, рассматривающей вопросы познания бога, Барт говорит: «Я учился основополагающим подходам к проблемам познания и бытия бога … у ног Ансельма»264. В целом можно с уверенностью сказать, что Ансельм помог Барту развить теологический метод характерный для всей Церковной догматики и последующего творчества Барта: «в книге я исследую ключевой фактор, определяющий весь ход моей мысли в работе над Церковной догматикой, как единственной годный для теологии»265. Заинтересованность Барта в анализе метода Ансельма очевидна из самого названия книги, совпадающего с заключительной фразой вводной главы ансельмова Прослогиона. В свою очередь, Ансельм конгениально развивает августиновскую максиму: «пока ты не уверуешь, ты не можешь уразуметь». Не углубляясь в истоки мысли самого Ансельма, обобщим этот вопрос: ключевая проблема богословского метода, рассматриваемая здесь, – каково соотношение веры и познания, зачем вере стремится к пониманию. Иными словами, каким образом происходит переход от феномена непосредственной веры к теологии как интеллектуальному предприятию. Барт разделяет мнение, что ансельмово стремление к «уразумению» (как и вся эта традиция) мотивируется полемическими и апологетическими обстоятельствами. Но не это само по себе и не интеллектуальное удовлетворение от прояснения истин веры в логических формулировках есть источник всего дела. Барт наследует Ансельму в понимании того, что вера ищет понимания, 263 Barth K. «Parergon» // Evangelische Teologie. 6, 1948; S 272. Barth K. Church Dogmatics. Vol. II, part 1. Edinburgh, 1957; p. 4. Здесь и далее ссылки на Церковную догматику приводятся по указанному английскому изданию в виде: CD II/1, 4. 265 Barth K. Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im Zusammenhang seines theologischen Programms. Zollikon-Zurich, 1958; S. 10. Здесь и далее ссылки на Fides quaerens intellectum приводятся по указанному изданию в виде: FQI, 10. 264 139 поскольку такое движение характерно для самой сути веры. Барт обобщает движение веры к большему пониманию и познанию бога, как своего объекта: «Credo ut intelligam означает: вера сама по себе зовет меня к знанию»266. Разберем четыре линии теологической гносеологии, прослеживаемые Бартом у Ансельма, которые сделают яснее подобное его толкование. Барт привлекает для обоснования своей позиции материал из многих текстов Ансельма (кроме Монологиона и Прослогиона это прежде всего Об истине, О падении дьявола, О непорочном зачатии и первородном грехе). 1. Первый аспект, отмечаемый Бартом у Ансельма, утверждает, что везде, где есть истина, есть бог (с уяснения чего начинается Об истине). Бог причастен всему «истинному» не только как summa veritas, но как causa veritas, как творец – источник всего, что не есть бог. В частности, бог есть источник всякой истины, доступной нашему познанию. В боге intelligentia совпадает с veritas и его откровение представляет нам критерии для оценки истины разумом. Одновременно, бог есть sensibilis, который cognoscibilis. Разумеется, мы не могли бы верить в бога, не будь он источником vera cogitatio истинного познания, так что вера в бога подразумевает познание бога. 2. В части психологических взглядов Ансельма, вера, по сути своей есть движение воли. Говоря о стремлении к богу, это «стремление» сводится к волевому акту послушания богу. В конечном итоге это приводит к объяснению veritas через justitia. Преимущественное значение воли для веры соответствует высокому статусу знания в этой сфере. Вера подразумевает свободное действие воли, но воля эта принадлежит разумным созданиям, что подразумевает в свою очередь, разделение справедливого и несправедливого, истинного и ложного, доброго и злого. Подобное разграничение возможно как акт того, что называется познанием, мышлением. 3. Такое разделение выражает более глубокое антропологическое учение Ансельма. Вера не возникает без какой-то интервенции нового опыта-знания, которое западает в человека как некоторое семя. Это семя соответствует слову бога, проповедуемому и слышимому. Оно приходит к человеку, а то, что обеспечивает его принятие relictudio volendi, есть благодать. При этом слово встречается в нас с некоторой силой (которую Ансельм сопоставляет с образом троичного бога), благодаря которой возможно припоминание, знание и стремление к optimum et maximum optimum наивысшему благу. Эта сила отличает человека от животных. В вере эта сила актуализируется. Хотя человек и не может веровать без приходящего к нему слова и без предварительной благодати, но образ бога в человеке позволяет ему трехчастное «припоминание» бога, познание бога и 266 FQI, 17. 140 стремление, любовь к богу. Познание бога приходит по мере присутствия веры, чего требует восстановление подобия бога в человеке. 4. Наконец, познание, следующее из веры, понимается Ансельмом эсхатологически. Интеллект, развивающийся по мере опыта, есть medium inter fidem et speciem посредник веры и веруемого. Барт полагает, что разъяснение этой линии дано у Ансельма несколько смутно. Знание, как противоположение видению, имеет высший статус перед верой, но в ограниченном смысле. Несомненно, что знание проникает через барьер между царством благодати и царством славы (в том смысле, что знание способно строить образы мира грядущего). С другой стороны, познание проникает за неотменимые ограничения человеческой природы по иному, нежели вера. Только мыслящий верующий христианин из всех людей способен научиться разглядывать высокие материи, какая возможность дана ему самим богом. Таким образом, можно понять медиальный статус знания у Ансельма как нечто находящееся между верой и видением. Intelligere есть возможность движения в направлении видения того, что достойно видения. Познание имеет в себе самом нечто от видения, и ведет к видению не за пределы, но в границах веры. В целом, Барт указывает, что для усвоения того, как строится богословие по программе «вера, ищущая понимания» необходимо разобраться в концепции веры Ансельма. Вера не смущается алогичным или иррациональным. Барт так излагает веру по Ансельму: вера есть верный акт воли, если вера направлена на нечто усвояемое богу и если находится в пределах опыта спасения… Вера относится к Слову Христа; вера ни что иное, как принятие, понимание и признание этого Слова267. Для Барта, как и для Ансельма, наш путь к познанию бога неотделим от пути веры. Это продвижение от веры к знанию Барт понимает в следующих этапах. Сперва в начале веры наличествует понимание тех или иных слов Христа, просто смысла положений христианского учения. Такое понимание доступно любому разумному субъекту. На следующем этапе вера выходит за пределы логического уяснения вероучительных истин к принятию реальности предшествующей этим формулировкам. Таким образом, проповеданное принимается. А вера стоит и в начале и в конце процесса понимания: мы переходим от веры в веру. Поиск понимания для верующего завершается лишь в эсхатоне, где вера реализуется268. Переходя к значению природы веры для метода теологии, Барт настаивает, что самая возможность понимания предметов веры делается необходимостью, а это и легитимизирует теологию. При этом фактический успех или неудача этих шагов веры– понимание–вера не угрожает теологии. Теология существует не для того, чтобы 267 268 FQI, 21. FQI, 20. 141 приводить к вере, и не для освобождения от сомнений (нехватки, недостатка веры). Это не штурм неба и не принесение разума в жертву269. Важно подчеркнуть, что Барт, подобно Ансельму, подчиняет теологию интересам вероисповедания. Теология должна работать внутри круга проблем, фактически поднятых верующим разумом. В Церковной догматике Барт многократно повторяет, что богослов может работать, только подразумевая деятельного и самооткровенного бога. Поиск понимания, в которое вовлечен богослов, и которое никогда не закончится, может развиваться именно в богопознании. Суждения о боге может быть аналогично своему объекту, и быть подлинным теологическим суждением. Разделяя такую концепцию, Барт несколько смягчает радикализм диалектической теологии (в ее рациональном изводе) по поводу принципиального несоответствия бога и человека, не позволяющего вовсе позитивно говорить о боге. Во всем своем труде Барт отвергает широко распространенное мнение, что Ансельм, как рационалист, переходит от возможности откровения к его необходимости и соответственно реальности на основании исключительно рациональной аргументации. По Барту, Ансельм всегда начинает с веры, вероисповедных формул, которые означают реальность откровения; затем переходит к выяснению того, какой тип теологической рефлексии и аргументации соответствует этим утверждениям. Как уже говорилось, Барт работает в этой связи с разными текстами Ансельма. Анализ Барта представляется весьма сбалансированным270. Финальный аргумент Барта против понимания Ансельма как рационалиста заключается в выявлении существенной связи между теологией и молитвой. Недостаточно сказать, что для Ансельма нет подлинного богопознания без самой изначальной и продолжающейся благодати божьей. Обретение истинного богопознания лежит за пределами возможностей человеческого разума самого по себе, так что его надо постоянно поддерживать молитвенно. Более того, без постоянного откровения бога, воспроизводящегося по благодати, никакая вера не была бы способна воспринять бога. В самом начале Церковной догматики Барт вновь воспроизводит эту позицию, ссылаясь на «веру, как инстанцию без которой никакая теологическая работа невозможна»271. Обобщая этот материал непосредственно в терминах онтологического аргумента – вера поддерживает изнутри всю богословскую деятельность. Реальность превосходит возможность. В общефилософском плане: мысль раскрывает внутреннюю когерентность реальности, выявляет априори разума. У Барта, вслед за Ансельмом, конкретное присутствие и благодать бога есть всеконтролирующий центр мыслительной работы. Это 269 FQI, 25. FQI, 28. 271 CD I/1, 25. 270 142 логика онтологического аргумента – концепция должна быть «существующей», для того, чтобы иметь для нас значение. Барт представляет аргумент Ансельма, разумеется, не как позитивное обоснование существования бога, но как раскрытие значения самооткровения бога человеку, которому вовсе невозможно помыслить бога иначе, как высшую воспринимаемую реальность. Суть понимания Бартом онтологического аргумента – воплощение слова, в Израиле и во Христе, бог обретает «форму», становится «объектом» не только мысли, но необходимо опыта. Это и доказывает онтологический аргумент. Обобщая, для Барта само наличие веры зависит от события откровения. Только если наличествует вера в само откровение, можно говорить о подлинном богопознании. И только такое знание, которое происходит от продолжающегося поиска понимания верой, может быть подлинным познанием бога. Таким образом, можно заключить, что построения Барта находятся в контексте метафизического проекта, обогащенного достижениями наук о духе в XIX веке. В Fides quaerens intellectum показано центральное место онтологического аргумента для построения теологических программ, в контексте нового диалектического метода. Барт утверждает необходимость обладания предзнанием о боге (из самооткровения бога, в вере) для конструирования рационализированного учения. Учение Барта изначально исходит из традиции либеральной теологии, идущей от Шлейермахера. Его гносеологические особенности имеют отношение к марбургскому неокантианству. При этом построения Барта имеют отдаленное сходство с гегелевской защитой онтологического аргумента, но не за счет триадического диалектического синтеза, а негативной диалектики. Это связывает проект Барта, с одной стороны, с феноменологическим поиском интенций, с другой стороны, с экзистенциализмом с его предшествованием существования (реальности) сущности (концепции). Барт негативно высказывается по поводу предварительного уяснения возможностей богопознания, отрицает натуральную теологию. При этом Барт использует философский аппарат аналогий, заменяя в своем проекте аналогию бытия, идущего от мира, аналогией веры, идущей от бога. Это вызывает критику Барта. На первом этапе его критика стремится нивелировать новизну проекта Барта, соединяя его творчество с предшествующей моральной теологией. Дальнейшая критика выводит на поверхность проблематику специфического содержания веры по Барту. В контексте секулярного мира выведение такой конкретики из общего принципа онтологического аргумента затрудняет возможности коммуникации и возможности построения той же моральной теологии в изменчивой глобальной социальной реальности. Продолжается уяснение вопросов рациональной теологии и метафизики и осмысление места и роли онтологического аргумента в философской 143 мысли. Новые репрезентации онтологического аргумента вызывают новую критику. Для полноценного усвоения этих тем необходимо понимать суть высокой оценки Бартом онтологического аргумента. 144 А.Г. Погоняйло (Санкт-Петербург) «Бог был для мира не сим одним…» «Бог был для мира не сим одним – не причиною только бытия, но сотворил как благий – полезное, как премудрый – прекраснейшее, как могущественный – величайшее» (Василий Великий. Беседы на Шестоднев).272 Мы обсуждаем средневековую мысль в её связи с нашим временем, и мне кажется, что связь эта по существу определяется не тем, что интересного для себя мы найдём в средневековой мысли, а тем, как мы к ней подбираемся, что такое для нас сам феномен, называемый «средневековая мысль». Об этом я и собираюсь поговорить. Например, мы относим к средневековой мысли патристику античных времён. Особых неудобств в этом нет, pourqoi pas?, но надо, по крайней мере, не забывать об этом. Гораздо больше сложностей проистекает из того, что мы мыслим (мы и средневековая мысль) в разных категориях, - конечно, и весовых тоже, но речь о категориях мыслительных, тех, в которых оно происходит. Вещь эта общеизвестная. Так, мы говорим: разум и вера; и мысль наша – о Тертуллиане, который «абсурдист». Credo quia absurdum est, хотя он такого, по-видимому, не говорил. Но говорил что-то похожее. Как мы это понимаем? Буквально, как Бог на душу положит. А Бог кладёт нам на душу эти смыслы так, как душа может их принять, сообразно тому, какая она, какой у неё опыт, кто родители, какие книги читала в детстве… Скорее и чаще всего, слова разум и вера составляют для нас вполне законную оппозицию, и мы не сомневаемся, что Тертуллиан, говоря «это истинно, ибо нелепо» и т. д., противопоставлял разум вере или веру разуму и ничего другого не мог иметь в виду. Тертуллиан сталкивал «абсурд» веры логикой разума, и вставал на сторону веры, а некоторые другие христианские писатели старались примирить веру и разум. И мы разводим на эту тему длинные спекуляции. А как на самом деле? Так вот, если помимо указанных смыслов в нашей душе возникает ещё и этот вопрос, то это уже первый шаг на пути к тому, что «на самом деле», такого, впрочем, пути, конца у которого не будет. Попробуем чуть-чуть по нему пройти. Мы идём по текстам, но держимся за воздух – естественную среду понимания. Тертуллиан пишет: «Что Афины Иерусалиму, что академия Церкви? Наше учение – с портика Соломонова…» Ага, радуемся мы, опять оппозиция. Афины - Иерусалим. Портик росписной – портик Храма Соломона. Мы всегда радуемся оппозициям, потому что с их помощью происходит разметка понятийного пространства. К одной оппозиции (разум и вера) естественно, ибо понимание – это всегда само-собой-разумение, подстраивается другая: Афины и Иерусалим, к ней – ещё одна: философия – вера, и ещё: наука – религия и т. д. Дальше лучше не ходить. Пора 272 Творения иже во святых отца нашего Василия Великого. Ч. 1, М., 1845. Репр. 1991. С. 12. 145 вернуться на круги своя. На наши, надеюсь, круги. В круг понимания, а не бездумного наращивания оппозиций, - вернуться хотя бы к «портикам». Со Стоей – понятно, а вот портик Храма… Ну да, христианство оттуда. Но был ли портик? Во времена Тертуллиана его уже точно не было, кажется, были остатки притвора. Христиане сохраняли приверженность «притвору Соломона»273, т. е. причисляли себя к священнической традиции в иудаизме, к религии Храма, а не к раввинистическому иудаизму, но были диссидентами – все важнейшие храмовые обряды совершали вне храма (Тайная Вечеря, Крещение Иоанново и Иисусово). Кроме того, было два типа Храма: исторический и эсхатологический. Эсхатологический тип Храма – это сохранение священства без надежды восстановить Храм, так что все мессианские иудейские религиозные движения были религиями Нового Храма. Я привожу пример мышления в разных категориях: нашего – в категориях вера-разум, и того, которое нас интересует – мышления в категориях Храма, к которому явно апеллирует Тертуллиан. Выраженный на языке категорий Храма смысл христианской реформы заключался в том, что «главным и окончательным» Храмом Бога стала сама община. Но и Христос отождествляет своё тело с Храмом. Мессия – Сын Божий, Мессия – Храм Божий. Отсюда вполне разумная – уж во всяком случае, не «абсурдистская» - постановка вопросов о воплощении Слова274 , проблема позднейшего догматического христианского богословия, не очень понятная эллинам, наученным мышлению в других категориях, скажем, эллинской мудрости, греческого образования (пайдейи), традиции философских школ. Христианство для «еллинов» – враг не в качестве религии, а в качестве религии «нечестивой», нечестивая же религия – это обычно та, которая «не наша» (Юлиан: «Те, кто идёт по пути образования, прохождения круга наук… тот не может не исповедывать традиционных богов…»). Тертуллианова «аналогия»: Афины-Иерусалим академия-Церковь еретики-христиане. Он делит мир «по-крупному», устраняя детали. А нам они нужны. «Иерусалим» не только Храм, а Храм – не только христиане. Кроме «Храма», храмовой, священнической традиции, существовала «мирянская традиция», 275 те, кто мыслили в категориях синагоги – молитвенного собрания: они молятся, соблюдают обряды и предписания, но живут без жертвоприношений и священства – без литургии - и делают это, не потому что так им нравится, а потому что Храм – один, и он либо далеко, либо разрушен (первый Храм разрушен персами в 586 г. до н. э.). К I веку это грамотные в религиозных делах люди – фарисеи-начётчики, о которых мы знаем из Евангелия. После Ниже я опираюсь на В.М.Лурье. История византийской философии. СПб., 2006. С. 21 - 39. Трактат так и называется «О плоти Христа». 275 В.М. Лурье. Ук. соч. С.26. 273 274 146 разрушения Храма в 76 году н. э. они «перехватили инициативу в формировании новой религиозной идентичности иудаизма – религии Храма, из которой теперь было изъято главное Храм».276 Продолжением этой традиции стал раввинистический иудаизм (Талмуд). «Афины» - тоже не только Академия, и еретики, строго говоря, не язычники, а «неправильные» христиане: для Тертуллиана прежде всего гностики. Но академия – серъёзная «позиция» в «Афинах», как и Церковь (Храм) в «Иерусалиме». Их оппозиция и является у Тертуллиана жесткой, центральной, смыслоорганизующей. Её то и поясняет Василий Великий. Тертуллиан жил во II – начале III вв. Каппадокийцы – это IV век, вторая половина. «Бог был для мира не сим одним, не причиною только бытия, но сотворил - поясняет Василий Великий смысл «творения». О чём говорит отец церкви? – Об институтах и институциях, конечно, тоже, но в первую очередь о мышлении в разных категориях, - на сей раз в категориях θεωρια, «теории», «созерцания», с одной стороны, и в категориях «действия» («практики» и «поэзии»), с другой. И мы опять попадём пальцем в небо, если подставим сюда наши категории «теории» и «практики». Мы нашей «практикой» обычно проверяем «теорию», ту или иную научную гипотезу относительно устройства мира. Соответственно, и под «наукой» мы разумеем совсем не то, что понимали под ней античность и средневековье. Василий Великий излагает суть дела по Аристотелю. Он говорит, что «науки» бывают созерцательные, практические, т. е. науки о действии, и поэтические, науки о «делании», производстве вещей. И что Бог был для мира «не сим одним», а делателем, художником. «Делатель», художник - это на языке античности ремесленник. В «Тимее» Платона демиургуремесленнику отводится служебная роль в том смысле, что он творит в согласии с Идеей. Все знают, что и Аристотель поставил созерцателей-наставников, знающих причины вещей, выше ремесленников. Дело не в том, что ремесленники причин не знают, а в том, что они не знают всех причин. «Всех» - это тех, которые выясняются при созерцании сущего как сущего. Их знают наставники-философы, не знающие многого другого и не умеющие многого. Но «теоретическое» знание философов выше, потому что это знание того, «начала чего не могут быть иными» (отличными от тех, которые даны созерцателю). Например, искусная речь и наука о ней – риторика это искусство говорения и знание его приёмов, фигур речи. Это знание того, как можно говорить. Но ведь можно сказать так или иначе, значит, говорящему надо выбирать. Знание фигур речи - это не знание того, что составляет неизменную её форму, определяющую сущность речи как речи. Созерцатель (в данном случае логик или грамматик) может быть косноязычным, 276 В.М.Лурье. С. 27. 147 тёмным в речах, каким угодно, но он знает то, что делает речь речью. Он знает то, что находится вне времени (речь – тогда речь, когда о чём-то говорится что-то, т. е. когда есть подлежащее, о чём речь, и сказуемое, то, что говорится о подлежащем), - вечную и неизменную форму, или сущность, речи. Напротив, мастер речей (и чего угодно) знает, что ему надо выбирать, решать, как и что сказать, а решение, по Аристотелю, неизменно погружает во время, оно с ним по сути связано: решают сейчас и относительно будущего, никто не ломает головы над тем, завоёвывать нам Илион или не завоёвывать – Троянская война в прошлом. Поэтому созерцание лучше, его продукт – вечная истина, чистая форма, действию времени не подвластная. Как грамматик постиг форму речи, так философ постиг форму сущего, взятого как сущее. Для этого оба они – и философ, и грамматик – должны были стать именно «теоретиками»: отстраниться от текучего бытия, выпасть из его потока, чтобы уловить неизменное в нём (как это возможно относительно всего, что ни есть, относительно сущего, - это отдельный вопрос). И вот принимая эту логику, учившийся в Академии Василий Великий говорит чтото очень важное: Бог – не только причина, та, которая созерцательная, не только формальная причина, Он ещё и сотворил. При этом синтаксис фразы заставляет видеть в «причине» некое уточнение относительно «одного». Если Бог был для мира не сим одним, не причиною только, то это одно может быть только неоплатоническим «одним», т. е. единым. Созерцательная позиция открывает нам вечную и неизменную истину бытия: всё сущее существует как что-то одно, как нечто, всякое множество – одно как это множество; всё, что есть, скрывает в себе одно, иначе его нет. Согласен ли Василий Великий с тем, что Бог – один, одно как начало сущего?277 Разумеется. Согласен ли он с тем, что Одно и есть Бог? Как видим, нет. Бог – «не только…, но и». В категориях созерцательного мышления вечная и неизменная форма бытия (всего сущего) обнаруживает себя как все-единство: всё – одно, и одно – всё. И это истина, именно созерцательная, и потому что созерцательная – вечная истина, которую можно трактовать по разному – как логику определения (самоопределения сущего), как теорию актуальной бесконечности, как логос (порядок) сущности/субстанции, как иерархию сущих… В последнее случае и получается богословие (платоновское). В этих категориях «сотворил» - дело не божественное, во всяком случае, не дело Единственного Бога. Как же «не только..., но и»? На каком основании «сотворил» может быть отнесено к Богу и не унижает Его? Только в категориях какого-то другого мышления. Какого? Вряд ли мы ошибёмся, заговорив о возможности некой иной логики - логики авторитета. Прекрасной иллюстрацией её служит библейское повествование – история того, как Бог творил мир и история мира. Ритм творения передан троекратным 277 Ср. ниже в «Беседах» рассуждения на тему «день один» (почему не «первый»?). 148 повторением одного и того глагола: «Да будет, сделал, и стало!», Fiat, fecit, factum est. В Библии нет определений, потому что там не спрашивается о сущностях («Что это?»). Ответ на вопрос «что это?» - определение, и он рождается в горизонте созерцательного вопроса о сущности, включая «сущность всего». О «сущности всего» в Библии тоже гроворится. Но как? – «Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его исполняй» (Эккл.). Язык логики авторитета – повеления (императивы), система табу (делай, не делай). Указаний на то, что нужно делать, как поступать и быть. Право повелевать принадлежит автору (auctor), тому, кто сотворил («умножил бытие» - августу). По этой логике родители «учат жить» детей, «достают» их. От «автора»-творца исходит auctoritas, владычественная сила, авторитет, как правило, через посредников, «держателей авторитета» (Translatio imperii – передача власти). По этой логике, авторитет (власть вязать и развязывать) Бога-Сына передаётся ученикам, апостолам, и через них – Церкви, «хранительницы благодати». По этой же логике других доказательств авторитетности авторитета не требуется: «автор» сам находит способ сообщить творениям о своём авторстве;278 при этом все авторские права сосредоточены в одном творце – авторитет всех прочих «носителей» - заёмный. «Не верить», по этой логике, - это «предавать»: не выполнять заветов, которые ты обязался выполнять, и только поэтому стал тем, что ты есть, например, избранным народом. Но ведь и доказательств созерцательной истины тоже не требуется. Однако, в обоих случаях требуется некоторое самоограничение, работа над собой, аскеза, пусть и мирская. Как видим, мы далеко ушли от «разума и веры»… И последнее. Пытаясь докопаться до смыслов старых текстов, мы производим деконструкцию нашего собственного языка (мышления), устоявшихся мыслительных привычек и затоптанных «ходов», и тем самым, «опоминаемся», начинаем соображать, трезвеем, словом, «приходим в себя». Впервые. Всякий раз впервые. 278 «Самозванство» Иисуса Христа. 149 М.В. Семиколенная (Санкт-Петербург) История как трагедия у Оттона Фрейзингенского. В Средние века история занимала в системе знания совсем не то место, которое было закреплено за ней в Новое время. В самом деле, если под историей мы понимаем совокупность наук, изучающих прошлое и имеющих дело, прежде всего, с фактами, событиями и подтверждено процессами, существование аутентичными документами, которых то, обязательно обратившись к должно быть средневековым «историям», мы будем поставлены в тупик. Некоторые исследователи полагают, что современная historia как научно и философски обоснованное понятие появляется не ранее XVIII в. (ведь создание и развитие научно-критического метода в изучении истории связано с такими именами, как Б.Г. Нибур, Л. фон Ранке, Т. Моммзен и Н. Д. Фюстель де Куланж). Средневековое же историческое знание «ничего общего не имеет ни с философией, ни с теорией истории»279, а ошибочная его интерпретация является плодом подмены нашими представлениями о предмете тех, которые были характерны для людей давно прошедшей эпохи. Очевидно, что в Средние века создатели исторических сочинений руководствовались иными принципами, и разобраться в них – значит полнее понять средневековые «истории». Как известно, истории не нашлось места среди «семи свободных искусств»: она не была учебной дисциплиной280. Тем не менее, она существовала и была востребована, тому свидетельством служат многочисленные копии, снимавшиеся с манускриптов самых знаменитых исторических сочинений. Рассуждая в своем «Дидаскалионе» о двух видах сочинений, Гуго Сен-Викторский отмечает, что история (вместе с трагедиями, комедиями, сатирами, баснями и прочими «поэтическими сочинениями») принадлежит к произведениям второго вида (то есть не относящимся непосредственно к семи искусствам и, следовательно, к философии, а являющимся дополнением к ним). Однако некоторые сочинения второго вида «имеют нечеткие отличия от искусств, соприкасаясь с ними, либо же… прокладывают путь к философии»281. Упомянутые выше «поэтические сочинения» (а вместе с ними и история) именно таковы. Историческое событие можно рассматривать как свидетельство вмешательства божественного провидения в земные дела, из него можно извлечь нравственный урок, а 279 Knape J. Historia, textuality and episteme in the Middle Ages // Historia: the Concept and Genres in the Middle Ages / ed. T.M.S. Lehtonen, P. Mehtonen, Helsinki, 2000. - р. 13 280 Среди таких значений латинского слова disciplina, как «обучение», «воспитание» и «строгий порядок» не последнее место занимают «учение», «теория». Теория представляет собой систему отвлеченных, абстрактных идей, и обращена к сути вещей, - поэтому история, имеющая дело с событиями уникальными, единственными в своем роде, теорией, - дисциплиной, - быть не могла. 281 Гуго Сен-Викторский. Семь книг назидательного обучения, или Дидаскалион // Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья): В 2 т. Т. 1 / Под ред. С.С. Неретиной. – СПб, 2001. – С. 330 150 исторический прецедент позволяет подтвердить или опровергнуть чьи-то права, обосновать введение обычая или аргументированно от него отказаться. Итак, история служит теологии, морали и юриспруденции, - то есть имеет непосредственное отношение («прокладывает путь») как к теоретической, так и практической философии. По словам Б.Гене, история не была автономна, «но не было ни одной крупной дисциплины, которая не нуждалась бы в ней»282. Но, как уже было отмечено выше, в этом история не одинока, - вместе с нею ту же роль играют и другие «поэтические сочинения». Следует сказать, что история рассматривалась как литературный жанр уже в период Античности. Так, в трактате «Об ораторе» Цицерон противопоставляет «летописные своды, которые сохраняют для общества память о событиях», «лишенные всяческих украшений памятки» (sine ullis ornamentis monumenta) художественной (exornatores) истории283. Такая история должна отличаться «плавностью и разнообразием речи», «ни под каким видом не допускать лжи», «ни в коем случае не бояться правды», не допускать пристрастия или злобы; немаловажно и то, что писатель обязан дать понять, как он сам оценивает события, о которых рассказывает284. Высказанное Цицероном мнение сохраняло авторитет на протяжении всего Средневековья. Итак, первое и основное требование, предъявляемое к такому жанру, как история (historia) – это правдивость: в этом ее отличие от того, что носит название argumentum (рассказа не правдивого, а только правдоподобного), и от fabula (не содержащей ни правды, ни правдоподобия)285. Но в эпоху Средних веков само понятие «правда» отличалось от современного. Если для нас истинным является достоверный (подтвержденный документально) факт, который и ложится в основу правдивого рассказа о прошлом, то в Средние века история складывалась из dignae memoriae (достопамятного), сообщений о тех событиях, которые «стоили того, чтобы их запомнили, потому, что соответствовали христианскому образу жизни»286. История оказывается собранием фактов, которые нужны, чтобы создавать теории, но не о прошлом, а о действительном состоянии дел; знание о прошлом на самом деле является знанием о настоящем, а потому наиболее истинным зачастую оказывается то, что имеет наиболее высокую нравственную ценность: ведь не случайны и многочисленные сообщения о чудесах, и включение в текст исторических сочинений посланий и речей, якобы написанных и произнесенных тем или Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада / пер. Е.В. Баевской, Э.М. Береговской. М., 2002. - С. 31 283 Цицерон. Об ораторе / пер. Ф.А. Петровского // Цицерон. Эстетика: Трактаты, речи. Письма. М., 1994. С. 237 284 Там же. - С. 239-40 285 Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада / пер. Е.В. Баевской, Э.М. Береговской. М., 2002. - С. 22 286 R. D. Ray. Medieval Historiography Through the Twelth Century: Problems and Progress of Research // Viator, 5, 1974. – p. 47 282 151 иным историческим лицом, и кажущиеся совершенно невероятными рассказы о происхождении народов или правящих династий (например, рассказ Гальфрида Монмутского о Бруте, сыне Сильвия, внука Энея, ставшего первым королем бриттов). Историческое сочинение должно было быть поучительным, и это во многом определяло выбор писателем его формы, жанра и стиля287. «Хроника, или История о двух Градах»288 Оттона Фрейзингенского является прекрасным тому примером. Епископ Фрейзингенский – автор одного из самых знаменитых средневековых исторических сочинений, - был первым, кто составил рассказ о главных событиях всемирной истории, рассмотрев их одновременно как части единого божественного плана. Ч.К. Мироу, переведший «Хронику» на английский язык, вслед за Г. Вайцем утверждает, что она – первый из известных нам случаев философского истолкования истории, и цитирует слова А. Хаука, охарактеризовавшего ее как «первое изложение всемирной истории, обладающее гармоний произведения искусства»289. В очерке об историографии XII века Питер Классен отмечает, что «ни одно историческое сочинение до Оттона (и очень немногие после него) не сочетало отвлеченные рассуждения и рассказ о действительном ходе событий с такой удивительной проницательностью»290. Уже само название произведения отсылает нас к бл. Августину и к его взглядам на историю, изложенным в трактате «О граде Божием». В самом деле, в начале своего рассказа Оттон перечисляет имена множества историков: Помпея Трога, Юстина, Тацита, Варрона, Евсевия, Иордана, - но при этом прямо называет Августина (и Павла Орозия, написавшего свою «Историю против язычников» по просьбе последнего) своим главным источником291. Оттон ведет свой рассказ «от сотворения мира», доводя его в седьмой книге до 1146г., то есть до года окончания работы. Восьмая книга посвящена описанию Страшного суда, будущих судеб человечества, и разбору связанных с этими темами теологических вопросов. Вслед за Августином епископ Фрейзингенский утверждает, что существуют два Р.Д. Рей (цит. в прим. 8), p. 50, замечает, что причина стремления средневековых книжников к непритязательности стиля, заключается в том, что «святая простота дружит с истиной, наставляющей в добродетели (moral truth)». 288 Ottonis episcopi Frisingensis. Chronica sive Historia de duabus civitatibus / ed. by W.Lammers, trans. A.Schmidt. Berlin, 1960; нами использовался также английский перевод «Хроники»: The Two Cities: a Chronicle of universal History to the year 1146 A.D. by Otto, bishop of Freising. / ed. by Austin P.Evans, Ch. Knapp, trans. by Ch. C. Mierow. NY: Columbia University Press, 1928; кроме того, мы обращались к переводу отрывков «Хроники» на русский язык, помещенному в хрестоматию по средневековой латинской литературе: Средневековая латинская литература IV-IX вв. М. 1970. 289 Цит. по Ch. C. Mierow. Introduction // The Two Cities: a Chronicle of universal History to the year 1146 A.D. by Otto, bishop of Freising. / ed. by Austin P.Evans, Ch. Knapp, trans. by Ch. C. Mierow. NY: Columbia University Press, 1928. – p. 4 290 Peter Classen. Res gestae, Universal History, Apocalypse: Visions of Past and Future // Renaissance and Renewal in the Twelth Century, ed. by Robrt L. Benson and Giles Constable. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982. – p. 401 291 Otto von Freising. Chron., Prol. lib. I: ‘Sequor autem in hoc opera preclara potissimum Augustinum et Orosium ecclesiaelumina eorumque de fontibus ea, quae ad rem propositumve pertinent, haurire cogitavi’. 287 152 града: «один временный, другой вечный, один земной, другой – небесный, один под властью дьявола, другой – под властью Христа, и один из них, по словам католических писателей, Вавилон, а другой – Иерусалим»292, - а мировая история представляет собой борьбу двух противоположенных начал. История земного царства разделяется на четыре монархии, с которыми мы встречаемся еще у Павла Орозия293: ассиро-вавилонскую, мидоперсидскую, греко-македонскую и Римскую империю, причем история Рима мыслится как последний период универсальной истории человечества перед концом света 294. Бл. Августин посвятил свой знаменитый трактат вечному граду, Иерусалиму, - об этом нам говорит уже само заглавие его произведения. Оттон Фрейзингенский, между тем, пишет историю двух градов295, причем очевидно, что земному граду и его царствам отведено у него важное место. Если у Августина оба града пребывают в мире неизменными296, то у Оттона Фрейзингенского появляется градация их состояний, своеобразное разнонаправленное параллельное движение от процветания к упадку: «Мы полагаем, что существует три состояния или три этапа существования града грешников: первый до благодати, второй начался во время благодати и продолжается до сих пор, а третий наступит после нынешней жизни. Первый – жалок, второй еще более жалок, а третий – наижалчайший. Те же, кто населяет град Христа, напротив, в первый период унижены, во второй процветают, а в третьем блаженствуют; другими же словами, первый период можно назвать низшим, второй – переходным, третий – совершенным»297. Ibid.: ‘Cum enim duae sint civitates, una temporalis, alia eterna, una mundialis, alia caelestis, una diaboli, alia Christi, Babyloniam hanc, Hierusalem illam esse katholici prodirere scriptores’. 293 У него мы, правда, встречаемся с Вавилонским, Македонским, Африканским (Карфагенским) и Римским царствами. Павел Орозий. История против язычников (II, 1, 4-6) / пер. В.М. Тюленева. СПб, 2001. Само представление о последовательно сменяющих друг друга царствах восходит к библейской Книге пророка Даниила (2: 36-45). 294 Otto von Freising. Chron., VII, 34. 295 Интересно «двойное» заглавие рассматриваемого произведения: перед нами и хроника, и история. Два эти жанра сосуществовали в средневековой литературе, но различались по своим задачам и стилистическим особенностям. Историкам было свойственно пристрастие к подробным описаниям событий, вольное обращение с хронологией, усложненность стиля; как правило, они вели рассказ, только о своем времени и о непосредственно предшествовавших ему событиях. Хроника же представляет собой своеобразный «“конспект”, краткое изложение мировой истории в хронологических таблицах» (Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада / пер. Е.В. Баевской, Э.М. Береговской. М., 2002. - С. 236), и главная задача ее создателя – оставаться при изложении фактов строгим и беспристрастным. Оттон Фрейзингенский пишет историю «от сотворения мира» и следует хронологическому принципу (а это – черты хроники), с другой – стремится к характерной для истории стройности изложения. 296 Согласно Августину, основание двух градов происходит еще до появления человека, когда Бог производит разделение между «святыми» и «нечистыми» ангелами, и они существуют на протяжении всей истории, не претерпевая существенных изменений. Августин не рассматривает возможность перехода из одного града в другой, не допускает наличия между ними каких-либо «промежуточных» пространств (примером этому может стать его рассказ о Содоме и Ниневии: между этими двумя городами нет принципиальной разницы, поскольку как исчезли грешники уничтоженного огнем Содома, так исчезли и грешники в оставшейся невредимой Ниневии, поскольку после покаяния своих жителей «Ниневия, которая была злою, истреблена, и явилась Ниневия добрая, которой не было». Аврелий Августин. О граде Божием. Книги XIV – XXII / пер. М.Е. Сергеенко. Киев, СПб., 1998. - С. 490). 297 Otto von Freising. Chron., Prol. lib. VIII. Правда, рассматривая это место, П.М. Бицилли отмечает, что у Оттона эта теория остается «голой формулой», не оказывающей значительного влияния на содержание хроники. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры // Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006. - С. 215. 292 153 Разумеется, совершенно неверным было бы утверждение, будто у Оттона Фрейзингенского появляется представление об историческом прогрессе; следует, скорее, говорить о нескольких стадиях, которые проходит земной мир: связи между этими стадиями не слишком тесные, переходы от одной из них к другой являются следствием «переменчивости и превратности земных дел» (rerum temporalium motus ancipitisque status). В прологе к I книге «Хроники» Оттон замечает, что там, где языческие писатели свидетельствуют о доблестных делах мужей древности, христианские авторы видят лишь череду нескончаемых несчастий. «Проницательный читатель» сможет найти в трудах историков «не столько истории, сколько исполненные страданий трагедии бедствующих смертных»298. Историк даже строит свое произведение особым образом, заканчивая каждую из семи первых книг описанием какого-либо ужасного несчастья: падения Вавилона (книга I), убийства Цезаря (книга II), гонений на христиан (книга III), захвата Рима варварами (IV), разделения королевства франков (V), раздора между Генрихом IV и Папой Григорием VII (VI), неспокойной современности и грядущего конца мира. Каждая книга «Хроники» завершается плачем и жалобами, как действие трагедии – хоровой партией. Как мы уже говорили, историография воспринималась средневековыми книжниками как один из литературных жанров, записанный прозой рассказ об имевших место в действительности событиях. Трагедия же, согласно средневековым интерпретациям этого понятия, представляет собой просто историю с несчастным концом299, причем одной из важнейших ее составляющих, той «пружиной», которая движет действие, является судьба, случай, богиня Фортуна. Выше было отмечено, что в Средние века истории наряду с трагедиями входили в число «поэтических сочинений». Как пишет Ф.В. Вальбанк, наши представления о коренном различии между трагедией и историей восходят к рассуждениям Аристотеля о том, чем именно историк и поэт отличаются друг от друга («первый говорит о действительно случившемся, а второй – о том, что могло бы случится»300). Но Аристотель говорит только о различии между этими двумя жанрами, а, между тем, между ними есть и нечто общее. Во-первых, у них общий материал и один источник (поэмы Гомера); вовторых, трагический поэт должен быть творцом фабул, но не может менять легенду, миф Otto von Freising. Chron., Prol. lib. I: ‘non tam historias quam erumpnosas mortalium calamitatum tragedias’. Употребление слова трагедия в этом смысле характерно для епископа Фрейзингенского: рассказывая в сильно отличающихся от хроники своим настроением «Деяниях Фридриха» о Втором крестовом походе и о неудачах крестоносцев он довольно резко обрывает рассказ, потому что «мы задумали написать не трагедию, а доставляющую радость историю» (Otto von Freising. Gesta, I, 46: ‘non hac vice tragediam, sed iocundam scribere proposuimus hystoriam’). 299 Lehtonen Tuomas M.S. History, Tragedy and Fortune in twelfth-century historiography, with special reference to Otto of Freising’s Chronica // Historia: the Concept and Genres in the Middle Ages / ed. T.M.S. Lehtonen, P. Mehtonen, Helsinki, 2000. - p. 32 300 Аристотель. Поэтика (9, 1451 b) / пер. В.Г. Аппельрота. М., 2007 298 154 (Клитемнестра должна быть убита Орестом, Эдип неизбежно убьет отца и женится на матери); в-третьих, трагедия, как и история, является источником примеров добродетельного поведения и нравственных уроков301. Итак, историю действительно можно рассматривать как трагедию, и, следовательно, перипетия, - «перемена событий к противоположному… по законам вероятности или необходимости»302, - будет играть в повествовании важную роль. На средневековом Западе представление о переменчивости Фортуны оказалось востребованным как раз в XII веке, с усилением интереса к трудам Боеция, в «Утешении философией» которого немало рассуждений о судьбе и ее капризах. Очевидно, введение этого нового понятия должно было как-то повлиять на уже сложившуюся к тому моменту концепцию причинности, в особенности на учение о божественном предопределении. Можно предположить, что одно из основных отличий концепции епископа Фрейзингенского от учения о двух градах бл. Августина будет заключаться именно в этом. Ясно, что Фортуна – это нечто иное, чем предопределение. Говоря о ее природе, Боэций обращается к примеру, содержащемуся в «Метафизике» Аристотеля: случайным, согласно последнему, является находка сажающим растение земледельцем зарытого кемто сокровища303. Такая причуда судьбы является результатом свободных действий двух людей (зарывающего в землю сокровище и нашедшего его), которые не подозревают о последствиях своих поступков. Таким образом, случайность можно назвать «неожиданным пересечением двух действий, совершаемых преднамеренно и независимо друг от друга»304. А у Оттона Фрейзингенского история, т.е. рассказ о событиях прошлого, трагичен постольку, поскольку касается человеческих действий, результаты которых сложно предсказать, и которые обычно заканчиваются неудачей. Сосредоточение внимания на «ближайших» причинах событий, интерес к тому, как именно принятое человеком решение определяет его действия и действия окружающих его людей, характерны для авторов «историй». Но Оттон Фрейзингенский пишет не только историю, но и хронику, что предполагает взгляд на исторические события со стороны, с позиции вечности, то есть, в некотором смысле, глазами Бога. Согласно Августину, Бог одновременно созерцает прошлое, настоящее и будущее, и «одновременность» для божественной вечности всех событий человеческой истории, в целом, лишает смысла движение от одного состояния к другому305. Бог, замечает Walbank F.W. History and Tragedy // Historia, IX, 1960. – p. 221 - 229 Аристотель. Поэтика (11, 1452 а) / пер. В.Г. Аппельрота. М., 2007 303 Аристотель. Метафизика (V, 30 1025а 15-20) / пер. А.В. Кубицкого. СПб., Киев, 2002 304 Lehtonen Tuomas M.S. History, Tragedy and Fortune in twelfth-century historiography, with special reference to Otto of Freising’s Chronica. - p. 40 305 Августин говорит о характере знания Бога о мире следующим образом: «Бог прозирает будущее, взирает на настоящее и озирает прошедшее не по-нашему, но некоторым иным образом, далеко превосходящим 301 302 155 Августин, не создал никого, о ком «Он не знал бы наперед, что он сделается злым, и в то же время не знал бы, какую благую пользу извлечет Он из него»306. Человек проходит «сквозь» время, но оно не имеет над ним власти, не изменяет его сущность: предопределенный к спасению будет спасен, а тот, кому прирожден грех, останется грешником. На первый взгляд, то же самое происходит и у Оттона Фрейзингенского. Но если обратиться к его рассуждениям о судьбе грешников (которая у Августина решена заранее и ни в коей мере от них не зависит307), то мы обнаружим, что они будут обречены на вечное наказание потому, что испытывают вечное стремление ко злу и не пожелают раскаяться308. Итак, уже сейчас мы можем сказать, что в концепции Оттона Фрейзингенского есть немаловажные отличия от учения бл. Августина о двух градах. Небесный Иерусалим Августина с момента своего основания пребывает неизменным, - время над ним ни в малейшей мере не властно. У епископа Фрейзингенского он переживает различные события, определенным образом меняясь: со времен Адама он постепенно растет и становится все могущественнее309. Строго говоря, со вступлением императора Константина в сообщество избранных и подписанием Миланского эдикта (и окончательно – в период правления Феодосия) два града перестают существовать по отдельности, как противостоящие друг другу, а образует единый, смешанный город (civitas permixta), который должен будет вновь разделиться с началом событий, описанных в Апокалипсисе. Кроме того, изменяется (хотя эти различия на первый взгляд незначительны) представление о божественном предопределении. По-видимому, на примере «Хроники, или Истории двух градов» Оттона Фрейзингенского мы можем наблюдать начальный этап формирования современных представлений о причинности, внутренней логике истории: не отрицая, что божественная воля определяет ход событий, он, тем не менее, отводит существенное место случайности, которая изменяет судьбы людей и окружающий мир согласно их собственной природе. Это приводит к тому, что участь человека (разумеется, образ нашего мышления. Не переходя мыслью от одного к другому, Он видит совершенно неизменяемым образом… от мысли к мысли не переходит намерение Того, в чьем бестелесном созерцании все, что Он знает, существует одновременно и вместе. Он так знает времена без всяких представлений временного свойства, как приводит в движение временное безо всяких движений временного свойства». Аврелий Августин. О граде Божием. Книги I – XIII / пер. М.Е. Сергеенко. Киев, СПб., 1998. - С. 489-90 306 Idem. - С. 486 307 Рассуждая о том, не противоречит ли вечное наказание за проступок, совершенный во времени представлению о Божественном милосердии, Августин отмечает, что в такой каре нет ничего странного: ведь и из земного града за определенные злодеяния преступник изгоняется навечно или даже предается смертной казни. Аврелий Августин. О граде Божием. Книги XIV – XXII / пер. М.Е. Сергеенко. Киев, СПб., 1998. - С. 471 308 Otto von Freising. Chron., VIII, 23: ‘reprobos in supplicio capiti suo diabolo velut plene incorporatos ita obstinationi eius configurari, ut deinceps nec velint nec possint velle nisi malum. Iuxtra quorum sensum non solum de transacta vita vere non penitent, sed et, si liceret, in peccatis adhuc manere vellent’. Раскаяние обреченных на вечные муки грешников сравнивается Оттоном с раскаянием преступника, жалеющего о том, что он пойман, а не о том, что совершил преступление. 309 См., например, Otto von Freising. Chron., IV, 4. 156 лишь в самой незначительной степени) начинает зависеть от него самого. Сделать пошатнувшую неизменность божественного предопределения случайность, Фортуну участницей исторических событий стало для Оттона Фрейзингенского возможным, по нашему мнению, в том числе и благодаря рассмотрению им истории как трагедии, сближению двух этих жанров. 157 Д.Р. Яворский (Волгоград) Этика Пьера Абеляра: от космического равновесия к персональной ответственности За минувшие полвека поиски духовных истоков «современности» заметно продвинулись в глубь истории. Убеждение в том, что колыбелью новой Европы были Возрождение и Реформация, сравнительно недавно казавшееся столь незыблемым, ослабевает под натиском искателей средневековых корней Нового времени. Так, известный американский историк права Гарольд Берман, опирающийся на культурологическую концепцию самобытного немецкого философа Ойгена РозенштокаХюсси, писал: «Сегодня большинство специалистов в области так называемого высокого Средневековья присоединяются к мнению, которое Розеншток высказал одним из первых, что нынешние политические институты и политические представления, теология, правовые учреждения у нас на западе берут начало в той эпохе, которую тогда называли Реформацией, а в последнее время стали именовать григорианской реформой (по имени папы Григория VII). Это столь трудно поддающееся определению понятие, «новое время», родилось не вместе с Лютеровой Реформацией, как нас когда-то учили, а четырьмя веками раньше, на волне григорианской реформации, в самой середине того периода, который позже назвали средними веками». 310 С этим суждением вполне согласуются историко-психологические наблюдения медиевистов, обнаруживших у человека именно той эпохи новое самоощущение. Как писал Ж. Ле Гофф: «Совершать нечто новое, стать новыми людьми – так воспринимали себя интеллектуалы XII столетия».311 Вполне «фаустовский», как бы сказал О. Шпенглер, настрой. Пьер Абеляр (1079 – 1142) был современником событий, именуемых григорианской реформой или «папской революцией»: во время подписания Вормсского конкордата (1122) – кульминации борьбы Католической церкви за свободу от светских феодалов – ему было 43 года. Он и сам был реформатором, своими интеллектуальными провокациями разбудившим разум католического клира и, тем самым, заложившим основы схоластической теологии. Всецело овладевший инструментарием ratio, он с этими новыми мерками подступал к границам разных областей духа, испытывая на прочность богословскую аргументацию, концептуальный аппарат и этические воззрения своих современников. Мы остановим внимание на последнем. 310 Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. С. 8 – 9. См. также: РозенштокХюсси О. Великие революции: Автобиография западного человека. М., 2002. 311 Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века. СПб., 2003. С. 11. 158 Как известно, Пьер Абеляр вошел в историю этической мысли тем, что перенес акцент моральной оценки с поступка на намерение (intentio).312 Этому посвящена его работы «Этика или Познай самого себя», написанная в последний период жизни философа (после 1136 года).313 Исследуя природу нравов, Абеляр разграничил предрасположенность к греху (порок), сознательно-волевое согласие или сопротивление греху (намерение) и поступок. По его собственным словам: «Порок души – не то же самое, что грех, а грех – не то же, что злодеяние».314 Вопрос состоит в том, что именно из этого подлежит нравственному суду, что делает человека виновным и требует оправдания, раскаяния, искупления. Предрасположенность к греху, как утверждал Абеляр, сама по себе не может быть основанием для осуждения человека, так как она не является результатом его выбора и, кроме того, выступает необходимым условием испытания свободной воли человека. Нравственная жизнь, согласно Абеляру, напряженная борьба с пороками, и лавры получает не тот, кто никогда не испытывал порочных желаний, а тот, кто их победил: «…в этом мире мы непрестанно сражаемся, чтобы в том получить венец победителя». 315 Поступок, как таковой, также не может быть основанием для осуждения или прославления человека, в противном случае злодей, замысливший дурное, но по стечению обстоятельств, вопреки намерению, совершивший благой поступок, был бы оправдан. Был бы оправдан в таком случае и дьявол, который творит зло с соизволения Бога и реализует, сам того не желая, божественный промысел.316 Равно как и добродетельный человек, который только из-за недостатка средств не может совершить благодеяние, едва ли заслуживает осуждения, более того, его стремление к добродетели есть заслуга перед Богом.317 Остается – намерение; и блестящий диалектик Абеляр выдвигает изощренную, эшелонированную аргументацию в пользу своего этического постулата. По существу, уже приведенные выше аргументы и примеры подводят к этому положению и предполагают зеркальный принцип: невозможно судить человека, если его намерения добродетельны, а их результаты дурны. Абеляр апеллирует к библейскому сюжету о жертвоприношении Авраамом Исаака. Субъективное намерение Авраама совершить деяние, угодное Богу и См., например: Жильсон Э. Философия в средние века. М., 2004. С. 219, Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. С. 102, Неретина С.С. Концептуализм Абеляра. М.,1994. С. 186 – 187. 313 В то же время, что и «История моих бедствий» (1135 – 1136) – см.: Неретина С.С. Абеляр и особенности средневекового философствования // Абеляр П. Тео-логические трактаты. М., 1995. С. 37. 314 Абеляр П. Тео-логические трактаты. М., 1995. С. 248. 315 Там же. С.252, см. также 248 – 249. 316 Там же. С. 261. 317 «У двоих людей, к примеру, возникло одинаковое намерение строить дома для бедных; один удовлетворяет свою благочестивую страсть, другому же, только что насильственно лишившемуся приготовленных денег, не удалось ее осуществить, хотя, будучи сован одним лишь насилием, он сам не совершил никакой вины. Разве его заслуга из-за того, что случилось по внешним причинам, может уменьшиться перед Богом?» Там же. С. 271. 312 159 прямо Им предписанное, достойно похвалы, но если бы ветхозаветный патриарх реализовал свое намерение и зарезал на жертвенном камне собственного сына, то это было бы злодейством. Поэтому Бог благословляет верность Авраама и удерживает его от злодейского исполнения благочестивого намерения.318 Такая нравственная диалектика заводит Абеляра слишком далеко по меркам его современников. Философ готов оправдать мучителей Христа и гонителей христиан, если те действовали с искренним убеждением, что того хочет Бог: «Но если кто спросит, совершили ли преследователи мучеников или Христа грех из-за того, что верили, будто это угодно Богу, или же они могли прекратить [делать] то, что, по их мнению, никоим образом не нужно было прекращать – тогда и греха нет. В самом деле, на основании того, (как мы выше описали), что грех – это презрение Бога, то есть согласие [не поступок], на который, как полагают, соглашаться не нужно, мы не можем сказать, что они в том прегрешили, и грех есть не неведение его, даже не неверие, при котором никто не может спастись».319 Используя этот пример как пробный камень для своей этики, Абеляр подробно разбирает аспекты понятия «грех» и приходит к еще более сложному для себя и своего читателя выводу: если гонители Христа и его последователей искренне убеждены в виновности своих жертв и в богоугодности собственных деяний, но при этом сами отказваются бы от них, то они непременно заслуживают осуждения. «Мы утверждаем, писал Абеляр, - что грех гонителей Христа и его [приверженцев], которых, как полагали, нужно преследовать, - это грех прежде всего деяния; однако их грех был бы более тяжким прегрешением, если бы они вопреки сознанию проявили к нему пощаду». 320 Как бы ни относились современники и потомки к этим весьма рискованным размышлениям Абеляра, основная идея его этики станет лейтмотивом философовморалистов Нового времени: нравственный выбор, нравственный поступок и их оценка возможны только при участии рационально-волевого начала. Если императив или максима не доведены до сознания личности, ей трудно вменить в вину их неисполнение, равно как и в том случае, если моральная норма не могла быть исполнена в принципе. Основанная Абеляром этика намерения обрела верного великого адепта в лице Канта, который увенчал ее разработку «Критикой практического разума». После Канта всякая попытка утверждать, что человек может нести ответственность за те действия, субъектом которых (во всех смыслах) он не был, равно как и суждение о поступке, игнорирующее его мотивы, представляются неприемлемыми. Однако до Абеляра такой взгляд вовсе не считался лишенным смысла. Более того, в случае абеляровой этики мы можем говорить о рождении моральной парадигмы, Там же. С. 262. Там же. С. 274 – 275. 320 Там же. С.280. 318 319 160 опирающейся на принципы, совершенно чуждые той, на которой основывалась правовая практика архаического, по существу, общества европейских народов раннего средневековья. Принципы, которые служили неписанным основанием для оценки поступка в раннее средневековье, достаточно детально изучены исследователями многочисленных «варварских правд». Согласно этим принципам, целью правового акта является возмещение нанесенного ущерба, а не определение вины и установление справедливости.321 Онтологической основой этого комплекса принципов было убеждение в том, что мир – равновесная конструкция, склонная к неустойчивости, или, иными словами, космос на пороге хаоса. Нетрудно обнаружить корреляцию между такой онтологией и социальным порядком архаических обществ, на самом деле живших перед лицом вполне вероятного распада, на грани внутреннего конфликта, на профилактику которого тратились мощные ресурсы – психические, временные, материальные. Таким образом, экзистенциально первичной задачей считалось поддержание космического равновесия. В этом смысле можно вести речь об этике космического равновесия, которая игнорирует разграничение намерения и поступка, ведь ее заботит только результат действия, если он вызвал возмущение в сущем. И кто же, как не возмутитель спокойствия, вольный или невольный, обязан это возмущение погасить? Здесь архаическая этика пересекается с магией, один из принципов которой гласит: подобное испытывает влияние подобного. Подобно тому, как исцелись смертельную рану, нанесенную клинком, может только сам же этот клинок, успокоить возмущение в сущем может только тот, кто его вызвал, причем не имеет значение, намеренно или ненамеренно он это сделал. Этика космического равновесия вовсе не является достоянием только европейских варваров. Она известна, по существу, всем архаическим культурам и даже воспета в мифах, легендах и преданиях. Ярчайший пример действия этики космического равновесия дает история Эдипа. Если вынести за скобки современные интерпретации эдиповой драмы, взывающие к справедливости по отношению к невольно согрешившему «наилучшему из мужей», жертве слепого рока, то останется героизм человека, с честью встретившего удар судьбы и выполнившего требование категорического императива этики космического равновесия. Недоумение, возмущение, скорбь – «слишком человеческая» реакция Эдипа, но его долг – закрыть собою ту брешь, которая образовалась в космосе Фив из-за череды незамеченных преступлений. Эдип не карает себя – он восстанавливает космическое равновесие и становится трагическим героем. И если современный историк Андрэ Боннар называет 321 См. об этом: Берман Г. Указ. соч. С. 61 – 72. 161 мораль эсхиловой трагедии возмутительной,322 то в глазах автора и зрителей древнегреческого театра Эдип, поступи он иначе, не заслужил бы ничего, кроме презрения.323 Как видно, новая, персоналистическая этика, пришедшая на смену архаической этике космического равновесия, снимает с человека часть ответственности, избавляет его от бремени наказания за то, что произвольно не было вызвано к жизни им самим. В этом смысле персоналистическая этика является этикой ограниченной ответственности. Разумеется, эта трансформация была бы невозможной без пересмотра основополагающих представлений о реальности. По всей видимости, эту задачу выполнила монотеистическая традиция, вселившая в человека убеждение в том, что космос имеет прочную опору в абсолютной личности Творца. Поэтому судьба сущего не должна волновать человека, все внимание следует переключить на собственную судьбу, спасение души. Хитросплетения противоречивых и двусмысленных мотивов воли становятся важнее и опаснее хаотических орд, ожидающих своего часа у границ космоса. Образ аскета, одержавшего победу над собой, заслоняет образ героя, гибнущего в борьбе с судьбой, но отводящего беду от дома, города, страны. Однако, несмотря на мировоззренческую реформу, христианство сохраняет в завуалированном виде принципы этики космического равновесия. Причем этот «рудимент» содержится в самом сердце христианской доктрины – в учении об искупительной жертве Христа. В основе этого учения лежит тезис о коллективной ответственности людей за деяние, совершенное первым человеком – библейским Адамом, который нарушением божественной заповеди повредил гармоничный строй творения. Причем это повреждение не может быть исправлено одним только Богом; его всемогущества не хватает для того, чтобы просто выправить ошибку Адама и простить незадачливую тварь. Космическое равновесие первозданного мира должно быть восстановлено самим человеком, при этом коллективная ответственность адамова потомства одновременно рассматривается как персональная ответственность каждого человека (и грешника, и праведника) перед Богом. Сохраняя в целом принципы этики космического равновесия, христианство модифицирует ее посредством допущения возможности заместительной жертвы. При этом, следует подчеркнуть, сама необходимость жертвы под сомнение не ставится. Боннар А. Греческая цивилизация. Том 2. От Антигоны до Сократа. М., 1991. С. 106. Виртуозную интерпретацию как мифа об Эдипе, так и архаических представлений о вине и наказании дает французский антрополог Рене Жирар в своей концепции «жертвенного кризиса». Согласно Жирару, жертвоприношение нужно было архаическому человеку для восстановления мира в обществе. Этим обусловлен произвольный выбор жертвы – ищут не виновного, а подходящего «фармака», эффективное целительное средство. См.: Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. 322 323 162 Не будучи причиной космического дефекта (греха в широком смысле слова), Сын Божий берет на себя бремя его последствий и, тем самым, освобождает людей от коллективной ответственности за грех. Ранняя христианская мистика побуждала верующего к соучастию в смерти Христовой, то есть к подвигу жертвы за других, правда, героическая этика дохристианского времени дополнялась критической саморефлексией и признанием собственной греховности. Таким образом, мученическая смерть становилась не только подвигом во имя спасения твари, но и искуплением личной греховности. Позднее, по мере остывания эсхатологической мистики в процессе количественного роста церкви, самопожертвование было оставлено монахам (схима как бытие-к-смерти), в то время как мирянам предписывались покаяние и приобщение к Святым Дарам. Еще у Ансельма Кентерберийского прежняя этика присутствует в виде интерпретации догмата об Искуплении. Объясняя «почему Бог стал человеком» (Qur Deus Homo), Ансельм обращается к традиционным представлениям о чести, ущербе и возмещении. Грехопадение – невосполнимый ущерб чести Бога, никакое прощение, безвозмездное отпущение греха не может поправить дела. Человек должен возместить оскорбление, нанесенное Богу, но не может этого сделать. Только Бог обладает средствами, достаточными для возмещения ущерба, но Он не должен этого делать. Следовательно, искупление первородного греха должно стать делом Богочеловека.324 Под покровом теолого-правоведческого дискурса скрывается логика этики космического равновесия, в которой акцент делается на результате, а не на мотивах: безвинный приносится в жертву во имя восстановления чести, космического равновесия. По-видимому, эта логика была понятна современникам Абеляра и далеко не всегда вызывала нравственное возмущение.325 Однако Абеляр сформулировал самоощущение нового человека, рождение которого приписывали только эпохе Возрождения; человека, отказывающегося отвечать за плоды не своих решений, за чужие ошибки и злодеяния, но взамен готового критически анализировать тончайшие нюансы своей воли, проникать в самые темные закоулки своей души и обращать свой гнев на самого себя.326 Итак, реконструкция принципов этики Абеляра и ее альтернативы позволяет утверждать, что персонализация вины и ответственности, как ведущая тенденция европейской этики, начатая Абеляром имеет в качестве обратной стороны ограничение нравственной вменяемости человека. Иначе говоря, изощренная интроспекция, составляющая славу европейского персонализма и, как казалось, расширяющая и Изложение концепции Ансельма опирается на интерпретацию Г. Бермана. См.: Берман Г. Указ. соч. С. 175 – 177. 325 Это воззрение закрепилось в церковной практике покаяния, когда верующий умоляет отпустить ему грехи не только вольные, но и невольные. 326 Следует учитывать, что для Абеляра вопрос вины и ответственности не был отвлеченным. В истории его бедствий было много пищи для размышлений и поводов как для оправданий, так и для недоумений по поводу несправедливого возмездия. 324 163 углубляющая ответственность личности, прикрывает отказ отвечать за состояние тех областей бытия, где личная судьба переплетается с коллективной, терпеть издержки во имя сохранения равновесия в социальном космосе. 164 IV. Учение Николая Кузанского и стратегии познания европейского философствования А.Н. Кондратьев (Казань) Античные истоки диалектического метода Николая Кузанского Эпоха Возрождения в истории европейской культуры выступает как переходный период от Средних веков к Новому времени. С одной стороны, это было время становления новой культуры, в основе которой лежит понимание человека как вершины мироздания. С другой стороны, деятели Возрождения являются продолжателями традиций интеллектуальной средневековой культуры, в основе которой лежит представление о боге как Творце мирового порядка. И, наконец, данный период характеризуется подъемом интереса к достижениям античной культуры. Эти тенденции нашли полноценное отражение в религиозно-философской мысли эпохи Возрождения. Одной из ярких и противоречивых фигур данной эпохи является Николай Кузанский. Прежде всего, с именем Николая Кузанского связано возрождение изначального значения диалектики. В эпоху Возрождения диалектика обрела свой первоначальный смысл, искаженный в Средние века. Средневековые философы вслед за Аристотелем и стоиками понимали под диалектикой формальную логику. Диалектический метод Николая Кузанского327 восходит к античной философии, к наследию Платона328, Плотина329, Прокла330, а также к учению таинственного Дионисия Ареопагита331. Представители философской школы неоплатонизма использовали принципы диалектики для постижения гармонии космического бытия. Понятие «диалектика» - древнегреческого происхождения и восходит к глаголу διαλέγομαι – «»беседовать», «рассуждать». Своего расцвета античная диалектика достигает в учениях Сократа и Платона. Именно основатель Академии формулирует основные принципы диалектики как метода. Так в диалоге «Федр» Платон говорит о двух видах рассуждения в постижении природы вещей. Первый вид – «способность, охватывая все общим взглядом, возводить к единой идее то, что повсюду разрозненно, чтобы, давая определение каждому, сделать ясным предмет поучения»332. Второй вид – «это, наоборот, способность разделять все на виды, на Николай Кузанский. Сочинения. В 2-х т. - М.: Мысль, 1979-1980. Платон. Сочинения. В 4-х т. - М.: Мысль, 1994. 329 Плотин. О диалектике. I 3 (20) // Вопросы философии. – 2002. № 8. - С. 147-150. Плотин. О первом благе и других благах. I 7 (54) // Вопросы философии. - 2003. № 9. - С. 166-167. Плотин. Избранные трактаты. – Мн.: Харвест; М.: АСТ, 2000. - 320 с. В данной книге представлены трактаты V и VI Эннеад Плотина. 330 Прокл. Первоосновы теологии // Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. – Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2000. – С. 492-577. Прокл. Платоновская теология. – СПб.: РХГИ; «Летний сад», 2001. – 624 с. 331 Corpus Areopagiticum. О Божественных именах // Общественная мысль: исследования и публикации. Вып. II. - М.: Наука, 1990. – С. 156-227. Послание к Тимофею святого Дионисия Ареопагита о таинственном богословии // Историко-философский ежегодник’90. – М.: Наука, 1991. - С. 221-225. 332 Платон. Федр. 265d. 327 328 165 естественные составные части, стараясь при этом не раздробить ни одной из них»333. Здесь Платон имеет ввиду две логических процедуры. Первая – синтез, который приводит признаки противоположных друг другу вещей к одной, определяющей их сущность идее, вторая – анализ, выделяет противоположные признаки вещей, отличающих их друг от друга. «Я и сам, Федр, - признается платоновский Сократ своему собеседнику, поклонник такого различения и обобщения – это помогает мне рассуждать и мыслить»334. В философской мысли Платона диалектика как метод постижения сущности вещей нашла полноценное отражение в диалоге «Парменид». Это сочинение оказало настолько сильное влияние на дальнейшее развитие античной философии, что неоплатоники с трепетом писали комментарии на изложенную в диалоге диалектику одного и иного. Основная идея платоновского «Парменида» заключается в полагании единства как осмысляющего и оформляющего бытие принципа. Рассуждение об одном и ином, изложенное в виде восьми гипотез, представляет собой замечательный образец диалектического рассуждения, как в античной, так и в мировой философии. Диалектика платоновского «Парменида» представлена в виде восьми гипотез. Первая гипотеза полагает абсолютное единое, которое непознаваемо, не существует и ничем из сущего не является335. Вторая гипотеза исходит из единого сущего, которое существует и характеризуется категориями бытия336. Третья гипотеза, полагающая единое сущее, делает выводы для иного, которое является многим и характеризуется категориями бытия337. Четвертая гипотеза, исходящая из абсолютного одного, дает выводы для иного, которое не существует и ничем из сущего не является 338. Пятая гипотеза полагает несуществующее одно, которое некоторым образом существует и не существует, а также характеризуется категориями бытия339. Шестая гипотеза делает выводы для одного, которое вообще не существует: такое одно не причастно бытию и не существует 340. Седьмая гипотеза, полагающая относительно несуществующее одно, дает выводы для иного, которое характеризуется категориями бытия и существует 341. И наконец, восьмая гипотеза, исходящая из абсолютного одного, дает выводы для иного, которое не характеризуется категориями бытия и не существует342. Ключевое значение «Парменида» состоит в том, что Платон здесь сформулировал главный принцип диалектической методы, который охватывает противоречия и Там же. 265e. Там же. 266b. 335 Платон. Парменид. 137c-142b. 336 Там же. 142b-157d. 337 Там же. 157b-159b. 338 Там же. 159b-160b. 339 Там же. 160b-163b. 340 Там же. 163b-164b. 341 Там же. 164b-165e. 342 Там же. 165e-166c. 333 334 166 противоположности, присущие космическому миропорядку, в одной категории – едином. Это единое испытывает различные состояния бытия и не-бытия, при этом оставаясь тем же единым, которое причастно и никоим образом не причастно категориям античного космоса. Это единое схватывает в себе весь космос, будучи при этом всем и ничем из существующего, бытие и небытие, утверждение и отрицание, идею и вещь. В диалоге Платон обращается к критике дуализма идеи и вещи, в чем его обвиняли современники, в том числе и его ученик Аристотель. Единое по отношению к иному подобно идее по отношению к вещи. Единое платоновского «Парменида» - это диалектический принцип, идея, которая в отношении вещи выступает как осмысляющая и оформляющая модель, без единства с которой вещь существовать не может. Свое понимание диалектики как философского метода Плотин, родоначальник неоплатонизма, изложил в трактате «О диалектике». По его мнению, диалектика – способ рассуждения, с помощью которого философ может сказать о любой вещи, что она такое, чем отличается от других вещей и в чем состоит их общее начало. Плотин понимает диалектику как единство двух логических методов – анализа, разделяющего сущее на виды и рода, и синтеза, соединяющего разделенные категории в единой идее, что необходимо для постижения сущности вещей. Диалектика является методом, позволяющим рассуждать о сущности блага – конечной цели созерцания философа343. Главным принципом диалектики Плотина является единство, которое возводит к одной идее противоположные признаки вещей и само восходит к первому принципу космического бытия. Кроме того, Плотин устанавливает различия между диалектикой и логикой: «Итак, она [диалектика] лишена знания о посылке, - ведь это буквы, - зная же истинное, знает, что называют посылкой, и вообще знает движения души, что та утверждает и что отрицает, и отрицает ли то, что утверждает, или другое, или иное или тождественное, будучи как бы ощущением подлежащего суждению, и отдав точность иному искусству, любящему это»344. При этом основополагающим достижением античного неоплатонизма является концепция Единого как причины всего сущего и принципа бытия античного космоса. Понимание души как источника становления жизни и ума в качестве оформляющего бытие принципа было бы просто невозможно без такого начала, которое охватывает все в одной точке, в свою очередь, выступая причиной космоса как живого тела. Таким началом и является Единое. Концепция Плотина имеет диалектический характер. С одной стороны, он рассматривает первый принцип как благо на основе фрагмента из платоновского Плотин. О диалектике. I 3.4. Там же. I 3.5. В другом месте: «И оставив многоделание и став единым, [диалектика] созерцает, отдав так называемую логическую науку о посылках и силлогизмах, как и знание письма, в ведение другого искусства» (I 3.4). 343 344 167 «Государства»345. Сущее стремится к благу как к лучшей доле, желая от него получить величайший дар – быть сущим. Подобно солнцу благо притягивает к себе сущее и без него не может быть благом346. Значит, вследствие причастности благу каждая вещь существует, и самое главное - представляет собой нечто единое347. Единство Плотин рассматривает как принцип бытия, в силу причастности к которому существует каждая вещь. По мнению основателя неоплатонизма, трудно себе представить, что из себя будет представлять вещь, не будучи единой. Лишенная единства вещь перестала бы быть самой собой, и никакое название не могло бы объяснить ее сущность 348. Все вещи существуют благодаря причастности единству, которое для сущего и есть величайшее благо. Следовательно, единство и благо являются атрибутами, присущими первому принципу, причине всего сущего. Таким образом, первый принцип в философии Плотина обозначается именами «благо» и «единое». Будучи благом, первая причина причастна сущему и выступает принципом космического бытия, к которой стремятся все существующие вещи. А величайшим благом для сущего является единое, которое собственно и выступает принципом бытия и существования. Однако основатель неоплатонизма задается вопросом, что же представляет собой единство, взятое само по себе. Понимание Плотином единого, взятого само по себе, основано на первой гипотезе платоновского «Парменида». Он приходит к выводу, что ни душа, ни ум абсолютным единством не обладают. Первый принцип находится выше космоса, души и ума. К нему неприложима ни одна категория бытия в силу того, что кроме него нет ничего: абсолютное Единое исключает всякое иное. Оно даже единым не является и вообще представляет собой ничто по отношению к сущему. Единое Плотина запредельно всему сущему. Каким же образом можно познать такое Единое – величайшее благо для сущего, к которому стремится истинный философ. Плотин отмечает, что отречение от сущего является исходной точкой в постижении природы абсолютного Единства. Так в неоплатонизме рождается апофатический путь познания первого принципа. Необходимо понять, что в процессе познания душа выделяет предмет из космического единства и сама перестает быть единой, поэтому не способна постичь абсолютное единство. Отсюда ясно, что душе необходимо отречься от присущих ей знаний и окружающих ее вещей, вознестись выше космического бытия для того, чтобы быть способной обозревать сущее в целостном единстве349. Затем надо укратить ум, разделяющий мир истинно-сущих на множество идей, и понять, что существует ноуменальный мир, представляющий собой Платон. Государство. 504e-509d. Плотин. I 7.1. 347 Плотин. I 7.2. 348 Плотин. VI 9.1. 349 Плотин. VI 9.4. 345 346 168 единство множества идей350. Однако, будучи миром множества идей, ум не может вознести мыслителя к абсолютному единству. Поэтому истинный философ должен постичь непостижимость Единого, которое в своем абсолютном единстве есть ничто из существующего351. Отсюда очевиден смысл апофатического пути, который возводит истинного философа через отрицание к познанию непознаваемого Единого, абсолютного принципа бытия. Итак, Единое как абсолютный принцип бытия имеет диалектический характер. С одной стороны, первый принцип есть благо, к которому стремится все сущее. Истинное благо есть единство – принцип бытия, без которого вещи существовать не могут. Значит, Единое причастно сущему. Однако первый принцип представляет собой абсолютное единство, начало всякого единства и множества как всякое единство и множество в себе содержащее. Будучи самим собой, единое исключает всякое иное и не причастно, а запредельно бытию, непостижимо охватывая его в одной точке. Единство в философии последнего выдающегося античного неоплатоника Прокла предстает перед нами как принцип, пронизывающий все уровни бытия. Диалектика абсолютного Единства, разработанная Проклом в мельчайших деталях, с одной стороны подвела итог тысячелетнего развития античной философии, с другой – стала основой философских построений представителей христианской мысли. Диалектическая концепция единства как принципа бытия изложена Проклом в первых шести параграфах сочинения «Первоосновы теологии». Первый параграф гласит: «Всякое множество тем или иным образом причастно единому»352. Если многое не будет причастно единому, то оно будет актуально бесконечным и в конечном итоге превратится в ничто. Второй параграф Прокл формулирует следующим образом: «Все причастное единому и едино, и не-едино»353. Всякая вещь есть единое и не-единое, которые причастны абсолютному единому, заключающему в себе всякое единое и многое. Третий параграф делает выводы по двум предыдущим параграфам: «Все становящееся единым становится единым в силу причастности единому»354. Всякое множество становится единым в силу причастности абсолютному единству. Четвертый параграф раскрывает отличие объединенного и единого-в-себе: «Все объединенное отлично от того, что едино-в-себе»355. Объединенное представляет собой единое, заключающее в себе множество, а абсолютное единство заключает в себе единое и многое, при этом не являясь ими. В пятом параграфе Прокл говорит о временном соотношении единого-в-себе и объединенного: «Всякое множество вторично в сравнении с единым»356. Множество и заключающее его объединенное Плотин. VI 9.5. Плотин. VI 9.6. 352 Прокл. Первоосновы теологии. § 1. 353 Там же. § 2. 354 Там же. § 3. 355 Там же. § 4. 356 Там же. § 5. 350 351 169 происходят от абсолютного единства. И наконец, шестой параграф гласит: «Всякое множество состоит или из объединенностей, или из единичностей»357. По мнению Прокла, всякое множество представляет собой совокупность единичностей, являющихся таковыми в силу причастности абсолютному единству. Из приведенного рассуждения Прокла очевидно, что единое без многого358 и многое без единого359 существовать не могут. Вслед за Платоном и Плотином Прокл понимает единое как благо: «Всякое благо способно единить причастное ему, и всякое единение – благо, и благо тождественно единому»360. Будучи причастным единому, сущее обретает величайшее благо – существование361. Диалектика единого и многого есть конструкция античного космоса, восходящая к платоновскому «Пармениду». Всякое множество причастно единому (3-я гипотеза), иначе оно перестает быть множеством и вообще чем-либо (4-я гипотеза). Все причастное единому и едино и не-едино. Всякая вещь объединяет в себе единое и многое, является объединенным в силу причастности единому-в-себе. Значит, объединенное есть единое и многое (2-я гипотеза). И абсолютное единство заключает в себе единое и многое, не будучи при этом ни единым, ни многим (1-я гипотеза). Итак, абсолютное единство представляет собой благо, запредельный бытию принцип, не являясь ни благом, ни единством. Одним из памятников, где нашли отражение диалектические конструкции античного неоплатонизма в переходный от Античности к Средневековью период, является Corpus Areopagiticum. Единство в Ареопагитском корпусе выступает в качестве категории, характеризующей бытие Бога и космоса. Будучи христианином, загадочный Дионисий использует неоплатонические конструкции первого принципа в понимании природы Бога. Особенно ярко единство как диалектическая конструкция представлена в извлечении из «Первооснов богословия» некоего святейшего Иерофея, которое Дионисий приводит в сочинении «О Божественных именах». Самого Иерофея Ареопагит называет своим наставником. Один из фрагментов сочинения Иерофея гласит: «Преисполнение и причина всего сущего – это божественность Иисуса, утверждающая согласие между частями и целостностью; не будучи ни частью, ни целым, она и часть и целое – как части и целое в себе содержащая, превосходящая и предвосхищающая; она совершенство в несовершенном – как начало совершенства, и несовершенство в совершенном – как предваряющая и превосходящая любое совершенство; она образотворный образ в безобразном – как начало образности, и безобразность в образном – как превосходящий Там же § 6. Прокл. Платоновская теология. II 9.5-II 11.15. 359 Там же. II 4.5-II 9.5. 360 Прокл. Первоосновы теологии. §13. 361 Там же. § 12. 357 358 170 всякий образ; она обладает совокупностью чистых сущностей – как пресущественность, объемлющая все сущее, и определяет всю совокупность начал и чинов – как [начало], пребывающее превыше любого начала и чина».362 Этот текст представляет собой уникальный образец диалектической картины христианского миросозерцания. Очевидно, святейший Иерофей хорошо был знаком с неоплатоническими конструкциями единства. Единство, в высшей степени, присущее Богу, есть диалектический принцип, характеризующий божественную природу как причастную и никоим образом не причастную бытию. Итак, будучи причастным бытию, Единое есть всеобъемлющая сила, в себе заключающая целое и части, совершенство и несовершенство, образ и безобразность как начало присущих бытию категорий. Божественность утверждает согласие между противоположными категориями, полагая все во всем: целое в частях – части в целом, совершенство в несовершенстве - несовершенство в совершенном, образ в безобразности – безобразность в образном. И самое главное: единство множества – множество, причастное единому363. И совокупность противоположных друг другу категорий, согласие между ними, содержится непостижимым образом в абсолютном Единстве, которое является запредельной причиной всего сущего. Тождество и различие – категории, рассмотренные еще в платоновском «Пармениде», характеризуют единство противоположностей как диалектический принцип и источник антиномических конструкций православного миросозерцания. Главное значение Corpus Areopagiticum сводится к полаганию Бога как запредельной причины всего сущего. Бог как творец причастен бытию, будучи совершенством в несовершенном и образностью в безобразном. Он является источником категорий бытия, как начало, заключающее в своем абсолютном Единстве противоположности и противоречия сущего. Такое превосходящее всякое сущее Единство непостижимо пребывает во Мраке таинственного безмолвия, будучи несовершенством в совершенном и безобразностью в образном как превосходящее и предвосхищающая всякую образность и совершенство. Бог как абсолютное Единство – запредельная Причина всего сущего, никоим образом непричастная бытию364. Неоплатоническая концепция абсолютного единства в Ареопагитиках была доведена до крайности: Бог как запредельная причина всего сущего не является чем-либо чувственно воспринимаемым и умопостигаемым365. Истинное познание причины всего сущего заключается в неведении и невидении. Катафатический путь богопознания, основанный на присвоении Творцу имен соответственно благоначальным божественным исхождениям в бытие, сменяется на Corpus Areopagiticum. О Божественных именах. 2.10. Там же. 2.11. 364 Послание к Тимофею святого дионисия Ареопагита о таинственном богословии. 1.2. 365 Там же. 4-5. 362 363 171 апофатический, где отрицание возводит подвижника на вершины Божественного мрака 366. Бог как запредельная причина всего сущего представляет собой диалектический принцип, лежащий в основе религиозно-философской мысли таинственного Дионисия Ареопагита. Влияние античной диалектики на религиозно-философскую мысль Николая Кузанского, прежде всего, нашло отражение в учении о Боге как первом принципе и абсолютном максимуме. Исходным пунктом в постижении природы вещей у Кузанца выступает тезис «знание есть незнание», фундамент его учения о бытии и познании. В стремлении постичь истину Николай обращает внимание на ограниченность суждения, при помощи которого интеллект познает вещи посредством принципа соразмерности в качественном («тождество-отличие») и количественном (охват сущего в числе) аспектах. Однако природа вещей настолько сложна и неизреченна, что первой посылкой знания должно стать незнание. Кузанец вспоминает мудрого Сократа, который знает только о своем незнании. Поэтому путь к знанию природы вещей лежит через постижение своего незнания367. Диалектическая конструкция «ученого незнания» ведет Николая Кузанского на вершину всякого познания, где в мистическом Мраке сокрыт Бог, абсолютный максимум. Мистическая теология, по его мнению, через безмолвие возводит к познанию непостижимого абсолютного максимума368. Таинственный Дионисий Ареопагит, к которому неоднократно обращается Кузанец, полагал, что истинное знание Бога заключается в неведении и невидении, достигаемые постепенным отстранением от всего сущего369. Поэтому в стремлении к постижению абсолютного максимума человек должен понять, насколько он далек от цели своего познания. Истинное знание есть незнание, которое должен постичь человек на пути к созерцанию абсолютного максимума370. Кузанец рассматривает Бога как абсолютный максимум, который по своей природе превосходит все сущее. Абсолютный максимум необходимо является единым, так как абсолютное единство всякое универсальное единство, присущее Вселенной. Единство в философской мысли Николая выступает в качестве принципа бытия, в котором заключено все. Благодаря присущему единству вещи есть то, что они есть: иначе говоря, они существуют в силу причастности абсолютному единству. Таким образом, природу непостижимого абсолютного максимума характеризует единство, которое представляет собой абсолютный принцип бытия371. Там же. 3. Николай Кузанский. Об ученом незнании. I 1. 368 Николай Кузанский. Апология ученого незнания. 4. 369 Послание к Тимофею святого Дионисия Ареопагита о таинственном богословии. 2. 370 Николай Кузанский. Апология ученого незнания. 5. 371 Николай Кузанский. Об ученом незнании. I 2. 366 367 172 Николай Кузанский выделяет три уровня максимальности. На первом уровне абсолютный максимум пребывает сам в себе, заключает в себе все вещи и категории бытия, при этом превосходит существующее бытие и никоим образом не причастен ему372. Второй уровень – универсальное единство Вселенной, которое представляет собой выражение природы абсолютной максимальности в творении373. И третий уровень – человек, в котором, по мнению Кузанца, Вселенная как в своей конечной цели актуально существует максимальным и совершеннейшим образом374. Следовательно, единство, присущее абсолютной максимальности, выступает принципом существования вещей, составляющих Вселенную, и человека, вершины мироздания, и пронизывает все уровни бытия. Вселенная, согласно Кузанцу, представляет собой множество, которое существует в силу причастности божественному максимуму. Соответственно, абсолютная максимальность, выраженная в универсальном единстве, не может существовать вне множества, которое охватывает в своем непостижимом единстве375. Каждая вещь существует такой, какая она есть, в силу причастности божественному максимуму. Поэтому присущее абсолютной максимальности единство выступает как оформляющий и осмысляющий бытие принцип. Абсолютный максимум Николай понимает как все во всем, потому что своим универсальным единством он охватывает все, будучи, с одной стороны, причиной вещей, а с другой – в силу своего превосходства ничем из существующего. Отсюда очевидно, что абсолютный максимум представляет собой такое единство, которое схватывает все в одной точке и в то же время есть ничто по отношению к сущему. Кузанец называет абсолютную максимальность неединичной единицей, беспредельным пределом, безграничной границей и нераздельной раздельностью376. Абсолютная максимальность есть единство, совпадение присущих вещам противоположностей, которая представляет собой все как причина, будучи ни чем в силу превосходства над творением. В процессе постижения непостижимой истины Николай Кузанский выдвигает принцип совпадения противоположностей в абсолютном максимуме. Всякая вещь характеризуется противоположными и взаимно исключающими друг друга понятиями и категориями; все вещи, заключенные в абсолютном единстве, отличны друг от друга в силу присущих им признаков. Совпадение противоположностей происходит в абсолютном максимуме, где в превосходящем всякое понимание единстве заключены категории бытия и вещи, существующие в силу причастности природе Абсолюта. Бог – Там же. I 2. Там же. II 4. 374 Там же. III 3. 375 Там же. I 2. 376 Николай Кузанский. Апология ученого незнания. 12. 372 373 173 простейшее единство, который существует во всей Вселенной и в каждой вещи, а множество вещей через посредство единой Вселенной – в Боге377. Отсюда следует, что все пребывает во всем, каждое – в каждом378, принцип, восходящий еще к Анаксагору. Каждая вещь пребывает в системе иных вещей, заключающая в себе единство Вселенной, будучи самой собой и отличной от них. Будучи причастным бытию, абсолютный максимум является постижимым посредством катафатической теологии. Своими корнями катафатический путь познания первого принципа восходит к неоплатонической философии и исходит из полагания Бога как причины всего сущего. В основе катафатической теологии лежит аналогия, которая основана на принципе соразмерности и позволяет приписывать богу такие имена, которые более всего соответствуют Его исхождениям в бытие. Николай Кузанский характеризует катафатическую теологию как путь постижения абсолютного максимума, который основан на присвоении имен в зависимости от характера творения. Вслед за Дионисием Ареопагитом Кузанец полагает, что имена лиц троицы – Отец, Сын, Дух Святой – прилагаются Богу только в отношении Его к творениям379. Однако, по его мнению, катафатический путь и утвердительные имена бесконечно умаляют абсолютный максимум, поскольку божественная максимальность в силу своего превосходства и совершенства превосходит всякое имя. Кузанец обращает внимание, что римлянеязычники именовали своих божеств также в аспекте творений и опасается впасть в идолопоклонство, чуждое христианской вере380. Поэтому, для Николая очевидна опасность тождества Бога и природы на катафатическом пути постижения абсолютного максимума. Принцип совпадения противоположностей был объектом критики «ученого незнания» Николая Кузанского со стороны церковных мыслителей. Дело в том, что совпадение противоположностей недвусмысленно подразумевает тождество творца и творения: Бог есть все, и все в Боге пребывает381. Николай на обвинения в пантеизме отвечал диалектическим пониманием природы абсолютной максимальности. Бог заключает в себе все и пребывает везде, однако в силу божественного превосходства ничему не причастен и нигде не находится. Бог как абсолютный максимум содержит в себе максимум, минимум и прочие противоположные друг другу категории, но не является ни максимумом, ни минимумом, ни чем бы то ни было. Божественный максимум, будучи причиной чувственно-воспринимаемого и умопостигаемого бытия, не Там же. 21. Николай Кузанский. Об ученом незнании. II 4. 379 Там же. I 24. 380 Там же. I 25. 381 Николай Кузанский. Апология ученого незнания. 25. 377 378 174 является чем-либо чувственно-воспринимаемым и умопостигаемым382. Это полагание абсолютного максимума и открывает апофатический путь восхождения на вершины Божественного Мрака. Николай неоднократно отмечает, посредством человеческих что абсолютный максимум непостижим способностей: постижение абсолютного максимума происходит через его непостижимость. В отличие от катафатической теологии, исходящей из понимания Бога как Творца, апофатический путь полагает абсолютный максимум, не причастный бытию и в силу своей природы превосходящий его. Божественной максимальности ничто не может противопоставляться, так как она, будучи началом и причиной бытия, заключает в себе все. Теология отрицания необходима теологии утверждения, дабы показать неизреченное превосходство абсолютной максимальности как причины бытия. Бог не имеет имени, которое соотносит божественное совершенство с несовершенным по своей природе творением: он бесконечно выше именуемого. Апофатическое восхождение к абсолютной максимальности предполагает отрицание утвердительных имен, которое возводит человека от менее совершенного к более совершенному в неизреченной божественной природе, сокрытой в глубине таинственного Мрака383. Лишь «ученое незнание» способно вознести человека к созерцанию непостижимого света истины. Николай полагает: истинное знание абсолютной максимальности представляет собой умудренное незнание, при помощи которого можно постигнуть непостижимого и непознаваемого Творца Вселенной. Античная диалектика прошла тысячелетний путь своего развития и наивысшего расцвета достигла в неоплатонизме – последнем крупном философском направлении греко-римского мира. Главным достижением античной мысли стало формулирование единства как диалектического принципа, который заключает в себе присущие бытию противоположности, взаимодействующие друг с другом и определяющие сущность вещей. Понимание диалектики как способа познания космической гармонии в ее единстве и различенности сформулировал Платон. В диалоге «Парменид» мыслитель представил диалектику единого через противоположные категории единого и многого, бытия и небытия, беспредельности и предела, движения и покоя, подобия и неподобия. При этом абсолютное единое исключает всякое иное и не является бытием, не-бытием, единым, многим и прочими категориями. Диалектика платоновского «Парменида» легла в основу неоплатонической концепции о Едином – абсолютном принципе бытия античного космоса. Неоплатоническое единство заключает в себе противоположности, которые в процессе взаимодействия составляют сущность вещей. Однако, будучи абсолютным принципом, Единое является запредельной Причиной сущего, никоим образом не 382 383 Николай Кузанский. Об ученом незнании. I 4. Там же. I 26. 175 причастно бытию. Поэтому знание абсолютного единства сводится к незнанию, отрицанию присущих ему понятий. Николай Кузанский испытал весомое влияние античной неоплатонической диалектики. Во-первых, божественная максимальность Кузанца представляет собой абсолютное единство, заключающее в себе бытие, при этом никоим образом непричастное своему творению. Вселенная как творение представляет собой универсальное единство, которое не может существовать вне всякой множественности. Каждая вещь несет на себе печать универсального единства и является единичностью во множестве, в свою очередь охваченным конкретным единством единичностей. Абсолютный максимум предстает чистой монадой, в то же время, не будучи единицей. Эта монада присутствует во всяком множестве, представляющим собой совокупность единичностей. Вслед за Плотином и Проклом Кузанец обращается к диалектике одного и иного в понимании абсолютного максимума как запредельного принципа бытия. Во-вторых, Николай Кузанский полагает совпадение противоположностей в абсолютном максимуме подобно неоплатоническим конструкциям абсолютного Единства. Каждая вещь характеризуется противоположными и взаимно исключающими друг друга категориями. Кузанец предлагает рассматривать эти категории в рамках абсолютного максимума, который с одной стороны является всем, а с другой – ничем из сущего. Утверждение и отрицание, катафасис и апофасис возводят интеллект к постижению истины в лоне абсолютного единства. И, наконец, «ученое незнание» Николая Кузанского являет собой диалектику, которая полагает незнание в качестве начала всякого знания в процессе постижения непостижимой истины. 176 Х. Шталь (Трир) Неизвестная статья Алексея Лосева о Николае Кузанском и его трактате «De li non aliud» 1. Статья А.Лосева о Н.Кузанском В 20-е годы А. Лосев разработал свою концепцию диалектики. Исходя из древнегреческой философии, особенно Платона, он стремился к соединению диалектических форм, развитых в истории античной мысли. В этом контексте Лосев стал интересоваться творчеством Николая Кузанского, которого, как он писал в 1924 году, особенно ценил. Его «симпатии» к немецкому кардиналу зависели, как и к «неоплатонизму» или «раннему Фихте», «именно от страсти к чистой логике, к обнаженной виртуозности мысли»384. Лосев считал Кузанца отчасти своим предшественником, потому что он создал синтетическую диалектику, схожую с его позицией385. Он посвятил ему «немалое сочинение»386 под названием «Николай Кузанский и средневековая диалектика». Но этот труд, наверное, погиб. В 1930 году, когда рукопись была отправлена в Тверскую типографию, Лосева арестовали. С тех пор книга считается утраченной.387 Но остались некоторые материалы, связанные с этой работой. Недавно См. выдержки из предисловия Лосева к «Истории эстетических учений» (16 декабря 1934 г.), приведенные в статье Е.А. Тахо-Годи: «О восприятии Николая Кузанского А.Ф.Лосевым: новые архивные материалы к теме». // Verbum: Выпуск 9: Наследие Николая Кузанского и традиции европейского философствования: Альманах / Под ред. О.Э. Душина. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2007. 261– 281. С. 263. Современные исследователи Кузанского также отмечают, особенно в его позднем творчестве, «высоту абстракции»: Cusanus „verfaßte in hohem Alter eine Reihe von Schriften, die selbst innerhalb seiner streng abstrakten, spekulativen Denkart einen Höhepunkt der Abstraktion bezeichnen“ (E. Wyller: “Nicolaus Cusanus’ ‘De non aliud’ und Platons Dialog ‘Parmenides’. Ein Beitrag zur Beleuchtung des Renaissanceplatonismus.” In: Ders.: Henologische Perspektiven I/I-II: Platon – Johannes – Cusanus. Amsterdam: Rodopi 1995, S. 489). 385 Исследование рецепции Кузанского Лосевым началось совсем недавно: В 2004 и 2005 году вышли статьи С.В. Яковлева («“Античный космос“ А.Ф. Лосева и учение о максимуме Николая Кузанского» // Лосевские чтения. Материалы ежегодной научно-теоретической конференции, посвященной памяти А.Ф. Лосева. Южно-Российский государственный технический университет. Новочеркасск, 2004. С. 18-23.; «Философия Николая Кузанского в оценке А.Ф. Лосева (по материалам „Эстетики Возрождения“)» // Философия и будущее цивилизации. Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24-28 мая 2005 г.). Т.2. М., 2005. С. 743-744.) и Г.Каприева (на немецком языке: „Ein bewundernswerter historischer Brennpunkt. Die Rezeption des Nikolaus von Kues bei Aleksej Losev.“ In: Reinhardt, Klaus und Schwaetzer, Harald (Hgg.): Cusanus-Rezeption in der Philosophie des 20. Jahrhunderts (Philosophie interdisziplinär. B.13). Regensburg, 2005. S.191-209.). В них обсуждаются прежде всего вышеназванный труд Лосева, глава о Кузанском в его работе о ренессансе (1978г.) и статья о Кузанском в Больщой Советской энциклопедии (3 изд. [1969-1978]. М., 1974. Т. 18). В сборнике „Cusanus als Europäer“ (в печати, выходит 2008г., под ред. Harald Schwaetzer и др.) будет опубликован переработанный для немецкого читателя вариант данной статьи (Henrieke Stahl: „Das ‚Eine’ oder ‚Nichts Anderes’? Aleksej Losevs Deutung des Cusanischen ‚non aliud’“), в приложении приведены выдержки из введения Лосева «Исторический контекст трактата Николая Кузанского “О неином”» в моем переводе. Статья Лосева будет опубликован в 2008 или 2009 году вместе с другими новыми архивными материалами. 386 Лосев, А.Ф.: «История эстетических учений» // Лосев, А.Ф.: «Форма. Стиль. Выражение.» М., 1995. С. 331. См. также Е. Тахо-Годи («О восприятии Николая Кузанского...») 262. 387 См. подробнее у Е. Тахо-Годи («О восприятии Николая Кузанского...») 261 и сл. 384 177 опубликовали одну неоконченную статью388, являющуюся, вероятно, выдержкой из книги о Кузанском, т.е. она была написана до 1930 г.389 Но в издании 2003 г. исследователи – и вслед за ними болгарский ученый Г.Каприев – датируют ее серединой 30-х годов. В то время Лосев вновь занимался Кузанским, перевел несколько его трактатов и подготовил комментарии к ним. Тогда же он обратился, среди прочих, и к сочинению „De non aliud“. Но Лосев изучал этот трактат еще в конце 20-х годов и написал статью в качестве вступления к нему. Труд носит заглавие «Исторический контекст трактата Николая Кузанского „О неином“» (в дальнейшем: ИК). Перевод 1929-го года и введение Лосева чудом сохранились: в 1995г. эти работы, конфискованные при его аресте, вернули в его архив. Сходства между этими двумя статьями – некоторые абзацы, касающиеся места, занимаемого Кузанским в истории диалектики, даже идентичны – позволяют отнести и первую статью к концу 20-х годов. Их близость указывает на то, что обе работы входят в материалы пропавшей книги. Перевод „De non aliud“ 1929-го года и связанная с ним статья, которая в более или менее завершенном виде дошла до нас (некоторые текстологические вопросы остаются открытыми), представляют особый интерес. Переводы работ Кузанского, предпринятые Лосевым в 30-е годы390, могли увидеть свет только в форме, жестко искаженной цензурой. Комментарии самого Лосева были или вовсе вычеркнуты или основательно сокращены и переработаны.391 Подлинники не сохранились. Неопубликованный перевод 1929-го года и вступительная статья, напротив, остались без изменений, чем дают возможность ознакомиться непосредственно с истолкованием Кузанского Лосевым, который тогда еще не делал в своих публикациях уступок господствующей идеологии большевизма. В «Предисловии» он даже начал небезопасную полемику с эйфорически поклоняющимися «диалектике» коммунистами, иронично обличая их в незнании истории философии: «Но В 2003 году опубликована незавершенная работа Лосева о Кузанском («Николай Кузанский и античносредневековая диалектика» // «А.Ф. Лосев – философ и писатель.» Ред. А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкий, М. 2003, 326–345). 389 «Можно выдвинуть гипотезу, что сохранившийся в лосевском личном архиве отрывок, посвященный Кузанскому и антично-средневековой диалектике, проанализированный Г. Каприевым и представляющий фрагмент вступления к какой-то неизвестной нам работе 20-х гг., есть не что иное, как отдельные страницы погибшей в 1930 г. книги „Николай Кузанский и средневековая диалектика“, которая, судя по следственному делу Лосева, была незадолго до его ареста отдана в печать в типографию, находившуюся в Твери». (Е. Тахо-Годи, «О восприятии Николая Кузанского...», 261 и сл.). 390 Перевод «О Неином» сделан по книге И. Убингера (Iohannes Uebinger: «Die Gotteslehre des Nikolaus Cusanus», Münster und Paderborn, 1888) и «вышел в 1937 г. в сборнике избранных сочинений Кузанца, куда, помимо перевода „Об ученом незнании“, сделанном С.А. Лопашовым, были помещены еще два лосевских перевода трактатов Кузанского „Об уме“ (по тексту, подготовленному Э. Кассирером и включенному в его книгу „Индивид и космос в философии Ренессанса“, напечатанную в 1927 г., – лосевский перевод теперь входит в русское переиздание этой книги Э. Кассирера) и „О бытии-возможности“ (по изданию сочинений Кузанского 1565 г.).» (Е. Тахо-Годи, «О восприятии Николая Кузанского...», 272). 391 О драматической, безуспешной борьбе с цензурой свидетельствуют письма Лосева, приведенные Е. ТахоГоди («О восприятии Николая Кузанского...», 273-278). 388 178 кто не умеет отделять диалектику от мифологии, тому нечего читать не только Николая Кузанского, но и самого Гегеля» (ИК).392 В «Предисловии» Лосев указывает на то, что трактат переведен не им, а его знакомой Н.Ю. Фиолетовой. Но сам философ основательно поправил ее работу и тщательно подыскал выражения, соответствующие «субтильной терминологии»393 Кузанца: «Несмотря на старательность, проявленную Н.Ю. Фиолетовой, мне пришлось вносить массу исправлений и всяческих замечаний, так что в прежнем виде не оставалась буквально ни одна фраза» (ИК). Учитывая эту кардинальную переработку текста, кажется, Лосев в 1934 году «определяет свою роль иначе и говорит о переводе Кузанского как о своем собственном»394. Лосев характеризовал „De non aliud“ как «самый головоломный трактат, открывающий, однако, перспективу на всю новую философию»395. Во вступительной статье «Исторический контекст трактата Николая Кузанского „О Неином“» Лосев пытается установить место, принадлежащее этому сочинению в развитии диалектической мысли, и показать, что Кузанец синтетизирует ее главные формы. В качестве подтверждения он приводит свой анализ понятия «неиного» у кардинала. Работа Лосева и Фиолетовой является, по всей вероятности, первым переводом этого труда кардинала,396 а статья Лосева – одним из первых исследований об этом трактате. Убингер, на книгу которого он ссылается, нашел рукопись трактата, преданного забвению со времен А. Дюрера, в 1888г. в Мюнхенской государственной библиотеке, опубликовал ее и посвятил ей первые исследования.397 В старых изданиях, среди которых Ср. также в начале статьи: «К сожалению, дальше Гегеля, в глубь истории философии, почти никто не идет из тех, которые ухватились за диалектику на основании прочтения о ней из двадцатых рук. Тут можно только пожалеть, что диалектика в настоящее время так распространена. Быть распространенной в подлинном смысле она, конечно, никогда не может, как и всякое трудное и тонкое знание. Популярность диалектики сводится к популярности лишь самого названия “диалектика”. Глубокий и тонкий метод диалектики требует огромной школы ума. Стать диалектиком это все равно, что стать пианистом. Для того и для другого требуются, прежде всего, пустые и формальные гаммы и этюды, разыгрываемые в течение многих лет. Эту гимнастику ума нельзя прочитать в книгах, даже у самого Гегеля. Диалектику вообще нельзя “прочитать”» (ИК). 393 Лосев в письме в редакцию (No. 2), см. Е. Тахо-Годи («О восприятии Николая Кузанского...», 276). См. там же, с. 277 (письмо No. 3): «Его терминология почти непередаваема, тут приходилось создавать заново длинный ряд русских терминов.» 394 Е. Тахо-Годи («О восприятии Николая Кузанского...», 267). 395 Лосев, А.Ф.: «История эстетических учений» // Лосев, А.Ф.: «Форма. Стиль. Выражение.» М., 1995, 331. См. также Е. Тахо-Годи («О восприятии Николая Кузанского...», 262). Под «новой философией» он разумел, в частности, немецкий идеализм и (нео-)кантианство: «Наиболее актуальный интерес представил бы трактат “De non-aliud”, в котором заострена традиция антично-средневековой диалектики и который дает перспективу на немецкий идеализм и кантианство.» («План издания классиков по диалектике из античной и средневековой философии», см. Е. Тахо-Годи, «О восприятии Николая Кузанского...», 269). 396 См. самого Лосева: «ТРАКТАТЫ, даваемые мною, НЕ ПЕРЕВЕДЕНЫ НИ НА ОДИН ЯЗЫК.» См. Е. Тахо-Годи, письмо No. 3 («О восприятии Николая Кузанского...», 277). Немецкий ученый К. Рейнхард считает работу Лосева/Фиолетовой первым переводом трактата, см. его „Überlieferung des Textes» в новом Трирском издании „De li non aliud“ (в печати). 397 Iohannes Uebinger: Die Gotteslehre des Nicolaus Cusanus. Münster und Paderborn 1888. Другие издания: Nikolaus von Kues: Vom Nichtanderen (De li non aliud). Übersetzt und mit Einführung und Anmerkungen herausgegeben von Paul Wilpert, Hamburg 1952, zweite Auflage: 1976, ed. K. Bormann; dritte Auflage 1987. 392 179 собрания сочинений, составленные еще самим Кузанским, этой работы нет, даже рукописные копии не были известны. Нюрнбергский гуманист Хартман Шедель сделал себе 6-го апреля 1496г. копию с подлинника или с другой копии, информации о которых не имеется. Эта нюрнбергская копия, которая сначала оказала некоторое влияние на тогдашнее искусство (особенно на Дюрера)398, впоследствие была забыта. На протяжении почти 100 лет после ее открытия в Мюнхене эту копию считали единственным сохранившимся источником сочинения «О неином». 399 Но в 1983 году Трирский ученый профессор Клаус Рейнхард нашел в Капитулярной библиотеке в Толедо (Испания) еще одну копию трактата, которая появилась там, по-видимому, из Рима. Она содержит некоторые разночтения с упомянутой версией.400 На основе имеющихся двух копий в Институте исследований Кузанского при теологическом факультете Трирского университета теперь готовится новое, критически сверенное издание латинского текста вместе с переводами на разные языки.401 „De non aliud“ является одним из пока сравнительно малоизученных произведений Кузанца, хотя значение трактата бесспорно велико.402 На фоне истории исследований, посвященных этому сочинению, истолкование, предлагаемое Лосевым, оказывается своеобразным и очень интерсным. Он был, наверное, первым, считавшим кардинала диалектиком и видевшим в „De non aliud“ блестящий пример диалектического метода, вписывающийся в платоническую традицию.403 Хотя позже и появились другие работы, в которых обсуждаются признаки диалектики в мысли Кузанского, исследователи обычно Nikolaus von Kues: Philosophisch-Theologische Schriften. Herausgegeben von Leo Gabriel. Übersetzt und kommentiert von Dietlind und Wilhelm Dupré. Band II (Wien 1966), S. 443-565 (введение с. XXII-XXVI). Nicholas of Cusa on God as Not-other. A Translation and an Appraisal of De li non aliud by Jasper Hopkins. Third edition. Minneapolis 1987 (2nd printing, 1999; first edition 1979). 398 См. статьи Елены Филирри (Elena Filippi: „Im Zeichen des Timaios: Cusanus, Alberti, Dürer”; “Quasi pictor, qui diversos temperat colores, ut habeat suiipsius imaginem. Zu Cusanus und Dürer”; in: Cusanus als Europäer, в печати, выходит 2008г., под ред. Harald Schwaetzer и др.). 399 Данная информация об истории копий „De li non aliud“ базирует на введении в (второй) немецкий перевод (Paul Wilpert: Einführung. In: Nikolaus von Kues, Vom Nichtanderen (De li non aliud), übersetzt und mit Einführung und Anmerkungen herausgegeben von Paul Wilpert. Hamburg: Felix Meiner Verlag 21976, S. XVIIXVIII) и на неопубликованных материалах к новому латинско-немецкому изданию Трирского Института исследований Кузанского (2008г.). См. также примечание 18. 400 Эта копия была в частной библиотеке Римского кардинала Франциско Ксафер Целада (Kardinal Francisco Xavier Zelada, 1717-1801), который перевез ее в Толедо, чтобы ее спасти от войск Наполеона. См. Klaus Reinhardt: Eine bisher unbekannte Handschrift mit Werken des Nikolaus von Kues in der Kapitelsbibliothek von Toledo. In: MFCG (=Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft) 17 (1986), 96-133, и, кроме того, его же статью „Überlieferung des Textes» в новом Трирском издании „De li non aliud“ (в печати). 401 В 2008г. выйдет одно издание в Буонос Айрес (Аргентиния) вместе с новым испанским переводом, другое в Германии с новым немецким переводом. Планируется также русское издание нового латинского текста, вместе с – критически проверенным – переводом Лосева на 2008 или 2009 г. 402 См., например: C.L. Miller: „Reading Cusanus. Metaphor and Dialectic in an Conjectural Universe”. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press 2003 (там: „Not Other Than Divine: De li non aliud (1461)“, S. 180-205); E. Wyller: „Nicolaus Cusanus’ ‘De non aliud’ und Platons Dialog ‘Parmenides’. Ein Beitrag zur Beleuchtung des Renaissanceplatonismus.” Und: „Zum Begriff ‘non aliud’ bei Cusanus.” In: Ders.: „Henologische Perspektiven I/I-II: Platon – Johannes – Cusanus.“ Amsterdam: Rodopi 1995, S. 489-509; 511-542; D. Pätzold: „Einheit und Andersheit: Die Bedeutung kategorialer Neubildungen in der Philosophie des Nicolaus Cusanus.“ Köln: Pahl-Rugenstein 1981; G. Schneider: „Gott, das Nichtandere.“ Münster: Aschendorff 1970. 403 «... что и Николай Кузанский и в частности его трактат “О неином” есть одно из самых блестящих произведений именно диалектики» (ИК). 180 не расценивают его как диалектика в собственном смысле.404 Об этом можно говорить не без оснований, в крайнем случае, только о первой книге его знаменитой „De docta ignorantia“, но не о последующем или даже позднем творчестве, к которому надо причислить „De non aliud“405. В мысли Кузанского современные западные исследователи отмечают «конъектуральность» и «перспективность», способность свободной творческой «имагинации» и символизации, даже «диалогичный принцип»406, т.е. признаки, или вовсе не совместимые с диалектическим процессом или придающие диалектике совсем другой смысл.407 Очевидный контраст между концепцией «не иного» у Кузанского и ее диалектическим истолкованием, предпринятым Лосевым под сильным влиянием его же философии, позволяет ярко выделиться не только особенностям идеей Кузанского, но и позиции русского мыслителя. Лосев «реплатонизирует» Кузанского именно в том пункте, где кардинал выходит за пределы античной и средневековой традиций. Интерпретацию трактата Лосевым можно считать скрытым полемическим диалогом, направленным против главной идеи, защищаемой немецким мыслителем. Исключение представляет собой новая история «Философии в Италии» Гофманна, позиция которого близка к интерпретации Кузанского Лосевым (Thomas Sören Hoffmann: „Philosophie in Italien. Eine Einführung in 20 Porträts“. Wiesbaden 2007, S. 40): „(...) sein hoch entwickeltes dialektisches Denken läßt sich in eine Traditionslinie stellen, die über Proklos (5. Jahrhundert), Porphyrios (3. Jahrhundert) und Plotin (204/5-270) bis auf Platons dialektisches Meisterwerk Parmenides zurückreicht.“ 405 Трактат „De li non aliud“ написан в начале 1462 в Риме (см. подробнее: Wilpert, Einführung, S. XIX). Виллер характеризует эту работу как «диалектику понятий» („Begriffsdialektik“) и видит также, как и Лосев, в «не ином» совпадение противоположностей, Wyller, „Nicolaus Cusanus’...“ 511, 507, но он не разделяет позицию Лосева, который считает понятие «не иного» результатом диалектического процесса, см. точнее цитаты Виллера в примечаниях 31 и 38. 406 Ср., например, Inigo Bocken: „Die Wahrheit des Dialogs. Die Bedeutung des cusanischen Denkens für Martin Bubers Entwurf einer Dialog-Philosophie“, in: Cusanus-Rezeption in der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Herausgegeben von Klaus Reinhardt und Harald Schwaetzer. Regensburg: S.Roderer-Verlag, 2005, 9-31. Об «имагинации» и познании в символах у Кузанского см. Harald Schwaetzer: Die methodische Begründung der Cusanischen Symbolphilosophie. Zum systematischen Verhältnis von imaginatio und visio. In: Intellectus und Imaginatio. Aspekte geistiger und sinnlicher Erkenntnis bei Nicolaus Cusanus. Herausgegeben von João Maria André, Gerhard Krieger, Harald Schwaetzer. Amsterdam/Philadelphia 2006, 83-95. 407 Ученых, подчеркивающих диалектическую установку Кузанского, совсем немного. У них диалектика приобретает некоторый иной смысл: Она указывает на открытое и поддвижное мышление кардинала, которое при помощи противоречий, с одной стороны, приближается к бесконечности и, с другой стороны, показывает целостную связанность всего во всем. Его мышление не следует линеарности, сознательно отталкиваяся от дискурсивности, и не стремится к выше положенному результату или синтезу: „The dialectical dimension“ of Cusanus is „the attempt not to think in merely linear terms codified so brilliantly for discursive reason in Aristotle’s logic, but to think beyond them, or better, to put them together with what lies beyond.“ „Thinking about any part of the whole means a dialectical holding together of opposed and related terms. This dialectical thinking is not one that moves to resolution or that sublates other and earlier moments of the dialectic in some ultimate synthesis. Rather, it is a dialectic that holds parts together simultaneously within a whole, a dialectic that has to be constantly sustained to do justice to difference-in-likeness. This kind of thinking moves back and forth in the attempt to join alternative perspectives and to keep relata connected.” (C.L. Miller, “Reading Cusanus...”, 254). Хопкинс описывает на материале трактата «О видении Бога» („De visione Dei“) «диалектический мистицизм» Кузанца также как круговое, целостное, а не как линеарное мышление, которое „is proleptic more of Kierkegaard than of Hegel“: “… Nicholas advances considerations that cohere with his overall viewpoint in De visione Dei, but these considerations do not connect into a chain in which each link of reasoning is presumed to depend necessarily upon preceding links.” (Jasper Hopkins: Nicholas of Cusa’s dialectical mysticism. Text, translation, and interpretative study of De visione dei. Second edition. Minneapolis: The Arthur JBanning Press 1988, 43). 404 181 2. „De non aliud“ в интерпретации А.Лосева 2.1. «Единое» или «не иное»? Лосев считает «О неином»408, как он перевел „De li non aliud“, «замечательным произведением во всей истории диалектического метода» (ИК), начало которой он видит в философии Платона.409 По его мнению, еще до Гегеля существует богатая история диалектических форм, которые, согласно полемическому замечанию Лосева, намного интереснее, чем диалектика самого немецкого идеалиста. В своей статье Лосев выдвинул тезис, что в этом сочинении сливаются антично-средневековая традиция, под которой он подразумевает платонизм, неоплатонизм и ареопагитскую мистику, с ново-европейской диалектической философией, коренящейся в аристотелизме и схоластике. Влияние первого течения проявляется в содержании трактата, а сходство с последним – в отвлеченной логике. Кузанский дает диалектике, присутствующей большей частью имплицитно еще у Платона и других древнегреческих мыслителей, выражаться и во внешней форме. Согласно Лосеву, в высокоразвитой логике трактата просвечивается родственность Кузанца с немецким идеализмом и даже с неокантианством. Вбирая в себя черты предыдущих видов диалектики и предвосхищая аспекты ее будущих этапов, философия кардинала занимает ключевую позицию в развитии диалектической мысли.410 Лосев хотел в своей философии, изложенной в знаменитом «восьмикнижии» 20-х годов, соединить как и главные типы диалектики, так и логику с онтологией. Излагая «античный космос» в понятийной форме, он пытался реконструировать «эйдос» или эйдетическую систему мировоззрения античности и выявить диалектику, имплицитно данную у древнегреческих мыслителей. Кузанец в то время заинтересовал Лосева потому, что он думал найти в творчестве кардинала образец подобного синтеза древних и новых форм диалектики. Можно предположить, что он считал Мозельского философа своим предшественником в истории диалектической мысли. В дальнейшем мы покажем, что Лосев применяет свой диалектический метод, основанный, прежде всего на философии Платона, Прокла, Дионисия Ареопагита и Заглавие „De li non aliud“ спорно, так как Нюрнбергская кория носит название „Directio speculantis“ («Руководство ищущим»), тема, которая также фигурирует в тексте и связывается с его методом. Копия в Толедо имеет еще другое название („Eiusdem de non aliud ac etiam de diffinitione omnia diffinienti“), которое относится к главному понятию («неиное» как самоопределяющееся определение). А сам Кузанец в другом сочинении („De venatione sapientiae“) ссылается на эту работу под заглавием „De li non aliud“, указываюшим на ее главную тему (ср. об этом подробнее: Wilpert, Einführung, S. XVIII-XIX). Форма „De non aliud“ перекликается с другими названиями, типичными для Кузанского: „De principio“, „De aequalitate“, „De visione Dei“ и т.д., так что можно спокойно придержаться названия „De li non aliud“. 409 Сам Гегель указал на то, что диалектика началась с философии Платона, особенно с его «Парменида»; см. Klaus Düsing: „Formen der Dialektik bei Plato und Hegel.“ In: „Hegel und die antike Dialektik.“ Herausgegeben von Manfred Riedel. Frankfurt am Main 1990, 169. 410 Позиция Кузанского на «рубеже» средневековья и Нового времени и его родственность с послекантиантской философией, особенно с Немецким идеализмом (Шеллинг), считается сегодня общим местом: „A convenient way to regard Nicholas of Cusa is to locate him in the history of thought as a transitional figure whose ideas both echo medieval themes and anticipate later ideas.“ (C.L. Miller, “Reading Cusanus…”, 1). 408 182 самого Кузанского, в анализе трактата «О неином», приводящем его и к выше изложенному тезису. Оба мыслителя стремились к одной цели: обоснованию единства бытия и знания, при чем начало бытия представлено «единым», а принцип знания – «не иным». Однако их пути начинаются с противоположных концов: Лосев выбрал путь онтологии, который идет от бытия к знанию, и поэтому он сводит «неиное» к «единому». Кузанский, наоборот, пришел путем гносеологии к утверждению, что бытие коренится в знании, и, следовательно, он заменяет «единое» «не иным». Лосев остался обязан платоническому дуализму, следуя которому абсолютное заключается в трансцендентности, приципиально недоступной познанию. Кузанский же полагал трансцендентность в имманентности, так что непостигаемость становится относительной: «непостижимо постигается непостижимое»411. Он установил монизм, который, исходя из платонической – и ареопагитской – концепции, существенно изменяет ее, приближаясь к аристотелическому течению. Эта модификация вписывается в общую мысль ренессанса и ведет к переоценке человека, который в качестве «образа божия» может на пути саморазвития упразднить границы познания. Кузанский обосновывает этот монизм христологически. Он не только соединяет платоническую и аристотелевскую традиции, но и придает философии существенно христианский характер.412 Именно на эту особенность трактата Лосев не обращает внимания и даже затемняет ее своим истолкованием. Здесь уместен вопрос, почему христологическая основа трактата остается вне рамок рассмотрения у Лосева, который сам был глубоко связан с православной традицией. 2.2. Типология диалектики у Лосева В начале статьи Лосев развивает типологию диалектических методов, объединяя античную, точнее платоническую, неоплатоническую и средневековую ареопагитскую традиции в одном течении и аристотелевские, схоластические и новоевропейские концепции в другом. Главное различие обоих течений Лосев описывает геометрическими образами круга и линии: платонизм понимает бытие в виде совершенного, идеального, самодовлеющего построения, которому соответствует диалектика взлета и падения, круговращение бытия, а новоевропейская традиция представляет себе бытие в форме вечного становления и развития, ведущего из ничего к совершенству, т.е. считает бытие См. «Простец о мудрости. Книга первая», н. 7 („Idiota de sapientia” I, n. 7: “attingitur inattingibile inattingibiliter”); по изданию: Николай Кузанский: Сочинения, Том 1 (М. 1979), 364. 412 См. о христианском характере философии у Кузанского, например: Schwaetzer, Harald: „Aequalitas. Erkenntnistheoretische und soziale Implikationen eines christologischen Begriffs bei Nikolaus von Kues. Eine Studie zu seiner Schrift De aequalitate.“ Hildesheim/ Zürich/ New York: Georg Olms Verlag, 2000, zweite, durchgesehene Auflage: 2004. 411 183 эволюцией или «нарастанием» «все большей и большей цельности» (ИК). Для диалектики первого рода цельность изначально дана и поэтому не может ничего получать от инобытия. Только само инобытие способно к развитию. Согласно другой традиции, наоборот, цельность создается только в результате эволюции инобытия. Это основное различие выражается в трех главных признаках: 1. в новоевропейской традиции диалектика обращается к истории и социальной жизни, которые в антично-средневековой мысли остаются вне рамок рассмотрения. 2. в аристотелевском течении вопрос о «едином» второстепен, тогда как в платонических концепциях «единое» является исходным пунктом. 3. в аристотелизме категории располагаются по линии, а в платонизме – в форме круга, в середине которого находится главное понятие, т.е. «единое». На фоне этой характеристики, Лосев определяет «О неином» Кузанского как соединение обоих главных типов диалектической мысли. По отношению к своему содержанию трактат родствен с антично-средневековой традицией потому, что 1. Кузанский не обращает внимания на исторические и социальные темы. 2. «корнем неиного» является, по мнению Лосева, «единое» Платона, это центральное понятие обосновывает единство знания и бытия. 3. все остальные понятия построены вокруг «неиного» и зависят непосредственно от него. Но с точки зрения формы, в трактате обнаруживается «огромная сила отвлеченной логики» (ИК). Сам ход мысли продолжает философские методы схоластики и напоминает будущую философию после Канта. Согласно новоевропейской схеме мышления, понятия располагаются по линии и их смысл расширяется постепенно. Итак, Лосев находит в трактате соединение двух противоположных диалектических традиций: с точки зрения содержания, «О неином» входит в русло платнонизма (круг), а в отношении к мыслительным формам – аристотелизма и новоевропейской философии (линия). Он пытается доказать это положение при помощи анализа главного понятия «неиное» и рассматривает знаменитое «определение», данное в виде суждения „non aliud est non aliud quam non aliud“. 2.3. Лосевский анализ «неиного» Решающий момент интерпретации Лосева состоит в том, что, по его мнению, «неиное» Кузанского представляет собой только название одного аспекта, уже Платоном имплицитно приписанного «единому». У 184 древнегреческого мыслителя «единое» предшествует всему и стоит «выше всякого бытия и познания» (ИК) 413. Оно выводит из себя «иное», но не становится им, оставаясь «сверхсущим». Таким образом, можно различить два рода «единого». Первое есть «абсолютно единое» само по себе, не связанное с инаковостью, а другое – «прицип появления инобытия» (ИК). Это начало Кузанец, как считает Лосев, подразумевал под названием «неиного». Соответственно, «неиное» является одновременно и ничем и тем, благодаря чему существует все. Кузанский только дал новое имя «моменту силы» (ИК) или направленности «единого» на «иное», причем первостепенность самого «единого» не ставилась им под вопрос. Лосев подтверждает этот тезис путем анализа «определения неиного», проведенного в начале трактата Кузанского. Указав на то, что кардинал здесь применяет форму суждения для уяснения смысла «неиного», Лосев раскрывает диалектику, заключенную в самой формуле. Но русский философ не замечает особенность, которой отличается определение у Кузанца. Николай пытается открыть «самоопределяющее определение», т.е. принцип определения, который лежит в основе самой формы суждения, и показывает, что этим началом является «не иное», т.е. смысл «не иного», взятого в качестве формального принципа. Поэтому нельзя заменить содержание суждения, которое у Кузанского представляет собой троякий повтор «не иного», другим элементом. Лосев, однако, делает именно это без всяких объяснений, опираясь на предпосылку, что «неиное» исходит из «единого». Вместо кажущейся тавтологии «неиного» у него выступает логический «заместитель» «А»: «“А есть А“, или точнее „А есть не что иное, как именно А“» (ИК) 414. В XV главе сам Кузанский тоже употребляет «А», но оно здесь имеет совершенно другой смысл, нежели у Лосева. У кардинала «А» эксплицитно заменяет «не иное», а не «единое», так как и «единое» – имеется ввиду сверхсущее (supersubstantiale unum) – «есть не иное, чем единое»415, т.е. сам принцип сравнения «не иное чем» даже предшествует «Единое (или Одно), если оно есть только Единое и больше ничего, уже не есть что-нибудь в отдельности, ни смысл, ни идея, ни разум, ни число, ни мысль. Оно — совершенно выше всякого бытия и познания. Это с последней отчетливостью изложено в 20-й главе „Парменида“ (137с—142b)» (ИК). Норвежский ученый Виллер утверждает, что Кузанский является первым мыслителем ренессанса, который занимался „Парменидом“ и на просьбу которого состоялся первый перевод этого диалога на латинский язык еще за лет 10 (1450/51г.) до написания самого трактата «О не ином»; см. Wyller, „Henologische Perspektiven“, 490. 414 Виллер, напротив, подчеркивает различие между «предложением тождества» «А есть А» и формулой «не иного» Кузанского, ср.: „Der volle Begriff non aliud bedeutet nicht Identität, und zwar weder im Sinne von Gleichheit der formalen Logik, noch im Sinne der doppelten Negation der hegelschen Dialektik, noch im Sinne der Selbigkeit oder des Ereignisses des heideggerschen Seinsdenkens“ (Wyller, „Henologische Perspektiven“, 521). 415 „FERDINANDUS: Quia licet ipsum unum propinque ad ipsum non-aliud accedat, adhuc tamen fatetur ante unum esse supersubstantiale unum; et hoc utique est unum ante ipsum unum, quod est unum. Et hoc tu quidem ipsum non-aliud vides. NICOLAUS: Optime cepisti! Unde si A foret significatum de li non-aliud, tunc A id, de quo loquitur, foret. Si autem, ut ait, unum est ante finem et infinitatem omnem terminans infinitatem, ad omnia simul pertingens et ab omnibus incomprehensibile manens uniusque et omnis multitudinis definitivum: utique A ipsum unum definiens ipsum unum sane, quod est aliud, antecedit. Nam cum unum sit non aliud quam unum, tunc A subtracto unum desineret. FERDINANDUS: Recte! Nam cum dicat quomodo unum, quod supra unum est, ipsum, 413 185 определению «единого». Итак, «не иное» занимает место сверхсущего «единого», потому что «единое» не может быть «единым» без «не иного», значит, «не иное» прежде и выше «единого», как и конкретного, так и сверхсущего. Лосев, наоборот, ставит «не иное» в зависимость от «единого». У него «А» заменяет конкретное (т.е. второе) «единое», которое определяется при помощи «силы» первого (сверхсущего) «единого», т.е. «неиного», которое содержится в самой форме суждения. Чтобы определиться, «А» должно отрицать самого себя (I негация): «Если я высказываю какое-нибудь самое примитивное суждение об А, то ясно, что для этого я уже должен выйти за пределы этого А, к такому предмету, который является инобытием в отношении данного А» (ИК). В отличие от самого Кузанского русский мыслитель, таким образом, подчиняет принцип сравнения «не иное чем» «единому», потому что где ничего нет, не может быть и «неиного»: A ––––––> [– A] А (единое) есть иное Чтобы при этом акте негации не потерять самого «А», надо одновременно утвердить его: «я должен вновь оттолкнуться от этого инобытия. Перейдя в инобытие, то есть в отрицание А, я должен теперь отрицать самое отрицание» (ИК) (II негация). A ––––––> – [– A] А (единое) есть не что иное Но «я должен знать направление, в котором я буду отталкиваться от инобытия» (ИК) при помощи двойного отрицания. На это направление указывает союз «как», обращающий внимание назад на «А»: A ––––––> – [– A] = A А (единое) есть не что иное как именно А «Негация негации» утверждает «А» и отделяет его от инобытия. Таким образом, суждение раскрывает в себе «полное и абсолютно неразличимое тождество» утверждения и отрицания, «не будучи ни тем, ни другим в отдельности», но оно «не есть» «также и объединение того и другого» (ИК). «Это дает возможность понимать основной принцип суждения как нечто единое, которое в своей максимальной насыщенности есть некая сила416 одновременного утверждения и отрицания» (курсив – мой). «Это и будет то, что Николай Кузанский называет „не-иное“» (ИК), т.е. «сила» или форма суждения, раскрывающая «А» или «единое» как таковое, есть «неиное», так что можно различить три уровня: quod unum est, determinat, hoc utique unum supra unum prius dixit ’unum ante unum’. Determinat igitur A unum et omnia, cum, ut dicit, ipsum unum omnis unius et multitudinis sit definitivum.“ (Cap. 15, 73). 416 Лосев этим выражением намекает на то, что он понимает «имя Бога» «неиное» у Кузанского также в качестве – хотя слабого – отблеска учений о божественных энергиях, см. его изложение этой византийской традиции в статье «Исторический контекст трактата Николая Кузанского „О Неином“». 186 1.) сверхсущее единое («А», которое хочет определиться), 2.) его сила (форма суждения, «неиное»), 3.) конкретное единое, т.е. определенное «А». Значит, «неиное» основывается на «едином», еще не раскрытом, т.е. трансцендентном, «силой» которого является «неиное». При помощи силы «неиного» «единое», само по себе остающееся трансцендентным, может проявляться в «трехчленной формуле» как определенное «единое», «А». Сверхсущее или первое «единое», которое выше «неиного», – это есть «Бог»: «Поскольку Бог мыслится как абсолютный принцип и первооснова всякого бытия и знания, Он должен быть первопринципом и всякого суждения» (ИК). Этот «абсолютный принцип» выше «неиного», проявляющегося в качестве «единого и даже единичного принципа» (ИК) суждения, а сами члены формулы ниже них, так что можно различить три иерархических уровня, каждый из которых зависит от выше расположенного. Все члены формулы указывают на «единое» через «неиное». За этой схемой скрывается намек на Троицу (Отец, Сын и Святой Дух), эксплицитно не обозначенную Лосевым: Единое (первое, сверхсущее): Отец A (второе «единое» как «неиное»: сила «единого»): Сын 1. отрицание (–A) 2. отрицание отрицания (– –A) 3. утверждение (=A): Святой Дух А есть не что иное как А В вертикальном разрезе присутствует здесь «круг» платонической традиции: все указывает на «единое» как первооснову. Ярко выражен иерархический строй бытия, типичный для Средневековья. На горизонтальном уровне формулы действует, наоборот, аристотелевское начало, характеризующее и мысль Нового времени, так как все члены суждения целенаправлены и подлежат закону линейного «нарастания смысла» (ИК), который ведет от простого отрицания через двойную негацию к их синтезу в утверждении. 187 Итак, анализ Лосева показал, что прицип «круга» осуществляется в содержании формулы, а начало «линии» – в логической форме, т.е. в самом ходе мысли. Лосев мог пологать, что он тем самым привел наглядное доказательство для тезиса, что Кузанский соединяет в себе противоположные традиции диалектики. 2.4. Диалектический метод Лосева и „De non aliud“ Анализ Лосева приписывает «формуле» «неиного» у Кузанского признаки, которыми отличается его собственный диалектический метод, изложенный им в книге «Античный космос и современная наука». Таким образом, Лосев подталкивает читателя к мысли, что Кузанец является его – хотя и относительным – предшественником. Но сравнение лосевского метода с трактатом показывает, что на самом деле русский философ только переносит свой взгляд на Кузанца. «Неиное» кардинала – взятое в понимании Лосева – представляет собой определенную часть или конкретный этап диалектического метода самого Лосева, хотя тот об этом не пишет эксплицитно. С точки зрения содержания исходным принципом диалектического метода для Лосева является «единое» в качестве «первоначала всякой и всяческой мысли»417. Соответственно с этим, предпосылка анализа «неиного» есть (сверхсущее) «единое», а «неиное» является только «силой», представляющей собой «нечто единое» и «основной принцип суждения» (ИК). Это «неиное» – главный формальный принцип диалектики, состоящий, согласно Лосеву, в «раздельности и различии»418, так как «быть же – значит, прежде всего, отличаться и иметь границу»419. А чтобы отличаться, надо иметь «не-сущее» как «нечто иное», т.е. отрицать «единое». Эта негация создает «как бы эйдетический фон пустоты, на которой развертывается жизнь эйдосов»420, это их «пространство» или «меон». Следуя этому, в лосевском анализе формулы «А» становится «не А» или «единое» – «иным» (тезис). Но чтобы не утратить «А», надо отрицать эту негацию (антитезис). Отрицание и утверждение сливаются в одной формуле, представляющей собой «совпадение противоречий»421 (синтез). Так истолкованная трехчленная форма соответствует «приципу появления инобытия» (ИК), под которым Лосев подразумывает «неиное» Кузанца. Т.е., Лосев, А.Ф.: «Античный космос и современная наука.» // Он же: «Бытие. Имя. Космос.» Ред. А.А. ТахоГоди и И.И. Маханьков. М. 1993, 131. 418 Лосев, «Античный космос...», 116. 419 Там же 115. 420 Там же 116. 421 Там же 69. Виллер также трактует «не иное» как «совпадение противоположностей» (Wyller, „Henologische Perspektiven“, 507), но он одновременно подчеркивает, что «не иное» заменяет диалектический принцип тождества: „Das Prinzip der Nicht-Andersheit hat bei Cusanus – sowohl seiner Intention als auch der Realisation nach – das dialektische Prinzip der Identität ersetzt“ (Wyller, „Henologische Perspektiven“, 524), ср., напротив, Лосева: «Утверждение и отрицание надо взять как полное и абсолютно неразличимое тождество, а это тождество понять как некую силу, как некую потенцию, возможность, как некий смысловой заряд и смысловую направленность. Это и будет то, что Николай Кузанский называет „неиное“» (ИК). 417 188 «неиное» Кузанского (в понимании Лосева), подчиненное «единому» (сверхсущему), можно узнать в формальном принципе идеального диалектического метода Лосева. 2.5. Возражения Несмотря на упрек в переносе собственной концепции на мысль Кузанского, толкование Лосева весьма проблематично само по себе. Здесь стоит задать русскому мыслителю, например, следующие вопросы, возникающие в рамках его же исследования: 1.) Осознав, что трехчленность формулы «неиного» у Кузанца соотносится с Троицей, Лосев все-таки установил эту аналогию на вертикальном, смысловом уровне. Кардинал, однако, связывает три этих члена, данных на горизонтальном, формальном плане суждения, с Троицей. 2.) Кроме того, Лосев видит в формуле «нарастание смысла» (ИК), так что ее третьему члену уделяется главный вес. Но у кардинала эти три члена определяются по образу Троицы как «начало, средство и цель»422, при чем они по сути равны и следуют друг за другом, образуя замкнутый в себе круг. Если Лосев был бы прав, Кузанец бы отдал предпочтение Святому Духу перед Сыном, а Сыну – перед Отцом, что явно невозможно. 3.) Лосев заменяет «не иное» буквой «А», подразумевая «единое», хотя Кузанец специально отметил, что платоновское «единое» логически следует за «не иным», потому что и само понятие «единого», т.е. само трансцендентное «единое», становится таким только при помощи «не иного».423 Именно в этом пункте Кузанский видел свое новшество в отношении к неоплатонической традиции. Он считал «не иное» не только введением нового названия для идеи, уже представленной у Платона. Кузанский с логической последоваетельностью настаивает на трояком повторении «не иного», чтобы образовать «самоопределяющееся определение». Последнее, Лосев обходит молчанием, тематизируя только общую форму суждения. 4.) Лосев перевел „non aliud“ в формуле как «не что иное» или «неиное» и не анализирует двойной смысл, заключащийся в этом выражении у Кузанского. Но именно амбивалентность «не иного» содержит ключ к пониманию трактата. 2.6. „non aliud est non aliud quam non aliud“424 Словосочетание „non aliud“425 выступает в формуле Кузанского в двойной функции: во-первых, в роли существительного «не что иное», и во-вторых, как „De non aliud“, Cap. 4, 10. „De non aliud“, Cap. 15, 73; см. цитату в примечании 32. 424 Cusanus, De li non aliud, Cap. 1, 4. 425 „non“ есть наречие, „aliud“ или прилагательное или местоимение в зависимости от функции в предложении; в месте подлежащего и дополнения они превращаются в словосочетание в функции 422 423 189 местоимение с наречием в предикате со смыслом сравнения, указывающее на неимеющееся отличие («не есть иное чем»). Эту двойную функцию можно лучше всего выразить, переводя „non aliud“ двумя словами «не иное», которое может быть употреблено в качестве и существительного («не иное») и предиката («есть не иное»): «Не иное есть не иное, чем не иное»426. В переводе Лосева „Неиное не есть иное, чем Неиное“427 коренным образом изменяется образ латинского предложения, в котором „non aliud“, отражая Троицу, выступает три раза в одной и той же форме, но в разных синтаксических и морфологических функциях. Надо учесть равность трех членов и воспроизвести переход от «не иного» в смысле определяющего принципа сказуемого, при помощи которого понятие только создается, в существительное. Немецкий ученый Харальд Шветцер объясняет, что «„non aliud“ не есть просто понятие», передаваемое обычно существительным, «а некий чистый акт, который только создает понятия», т.е. „non aliud“ есть «сверхпонятийное» начало.428 Перевод „non aliud“ существительным заслоняет именно эту особенность и искажает смысл текста. Формула, кажущаяся тавтологией, показывает, что „non aliud“ не есть субстанция, а принцип сравнения и отличия, при помощи которого что-либо только становится «чем-то» конкретным. Итак, этот принцип выше и прежде всякого другого, онтологического или логического, определения. Он должен предшествовать даже трансцендентному «единому» Платона, ведь и это «единое» – понятие. В этом пункте заключается переворот, совершенный Кузанцем в традиции неоплатонизма: онтологический примат «единого», ведущий к непреодолимому дуализму, резко разграничивающему абсолют и область существительного. Виллер объясняет, что надо отличить „aliud“ (’άλλο) от „alterum“ (‘έτερου), первое обозначает двойство (unus / primus– alter; т.е. единое / первое – другое), второе – что-нибудь неопределенное, инаковость. О понятии „alterum“ (‘έτερου) идет речь у Платона в диалоге «Софист» (Кузанец не знал этого сочинения, Wyller, „Henologische Perspektiven“, 514), а у Кузанского – в трактате „De coniecturis“ («О предположениях»); „aliud“ (’άλλο) трактуется в «Пармениде» Платона и «О не ином» Кузанского. См. об этом подробнее: Wyller, „Henologische Perspektiven“, 502–503. 426 Немецкий перевод формулы в новом издании (из еще неопубликованных материалов к новому немецкому изданию «О не ином») звучит: „Nichts anderes ist nichts anderes als nichts anderes“; см. также Wyller, „Henologische Perspektiven“, 501. 427 В переводе 30-х годов формула слегка изменена и более приближена к латинскому образцу: «неиное есть не иное, чем неиное.» (Перевод «О неином» Лосева // Николай Кузанский, Сочинения в двух томах, Том 2 (М. 1980), 486). 428 „Der Ausdruck, der im Zentrum der Einführung bei Cusanus steht, ist aber keineswegs derjenige, welcher hier mit ‚Das Nicht-andere’ übersetzt ist, sondern genau das ‚nichts anderes’. An dieser deutschen Übersetzung wird klar, daß das ‚non aliud’ mehr als ein Begriff ist. Die Substantivierung ‚Das Nicht-Andere’ versucht, das ‚non aliud’ als Begriff zu behandeln, aber dadurch wird es zu etwas anderem als dem reinen ‚nichts anderes’ des Cusanus. Nur das ‚nichts anderes’ enthält die begriffskonstituierende und begriffsverbindende Seite. Diese auf Überbegriffliches verweisende Seite entzieht sich auch einer ontologisierenden Beschreibung; diese hingegen möchte man, durchaus mit Cusanus, aber für den Gottesnamen gerne beanspruchen.“ (Schwaetzer, „Einführung in die Schrift und Einordnung ins Gesamtwerk“; из еще неопубликованных материалов к новому немецкому изданию «О не ином»). „Im Gegensatz zu den Elementen, die an der Subjektstelle im Satz auftreten, eignet der Formel damit ein ausschließlich prozessualer Charakter. Indem man den Blick auf ihn lenkt, macht man sich etwas bewußt, was im Normalfall nicht Gegenstand des Denkens ist: der reine Vollzug jenseits der Begriffe. Wenn man den Vollzug selbst zum Begriff macht, so büßt er seinen Vollzugscharakter ein. Insofern ist das „Non-aliud“ an der Subjektstelle immer uneigentlich oder, cusanisch gesagt, aenigmatisch in Bezug auf die Formel.“ (Schwaetzer, „Thematische Note: Nonaliud“, из еще неопубликованных материалов к новому немецкому изданию «О не ином»). 190 знания, заменяется гносеологическим приматом принципа сравнения и отличия, снимающим, со своей стороны, дуализм.429 «Не иное» вытесняет платоновское «единое» и заступает на его место430, а не является, как это показывает Лосев, лишь его «силой». «Не иное» обосновывает единство бытия и знания: без «не иного» ничего нет. Тем не менее, трансцендентность Бога при этом сохраняется, не создавая дуализма 431. Бог не становится имманентен миру, потому что Он Сам не проявляется в содержании мира. Но Он гарантирует возможность истинного познания, так как «не иное» сопровождает каждый акт восприятия и познания в качестве его, не замеченной первоосновы. «Не иное» есть то – обычно бессознательно – «со-знаваемое» сознания432 и является тем, за которым «охотится»433 всякий «искатель мудрости», философ, даже не зная об этом: «Это — тайна, которой нет подобия.»434 Кузанский делает эту мысль наглядной при помощи образа радуги: «не иное» подобно свету, остающемуся невидимым для глаз, но вызывающему все цвета радуги. Свет выявляется в цветах, не становясь идентичным с ними, так что все цвета – символы света, который невидимо видится в них.435 Применяя эту мысль к анализу формулы, “Quamvis appareat te per li non-aliud videre principium essendi et cognoscendi” (“De non aliud”, Cap. 3, 8). См. о подчинении «единого» «не иному»: “Nicolaus: Quamvis unum propinquum admodum ad non-aliud videatur, quando quidem omne aut unum dicatur aut aliud, ita quod unum quasi non-aliud appareat, nihilominus tamen unum, cum nihil aliud quam unum sit, aliud est ab ipso non-aliud. Igitur non-aliud est simplicius uno, cum ab ipso non-aliud habeat, quod sit unum; et non e converso. Enimvero quidam theologi unum pro non-aliud accipientes ipsum unum ante contradictionem perspexerunt, quemadmodum in Platonis Parmenide legitur atque in Areopagita Dionysio. Tamen, cum unum sit aliud a non uno, nequaquam dirigit in primum omnium principium, quod sive ab alio sive a nihilo aliud esse non potest, quod item nulli est contrarium, ut inferius videbis. / Eodem modo de ente considera; nam etsi in ipso non-aliud clare videatur elucere, cum eorum, quae sunt, aliud ab aliquo minime videatur: tamen ipsum non-aliud praecedit.” (“De non aliud”, Cap. 4, 13-14). Ср. Wyller, „Henologische Perspektiven“, 501, 571-2: „Aber die Bestimmung non aliud eröffnet uns, meint Cusanus, eine größere Einsicht in das Wesen Gottes als irgendein anderer Begriff in der Philosophiegeschichte, der platonische Begriff ‚das Eine’ miteingeschlossen.“ „(...) daß der Begriff das Nicht-Andere (...) eine radikale Erneuerung des platonischen Einheitsdenkens besagt, insofern als das höchste Prinzip dieser Tradition, das Eine, durch die Negation seines Gegensatzes ersetzt wird.“ 431 Ср. „So deutet der abstrakte Grundbegriff non aliud des Cusaners in zwei Richtungen auf einmal. Sein Element non deutet in negative Richtung gegen den Urgrund oder Gott; sein Element aliud deutet in positive Richtung gegen den Funktionszusammenhang, der die Welt ist. Der zusammengehaltene Begriff drückt zu gleicher Zeit Transzendenz und Immanenz, maximum absolutum und maximum contractum aus“ (Wyller, „Henologische Perspektiven“, 507). „Die Nicht-Andersheit, mithin, steht, als Konstituenz, oberhalb der von ihr konstituierten Selbigkeit von Denken und Sein“ (там же 524). 432 „Das übersehene Moment ist auf der sprachlichen Ebene das ‚nichts anderes’ als Gelenkstück der Definition. Geht man von der sprachlichen auf die gedankliche Ebene über, so zeigt sich das Übersehen des sprachlichen Ausdrucks „non aliud“ als Änigma dafür, daß in der Definition der Denkvollzug selbst das ist, dessen man nicht gewärtig ist – das ist des Cusanus sehr modern anmutende These. [...] läßt sich bemerken, daß ‚nichts anderes’ in gleicher Weise die Identität eines jeden anderen Begriffs mit sich selbst garantiert. Wenn aber ‚nichts anderes’ alle Begriffe so konstitutiert, dann folgt daraus, daß alle in ihrer eigenen Weise vom ‚nichts anderes’ her stammen.“ (Schwaetzer, „Einführung in die Schrift und Einordnung ins Gesamtwerk“; из еще неопубликованных материалов к новому немецкому изданию «О не ином»). 433 «Охота» есть одна из любимых метафор философского мышления у Кузанского, см., например, в нашем трактате гл. 1,3; 18,84; 19,88. 434 „(…) quod est secretum, cuius non est simile”, “De non aliud”, Cap. 8, 115) в переводе Лосева (Николай Кузанский, Сочинения, Том 2, 243). 435 “Id vero, quod ante aliud videtur, non est aliud. Lux igitur illa, cum sit ipsum non-aliud et non lux nominabilis, in sensibili lucet lumine. Sed sensibilis lux visui comparata sensibili ita sese habere aliqualiter concipitur, sicut lux, quae non-aliud, ad omnia quae mente videri queunt. Visum autem sensibilem absque luce sensibili nihil videre experimur, et visibilem colorem non esse nisi sensibilis lucis terminationem sive definitionem, ut iris ostendit; et ita sensibilis lux principium est essendi et visibile sensibile cognoscendi. Ita quidem conicimus principium essendi esse 429 430 191 можно сказать, что благодаря принципу «не иного» (свет) определяется все «иное» (цвета), но «не иное» не становится иным («не иное есть не иное»). «Не иное» присутствует в каждом акте сознания, как в цветах свет воспринимается, не будучи ими. Все «иное» (цвета) – символы «не иного» (света), т.е. указывает на свой источник. Есть источник, начало (невидимый свет), из которого выходит все (цвета), что по сути равно себе, и это все указывает на свой источник: из единства следует равенство всего, что связано с началом (unitas, aequalitas, nexus436). Это выражено формулой: «Не иное есть не иное, чем не иное». Кузанский не излагает формулу по принципу линейности и нарастания, как считает Лосев, а подчеркивает ее кругообразное построение, при чем этот круг (связь) содержит в себе и точку (начало) и линию (равенство)437. Все три образа в своей основе едины, но формально они упорядочены: единство предшествует равенству, а равенство – связи, так что в круг с точкой по середине вписан как бы еще и треугольник. Таким образом, формула «не иного» заключает в себе мистические символы Бога: единство равенство связь 2.7. «Не иное» как Логос В формуле «не иного» второй член имеет особое значение, потому что именно он раскрывает сверхпонятийный смысл, превращающий суждение в «самоопределяющееся определение». Итак, «равенство» есть то начало познания, которое в качестве «не иного» невидимо предшествует всему (т.е. оно – единство) и одновременно проявляется во всем et principium cognoscendi.” (“De non aliud”, Cap. 2, 8). “Bene nunc quidem clareque mente vides ipsum non-aliud in omni cognitione praesupponi et cognosci, neque quod cognoscitur ab ipso aliud esse, sed esse ipsum incognitum, quod in cognito cognite relucescit, sicut solis claritas sensibiliter invisibilis in iridis coloribus visibilibus visibiliter relucet varie in varia nube.” (“De non aliud”, Cap. 8, 31). 436 Эту формулу, созданную Св. Августином в качестве характеристики Св. Троицы, Кузанец уже употребляет в „De docta ignorantiae“ (см. Wilpert, Einführung, S. XV). 437 Догмат „filioque“, разграничивающий Западную и Восточную Церкви, лежит в основе этой формулы. – См. о тернаре, обозначащем Троицу: „Qui vero unitatem, aequalitatem et nexum Trinitatem nuncupant, propius accederent, si termini illi sacris in litteris reperirentur inserti; sunt enim hii, in quibus non-aliud clare relucescit; nam in unitate, quae indistinctionem a se dicit et ab alio distinctionem, profecto non-aliud cernitur. Ita et in aequalitate sese manifestat et nexu consideranti. Adhuc simplicius hii termini: hoc, id et idem lucidius praecisiusque non-aliud imitantur, sed minus sunt in usu. Sic itaque patet in non aliud et non aliud atque non aliud, licet minime usitatum sit, unitrinum principium clarissime revelari supra omnem tamen nostram apprehensionem atque capacitatem. Quando enim primum principium ipsum se definit per non-aliud significatum, in eo definitivo motu de non alio non aliud oritur atque de non alio et non alio exorto in non alio concluditur definitio, quae contemplans clarius, quam dici possit, intuebitur.” („De non aliud“, Cap. 5, 19). 192 (т.е. оно – связь): в нем пересекаются бытие и познание. Оно соединяет абсолютную трансцендентность с ее же имманентностью.438 Согласно этому Кузанец пишет, что Сын Божий есть «путь»439 к Невидимому Отцу. С одной стороны, «не иное» ведет к истинному познанию мира, а с другой, когда человек обращает внимание на эту скрытую, в каждом акте сознания присутствующую способность познания и восприятия, она осознается «абсолютным понятием»440, которое видится невидимо в каждом конкретном понятии. «Самомышление мысли» делает невидимо видимым триединого Бога. Троица как бы – обычно незамеченно – «со-видится». Таким образом, «не иное» обеспечивает истинное познание. Единство бытия и познания обосновывается не при помощи онтологического примата «Единого», а гносеологическим принципом «не иного». Сам процесс со-знания, узнаваемый как таковой в самомыслящемся мышлении, становится мистическим видением Бога441, точнее, его второй ипостаси, Сына Божия или Логоса, а в Нем – Отца. Само исполнение акта мышления, символом которого является формула «не иного», есть Логос, реально присутствующий в человеке. Через Него все познается, а в Нем Самом – Тот, Кто есть источник всего, так что все оказывается Его символом. Другими словами: познание коренится в «не ином» (Логос), в котором дано бытие (Отец) и который ведет к видению невидимого в видимом (Дух). Трактат усиленно логически построен для того, чтобы подтолкнуть читателя к самому процессу мышления и обратить его внимание на мистический аспект этого акта, в котором можно найти сам Логос, ведущий к видению Бога во всем. «О не ином» написан в качестве «руководства» к познанию Троицы („directio speculantis“)442: 1.) Отца как начала и источника бытия («не иное») 2.) Сына в акте «логического» познания («есть не иное») 3.) Святого Духа в познании того, что все есть символ Бога («чем не иное».) «О не ином» является «логическим» трактатом в двойном смысле: Логос одновременно есть и тема, и методика диалогов. „Ille spirituum spiritus est, cum omnis spiritus non aliud quam spiritus sit; ille spiritus non nisi in spiritu seu mente in veritate conspicitur. Solus enim ille rationalis creaturae spiritus, quae mens dicitur, veritatem potest intueri. In ipsa autem veritate videt spiritum, qui est spiritus veritatis qui quidem omnia veraciter efficit id esse, quod sunt. Et sicut ipsum videt, ita etiam ipsum adorat, in spiritu scilicet et veritate. “ („De non aliud“, Cap. 24, 111). См. также: „… this verbal symbol [the Not Other; H.S.] express both the transcendence and the immanence of the infinite God” (C.L.Miller, „Reading Cusanus”, 189, fn. 12). 439 „De non aliud“, Cap. 2, 7. Слова «путь» и «истина», связанные с Новым Заветом, ссылаются на Христа, ср. также гл. 22, 102. 440 „Verum ante conceptum non-aliud est, quando quidem conceptus non aliud quam conceptus est. Vocetur igitur ipsum non-aliud conceptus absolutus, qui videtur quidem mente, ceterum non concipitur. “ (Cap. 20, 94). См. также гл. 22, 103; 23, 104. 441 „Wer das Denken als reines, aktuales und prozessuales Denken änigmatisch erblickt, macht die Erfahrung des unsichtbaren Gottes, der eben auch wiederum in dieser Erfahrung notwendig unsichtbar bleiben muß.“ (Schwaetzer, „Einführung in die Schrift und Einordnung ins Gesamtwerk“; из еще неопубликованных материалов к новому немецкому изданию «О не ином»). 442 См. гл. 24, 113. 438 193 4. «Смерть абсолюта» или «христианская философия»? Мозельский кардинал обосновывает при помощи формулы «не иного» монизм, характеризуемый не диалектикой, а тринитаризмом. Он стремился к преодолению платонического дуализма443 гносеологическим способом, ведущим к новому роду мистического опыта, отличающегося от неоплатонической и ареопагитской традиций. Как бы «чуя» эту «дикую» новизну у Кузанского, Лосев одновременно как игнорирует ее в своем изложении трактата, так и заранее полемизирует с ней. В конце своей статьи он замечает, что логика не способна доказать существование Бога, потому что бытие можно только ощущать, и утверждает, что религиозное начало должно быть совершенно независимо от логического принципа.444 Согласно с этим, «единое» является у него онтологической первопредпосылкой всего и он пытается присоединить к такой позиции и мысль Кузанца. Но Кузанец и не думал доказывать существование Бога в «О не ином», а стремился к понятию Бога, начиная с обоснования истинного познания. Ведь его трактат открывается вопросом: «Как возможно знание?»445 Само познание, однако, оказывается мистическим переживанием и видением Бога, т.е. религиозным «опытом», к которому ведет логика. Почему же Лосев затемняет это «логизирование» кардинала, придающее философии глубоко христианский характер, и, кроме того, еще и эксплицитно отмежевывается от нее? В своем более позднем творчестве Лосев ясно указывает на те особенности в мысли Кузанского, позволяющие считать его представителем Нового времени. Он описывает их как признаки процесса, подготавливающего отрицание божественного «Абсолюта» и «абсолютизирование» человека как творца и бога. В антропологической христологии Кузанского он почувствовал опасность обожествления человека и начало «трагедии умирания абсолюта»446. Потеряв связь с космосом, человек приходит к темным сторонам Нового времени (атеизм, материализм, и т.п.). Виллер называет этот род дуализма «хенологическим различием» («henologische Differenz» zwischen dem „sagbaren Sein und dem unsagbaren Einen über dem Sein“; Wyller, „Henologische Perspektiven“, 533). 444 «Но вот вопрос: есть ли это какое-нибудь доказательство бытия Божия? Я думаю, что ни Божество, ни вообще какой-нибудь действительный факт совершенно недоказуем. Никакого факта нельзя ни доказать, ни опровергнуть, если на это не уполномочивает реальный опыт. Нельзя доказать существование Бога, если нет у человека реального опыта, доставляющего ему то или иное религиозное знание. Равным образом нельзя и опровергнуть бытие Божие, если у человека имеется реальное восприятие этого предмета. Что значит доказать или опровергнуть? Это значит воспользоваться мыслью, рассудком. Но может ли рассудок, один голый рассудок разобраться в действительности, если нет живого опыта этой действительности?» (ИК). 445 «Abs te igitur in primis quaero: quid est quod nos apprime facit scire?» („De non aliud“, Cap. 1, 3). 446 Лосев, «Николай Кузанский и антично-средневековая диалектика», 337. Ср.: «Можно сказать, что, начиная с Византии, абсолют медленно, но совершенно постоянно и неуклонно тощает и худеет, передавая свое могущество тому или иному виду самого инобытия» (там же, 336). «Значит, и человеческая личность тоже есть абсолют, единственный и неповторимый (как и сам абсолют), хотя каждый раз оригинальный и специфический, здесь у Николая Кузанского тоже виртуозное балансирование на философско-эстетическом 443 194 Интерпретацию Лосева можно понять исходя из мысли, что только признание онтологического абсолюта, остающегося полностью недоступным для познания, т.е., выражаясь теологически, примат веры над знанием, может предохранить человека от духовной смерти. В соответствии с этим, он должен был отрицать концепцию Кузанского, стремящегося к спиритуализации самого человеческого интеллекта и соединению гносеологического индивидуализма с онтологическим универсализмом. В своем истолковании трактата «О неином» Лосев пытается – наверное, сам не вполне осознавая это – «реплатонизировать» и таким образом подспудно поправить немецкого мыслителя, затемняя начало пути, казавшегося Лосеву опасным и ложным. и культурно-историческом острие. Малейший шаг вперед – и средневековый онтологический универсализм начнет безвозвратно разрушаться и превращаться в абсолютизирование не самого объективного абсолюта, но человеческой личности уже в отрыве от средневекового универсализма» (Лосев, «Эстетика возрождения». М. 1978; 21982. 316). 195 V. Россия и русская культура: между Средневековьем и Новым временем. Е.Г. Мещерина (Москва) Духовно-нравственные проблемы и «внешнее любомудрие» в произведениях Андрея и Семена Денисовых: традиции Средневековья в контексте культуры XVIII века. Обращение современных исследователей к старообрядческой традиции имеет основанием не только вполне понятное стремление к полноте картины культурного развития России, но и сам феномен старообрядческой культуры. П.Я. Чаадаев называл «вопрос раскольников» самым важным вопросом своего времени,447 подчеркивая тем самым не только влияние православия на особенности российского менталитета, но и то, что церковная трагедия раскола имеет очень серьезные последствия для духовнонравственной и интеллектуальной жизни России. Неизбежно возвращение к периоду раскола для отечественных и зарубежных ученых, занимающихся историей православия. Канадский профессор Д.В. Поспеловский так оценивает это трагическое время: «Почти все боголюбцы ушли к старообрядцам, - готовые на смерть за Истину, как они ее понимали, а таких в любом обществе, даже церковном, всегда меньшинство».448 Неоспоримо то, что старообрядцы выполнили важнейшую культурную функцию сохранения национального культурного достояния: средневековой книжности, иконописания, знаменного распева, духовных стихов, эпической поэзии, литейного искусства, народных промыслов. Ставшая периферийной, но связанная с корневой системой русской духовной жизни, старообрядческая традиция в литературе, иконописи, богослужебном пении, с одной стороны, сохраняет средневековый канон, а с другой, по велению времени и обстоятельств, развивает и изменяет его. Изменения связаны с усвоением пришедших в Россию вместе с культурой барокко и Просвещения художественно-эстетических, риторических, жанровых приемов и форм, которые способны не только донести, но и усилить воздействие духовно-нравственных постулатов Средневековья, вписать охраняемую традицию в современный контекст. При этом следует подчеркнуть, что эстетика барокко, которой в XVII веке на Руси придавалось политическое значение, в XVIII веке воспринимается совместно с идеологией Просвещения уже не как средство борьбы с традициями Средневековья, а как «внешняя премудрость». В этом смысле показательно обращение Андрея Денисова к молодым писателям: «Уже нам российских архиереов и философов никакою ревностию не поворотити будет в свое состояние /…/, но спасая кииждо из нас до спасет душю свою. А к ним с почтением да отвещеваем /…/ ибо 447 448 Чаадаев П.Я. Избранные сочинения и письма. М., 1991, с.213. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995, с. 16. 196 не научити их сим хотящее, но точию себе оным доставити желаем в благоспасительный покой».449 Сам термин «старообрядческая культура» при всем его давно устоявшемся употреблении требует некоторого уточнения. Важная черта «древлеправославной» традиции – зависимость от церковного, богословского и шире – культурно-исторического противостояния, выраженного, по определению А.М. Панченко, в оппозиции «культурыверы» и «культуры-образования». Еще одна важная особенность – различие многих течений внутри староверия после официального осуждения традиционных духовных устоев как светской, так и церковной властью. Известно, что вплоть до настоящего времени существует несколько старообрядческих церквей, возникших много позже главного разделения – на согласие «не приемлющих священства» и согласие «священство приемлющих». Несмотря на дробление старообрядческих согласий (по вопросам молитвы за царя, возможности брака, «надписании на кресте Христовом» и др.), можно говорить о едином феномене старообрядческой культуры в таких областях, как литература, философия, иконопись, знаменное пение, духовные стихи. Хотя внутри искусства книгописания или иконописи выделяются различные почерки и даже школы. Например, «поморский пошиб» и поморский книжный орнамент, Невьянская, Ветковская, Новозыбковская иконописные школы. Влияние культуры барокко на старообрядческую иконопись можно проследить на примере практически каждой из школ. «Европейское барокко повлияло на широкое распространение архитектурных «фонов» в ветковских иконах XVIII-XX вв. Но в отличие от возрожденческого «миросозерцания без Богосозерцания», здесь Богосозерцание не утрачено. У старообрядцев не было перерождения иконы в религиозную картину, т.е. в отрицание образа, как это часто было в господствующей Церкви Синодального периода».450 В богословско-философской плоскости старообрядческая культура демонстрирует способность средневекового сознания к полемике, к усвоению того фундаментального положения схоластического богословия, согласно которому спорить следует на языке оппонента. К этому необходимо добавить, что старообрядческая иконопись, пение и особенно литературные и философские сочинения указывают на возможный путь развития русской средневековой культуры – путь без насильственного сокрушения традиционных основ. В данном плане особенно показателен XVIII век как время относительно спокойного существования старообрядческой традиции и ее носителей вдали от центров культурной жизни. Дореволюционные исследователи «раскола» для См. Понырко Н.В. Эстетические позиции писателей Выговской литературной школы. //Книжные центры Древней Руси. XVII век. С.-Птб., 1994, с. 110. 450 Гребенюк Т.Е. Художественное своеобразие Ветковских икон. Технико-технологический аспект. //Мир старообрядчества. Вып. 4. Живые традиции: Результаты и перспективы комплексных исследований. Материалы международной научной конференции. М., 1998, с. 388. 449 197 характеристики этого периода вводят такие важные, на наш взгляд, понятия, как «внутренняя (самостоятельная) жизнь» староверов и «ученый раскол». Первое понятие характеризует ту возможность сосредоточения на устройстве собственной жизни и на решении важных для самого существования старообрядчества теоретических и практических задач, которую, как известно, получили приверженцы старой веры в эпоху правления Петра Первого. Печально знаменитые 12 статей царевны Софьи, отличавшиеся необычайной даже для того времени строгостью к последователям «древлего благочестия»451, окончательно перестали действовать с момента признания староверия de jure452, что означало законность его открытого существования. С этого времени начинается внутренняя, самостоятельная жизнь старообрядчества, которое до этого в течение почти полувека вело жизнь оборонительную, внешнюю. По словам историков, «доколе не покидала раскол надежда» восстановить себя в качестве церкви, пока раскол в лице своих вождей находил лучшим для своих целей со всею, «свойственною простоте, откровенностью, искренностью и даже запальчивостью» протестовать и бороться в Москве, в Москве сосредоточивалась его жизнь, этой апелляцией и борьбой были заняты все его силы. Вступление Петра Великого в самостоятельное управление государством «поистине было эпохою в жизни раскола»: в то самое время, как раскол почувствовал со всею силой внутреннюю необходимость жизни самобытной, Петр, дав новое направление государственной жизни, новый исход государственной силе, открыл ему внешнюю, физическую возможность заняться самим собою.453 Понятие «ученый раскол» возникает у авторов, изучающих обширное богословскополемическое, философское и литературно-историческое наследие литераторов знаменитой Выговской Поморской пустыни (1694-1854 гг.) и прежде всего, ее создателей и устроителей – братьев Андрея (1674-1730) и Семена (1682-1741) Денисовых. О том, что Выговская пустынь была центром старообрядческой культуры XVIII века говорит то, что именно сюда в августе 1722 г. Св. Синод «определил послать» «увещателя» Неофита, снабдив его обстоятельной инструкцией о 17-ти пунктах. «Неофит остановился в Петрозаводске и, вызвав из Скита Старцев для разглагольствия о Вере, вручил им от себя 106 Вопросов, на кои чрез полгода уже они написали и представили ему целую книгу своих Ответов».454 Это были знаменитые «Поморские ответы», составленные Андреем и Семеном Денисовыми и Трифоном Петровым. О том, чтобы ответы «были достойны Выга» «велие попечение» имел, прежде всего, сам Андрей, который не только «прилагал Этими постановлениями предписывалось «казнить смертию расколоучителей, хотя бы они и покаялись». – См. Православное обозрение. 1865 г., т. №17 (май), с. 23. 452 Речь идет об известном экономическом решении Петром проблемы борьбы со староверами – о «положении их под двойной подушный оклад». – там же. 453 Барсов Н. Братья Андрей и Семен Денисовы. // Православное обозрение. 1865 г., т.№17 (май), с.29-30. 454 Митрополит Евгений (Болховитинов). Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина Греко-Российской Церкви. М., 1995, с. 226. 451 198 труды к трудам нощеденно», но и утверждал написанное «соборне»455. В ученом мире это произведение известно не только как вершина развития старообрядческой мысли, но и как высокий образец полемического богословия. По словам Н. Барсова, Андрей Денисов дал поморцам такое богословие, «которое надолго обезопасило и укрыло их со стороны правительства. Петр Великий был вполне удовлетворен «Поморскими ответами»»456. Косвенное, но неоспоримое признание высокого статуса «ученого раскола» его официальными оппонентами содержится уже в самом парадоксальном соединении сетования по поводу «осквернения» князем Мышецким457 (назвавшийся купцом Андрей Денисов) Киевской духовной академии своим присутствием с указанием на то, что выбор князя способствовал «громкой славе коллегии»458 как учебного заведения, превосходящего все существующие. В Киевской духовной академии Андрей Денисов, с ранней юности изучавший святоотеческие творения и древнерусских философов, завершил свое образование, вполне освоив современные науки – риторику, грамматику, логику, пиитику, философию. В результате «собеседник царского двора и высоких особ» Андрей Денисов «получил высшее тогдашнее образование», о чем свидетельствует его переписка с царевной Софьей459, ученицей Симеона Полоцкого, и «славным ритором своего времени» Феофаном Прокоповичем, который неоднократно собственноручными письмами приглашал его к себе «на собеседование».460 О судьбе и характере сочинений Андрея Денисова (насчитывают 119 или даже более 183 его произведений461), из которых доступны современной науке очень немногие, сохранилось следующее рассуждение из словаря Павла Любопытного. «Были прекрасные послания к местным пастырям и благочестивым мужам о назидании Христова стада и благолепия церкви. Тоже были его послания занимательные, живые, любопытством и красноречием дышащие к царским лицам, великим вельможам и архипастырям внешней церкви, никонианам. Впрочем, к сожалению ученых, все они погибли то от лютости пожаров, то от грубого невежества, то от тиранизма».462 Разнообразие жанров сочинений братьев Денисовых: рукописи догматические, апологетические и исторические, проповеди, надгробные слова, письма, слова«увещания» и обращения, - вполне соответствовало духу времени. Но для превращения разрозненных староверческих поселений в признанный современниками религиозный См. Любомиров П.Г. Виноград Российский. Репр. 1924 г. М., 1992, с. 60. Барсов Н. Братья Андрей и Семен Денисовы.//Православное обозрение. 1865 г. т. 17 (май), с. 44. 457 По свидетельству биографов братьев Денисовых, они происходили от новгородского князя Б.А. Мышецкого, который во время правления Шуйского оставил свои вотчины и скрылся с сыном Иваном в заонежских Поморских лесах по причине нежелания целовать крест «за чужестранных кралей». 458 Из раскольничьих рукописей.// Труды Киевской Духовной Академии. 1865 г. т. 3, №№9-12, с. 141. 459 Барсов Е. Семен Денисов Вторушин, предводитель русского раскола 18 века. // Труды Киевской Духовной Академии. Киев, 1866, февраль (№2), с. 184. 460 Усов П.С. Помор-философ.// Исторический вестник. 1886 г., т.24, №4 (апрель), с. 159. 461 См. Шахов М.О. Денисовы. //Русская философия: Словарь. М., 1995, с. 137. 462 Цит по: Усов П.С. Помор-философ. //Исторический вестник. 1886 г., т. 24, №4 (апрель), с. 158. 455 456 199 центр, оставивший яркий след в русской культуре и искусстве, особую роль сыграла проповедь. Исследователи выделяют в наследии Денисовых такие виды проповедей: догматические (о вере, ангелах, царстве антихриста); нравоучительные (поучения о молитве, покаянии, чистоте, целомудрии и других аскетических добродетелях); панегирические (например, слово похвальное святителю Николе чудотворцу, святым Зосиме и Савватию, слова на христианские праздники – Сретение Господне, Рождество Христово и др.); надгробные, из которых упоминаются слова пред гробом брата Дамиана, Димитрия и Алексея нижегородских и самое известное, доступное для исследования – слово надгробное памяти Выговского екклесиарха Петра Прокопиевича Мышецкого. Это слово содержит помимо родословной князей Мышецких весьма внушительную историческую часть, посвященную происхождению и трудностям становления Выговской пустыни, которая как «малая речка» «истече от источника великаго, Соловецкия преподобных отец и мирских молитвенников Зосимы и Савватия обители, яко благословением, тако чином и уставом образом сицевым». 463 Присутствие истории, четкое обозначение исторических вех и событий – характерная черта старообрядческого литературного наследия независимо от жанра. Хорошо продуманный и ясно очерченный исторический ракурс сообщает даже небольшим сочинениям эпическое звучание. Получивший новую жизнь в Выговской пустыни жанр христианской проповеди наиболее ярко демонстрирует органическое соединение святоотеческого предания, средневековой нравственности, аскетических традиций православия с новыми правилами построения текста, подчиненного законам «риторического художества». Занятый нравственными проблемами монастырского устройства обители (в 1729 г. число выговцев составляло 12448 человек) Андрей опирается, прежде всего, на труды великих подвижников, основателей первых монастырей на Руси и скитничества, восходящих, в свою очередь, к знаменитой «Лествице» Иоанна Синийского. Возвышенная тема «Небесной Лествицы», возводящей человека по ступеням болезненного преодоления своей греховной природы к совершенству, представленная образом самой Богородицы – «Живой Лествицы», соединяющей Небо и Землю, проходит через всю древнерусскую культуру: книжность, иконопись, знаменное пение. Наука и искусство аскетической жизни находит продолжение в проповедях Андрея Денисова, приобретая новые черты в соответствии с задачами устройства общежительства, существующими спорами и Слово надгробное блаженныя памяти боголюбивому Выго-пустыннаго общежительства Екклесиарху Петру Прокопиевичу; сочинено того же общества господином Киновиархом Андреем Дионисиевичем. //Русская старина. 1879 г. т. 26, №11 (ноябрь), с.529. 463 200 разногласиями и конечно, с самим духом времени, требующим новых форм и содержательных акцентов. Традиционная проблема природы человека, с этическим и эстетическим совершенством раскрытая исихастами, приобретает в трудах Денисовых диалектическую и философскую постановку – как проблема человеческого ничтожества и человеческого величия. Именно в русле этого противостояния разворачивается и главная тема аскетической литературы - преодоление греховности, причем в аргументацию проповеди включаются примеры «эллинской мудрости». «Мудр ли еси, но не Соломон, красноречив ли, но не Платон, праведен ли, но не Авраам, свят ли, но не ангел /…/». 464 Вместе с тем духовно-нравственное начало сочинений Андрея Денисова, прозванного почитателями «вторым Златоустом», по оценке современников, вполне соответствовало духу святоотеческих творений. Сохранилось предание о том, что когда учитель Андрея – ректор Киевской академии прочел в качестве образца составленную Денисовым проповедь своим студентам, они посчитали ее произведением «какого-нибудь древнего отца».465 Действительно, идеалом Денисовых были те «искусные мужи», «могущии очистованне и благосложне о всех по тонку написати». Темы проповедей Андрея о покаянии, о сердечном сокрушении, смирении, молитве, посте – традиционно аскетические и опираются на творения Феодосия Печерского, Кирилла Туровского, Нила Сорского. Выговскому настоятелю была близка практическая направленность обращений Феодосия, под которой следует понимать проведение духовных требований в повседневную жизнь, в формы поведения и взаимоотношений. Феодосию Печерскому принадлежит раскрытие нравственного учения применительно к монашескому быту. Иерархическая лестница монашеских добродетелей выстраивается им соответственно строгому Студийскому уставу. Первой ступенью духовной жизни инока Феодосий считает всецелое отречение от мира, под которым понимается греховная жизнь «по плоти», а не само мироздание или человечество. Далее идут нестяжание, чистота, постничество, смирение, терпение, покаяние. 466 Феодосий учил братию ходить с согбенными на персех руками, не иметь в келиях никакой собственности, спешить к началу службы и, входя в церковь, петь «Святый Боже», после чего класть три земных поклона. Кроме того, Студийский устав учил «прилежать» к церковному пению (именно преподобный Феодосий считается устроителем певческого дела на Руси), преданьям отеческим и книжному труду, выдвигал требование религиозного самообразования и взаимного обучения иноков. Цит. по: Барсов Е. Андрей Денисов Вторушин как Выгорецкий проповедник. //Труды КДА. 1867 г. (апрель), с. 84. 465 Е. Барсов. Андрей Денисов Вторушин, как Выгорецкий проповедник.//Труды КДА. 1867 г. (февраль), с.244. 466 Памятники древнерусской церковно-учительской литературы. Вып. 1. СПб., 1894, с. 29. 464 201 С целью утверждения монашеской жизни в обители выговские проповедники также уделяют особое внимание самым распространенным грехам – чревоугодию, сребролюбию и гордости. Для увещевания Андрей Денисов избирает форму проповедиобращения, построенную в виде предполагаемого диалога «великого и пресветлого Царя и неблагодарныя Его рабы», или Творца и твари. «К сребролюбцу глаголет Господь: «Сребро возлюбил еси, человече, паче царствия Моего и благая мира сего паче славы Моея. Вопрошаю убо тя, можеши ли сребром своим от смерти и от ада избавитися или не можеши? Аще убо сребро от смерти душу твою спасет, не имей инаго Бога разве серебра…»467 Бог предлагает сребролюбцу наполнить сокровищами ковчеги и даже, по его желанию, превратить в золото камни и деревья, травы и цветы, чтобы насытить очи алчущего богатства. Среди аргументов, изобличающих жадность – напоминание о том, что взять с собой после смерти человек свое богатство не может и, что стыдно роскошествовать, когда «братии твоя гладом тают, жаждою изсыхают, наготою померзают.»»468 Весьма красноречиво звучит слово Царя к сластолюбцу и чревоугоднику, где объединяются элементы древнерусского стиля «плетения словес» с риторическими приемами. «Забыл еси, окаянне, праотца своего Адама горькую сласть, еюже из краснаго рая на терновую сию землю и из блаженныя свободы в окаянную свободу окаянно пришел еси.. Забыл еси рай и печешися о обедах и вечерях, не твориши слова о жизни вечной, но едино мыслиши, како несытый свой гортань насладити /…/ Не довлеет ти хлеб и вода, но многовидныя готовиши сласти. Аще любиши чрево свое, почто многими брашны отягощаеши? Почто болезньми облагаеши утробу, егда безмерно насыщься, многократно на одре превращаешься и сладкаго сна не приемлеши; спиши убо с трудом, ходиши с трудом, сидиши и почиваеши с трудом.»469 Выговский устав, разработанный Денисовыми по образцу монастырских, включал следующие требования. Богомоление, соборное и келейное. Время молений в двунадесятые праздники – до 7-8 часов. Все братство должно было ежедневно обязательно присутствовать на соборной службе. С первым ударом колокола, по два в ряд шли в часовню и становились на своих местах «юные, иже от мира приходили», которыми «полняшеся» общежительство. За ними шли бельцы в послушническом и монастырском одеянии и также располагались на определенных местах. После всех в церковь являлись «дряхлые старцы и схимники», одетые в старинное монашеское платье, с лестовками и костылями в руках. Определен был и самый образ молений, указано было, в каком положении держать руки, ноги, глаза, как и когда и какие класть поклоны – малые ли, или великие, или средние. В соответствии с древнеаскетической практикой относительно Цит. по: Барсов Е. Андрей Денисов Вторушин, как Выгорецкий проповедник.//Труды КДА. 1867 г. (апрель). Киев, 1867, с. 83. 468 Цит. по: там же, с. 83-84. 469 Цит. по: там же. 467 202 молитвы Исусовой предписывалось: «молитва, яко дыхание с тобою да не разлучается никогдаже».470 Обязательны были пост, нестяжание, целомудрие, трудоделание. Согласно Выговскому уставу, «легчайше насыпати в пазуху углей горящих и сожещи тело свое, нежели сладостные и телесные ясти, распаляющие человека ко всем страстям паче огня горящаго».471 Праздность опасна появлением нечистых мыслей. Поэтому «после трапезы не дерзай абие на отдых, но почти книги хотя листов пять». Прямые соответствия правилам Выговского устава о борьбе с чревоугодием, чистоте жизни, необходимости для монаха чтения и пения псалмов можно найти в сочинениях Симеона Нового Богослова 472 и в Уставе о скитской жизни Нила Сорского. «Понеже мнози, не удержавшие чрева, впадоша в страсти безчестия и сквернения неизглаголанный ров»473. В отличие от древних уставов, Выговский позволял в часы, свободные от работы и молитвы, не только пение и чтение псалмов, но и пение «старческих и духовных стихов». Известно также, что сюда впоследствии входила переложенная на ноты знаменитая ода М.В. Ломоносова «Утреннее размышление о Божием величестве». Творчество Денисовых как образец глубокого усвоения современной им риторической науки предоставляет возможность подойти к их произведениям со стороны художественной формы. Комментаторы «ради научной объективности» отмечают «удачное и нередко художественное сочетание образа и мысли», наличие мест «довольно картинных», подобий и сравнений очень удачных, при свойственном проповедям Денисовых в целом «схоластико-диалектического» характера.474 Принципы катафатического богословия проявляются в последовательности, связности изложения, в следовании правилам формальной логики и ораторского искусства. В духе Просвещения в проповедях Андрея Денисова «серьезная мысль всюду берет перевес над чувством», налицо стремление выполнить «идеальные требования тогдашней риторики», что, по мнению Е. Барсова, стало причиной заметной искусственности их построения.475 Идеологи Просвещения, как известно, выдвигали требование дидактики, явного назидания в литературе, живописи, театре. В проповеди, имеющей по самой сути своего происхождения моральное значение, выговские философы выделяют уже в духе времени «нравственные приложения», которые помещались, как правило, в конце речи. Кроме того, для доказательства духовно-нравственного положения приводились свидетельства «от истории», «от древних», а также притчи, гномы, свидетельства «от слытия», «от См. Барсов Е. Семен Денисов Вторушин, предводитель русского раскола 18 века. //Труды КДА. 1866 г. (июнь). Киев, 1866, с.174-175. 471 Цит. по указ соч., с. 176. 472 Три слова преподобнаго отца нашего Симеона Новаго Богослова, игумена и ресвитера бывшаго от ограды святаго Маманта. М., 1852, с.12. 473 Предание о жительстве скитском преподобнаго Нила Сорского. Репр. Изд. М., 1997, с.120. 474 См., напр, Барсов Е. Андрей Денисов Вторушин…//Труды КДА. 1867 г. (февраль), с. 249, 250, 246. 475 Барсов Е. Указ. соч., с. 246 470 203 закона», «от суждения» и др. Так, в проповеди о скоротечности человеческой жизни Андрей Денисов использует аргумент «от истории». «Ксерокс, царь персидский, осматривая свои многочисленные войска и корабли, отправлявшиеся в поход против Эллады, вместо того, чтобы придти в восторг от своей могучей силы, вдруг облился горькими слезами. Кая вина твоего необычнаго плача? – спросил военачальник своего монарха. О, коль кратко житие человеческое! – отвечал тот. От толь многочисленнаго воинства, от толика множества людей, ихже ныне вижу пред собою, егда сто лет времени прейдет, ни единаго человека в живых не будет.»476 Свидетельство «от древних», подтверждающее ту же мысль выглядит следующим образом: «Един дивный философ к вопросившим о количестве ея (жизни), дивным изображением указа: обратився лицем к ним, паки скорейши вспять отвратися, зело краткую краткость времени сим изъявляя…».477 С помощью тех же риторических приемов раскрывается другая сторона проблемы человеческого ничтожества и величия. Аргументация в пользу величия человека по природе и благодати выглядит также весьма поэтично и картинно. Что касается формальной стороны, то здесь присутствует аргументация «от суждения», где рассматриваются различные мнения о человеке, и «от слытия», где приводятся пословицы и поговорки. Весьма оригинальны свидетельства «от мучения», объясняющие, что человек может ставить в мучительное положение самого дьявола, и «от зависти», согласно которому дьявол, по собственному признанию, завидует участи человека. Возвеличивает человека доказательство «от закона», развивающее мысль о том, что сами законы происходят от человеческого сердца и блещут красотой его ума. Говоря о величии человека по природе, Андрей Денисов использует античное учение о человеке как микрокосме и «очень искусно проводит параллель между ним и великим миром Божиим».478 Примечательно то, что выговский философ одним из первых в русской литературе использует греческие названия человека ανφρωπος и μικροκοσμος, разъясняя при этом, как это принято у старообрядцев, их значение. К теме величия человека по природе и благодати следует отнести также известные надгробные слова, где об умерших говорится возвышенно, в связи с исполнением заповедей, служением Богу, проходящим в великих трудностях, преодоление которых говорит о величии человеческой души и вызывает глубокое почтение. «/…/потаися от нас церковнаго благолепия торжественник; скрыся от нашею очию любезный боголюбия ревнитель; умолча язык Цит. по: указ соч., с. 247-248. Цит. по: указ. соч., с. 248. 478 См. указ. соч., с.249. 476 477 204 сладость слова Божия точащий; зайде сладкий нашего зрения свет; скончася в скорбное сие время раб божий Петр, бодрый служитель церковный.»479 Не будет преувеличением сказать, что по сочинениям Денисовых можно составить себе представление об особенностях отечественного риторического искусства, некоторые законы которого вполне актуальны. Большая часть их проповедей начинается своеобразным предисловием или приступом – или от сравнения, или от случая, или от недоумения. Затем следуют тема, определение, названия частей и «знаменование имен», род и вид, уподобление и неуподобление и т.п. Сохранившиеся материалы дают основание утверждать, что Выговские проповедники прекрасно владели голосом, разнообразными интонациями, мимикой, телодвижением и использовали все эти приемы по требованию смысла и существа «сказуемой вещи и дела». Сохранило свое значение для нашего времени такое качество проповедей Андрея Денисова: во время своей речи он никогда не «рассеивался», но все свое внимание мужественно сосредоточивал на главном ее предмете, «и от сего никогда не шатался по стремнинам глас его». Как во всей своей жизни, так и в своих проповедях Андрей «всегда непременно обнаруживал пристойность и рассуждение в рассмотрении обстояния: си есть разсуждая себе самого, слышателей, время, место и художество глаголания, такожде и знаменования вещей, о которых слово надлежит».480 Перечисленные достоинства имеют особое значение при импровизации, которая в эпоху Средневековья, как известно, была основной формой существования не только проповеди, но и искусства поэзии и музыки. Большинство формальных положений «риторического художества» были успешно забыты уже к началу XIX века, что объясняет недовольство Е.В. Барсова, разбирающего рукописи выгорецких писателей. Он говорит об утомительности «узористых и фигурных слов», о перегруженности текста бесконечными метафорами и синекдохами, маталепсисами и катархезами. Все это не снижает культурной ценности литературнофилософского наследия Выговской школы, а напротив, указывает также на его историческое и филологическое значение. Строгое следование правилам и формам логики и диалектики соединялось в творчестве Денисовых со стремлением к «украшенному» стилю барокко. Подобно светским литераторам, Андрей Денисов иногда использовал сложные словосочетания и им самим составленные понятия: «краткожительство» или «житослучай». Тяжеловесная образность присутствует при обращении к особо почитаемым в старообрядческой среде апостолу Павлу («златокованая труба», «медоточный язык», «духонастроенный сосуд») и Слово надгробное блаженныя памяти боголюбивому Выго-пустыннаго общежительства Екклесиарху Петру Прокопиевичу; сочинено того же общества господином Киновиархом Андреем Дионисиевичем. //Русская старина. Т. 26. 1879 г. №11 (ноябрь), с.524. 480 См. Барсов Е. Андрей Денисов Вторушин…//Труды КДА. 1867 (апрель). Киев, 1867, с. 93, 95. 479 205 Иоанну Дамаскину («краснопесновая духа цевница», «всеблагодатная, добросочетанная гусль»). В тогдашней риторике к приемам, создающим «цветистость» относились эмвлеваты – «образные загадочные выражения». Мастером таких литературных изысков (за что его иногда упрекали) был Семен Денисов, который считал необходимым «позлатить свои проповеди всепрекрасными фигурами, окружить предивными периодами, обнизать и усладить аффекты пресладкими и преизмечтанны тропосы красноплетенными»481. Отрывок из благодарственного слова выговцам, молившимся об освобождении Семена из заключения, в котором его содержал митрополит новгородский Иов, представляет один из образцов такого стиля. «Отеческий соборе, и христолюбивый и братолюбивый сонм! За ваши преболезненныя подвиги и многолетныя труды кия прекрасныя цветы изобрящу? Которая увезения исплету, которыми венцы венчаю? /…/славлю пребогатство вашей любви, обогатившей мя свобождением, целую подвиги, облегчившия моих злых тягость; лобызаю слезы, изврачевавшие моих скорбных лютость; целую молитвы, умилостивившыя моего Владыку и Бога».482 Сокровенное любви богатство Семен сравнивает с «премножеством златозарных диадим», заключенных в двух драгоценных сосудах – земном (труды, посты, обращения в царствующий дом и к сильным мира сего) и небесном, содержащем «пресветлыя каменья» - молитвы к Богу, воздыхания ко всем святым, «слезы и плачи текущия», что «паче златоструйного Нила». В духе изощренного витийства, соединенного с правилом «знаменования» или определения, Семен говорит о таком фундаментальном устое духовной жизни человека, как надежда. «Надежда есть неведамаго богатства богатство /…/ всепресветлые маргариты, грязью скорбей не оскверняющеся»483. Что касается сохранения в данном контексте средневековой традиции, то помимо рассмотренных выше темы совершенствования человеческой природы, содержательной стороны и структуры Выговского устава, она присутствует в текстах, подчас в модифицированном под влиянием риторических требований виде. Прежде всего, это отдельные части проповеди под рубрикой «от писания». Сюда же относится использование церковно-славянского языка, а также множество выражений из церковных богослужебных книг и старинных сборников. Часто встречаются перефразировки слов митрополита Илариона, Феодосия Печерского, Кирилла Туровского, Иосифа Волоцкого, Максима Грека о человеке, о «книжной сладости». Слова Денисовых о книгах и уме напоминают известное сетование Кирилла по поводу несовершенства человеческого ума, который со всей его «хитростью» несопоставим с неизреченным смыслом священных Цит. по: Барсов Е. Андрей Денисов Вторушин…//Труды КДА. 1867 г. (февраль), с. 249. Цит. по: Барсов Е. Семен Денисов Вторушин…//Труды КДА. 1866 г. (февраль), с. 226. 483 Цит. по: Барсов Е. Семен Денисов Вторушин…//Труды КДА. 1866 г. (июнь), с. 218. 481 482 206 книг. «Аще бо в глубину божиих книг внидох, но грубым языком ума просты изношю глас.»484 В «Слове о вере», которое является ответвлением главной темы - ничтожности и временности человека и величия его души, данной ему Богом, Андрей Денисов строит свое рассуждение «от текста» - «праведник от веры жив будет», но при этом вкладывает ее в уста пророка. Свидетельство «от текста» дополняется словами «сладчайшего из риторов» Иоанна Златоуста, где через веру определяется сама церковь, которая «есть не стены и покров, но вера и житие»485. Душа, не имеющая веры, лишается благодатного воздействия «якоже облаком мрачным, аер застановившим», как земля лишается «солнечных сладких лучей». В полемике со Стефаном Яворским и новгородским митрополитом Иовом об антихристе Андрей использует принятое у средневековых авторов цитирование, понимая под антихристом «религиозные смуты и антицерковный дух». Отстаивая свою точку зрения, согласно которой антихрист давно уже царствует, он не столько говорит сам, «сколько заставляет от себя говорить других»486. При этом важно отметить, что цитирование святоотеческой литературы иногда в духе риторства имело характер «позлащения», то есть пусть и важного, но украшения. Примером содержательного использования средневековой традиции может служить обращение Семена Денисова к житиям святых для ответа тем из братии, кто осуждал его бегство из монастырской тюрьмы487. «Да прорекут убо и дивнаго онаго ефесскаго Марка, давшего злато стражем и бежавшаго неправеднаго суда папина. Да оглагольствуют чудотворца Николу, избавившаго преподобнаго Петра из темницы.»488 В отличие от сочинений Андрея, произведения Семена не только более эмоциональны и «изящно преукрашены» (именно Семен готовил к праздникам и церемониям, которые устраивал Андрей, велеричивые и торжественные речи), они имеют и несколько иную содержательную направленность. Идея величия человека по благодати предстает в его творениях как грандиозное трагическое полотно неимоверных, превышающих человеческие силы, страданий. Теме мученичества за веру в связи с историей России посвящены его главные произведения – «Виноград Российский» и «История о отцех и страдальцах Соловецких», поражающая своими описаниями жестокого разорения Соловецкого монастыря даже современного искушенного читателя. Глубоко усвоенные с помощью старшего брата и обучения в Москве и Киеве пиитика и риторика мастерски использовались Семеном при передаче глубокой личной Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского.//ТОДРЛ. Т. XII. М.-Л., 1956, с. 354. Цит. по: Барсов Е. Андрей Денисов…// Труда КДА. 1867 г. (февраль), с. 260. 486 См. Барсов Е. Указ. соч., с. 251. 487 Несмотря на хлопоты старшего брата, покровительство и заступничество влиятельных особ (напр., А. Меньшикова), Семен провел в заточении в Новгороде целых 4 года, после чего «освободил себя сам», в ночь на праздник Рождества Богородицы бежав из тюрьмы вместе с охранявшим его солдатом. 488 Цит. по: Барсов Е. Семен Денисов…//Труды КДА. 1866 г. ( февраль), с. 225. 484 485 207 скорби в надгробных речах, тяготеющих по своей эмоциональной наполненности к плачам. На тонкой диалектической игре построена надгробная речь Семена над умершим Данилой Викуловым, первым насельником и киновиархом Выгорецкой пустыни. «Горе мне в сокрушении моем, строптива язва моя /…/ О нашея досады лютая рана лютее сердце режет, а гортань вопити не может. Велика печаль вельми ум колеблет, а язык ко вещанию не отверзается/…/ И того ради вянут руце и погребальные приготовляти не могут /…/ Падает на дно гортани язык, и слову послужити не может.»489 Слова о неизбежности страдания современники вложили в уста самого умирающего Семена, благословляющего Ивана Филиппова на настоятельство: «мужественно страждя до смерти, сирот бедных не дай в расхищение и попрание неверным и гонителем, умирай с ними за благочестие, последуй древним отцем».490 Величие человека в произведениях Семена доказывается, если использовать рубрикацию свидетельств, «от страдания», в котором проявляется его духовная сила. «Не устыдились изможденного постом отеческого тела неимущие стыда мучители, не пощадили старческой плоти, укрепленной святыми подвигами, не имеющие ни капли милосердия. Но все части тела преподобного, все суставы праведного, жестоко раздробив, растерзали, превратили в лохмотья. Но не сломили величественного мужества, не растерзали прекрасного благочестия».491 Следует подчеркнуть стилевые особенности «Истории о отцех и страдальцах Соловецких», отличающие его от характера повествования «камерных» или малых творений Семена Денисова. На место говорящей о сложности чувств и переживаний барочной цветистости в «Истории» появляется соответствующий масштабу исторических событий эпический слог. Благодаря великолепному владению словом, автор живописует картины произошедшей трагедии, характеры, лица, мучения, предательство и одновременно высоту человеческого духа. «История» имеет превосходно выстроенную структуру. Вступление, обозначающее цель повествования как долг перед подвигом Соловецкой обители; раздел, посвященный истории возникновения монастыря, где говорится не только о его уставе, устройстве, но прежде всего, о его духовной основе – деятельности святых Савватия и Зосимы и их многочисленных последователей. Это преподобный Андрей, который «58 лет пустынноуединением господеви работал», знаменитый Елеазар Анзерский, высказавший пророчество о патриархе Никоне, «началоводителе новостей», Иоанн юродивый, предсказавший разорение обители от «иноверцев и царева воинства». Далее следует часть, где описываются события, связанные с началом церковной реформы: собор, Цит. по: Барсов Е. Семен Денисов…//Труды КДА. 1866 г. (июнь), с. 196. Цит. по: Барсов Е. Семен Денисов…//Труды КДА. 1866 г. (июль), с. 291. 491 Сказание об отце Вавиле. Переложение со славянского языка из сочинения «Виноград Российский» Симеона Дионисьевича князя Мышецкого, киновиарха Выговского общежительства. // Старообрядческий поморский церковный календарь на 1994 г., с. 50. 489 490 208 подтвердивший «новины»; поведение Никанора, игумена Соловецкого, твердый отказ иноков служить по исправленным книгам. В этой части кратко, но тщщательно описанные факты выстраиваются таким образом, что читатель чувствует приближение катастрофы – разорения последнего оплота «древлего благочестия», описанию которого посвящена следующая часть. Страшная картина уничтожения некогда цветущей, прославленной в истории обители продолжена автором в перечислении имен страдальцев и их мучений. Заключение повествования содержит обличение новшеств, искажающих святоотеческие уставы и послуживших причиной трагического разделения русской церкви. В «Истории» особенно ярко проявляются все стороны дарования Семена Денисова, соединенного с блестящей образованностью. Логическая последовательность переплетается с глубоким чувством, философские размышления – с риторическими тонкостями и проработкой деталей. Благодаря этим талантливо исполненным сочетаниям автор убеждает и в необходимости жертвы во имя истины, и в ее красоте. В каждом разделе, в зависимости от главной его цели превалирует особый тон: повествовательный в исторической части, эмоциональный и скорбный – при описании кровавой гибели монастыря, уверенно-спокойный и твердый – в полемическом заключении. Вместе с тем общий тон книги Денисова можно считать взволнованным, обращенным, прежде всего, к чувству. Это впечатление создается благодаря ярким фактам из жизни и гибели отдельных людей. Например, в исторической части говорится об одном брате, который, исповедуясь перед кончиной, поведал, что «келейнаго правила вперед на тридесятолетное время наполни». Семен упоминает блаженного Гурия, «иже в хлебнице жительствуя и в хлебопекарную пещь по извлечении хлебов в нестерпимый зной вхождаше» и затворив печь, «яко в прохладе некоем стояше, поклоны и молитвы богови приношая»492. Перед началом описания разорения обители автор развивает тему готовности к страданию за «неущербленное православие», приводя текст из челобитной соловецких иноков к Алексею Михайловичу. Соловецкие старцы, говоря о непреклонности своего выбора, выражают готовность «не токмо нужды и скорби радостне терпети: но и кроволиянием и главоположением своим святых печатати уставы». 493 Во время дебатов соловецких иноков с царской властью важную роль играл соборный старец Герасим Фирсов, «муж яко святых писаний, тако и внешнем наказании зело искусна суща», который и стал образцом для братьев Денисовых. Зная о талантах и образованности старца, «его же власти духовнии до самодержца не допустиша», но на пути в Москву, «яко Филиппа задушиша». Выявляя причины жестокости возглавлявших осаду воевод, некоторых церковных деятелей и самого патриарха, Семен указывает на страх как источник необъяснимой 492 493 Денисов С. История о отцех и страдальцах Соловецких. Супрасль, 1788, с. 11, 15. Там же, с. 23. 209 злобы по отношению к защитникам старины. На фоне всеобщего страха, не смеющих бороться и «настоящего жития оплевавше красоту», исполняется жертвенная миссия соловецких иноков. Пафосные описания избравших страдания за веру уравновешиваются философскими раздумьями о подвиге и предательстве. «Но понеже случается домом великим от домашних развращатися, случается и исполином храбрым от приближенных умерщвятися, случается градом крепким и непреоборимым от своих соплеменник предаватися»,- так начинается рассказ о причине падения монастыря – предательстве монаха Феоктиста, указавшего лаз в крепостной стене. Рассказ о страшных зверствах, превосходящих лютость врагов Христа в первые века существования христианства, включает тяжело воспринимаемые подробности о мучениях на лютом морозе, отсечении рук и ног, распятиях и т.п. Такова «кровавая и богонеугодная жертва» за сохранение православия, таков путь к святости. Лед под телами мучеников весной и летом, сохраняя их под лучами солнца, оставался неповрежденным, «яко камень крепкий, адамант нерушимый» и «святость телес лежащих, паче трубы всем проповедая».494 Сочинение Семена Денисова создает образ Соловецкой Голгофы. Как известно, после разорения прославленный монастырь так больше и не поднялся, став, в основном, местом ссылки и заключения, а в советское время – местом уничтожения огромного количества верующих людей и церковнослужителей, среди которых называют о. Павла Флоренского. Распространение произведений Денисовых было столь широким, что о них знали даже за пределами России. Огромное влияние Выговской литературной школы на старообрядчество, ее полемические успехи и высокий научно-образовательный авторитет вызвали раздраженное замечание Е.В. Барсова о том, что «школа Денисовых» - это «целый орден русских иезуитов»495. В русской культуре рубежа веков и XX века обращение к старообрядчеству связано именно с темой страдания и трагической судьбой России. Известный интерес к старообрядчеству Серебряного века русской культуры приобретает указанные очертания в творчестве М. Волошина. Его книга «Неопалимая купина» тесно связана со статьей «Россия распятая», где дается творческая история ряда стихотворений сборника. Поэма «Протопоп Аввакум», представляющая собой поэтический перевод знаменитого «Жития» лидера староверия, отрывков из его писем, выделена в особый раздел книги наряду с такими, как «Война», «Пламена Парижа», «Пути России» и др. В поэме Волошина Аввакум становится не только воплощением стихии огня, его образ приобретает символический смысл, раскрывающий судьбу самой России. Сильна ты нездешней мерой,/ Нездешней страстью чиста,/ Неутоленною верой/ Твои запеклись 494 495 Там же, с. 75-79. См. Барсов Е. Семен Денисов…// Труды КДА. 1866 г. (июнь), с. 230 210 уста./ Дай слов за тебя молиться,/ Понять твое бытие,/ Твоей тоске причаститься,/ Сгореть во имя твое. (Россия).496 Символом страдания, превышающего человеческие силы, сопротивления злу в нечеловеческих условиях стал образ протопопа Аввакума для одного и самых трагических писателей нашего времени Варлама Шаламова. Его стихотворение «Аввакум в Пустозерске» соединяет в себе личное переживание, трагедию лагерной жизни, которая требует «терпенья и мудрости скал», с глубоким пониманием сути появления старообрядчества. Нам рушили веру/ В дела старины,/ Без чести, без меры,/ Без всякой вины…Сурового Бога/ Гремели слова:/ Страдания много,/ Но церковь – жива. Известные шаламовские строки о памяти принадлежат именно этому стихотворению, в котором автор говорит от имени своего героя – протопопа Аввакума - о смысле жертвы и страдания: Пускай я осмеян/ И предан костру,/ Пусть прах мой развеян/ На горном ветру./ Нет участи слаще,/ Желанней конца,/ Чем пепел, стучащий / В людские сердца.497 496 497 Волошин М.А. Стихотворения. Статьи. Воспоминания современников. М., 1991, с. 96. Шаламов В. Несколько моих жизней: Проза. Поэзия, Эссе. М., 1996, с. 400. 211 Т.В. Чумакова (Санкт-Петербург) Этика и антропология Феофана Прокоповича Платон Червяковский, первый исследователь, всерьез занявшийся изучением богословия Феофана Прокоповича писал: «Феофан Прокопович такая богатая личность, что для изучения ее, по справедливому замечанию одного современного писателя, не достанет целой жизни человека. Это не только потому, что деятельность его была чрезвычайно многостороння498, но и потому, что слишком разнородны и разнообразны были те условия и влияния, среди которых он вырос, воспитывался и действовал»499. Личность самого Феофана весьма неоднозначна и эклектична, а богословы при оценке его творчества часто приходят к полярно противоположным оценкам. Одни видят в нем протестанта, православного рядящегося богослова, в одежды влияние православного протестантизма священнослужителя; у которого другие объяснялось необходимостью антикатолической пропаганды, и выражалось «лишь в очень тонких и неуловимых оттенках рассуждений, которые при нападениях на чистоту его православия он каждый раз свободно и легко объяснял в чисто православном духе»500. Для его взглядов в целом был характерен синкретизм, из направлений, которые были близки Феофану, можно выделить августинизм и янсенизм (особенно учение о свободе воли и благодати). Все это в полной мере отразилось на антропологии Прокоповича, и в частности, на его морально-этических взглядах. Одним из важнейших элементов христианской религиозности является нравственная составляющая. В православии и католицизме этический компонент представлен нравственным богословием, что несколько замедлило развитие этики в этих традициях, как науки философской. Моральная философия в России определяется в самостоятельную отрасль философского знания лишь к концу XVII-XVIII столетия, когда в восточнославянской мысли появляются первые понятийно-структурированные философские системы501. Их отсутствие в ранний период объясняется не только тем, что «Эта многосторонность, как легко убедиться всякому, знакомому с исследование г. Чистовича, не исчерпывается известными похвальными стихами в честь Феофана Прокоповича, напечатанными в «Ученых ведомостях» 1777: Великого Петра дел славных проповедник, Витийством златоуст, муз чистых собеседник, Историк, богослов, мудрец российских стран, Таков был пастырь стад словесных Феофан». Примечание П. Червяковского. Цит. по Червяковский П. Введение в богословие Феофана Прокоповича // Христианское чтение. Январь-февраль 1876. с. 32. 499 Червяковский П. Введение в богословие Феофана Прокоповича // Христианское чтение. Январь-февраль 1876. с. 32 – 33. 500 Знаменский П.В. История русской церкви. М., 1996. С. 252 – 253. 501 См. Стратий Я.М., Литвинов В.Д., Андрушко В.А. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской Академии. Киев, 1982; Vucinich A. Science in Russian Culture. A History to 1860. L., 1965. P. 10-37. 498 212 учение о нравственности развивалось преимущественно в рамках религиозной мысли, но также отчасти синкретизмом русской средневековой культуры, в которой не было жесткого разделения между сферами духовного, а также отсутствием школьной традиции502, формирование которой началось лишь в XVII веке503. Моральная составляющая этих традиций с одной стороны представляется практическим элементом, поскольку нравственное поведение воспринимается, прежде всего, в русле «добрых дел» и является необходимым в деле спасения. Но с другой стороны, и в той и в другой традиции существует учение о том, каков был человек до грехопадения, в котором доказывается, что высокая духовность и мораль – неотъемлемое свойство человека, сотворенного Богом «по образу и подобию». Не отрицая наличия нравственной составляющей в культуре дохристианского периода, надо сказать, что христианство, несомненно, усилило нравственную доминанту восточнославянской культуры504. Новое моральное мировоззрение обусловило особое восприятие жизни. Не только человеческие отношения, но и другие феномены тварного мира, как земного, так и небесного, стали восприниматься через призму религиозной морали. Первые тексты этического содержания стали известны восточным славянам с принятием христианства. Это были, во-первых, всевозможные сборники библейских текстов, сборники притч, тексты Псалтыри, Притчей Соломоновых и Премудрости Соломона, писания отцов церкви, входившие в состав сборников дидактического и просветительского характера - Изборников, из которых наиболее выделяются «Изборник 1073 г.» и «Изборник 1076 г.». Основой для многих древнерусских поучений стали компиляции, представлявшие собой справочники по вопросам христианской морали: «Пандекты» Антиоха (VII в.) и составленные в подражание им «Пандекты» Никона Черногорца (XI в.)505. Но наиболее популярны были «Измарагды», содержащие не только поучения «како жить» «крестьяном» и монахам, но и пронизанные заботой о нищих и бездомных: «Лежа в твръде храме и слыша дъждя шум, помысли о сиротах, како ныне каплями дождя устремляеми»506. Необходимость добродетельной жизни в большинстве слов этого сборника объясняется быстротечностью человеческой жизни и неотвратимостью расплаты: «Житье се маловременное, аки скоро угасающии светилник, и аки скоро отпадающии цвет и аки напрасно сохнущия трава и скоро скончавающееся О роли школьной традиции в древнерусской мысли см. подробнее Буланин Д.М. Античные традиции в древнерусской литературе Х1-ХУ1 вв. Munchen, 1993. 503 О первых древнерусских школах см. Харлампович К. Ртищевская школа // Богословский вестник. 1913. Май; Просвещение и педагогическая мысль Древней Руси: Сб. научн. тр./ Отв. ред. Э.Д.Днепров. М., 1983. 504 Об этом мы отчасти можем судить по правовым памятникам, относящимся к области обычного права, таким, как «Правда Русская», составление которых началось явно в дохристианский период. Моральноэтические понятия («честь») можно обнаружить лишь в поздних редакциях этого памятника. 505 Подробнее о переводной древнерусской литературе см. Буланин Д.М. Древняя Русь// История русской переводной художественной литературы. Т.1/ Отв. ред. Левин Ю.Д. СПб., 1995.С.17-73. 506 Цит. по изд. Архангельский А.С. Творения отцов церкви в древней русской письменности. Ч.IV. Казань, 1890. С.14. 502 213 естьство... День в богатстве, а утро в гробе»507. Значительную роль в становлении практической морали играли нормативные правовые сборники: «Номоканон»508, «Мерило праведное»509 («Весы правосудия», первый список XII в.) и известные на Руси с XII в. «Кормчие», куда переписчики добавили тексты восточнославянского происхождения. Одним из наиболее почитаемых и любимых на Руси сборников афоризмов и изречений, флорилегиев была «Пчела» («Мелисса»). Впервые появившаяся в домонгольскую эпоху, она постоянно переписывалась на Руси, начиная с XI по XVII вв. «Пчела» содержала изречения не только отцов церкви, но и античных философов: Демокрита, Аристотеля, Диогена, Пифагора. Основная тема всех афоризмов и высказываний - человек, его нравственный мир, проблемы добра и зла, добродетели и порока, правды, мудрости. Нравственная проблематика затрагивается во многих изречениях этого сборника. Нельзя утверждать, что в «Пчеле» содержится целостное учение о нравственной природе человека, но вообщем «Пчела» оценивает человеческую природу («естество») как добрую, видя причину поведения человека в его повседневной жизни («обычае»). Мудрость трактуется авторами «Пчелы» в этическом смысле, поскольку проявляется она в делах и поступках человека. Учитель мудрости учит не только «словом», но и «нравом» своим. Средневековые мыслители, вынуждаемые соотносить все свои дела с высшей целью человеческого существования - спасением, обнаруживали во всех явлениях природы морально-религиозный смысл и стремились подвергнуть моральной интерпретации природные феномены, которые оборачивались символами добродетелей и пороков. Привычка к морально-этическому восприятию мира вырабатывалась благодаря сборникам притч, таким как «Физиолог»510. Важную роль в формировании нравственного контекста древнерусской культуры играла христианская концепция самосовершенствования человека с целью восстановления утраченного из-за грехопадения богоподобия. С этой концепцией было тесно связано космологическое обоснование морали, согласно которому первыми Богом были сотворены «разумные существа» - ангелы. Ангелы, сотворенные по образу Божию (образ Божий у ангелов состоит в разумности), были наделены самовластием, но «не по существу, но волею» («по существу» или «по естеству» самовластен лишь человек). И это самовластие стало для части ангелов причиной гордыни. Гордыня и повлекла за собой Там же. С.25. См. Павлов А. Первоначальный славяно-русский Номоканон. Казань, 1869. 509 Описание «Мерила праведного» см. Правда Русская. Т.1. М.-Л., 1940. С.89-99; Милов Л.В. Из истории древнерусской книжной письменности XIV века (палеографические наблюдения)// Вестник Московского университета. История, 1963. №3. См. также Зализняк А.А. «Мерило праведное» XIV века как акцентологический источник. Munchen, 1990. 510 См.подробнее Физиолог/ Подг.изд.Е.И.Ванеева. СПб., 1996. 507 508 214 падение ангелов: «И за гордость - тма бысть»511. Согласно апокрифам, и после падения Cатаны и его воинства («отступника спадша с отступными силами»), «место истощися». И для того, чтобы заполнить прореху в мироздании «помысли Бог человека два создати в их место». Рассказ о падении Сатаны (Денницы) средневековые мыслители использовали для рассуждения о природе зла. Рассматривая зло как недостаток добра, они не видели в нем онтологической основы: «Не существо же есть злоба... но лишение добродетели»512. Зло рассматривалось как искажение доброй природы мироздания. При этом книжники опирались на книгу Бытия513, в которой зло прямо связывается с тремя вещами: с познанием, (Быт. 2; 9, 17; 3, 5, 22), со смертью (Быт. 2, 17) и с женщиной (Быт. 2; 17). В свою очередь все они связаны с грехопадением, до которого человек не старился, «древо животное име». «Никоего тления, ниже скорби на всем телесе» его не было, и «нигося не бояхся внешняго повреждения, ни внутренняго страха знах, величайшее имех в плоти моей сдравие, и в душе мир совершенный». Бог вложил в душу человека способность отличать зло от добра и стремление к совершенству, об этом свидетельствует строение человеческой души. Поэтому древнерусские книжники уделяли столь значительное место учению о душе, которая подобно Богу, который «животворит и устрояет» весь мир, «оживотворяет» человеческую плоть. Вбирая в себя все богатство образов мира: «в человеческом жительстве мнози образы зрятся: ов словесни, ов зверский, ов скотский и инаковы образы. Ов же паки превосходительный, божественный»514, человек отличен от всех. Его сущность не ангельская, хотя с ангелами человека роднит бесплотная и бессмертная душа, но и не животная, поскольку хотя животные и одарены «душею живою», природа их души иная. Животная душа неразумна, это «оживотворенная кровь». Эта душа видимая и «с плотию умирая». Человеческая же душа, «бесплотная и невидимая», бессмертна, и в отличие от всех иных душ обладает свободой действий («самовластием»), впрочем «самовластие» присуще человеческой душе лишь до тех пор, пока она находится в единстве с телом. Тело делает душу реальной. Без тела ее возможности находятся лишь в потенции. Разум дает возможность душе различать добро и зло. Именно разумность души по мнению древнерусских книжников, следующих каппадокийской традиции, ставит человека над Цит. по Панич Т.В. «Шестоднев» Афанасия Холмогорского // Христианство и церковь в России феодального периода (материалы). / Отв. ред. Н.Н. Покровский. Новосибирск, 1989. Л.18 об. 512 Цит. по Панич Т.В. «Шестоднев» Афанасия Холмогорского // Христианство и церковь в России феодального периода (материалы). / Отв. ред.Н.Н.Покровский. Новосибирск, 1989. Л.19. 513 О теме зла в Книге Бытия см. Мочалова В. Зло в мире: от апокрифа к аггаде // От Бытия к Исходу. Отражение библейских сюжетов в славянской и еврейской народной культуре. Сб. Ст. Вып. 2. М., 1998. С. 91 – 110. 514 Панич Т.В. Указ. соч. 511 215 миром и делает его «образом Божиим»515. Душа, согласно этой концепции, трехчастна (по образу Св.Троицы): «Та душа трии частии есть, рекше силы имать три: словесное, и яростное и желанное». Это учение о душе было развито каппадокийцами, так Василий Великий различал три силы души: разумную, раздражительную (аффективную), пожелательную. Взгляды Григория Богослова на душевные способности человека почти совпадают с концепцией Василия Великого, он считал, что у души есть «три коня»: господствующая сила - разум, аффект и пожелательная сила.516 Две части души - «яростное» и «желательное», появляются вследствие «самовластия» души, они «случайные части... ими же бо человек уклоняется в добро и зло», и после «разлучения душе от тела»517 они исчезают. Древнерусскими книжниками выше всех душевных частей ставилась словесная (разумная) часть, поскольку она «старее и выше всех есть». Словесная часть помогает человеку с помощью разума приблизиться к Богу, но может и погрузить его в неведомые бездны, подобно падшим ангелам и их предводителю Деньнице (Люциферу)518. Благодаря яростной части души, способной воспринимать страдание, исцеляется от душевных недугов с помощью страданий телесная часть человека: «Сие яростная часть души страсть исцеляет»519. Но «яростная» часть, обладающая животной силой, могущей оборачиваться добром или злом, нуждается в руководстве. Идея о «ярости» («гневе») как «охранителе разума» («негодование ко злу») была воспринята христианскими аскетами и мыслителями у Платона («Государство»). Этико-психологические рассуждения древнерусских книжников о значении «гнева» близки точке зрения Григория Богослова о значении для добродетели «природной горячности и великости духа»520, а также Василия Великого, который говорил, что гнев, это «нерв души», возбуждающий в ней силу. Но во всем нужна мера, иначе добродетель может обернуться пороком521. На нижней ступени иерархии душевных частей стоит «желанная» часть (воля). «Желанная» часть интуитивно стремится к благу, поскольку обладает добродетелью: «Третие же желанное, иже добродетель убо имееть, еже к Богу...имети желание...и о оном промышляти просвещении, от него же сиание бывает божие». Однако именно воля может стать источником отказа человека от добродетельной жизни, и поэтому ее необходимо контролировать. Воля («похотная часть ума») исцеляется «любовью душевной». «Образ Божий» в древнерусской традиции трактуется двояко, как духовный и как телесный. В частности запрет Стоглавого собора на бритье бород был связан с пониманием человеческого телесного образа как отражения образа Христа. 516 Григорий Богослов. Творения. Т.4. М., 1846. 517 Цит. по Панич Т.В. «Шестоднев» Афанасия Холмогорского // Христианство и церковь в России феодального периода (материалы)/ Отв. ред. Н.Н.Покровский. Новосибирск, 1989. 518 См. Ис.14, 12-14. 519 Цит. по Послания старца Артемия// РИБ. Т.4. СПб., 1878. Стб.1298. 520 Григорий Богослов. Творения. Т.3. М., 1845. С.136. 521 Подробнее см. Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Т.1. Этико-богословское исследование. СПб., 1907 515 216 Думается, что объединяющим понятием для христиан любых конфессий является понятие любви, любви к Богу, любви к миру и к человеку. Симеон Новый Богослов писал: “Многочисленны ее (любви) названия, многочисленны действия, еще более многочисленны признаки, божественны и бесчисленны ее свойства, но природа у нее одна и одинаково скрыта тайной от всех... Смысл ее непостижим, она вечна”. Как и многие другие категории522 древнерусской мысли, категория любви своим богатством и сложностью во многом обязана византийской традиции, как впрочем, и само стремительное развитие древнерусской культуры в конце X - начале XI вв. было теснейшим образом связано с принятием христианства. Многогоранность средневекового восточнохристианского учения о любви основывается во многом на представлении о единстве потока жизни, имевшем важное значение для формирования отечественной моральной философии. Византинизм “оправдания жизни” оказался очень близок молодой нации, весь дохристианский опыт которой говорил о неразрывной связи макро- и микрокосма, о единстве жизни духовной и телесной. Христианство это вовсе не отрицало, поскольку христианская аскеза в принципе свободна от безотчетного неприятия мирской жизни. Этот момент был усилен в византийской цивилизации с характерным для нее целостным восприятием всех видов деятельности человека как элементов единого духовного и материального опыта. При этом преодолевалось характерное для античного мира противопоставление природы () и результатов деятельности (). Поэтому столь характерным для древнерусского восприятия человеческой природы было ощущение её вневременной и внепространственной связи с космической природой Вселенной. Особенно ярко этот момент проявлялся в описаниях не познавшего греха человека, чья природа (“естество”) виделась изоморфной природе мира, поскольку не познавший греха человек не отличает себя от остального “чудного”, сотворенного Богом мира. Состояние первоначальной гармонии предполагает и единства духа и тела в самом человеке: “Сотворил убо Бог человека чистаго, без злости, простаго, силнаго, благодарнаго, безпечалнаго, всякими добродетелями украшеннаго и всякими благами обдаренна”. Любовь является необходимой часть “человеческого естества”. В “Измарагде” (XIV в.) дана классификация любви. Любовь, согласно ему, обладает тремя лицами. Первое ее лицо делает любовь “матерью добрых дел”, оно даровано Богом (“Боже дарование Отца и Сына и Святого Духа”), второе - человеческая любовь “телесная и чашная, и черевная, - телесам угодная, нечиста и потакована на блуд, си есть ненавистна Богу любовь”, третье лицо любви самое мрачное, это любовь, Конечно, говорить о «категориях» применительно к древнерусской традиции можно лишь условно. Категориальный аппарат древнерусской мысли не был отшлифован по разным причинам, и прежде всего, как я думаю, по причине отсутствия школьной традиции, которая возникает только на излете русского средневековья. 522 217 вызванная ворожбой и договором с дьяволом. Любви первого рода посвящено “Поучение о любви”, приписываемое Клименту Смолятичу. В этом поучении, основанном на цитировании Евангелия рассматривается как от Иоанна, следствие а также божественного апостольских единства. посланий, любовь Божественная любовь пронизывает весь мир и спасает его. Дар любви отличает человека от “тварей неразумных”. Без него невозможно спасение, поскольку “Богъ же любы есть. Да иже живеть в любви, то в Бозе живетъ, и Богъ живеть въ немъ” (1 Ин. 4; 16). В средневековой мысли “любовь” мыслится как категория гармоническая. С ней связаны понятия о мере, гармонии и согласии. В древнерусской мысли любовь чаще всего связывается с образом Софии Премудрости Божией, которая посредством любви и красоты делает Вселенную гармонично обустроенной, творит мир (др. русск. “мир” - чрезвычайно семантически емкое понятие, оно означало: спокойствие, мир, тишина, совокупность людей, объединенных общей целью ). В области эстетической любовь проявляется как красота, а в области этической как милость. “Любовью душевной” исцеляется воля (“похотная часть ума”). Любовь к ближнему, которая подавляет гнев, Артемий Троицкий вслед за Нилом Сорским считает важнейшей из добродетелей. Все эти темы занимали значительное место в творчестве Феофана Прокоповича. Большое внимание он уделял вопросу о добродетелях. Объясняется это тем, что Прокопович полагал «двоякую» цель богословия (не только вера, но и действие – дела): «наше спасение и слава Божия; - и первое достигается тем, что мы через веру во Христа оправдываемся и освобождаемся от грехов, образуемся благодатию Божией к деланию добра и достигаем блаженной жизни; второе – достигается нашею верою и нашими добрыми делами»523 И именно это отличает Феофана Прокоповича от протестантских философов и богословов, ведь в русле протестантской традиции, которая склонна считать, что для спасения необходима только вера, этика потому и развивается как философская дисциплина, что она отделяется от богословия. В православии и католицизме этический компонент представлен нравственным богословием, что несколько замедлило развитие этики в этих традициях, как науки философской. Таким образом, в антропологии Феофана Прокоповича можно найти влияние как нравственного, так и догматического богословия. Человек оправдывается верою («оправдание человека грешнаго бывает не от дел его и заслуг, но от единого силоно спасается верою и делами, «люди, не имеющие благих дел, спастися не могут, ибо Христос таковых на суд имать осудими, равно как и празднословящие воздадут слово в дни судные, убо благия дела необходимо нужны суть Цит. по: Червяковский П. Введение в богословие Феофана Прокоповича // Христианское чтение. 1876. Январь-февраль. С. 61 – 62. 523 218 ко спасению»524. Феофан Прокопович так пишет о методе нравственного богословия: «метод нравственного богословия следующий: следует сказать о добрых делах вообще: добрые же дела обозначаются во всем писании именем любви, а любовь относится к Богу и ближнему, как делит ее сам Христос; и так надо сказать 1) о религии, которая есть любовь к Богу, о справедливости, которая состоит в любви к ближнему... В изложении учения о религии или служении Богу будем следовать порядку четырех заповедей первой скрижали; в учении о справедливости – порядку шести заповедей – второй скрижали. А так как contrariorum eadem disciplina est, как говорит Аристотель, то, говоря о добрых делах, будем вместе говорить о противоположных им грехах. К учению о каждой заповеди Божией, согласно наилучшему образцу нравственного богословия (т.е. писанию) следует присоединять божественные обетования хранителям закона и прощения – преступникам его»525. Нравственная тема присутствует не только в богословских произведениях, она является стержнем трагикомедии «Владимир», которую чаще всего вспоминают как пародию на часть русского духовенства. Исследователи526 находят множество параллелей между этим произведением и проповедью Феофана Прокоповича в день св. Владимира, в которой победа человека над своими страстями и пороками представляется высшим его достижением. Можно сказать, что это исследование по психологии религии, в котором Прокопович показывает как Владимир постепенно становится христианином, как он «низложит гордынею и победил славолюбивый мир», а также «плоть сластолюбную» и «попра торжественно самого диавола». Собственно для Феофана человек нравственный – это всегда человек верующий. В «Кратком православном учении о хуле на Духа Святого» он писал: «Все христианские добродетели нарицаются одним именем: Дух»527. Таким образом, с его точки зрения начало любого нравственного совершенствования – вера, а в остальном он должен полагаться на Бога: «Такожде и святых мучеников свидетельство вере во Христа, присвояются не им самим, а Духу Святому»528. Отсюда и акцентация бренности человеческого существования перед божественной вечностью: «О суетный человече, рабе неключимый, како то ты далеко бродиш мечтанми твоими. А незапно день последний разрушит твой живот бедный»529. Смерть здесь выступает как болезнь, тяжкий путь к излечению от зла и истреблению греха. Феофан Прокопович. Православное христианское учение о благодатном человека грешного через Иисуса Христа оправдании // Четыре сочинения. Перев. М. Соколова. М., 1776. С. 165. 525 Цит. по Червяковский. Указ.соч. С. 80 – 81. 526 Тихонравов Н.С. Трагедокомедия Феофана Прокоповича «Владимир» // Журнал Министерства просвещения. 1879. V. С. 52 - 96. 527 Феофан Прокопович. Краткое православное христианское учение о хуле на Духа Святого // Четыре сочинения. Перев. М. Соколова. М., 1776. С. 130. 528 Там же. 529 Феофан Прокопович. Сочинения / Под ред И.П. Еремина. М.-Л., 1961. С. 225 – 226. 524 219 Собственно христианско-антропологическими можно назвать два сочинения Феофана: «Богословское учение о состоянии неповрежденного человека или о том, каков был Адам в раю» и второе сочинение, посвященное состоянию человека после грехопадения, частично переведенное Матвеем Соколовым и опубликованное в Москве в 1773 г. в работе «Четыре сочинения». Эти две работы тесно связаны: если большая часть первой посвящена «неповрежденному» человеку, то вторая посвящена видам и последствиям грехопадения. Феофан доказывает, что последствием греха является «порча» (corruptio) человеческой природы. Порча приводит к глубоким изменениям не только тела, которое становится смертным и болезненным, но и духа, порча также проявляется в извращениях ума, что в свою очередь приводит к суевериям (обличение суеверий – одна из главных тем Феофана), неверию (этому вопросу посвящен трактат «Рассуждение о безбожии»), к скептицизму530, рационализму, фанатизму и ереси. Прокопович писал в предисловии к «Рассуждению о безбожии»: «Всякому человеку, здравый разум имущему, видим есть безбожия порок, или скверна и гнусность, никоею мерою измеряемая, и тех, которые безбожия предержатся, последнее нещастие и бедство неизреченное; потому в рассуждение человеческого ума, яко предостойнейшей над всеми животными прерогативы, трудно бы надеятися от онаго толикому происходити скаредству, аки бы плоду пагубному, окаянного своего виновника опровергающему»531. «Порча» извращает и человеческую волю, последствиями чего является самолюбие, ввергающее человека в пучину страстей. «Исцеление» падшей природы многообразно. Во-первых, это крещение (этому вопросу посвящено отдельное произведение «Истинное оправдание правоверных христиан, крещением поливательным в Христе крещаемы»532), которое Феофан трактует в первую очередь как просвещение (исцеление слепого), а затем уже как очищение («Действительная же сила крещения, не есть омывати тело от скверны, но от кала греховного очищати душу»). Второй путь излечения ― это добро («Бог …заповеда нам..добро творить»533) и одно из его проявлений ― истинная любовь. Теме истинной любви практически полностью посвящено «Слово похвальное в день святыя великомученицы Екатерины», произнесенное в день тезоименитства императрицы Екатерины I. Занимает эта тема большое место и в «Повести о распре Павла и Варнавы с иудействующими, и трудность слова Петра апостола о неудобь носимом законном иге им пространно предлагается»534, при чтении которого вспоминается «Слово о законе и Скептицизм, религиозную мечтательность и религиозный энтузиазм Прокопович считал наиболее опасными из болезней ума, поскольку считал, что они указывают на плохое воображение и плохую память. 531 Феофан Прокопович. Рассуждение о безбожии. Изд. 2. М., 1784. С. 1. 532 Феофан Прокопович. Оправдание поливательного крещения. М., 1913. 533 Феофан Прокопович. Книжица, в ней же повесть о распре Павла и Варнавы с иудействующими. М., 1784. 534 «Повесть» написана для графа И.А. Мусина-Пушкина, начальника монастырского приказа, по распоряжению которого делались перевода иностранных сочинений. 530 220 благодати» Иллариона Киевского. Согласно Феофану, истинная любовь позволяет человеку «уклоняться от зла», и таким образом соблюдать «закон нравоучительный». Здесь любовь выступает как гармонизирующая и объединяющая людей божественная благодать. Любовь приближает человека к Богу, поскольку земная любовь, это образ любви божественной. Это путь к обретению добра. Не истинная любовь – лицемерная. Тема лицемерия, вместе с темами суеверия и власти, одна из главных в творчестве Феофана, призванным самим императором сражаться с предрассудками, он во многих своих произведениях бичевал лицемерие. Оно отдаляет человека от веры, и в уже упомянутом «Слове похвальном…» Феофан пишет о двух видах любви: истинной и ложной (лицемерии). Лицемерие отдаляет человека от Бога, а любовь приближает. Любовь ― это путь к «возращению истинных и вечных благ». Очевидно, что вопрос о любви как неотъемлемой части христианской веры важен для Феофана в связи с проблемой спасения. Вопрос о возможности спасения только верою для него чрезвычайно важен. С точки зрения Прокоповича, поскольку «падший» человек не может всецело исполнить евангельского закона и получает оправдание только через веру в искупительную жертву Иисуса Христа («Книжица, в ней же повесть о распре Петра и Варнавы», полемика с Маркелом Родышевским и др.), постольку никто не может исполнить нравственный закон всецело, без погрешностей: «Аще благия дела не оправдают, то сие происходит от того, что они несовершенны суть, таковыя без сомнения находятся в неверующих, но поелику благия дела верующих и отрожденных человек суть совершенныя убо оправдают их»535. Полностью человек оправдывается через веру в Христа, который своей жертвой «уже заплатил»536 за спасение человека. Третий путь исцеления – просвещение. С этой темой связано сочинение Феофана Прокоповича «Разговор гражданина с селянином да певцем или дьячком церковным», и в других произведениях, но наиболее ярко в «Духовном регламенте», где впервые отчетливо говорится о необходимости привлечь науку на службу государству: «И аще бы учение церкви или государству было вредное, то не учились бы сами лучшия христианские особы, и запрещали бы иным учитися: а то видим, что учились вси древни наши учители не токмо Св. Писания, но и внешней философии. И кроме многих иных, славнейшие столпы церковные поборствуют и о внешнем учении… Убо учение доброе и основательное есть всякой пользы как отечества, так и церкве, аки корень и семя и основание»537. Важное место в антропологии Феофана Прокоповича занимает тема власти. В своих сочинениях о власти он придерживается современных ему учений (что хорошо Феофан Прокопович. Православное христианское учение о благодатном человека грешного через Иисуса Христа оправдании // Четыре сочинения. Перев. М. Соколова. М., 1776. С. 166. 536 Там же. С. 170. 537 Духовный регламент // Полное собрание законов Российской империи. Т. VI. Стб., 4014. 535 221 показано в известной работе Г.Д. Гурвича ««Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича и ее западноевропейские источники»), и постоянно следовал рассуждениям С. Пуфендорфа538, Г. Гроция539, Т. Гоббса540. Из перечисленных авторов для Прокоповича наиболее значимыми были идеи Пуфендорфа, поскольку в своих произведениях, обосновывающих необходимость и правомерность петровских реформ, Прокопович во многом основывался на работах немецкой юридической школы, обосновывающих идеи безграничной преданности народа государю как олицетворению государства 541. В трактате «Адам в раю» он показывает, что способность властвовать была заложена в «неповрежденном» грехопадением человеке от момента его сотворения Богом, «чтоб Адамово благополучие представить в высочайшей степени»542. Способность к власти («над тварями») была в нем заложена как в образе Божьем: «…мы показали, что человек образ Божий имел в правоте разума и воли, свободности, власти над тварями, и в бессмертности как тела, так и души»543. Эта идея не нова, мы обнаруживаем ее не только в библейских текстах, но и в апокрифической литературе. Но власть эта была утрачена в результате грехопадения, и только божественные избранники, или как их называет Прокопович, «христы»544 («Слово о власти и чести царской») имеют право властвовать над другими людьми: «Кия же титлы? Кия имена? Бози и Христы нарицаются… яко того ради бози нарицаются, понеже «к ним бысть слово божие»… Сам бо имя сее Пуфендорф (Pufendorf) Самуэль (1632-1694) историограф и юрист, сторонник теории естественного права, основатель светской юридической науки в Германии. 539 Гроций Гуго (Grotius) (1583 -1645). Г. Гроций считается родоначальником теории общественного договора, которая составила концептуальную основу Просвещения. Согласно ей государственная власть возникает в результате соглашения между людьми, которые вынуждены переходить от беззащитного естественного состояния к защищенному гражданскому. Среди многочисленных философов, которые разрабатывали ее в дальнейшем можно в первую очередь назвать британских философов: Т. Гоббса и Дж. Локка. Из сочинений Гроция был переведен на русский в петровское время трактат “De jure belli et pacis” под заглавием «О правде войны и мира» и «О законах правды и мира». Его идеи легли в основу «Духовного регламента» и «Правды воли манаршей». См.: Темниковский Е.Н. Один из источников «Духовного регламента» // Сборник Харьковского историко-филологического общества. 1909. Т. 18. С. 524 – 534; Гурвич Т. «Правда воли монаршей» Феофана Прокоповича. Юрьев, 1915. 540 Гоббс (Hobbes) Томас (1588-1679). См. подробнее: Вальденберг В.Е. Закон и право в философии Гоббса. СПб., 1900. 541 См. подробнее Whittaker C. H. The Idea of Autocracy among Eighteenth-Century Russian Historians // Russian Review, Vol. 55, No. 2. (Apr., 1996). Pp. 149-171. 542 Феофан Прокопович. Богословское учение о состоянии неповрежденного человека или о то, каков был Адам в раю. М., 1785. С. 7. 543 Там же. С. 11. 544 Греческое слово Chrystos является переводом еврейского Messian. Эти оба термина произошли от глаголов со значением «умащать священным елеем», поэтому оба титула переводятся как «помазанник». Титул «Христос» в христианской традиции является выражением того, что титулованный божественно предназначен для служения. Формально именовать царя, да и любого православного, который принимает помазание в обряде крещения, а царь помазуется также и на царство возможно, и тут можно вспомнить слова Иллариона Киевского «В Христа крестився, в Христа преобразився», но напрямую назвать «Христом», человека, получившего божественную благодать в таинстве миропомазания, до Прокоповича никто не решался. Однако в принципе для богословской традиции в этом нет ничего экстраординарного. Можно вспомнить то, как писал о крещающихся Максим Исповедник: «Им дано быть и называться богами, поскольку Бог всецело наполнил их, не оставив ничего, что было бы лишено его присутствия». 538 222 «помазанный» ясно есть; сие есть: поставлен и оправдан от Бога царствовати»545. И здесь Прокопович доводит до крайней точки активно развивавшуюся в русской традиции XVI – XVII вв. концепцию софиократии, возникшую как результат синтеза христианских представлений о Софии Премудрости Божией и концепций императорской власти546. Процесс внедрения в культуру этого образа, истоки которого мы находим уже в первых произведениях русской книжности, становится чрезвычайно активным после падения Византии, когда актуализируется идея «translatio imperia»547, и на русских царей переносятся функции византийских императоров. Борис Годунов уже титуловался богоизбранным государем «всей Вселенной», «единым подсолнечным христианским царем». Феофан идет дальше, порой складывается впечатление, что Христу пришлось потесниться, и уступить место «христу» - помазаннику. И здесь совершенно логичным кажется присвоение Петру титула «Отца Отечества»548. В своем произведении «Розыск исторический о понтифексе», Феофан пишет: «Могут государи епископами народа, себе подданнаго, нарицатися. Имя бо епископ значит надсмотрителя... Государь, власть высочайшая, есть надсмотритель совершенный, крайний, верховный и вседействительный, то есть имущий силу и повеления, и крайняго суда, и наказания над всеми себе подданными чинами и властьми, как мирскими, так и духовными. Что и от Ветхаго и от Новаго Завета доволно показал я в «Слове о чести Царской», проповеданном в неделю цветоносную 1718 году, и того ради зде не повторяю. И понеже и над духовным чином государское надсмотрительство от Бога уставлено есть, того ради всяк высочайший законный государь в государстве своем есть воистину епископ епископов»549 Опираясь на протестантские концепции управления церковью правителями550, Феофан Прокопович связывает вместе христологию, антропологию и политологию, и становится ясно, что главная цель богословских построений Феофана Прокоповича ― преобразование «мира сего», очищение его от суеверий и лицемерия, для чего необходим император, облеченный полнотой светской и духовной власти, соединивший в себе земное и небесное – «Отец Отечества551, Петр Великий552 и Император Всероссийский», служба которому столь же Феофан Прокопович. Слово о власти и чести царской // Сочинения / Под ред И.П. Еремина. М.-Л., 1961. С. 84 – 85. 546 Чумакова Т.В. Идея софиократии в культуре Древней Руси// Философский век Альманах. Вып. 17. История идей как методология гуманитарных исследований. Ч.1. СПб., 2001. С. 206 – 216. 547 См. Baehr S. L. From History to National Myth: Translatio Imperii in Eighteenth-Century Russia // Russian Review, Vol. 37, No. 1. (Jan., 1978). Pp. 1-13. 548 см. Речь, которая публично в церкви царскому пресветлому величеству от Синода и Сената говорена вице-президентом св. Синода архиепископом новгородским Феодосием 22 октября 1721 года при поднесении императору титула: Отец Отечества, Петр Великий, император Всероссийский // Гаврилов А.В. Очерк истории С. Петербургской Синодальной типографии. СПб., 1911. Вып. 1. 1711-1839. С. 145. 549 Феофан Прокопович. Розыск исторический о понтифексе// Верховской П.В. Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент. Т. 2. Материалы. Ростов-на-Дону, 1916. № 10. С. 13. 550 См. подробнее Верховской П.В. Учреждение Духовной коллегии и Духовный регламент. Ростов-на-Дону, 1916. Т. 1. 551 Отец Отечества – калька лат. Pater patriae – торжественный титул римских императоров. 552 Великий – лат. Maximus – титулатура римских императоров. 545 223 важна для христианина, как и служение Господу. Фактически император мыслится им уже не просто как человек, а как Сверхчеловек, вознесенный на непостижимую высоту божественной волей. 224 VI. Переводы и комментарии. Фома Аквинский. Комментарий к «О Троице» Боэция. Глава 4. Статья 2. Производит ли разнообразие акциденций различие вещей по числу? 553 1. Кажется, что разнообразие акциденций не может быть причиной численной множественности вещей. Ведь Философ говорит в пятой книге «Метафизики»: едино по числу то, у чего единая по числу материя554. Следовательно, множественны по числу те вещи, у которых различная по числу материя. Следовательно, различие по числу создается не разнообразием акциденций, а скорее различием материи. 2. Кроме того, Философ говорит в десятой книге «Метафизики», что у вещей причина субстанции и единства одна и та же 555. Но у индивидуальных вещей акциденции не служат причиной субстанции, а следовательно, и единства; вследствие чего не служат причиной и множественности вещей по числу. 3. Кроме того, все акциденции, коль скоро они существуют вместе с формой, сами по себе являются сообщаемыми556 и универсальными. Но ничто такое не может быть причиной индивидуации чего-либо. Следовательно, акциденции не являются началом индивидуации. Но вещи различны по числу, поскольку они различны как индивиды. Следовательно, акциденции не могут быть началом различия по числу. 4. Кроме того, подобно тому, как то, что относится к роду субстации, различается по роду или виду согласно субстанции, а не акциденции, так оно различается и по числу. Но некоторые вещи называются различными по роду или по виду благодаря тому, что относятся к роду субстанции. Следовательно, схожим образом они называются различными по числу благодаря тому, что относятся к роду субстанции, а не посредством акциденций. 5. Кроме того, при устранении причины устраняется и действие. Но всякое акцидентальное можно, действительно или мысленно, устранить от субъекта. Следовательно, если нечто акцидентальное есть начало тождества и различия по числу, то одной и той же вещи случалось бы быть иногда единой по числу, а иногда различной. 6. Кроме того, последующее никогда не бывает причиной предшествующего. Но среди всех акциденций первично количество, как говорит Боэций в «Комментарии на Перевод К.В. Бандуровского и М.М. Гейде. Выполнен по изданию: Sancti Thomae de Aquino expositio super librum Boethii de Trinitate. Rec. B. Decker. Leiden, 1955. P. 137-145. 554 Аристотель. Метафизика. 1018 а 9-11. Рус. пер. см.: Аристотель. Сочинения в 4 тт. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 158 555 Там же. 1052 а 330. С. 252. 556 communicabilis – это понятие обозначает и то, чему могут быть причастны многие вещи, и то, что может сообщаться нашему разуму. 553 225 «Категории»557. Среди же количественных опредениений число естественным образом является более первым, поскольку оно более просто и более абстрактно. Следовательно, невозможно, чтобы какая-нибудь другая акциденция была бы началом численной множественности. Но против: 1. Порфирий говорит, что индивид создается сочетанием акциденций, которые не могут быть обнаружены в другом индивиде558. Но причина индивидуации является началом и различия по числу. Следовательно, акциденции — начало множественности по числу. 2. Кроме того, в индивиде нет ничего, кроме формы, материи и акциденций. Но различие форм создает различие не по числу, а по виду, как ясно из десятой книги «Метафизики»559. Родовое же различие создается различием материи. Ведь Философ говорит в десятой книге «Метафизики», что по роду различны те вещи, у которых нет ни общей материи, ни порождения друг от друга560. Следовательно, различие по числу не может создаваться ничем, кроме различия акциденций. 3. Кроме того, то общее, что обнаруживается во многих вещах, различных по виду, не является причиной различия по числу, поскольку разделение рода на виды предшествует разделению вида на индивиды. Но в вещах, различных по виду, обнаруживается общая материя, поскольку одна и та же материя принимает различные формы; в противном случае вещи, имеющие противоположные формы, не переходили бы друг в друга. Следовательно, ни материя, ни форма не являются началами различия по числу, как показано. Следовательно, остается, чтобы причиной этого различия были акциденции. 4. Кроме того, в роду субстанции не обнаруживается ничего, кроме рода и отличительного признака. Но индивиды одного вида не отличаются ни по роду, ни по субстанциальным отличительным признакам. Следовательно, они отличаются только благодаря акцидентальным отличительным признакам. Отвечаю: следует сказать, что для прояснения этого вопроса и других, о которых говорится в сочинении Боэция, надлежит знать, какова причина тройственного различия, на которое указывается в этом сочинении. Поскольку же в составленном индивиде, относящемся к роду субстанции, нет ничего, кроме трех — материи, формы и составленного их них, то надлежит на основании каждого из них обнаружить причину каждого различия. Итак, следует знать, что родовое различие восходит к различию материи, видовое же различие — к различию формы, а различие по числу восходит частично к различию материи, частично к различию акциденций. Но поскольку род есть 557 Boetius. In Arestoteles Categorias // PL 64, 201 D-202 D. Isagoge p. 7, 21-23. Фома цитирует перевод Боэция, 559 Аристотель. Метафизика. 1058 b 1. С. 270. 560 Там же. 1054 b 27-29. С. 259. 558 226 начало познания, будучи первой частью определения, а материя сама по себе непознаваема, то различие рода может браться не от материи самой по себе, а только в той мере, в какой она является познаваемой. Познаваемой же она является двояким образом. Одним образом — по аналогии или посредством пропорции, как говорится в первой книге «Физики»561. Это случается, когда мы говорим: материя есть то, что относится к природной вещи таким образом, каким дерево относится к ложу. Другим образом она познается посредством формы, благодаря которой она имеет актуальное бытие. Ведь всякая вещь познается согласно тому, что она существует актуально, а не согласно тому, что существует в возможности, как говорится в девятой книге «Метафизики»562. И согласно этому различие рода на основании материи понимается двояким образом. Одним образом — на основании различного отношения к материи по аналогии, и таким образом со стороны материи различаются первые рода [т.е. категории — прим. пер.] вещей. Ведь то, что относится к роду субстанции, соотносится с материей как со своей частью; то же, что относится к роду количества, не имеет материю в качестве своей части, но соотносится с ней как мера, а качество — как расположенность [dispositio]. И благодаря этим двум средним родам все другие рода приобретают различные соотношения с материей, которая есть часть субстанции, из-за которой субстанция получает смысл субъекта, благодаря чему она соотносится с акциденциями. Иным образом родовое различие со стороны материи берется согласно тому, что материя получает совершенство благодаря форме. Ведь поскольку материя есть чистая возможность, а Бог — чистый акт, то нет ничего, что позволяло бы материи получать актуальное совершенство, то есть форму, помимо того, что причастно некоторому подобию первого акта, хотя и несовершенно; таким образом то, что уже составлено из материи и формы, находится посредине между чистой возможностью и чистым актом. Но материя не равным образом принимает подобие первому акту, а от одних форм — несовершенно, от других же — более совершенно, поскольку одни причастны божественному подобию лишь согласно тому, что они субсистируют, другие же — согласно тому, что живут, третьи — согласно тому, что обладают [чувственным] познанием (cognoscunt), а четвертые согласно тому, что познаются разумом. Итак, подобие первому акту, существующее в какой-либо материи, есть ее форма. Но такая форма в одних вещах создает только бытие, в других — бытие и жизнь, и так же относительно прочего — одна и та же [форма производит различные действия] 563. Ведь 561 Аристотель. Физика. 191 а 7-12. Рус. пер. см.: Аристотель. Сочинения в 4 тт. Т. 3. М.: Мысль, 1981. С. 77 Аристотель. Метафизика. 1051 а 29-32. С. 249. В противовес распространенному учению о множественности форм, согласно которой одна и та же вещь может иметь несколько форм, Фома Аквинский разработал теорию единства субстанциальной формы, согласно которой высшая форма может выполнять действия более низких форм. Эта концепция вызвала резкое осуждение со стороны Этьена Тампье, Р. Килуордби и Дж. Пеккама, однако вскоре была признана 562 563 227 более совершенное подобие обладает всем тем, чем обладает менее совершенное подобие и сверх того еще большим. Следовательно, в том и другом подобии обнаруживается нечто общее, но в одном несовершенно, а в другом — совершенно, так как материя подлежит и акту, и лишенности. И поэтому материя, одновременно взятая с этим общим, является материальным началом в отношении вышеупомянутого совершенства и несовершенства. И из этого материального берется род, отличительный же признак из упомянутого совершенства и несовершенства. Так из того материального общего, которое есть обладание жизнью, берется род «одушевленное тело»; из добавленного же сверх того совершенства — отличительный признак «чувствующее»; из несовершенства же — отличительный признак «нечувствующее». И, таким образом, различие материального приводит к различию родов, например, «живого существа» от «растения». И поэтому говорится, что материя есть начало родового различия. И на том же основании форма есть начало видового различия, поскольку различия, устанавливающие виды, берутся от этого формального, которое к тому материальному, от которого берутся роды, относится как форма к материи. Однако следует знать, что поскольку то материальное, от которого берется род, имеет в себе материю и форму, то логик рассматривает род только со стороны его формальной части, поэтому и его отличительные признаки называются формальными, но натурфилософ рассматривает род со стороны и той, и другой части. И поэтому иногда случается, что некоторые вещи объединяются в однин род логиком и не объединяются натурфилософом. Ведь иногда случается, что то, что [происходит] от подобия первому акту, следует некоторой вещи в одной материи, иначе следовала бы без материи и иначе — в другой, всецело отличной материи. Так ясно, что камень в материи, которая существует согласно потенции к бытию, относится к тому, что субсистирует, и к тому же относится солнце согласно материи по отношению к месту, но не к бытию (secundum materiam ad ubi et non ad esse), и ангел, всецело лишенный материи. Поэтому логик, обнаруживая во всех них ту материю, от которой берется род, относит все это к роду субстанции. Натурфилософ же и метафизик, которые рассматривают все начала вещи, не обнаруживая схождения в материи, говорят, что эти вещи отличаются по роду, согласно тому, что говорится в десятой книге «Метафизики», что разрушимое и неразрушимое отличаются по роду, а в одном роде сходится то, у чего одна материя и что порождается одно от другого564. И таким образом ясно, как материя создает родовое различие, а форма — видовое различие. Среди индивидов же одного вида различие должно быть расмотрено таким официально. Подробнее см.: Бандуровский К.В. Форма и материя // Новая философская энциклопедия в 4 тт. Т.4. М.: Мысль, 2001. С. 263; Бандуровский К.В. Интеллектуальная душа как форма тела. Введение // Фома Аквинский. Учение о душе. СПб.: Азбука, 2004. С. 20-22. 564 Аристотель. Метафизика. 1058 b 26-29. С. 270. 228 образом. Ведь согласно Философу в седьмой книге «Метафизики», как части рода и вида суть материя и форма, так части индивида суть «эта материя» и «эта форма». Поэтому как родовое или видовое различие создается различием материи или формы в абсолютном смысле, так различие по числу создается «этой формой» и «этой материей». Но никакая форма как таковая не является «этой» сама по себе. Я же говорю «как таковая» относительно разумной души, которая некоторым образом сама по себе есть «это нечто», но не постольку, поскольку она форма. Ведь какую-либо форму, которая может быть воспринята в чем-либо как в материи или в субъекте, интеллект должен атрибутировать многим вещам, что противоречит смыслу «этого». Поэтому форма является «этой» из-за того, что она принимается материей. Но поскольку материя сама по себе является неразличенной, то не может быть, чтобы она делала индивидуальной воспринятую форму, если только она не является в некотором отношении различимой. Ведь форма, принятая материей, не делается индивидуальной иначе, как воспринимаясь «этой материей», отличной от другой и определенной в отношении «здесь и сейчас». Но материя различается только благодаря количеству. Поэтому Философ говорит в первой книге «Физики»565, что если устранить количество, то останется неделимая субстанция. И поэтому она становится «этой означенной» материей, согласно тому, что подлежит измерениям (dimensio). Эти измерения можно рассматривать двояким образом. Одним образом — согласно их определенности; я говорю, что они «имеют предел», согласно определенной мере и фигуре, и так, как совершенные сущие помещаются в роду количества. И такие измерения не могут быть началами индивидуации; ведь при такой определенности измерения часто бы изменялись относительно индивида, и получалось, что индивид не всегда оставался одним и тем же по числу. Иным образом они могут рассматриваться только в самой природе измерения, без этой определенности, хотя они никогда не могут существовать без какого-либо измерения, подобно тому, как природа цвета может быть рассмотрена без определения белым или черным; и таким образом они помещаются в роде количества как несовершенные. И на основании этих неопределенных измерений материя становится «этой означенной материей» и индивидуирует форму, и таким образом материя служит причиной численного различия в одном и том же виде. Поэтому ясно, что материя, взятая сама по себе, не является началом ни видового, ни численного различия, но она является началом родового различия тогда, когда подлежит общим формам, и что она является началом численного различия, когда подлежит неопределенным измерениям. И поэтому, поскольку такие измерения относятся к роду акциденций, то иногда различие по числу возводится к различию материи, иногда 565 Аристотель. Физика. 185 b 16. С. 64. 229 — к различию акциденций, и на этом основании — к вышеупомянутым измерениям. Другие же акциденции суть не начала индивидуации, а начала познания различия индивидов. В этом смысле также и другим акциденциям атрибутируется индивидуация. 1. Итак, относительно первого следует сказать, что когда Философ говорит, что численно едино то, у чего одна материя, то следует подразумевать означенную материю, которая подлежит измерениям, иначе следовало бы говорить, что все порождаемое и разрушаемое суть численно одно, поскольку у них одна материя. 2. Относительно второго следует сказать, что измерения, поскольку они акциденции, сами по себе не могут быть началом единства индивидуальной субстанции; но материя, коль скоро она подлежит таким измерениям, познается как начало такого единства и множественности. 3. Относительно третьего следует сказать, что к понятию индивида относится то, что он сам по себе неделим и отделен от других [индивидов] предельным делением. Но кроме «количества» никакая акциденция не обладает сама по себе собственным понятием делимости. Поэтому «измерения» сами по себе обладают некоторым смыслом индивидуации согласно определенному месту, коль скоро место есть отличительный признак «количества». И, таким образом, «измерение» имеет двоякий смысл индивидуации: один от субъекта, как и всякая другая акциденция, а другой от себя самого, коль скоро оно имеет место, на основании которого даже при абстрагировании от чувственной материи мы представляем в воображении эту линию или этот круг. И поэтому материи подобает индивидуировать все другие формы в прямом смысле из-за того, что она подлежит той форме, которая сама по себе обладает смыслом индивидуации, и, таким образом, сами определенные измерения, которые имеют основание в уже составленном субъекте, индивидуируются некоторым образом на основании индивидуальной материи посредством неопределенных измерений, постигаемых в материи до [формы]. 4. Относительно четвертого следует сказать: то, что различно по числу в роде субстанции отличается не только акциденциями, но также формой и материей. Но если спрашивается, почему их форма является различающей, то не будет иного ответа, кроме того, что она существует в другой означенной материи. И невозможно найти иной ответ, почему эта материя отличается от той, если не из-за количества. И поэтому материя, подлежащая измерению, понимается как начало этого различия. 5. Относительно пятого следует сказать, что этот довод касается совершенных акциденций, которые следуют бытию формы и материи, а не неопределенных измерений, которые познаются прежде самой формы, находящейся в материи. Ведь без них не может быть понят индивид, так же, как и без формы. 230 6. Относительно шестого следует сказать, что в формальном отношении число существует прежде, чем непрерывное количество, но в материальном отношении непрерывное количество более первично, поскольку число остается от разделения непрерывного количества, как говорится в третьей книге «Физики»566. И согласно этому пути [рассуждения] причиной различия по числу служит разделение материи согласно измерениям. С доводами же в пользу противоположного, как явствует из сказанного, в некотором отношении следует согласиться, а в некоторых из них делаются ложные заключения. 566 Аристотель. Физика. 263 a 23-26. С. 251-252. 231 Библиография основных публикаций Центра изучения средневековой культуры VERBUM. Выпуск 1. Франсиско Суарес и европейская философия XVI-XVII веков. Отв. ред. А.Г. Погоняйло, Д.В. Шмонин. СПб, 1999. VERBUM. Выпуск 2. Наследие Средневековья и современная культура. Отв. ред. О.Э. Душин, И.И. Евлампиев. СПб, 2000. История средневековой философии. Программы специальных курсов. СПб, 2000. VERBUM. Выпуск 3. Византийское богословие и традиции религиозно-философской мысли в России. Отв. ред. О.Э. Душин, И.И. Евлампиев. СПб, 2000. VERBUM. Выпуск 3. Византийское богословие и традиции религиозно-философской мысли в России. Второе издание. СПб, 2001. VERBUM. Выпуск 4. Философия Уильяма Оккама: традиции и современность. Отв. ред. О.Э. Душин. СПб, 2001. VERBUM. Выпуск 5. Образы культуры и стили мышления: иберийский опыт. Отв. ред. Л.В. Цыпина, Д.В. Шмонин. СПб, 2001. VERBUM. Выпуск 6. Аристотель и средневековая метафизика. Отв. ред. О.Э. Душин. СПб, 2002. VERBUM. Выпуск 7. Между Средневековьем и Новым временем: Мартин Лютер и европейская культура. Под ред. О.Э. Душина. СПб, 2004. Философия западноевропейского Средневековья. Учебное пособие. СПб, 2005. Отв. ред. Д.В. Шмонин (коллектив авторов: О.Э. Душин, А.Г. Погоняйло, Р.В. Светлов, Л.В. Цыпина, Д.В. Шмонин). VERBUM. Выпуск 8. MEDIAEVALIA: идеи и образы средневековой культуры. Под ред. О.Э. Душина, Д.В. Шмонина. СПб, 2005. VERBUM. Выпуск 9. Наследие Николая Кузанского и традиции европейского философствования. Под ред. О.Э. Душина. СПб, 2007. 232 Авторы выпуска К.В. Бандуровский - кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных наук Университета города Переславль В. А. Бачинин - доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Социологического института РАН И.Х. Гафаров - магистрант Европейского гуманитарного университета, Вильнюс А.В. Гоманьков - доктор геолого-минералогических наук, и.о. ведущего научного сотрудника Ботанического института РАН А.А. Горин - сотрудник факультета философии и политологии СПбГУ О.А. Довгополова - кандидат философских наук, доцент кафедры философии и основ общегуманитарных знаний Одесского национального университета О.Э. Душин - доктор философских наук, доцент кафедры истории философии факультета философии и политологии СПбГУ И.С. Кауфман - кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры философии науки и техники факультета философии и политологии СПбГУ И.С. Кириллов - старший преподаватель кафедры истории и философии СанктПетербургского государственного университета растительных полимеров А.Н. Кондратьев - аспирант Казанского государственного университета В.В. Лазарев - доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН Е.Г. Мещерина - доктор философских наук, профессор кафедры философии Московского государственного университета печати А.Г. Погоняйло - доктор философских наук, профессор кафедры истории философии факультета философии и политологии СПбГУ М.В. Семиколенная - аспирантка кафедры теоретической и прикладной культурологии факультета философии и политологии СПбГУ П.А. Серкова - аспирантка кафедры истории и теории культуры Российского Государственного Гуманитарного Университета А.М. Толстенко - кандидат философских наук, доцент кафедры истории философии факультета философии и политологии СПбГУ Т.В. Чумакова - доктор философских наук, профессор кафедры философии религии и религиоведения факультета философии и политологии СПбГУ К.А. Шморага - преподаватель кафедры истории и философии Псковского государственного политехнического института, соискатель кафедры истории философии факультет философии и политологии СПбГУ 233 Х. Шталь - доктор филологии, профессор, заведующая кафедрой славистики Трирского университета Д.Р. Яворский - кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологи Волгоградской академии государственной службы 234