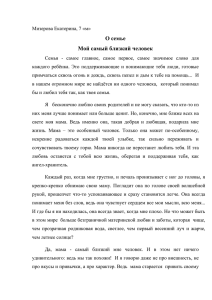Вот что тогда произошло… - Псковская областная библиотека
advertisement
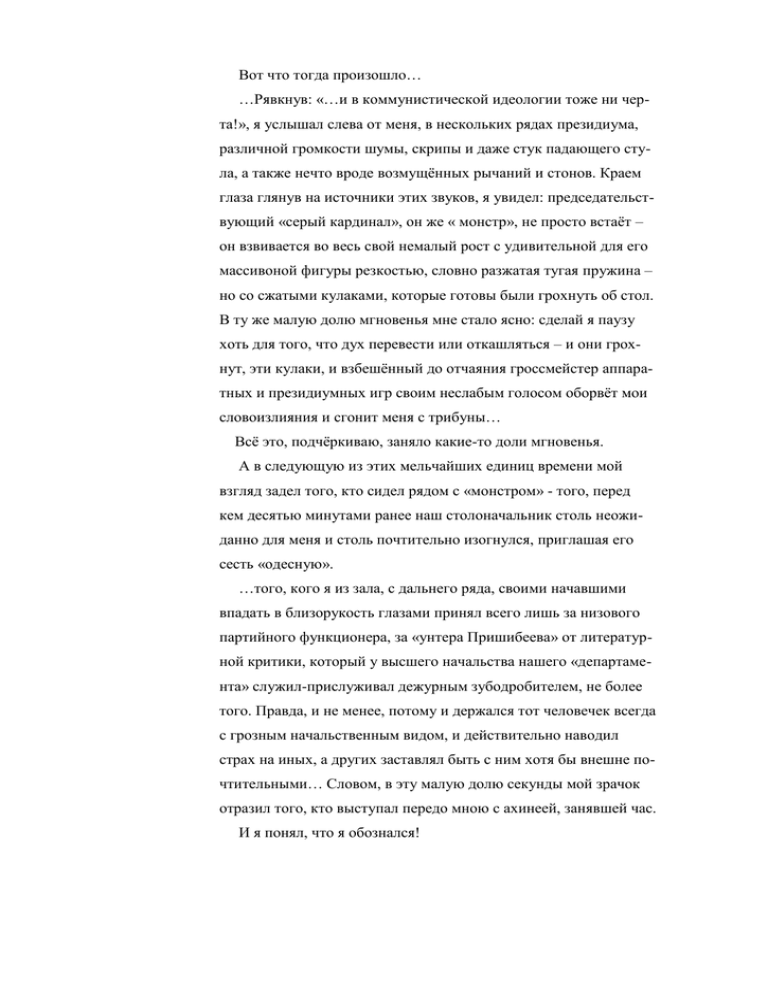
Вот что тогда произошло… …Рявкнув: «…и в коммунистической идеологии тоже ни черта!», я услышал слева от меня, в нескольких рядах президиума, различной громкости шумы, скрипы и даже стук падающего стула, а также нечто вроде возмущённых рычаний и стонов. Краем глаза глянув на источники этих звуков, я увидел: председательствующий «серый кардинал», он же « монстр», не просто встаёт – он взвивается во весь свой немалый рост с удивительной для его массивоной фигуры резкостью, словно разжатая тугая пружина – но со сжатыми кулаками, которые готовы были грохнуть об стол. В ту же малую долю мгновенья мне стало ясно: сделай я паузу хоть для того, что дух перевести или откашляться – и они грохнут, эти кулаки, и взбешённый до отчаяния гроссмейстер аппаратных и президиумных игр своим неслабым голосом оборвёт мои словоизлияния и сгонит меня с трибуны… Всё это, подчёркиваю, заняло какие-то доли мгновенья. А в следующую из этих мельчайших единиц времени мой взгляд задел того, кто сидел рядом с «монстром» - того, перед кем десятью минутами ранее наш столоначальник столь неожиданно для меня и столь почтительно изогнулся, приглашая его сесть «одесную». …того, кого я из зала, с дальнего ряда, своими начавшими впадать в близорукость глазами принял всего лишь за низового партийного функционера, за «унтера Пришибеева» от литературной критики, который у высшего начальства нашего «департамента» служил-прислуживал дежурным зубодробителем, не более того. Правда, и не менее, потому и держался тот человечек всегда с грозным начальственным видом, и действительно наводил страх на иных, а других заставлял быть с ним хотя бы внешне почтительными… Словом, в эту малую долю секунды мой зрачок отразил того, кто выступал передо мною с ахинеей, занявшей час. И я понял, что я обознался! …а в следующую мельчайшую долю мгновенья мой взгляд упал и на настоящего «унтера Пришибеева» из цеха критиков. Он приютился в третьем, заднем ряду президиума – из зала я никак не мог бы его разглядеть. Он сидел с перекошенным, с просто распадающимся от ужаса, гнева и растерянности лицом. И мне стало очевидно, почему я обознался… В подробностях-то эту причину я узнал тоже значительно позднее, когда все описываемые здесь страсти-мордасти не только улеглись, но и просто испарились, по крайней мере для меня, начисто исчезли. Узнал, что этого зубодробителя, несмотря на всю его фантастическую бездарность, руководство писательского союза держало «при себе», ибо у него был могущественный – и даже всемогущий несколько лет подряд - с т а р ш и й брат. Этот ближайший родственник «пришибеева», очень с ним внешне (не говоря уже о внутреннем родстве) схожий, разве что постарей, помельче да пожиже обличьем и статью, несколькими годами ранее был десантирован из кресла министра внутренних дел одной небольшой республички на Старую площадь. И уже около года, как тогда говорилось, «сидел на идеологии». Выше него по этой «идейной» вертикали находился только тот, кто действительно являлся высшим из всех «серых кардиналов» государства. Тот, кто в поте лица трудился ещё под началом Сталина, а в описываемые времена уже переходил в состояние полного окостенения. Только Суслов. Вот кем был старший брат литературного зубодробителя. Вот кто в тот памятный день на трибуне Центрального дома литераторов битый час втолковывал неразумным труженикам пера содержание только что появившегося цекистского постановления. За всеми моими передрягами минувшего года я, естественно, не мог держать в поле зрения эти партийно-аппаратные «подвижки», передвижки и прочие метаморфозы. Отстал от хода общественной жизни… …Вот потому-то, приняв издалека этого хилого стареющего человечка, но высокого цекистского аппаратчика всего лишь за «унтера Пришибеева» от цеха московских литературных крити- ков, я нёс по кочкам и на все корки его высокоруководящее глаголание. Буквально – с землёй ровнял, если не сказать крепче; в пух и прах разносил, крепкими большими гвоздями прибивал к позорному столбу. Короче – долбал (глагол не меняю) того, кто был вторым по значимости идеологическим пастырем в тогдашнем нашем государстве! (Не обойтись тут без отступления. Ибо вновь я слышу ехидно-ироничные голоса некоторых читателей, особенно тех, кто помоложе… «Подумаешь, - усмехаются они, - событие! Ну, раскритиковал писатель высокопоставленного чиновника – что ж тут такого?! Чем автор и его герой-рассказчик гордятся, или – чем они хотят нас удивить? Да мы, слава Богу, давно уже в таком обществе живём, где каждый может кого угодно в хвост и в гриву… Кажинный день – и олигархов с дерьмом мешаем в любых СМИ, и депутатов поедом едим, и губернаторов прикладываем… А то и президента покусываем! И – ничего, никто за это не репрессирован, и никого не посадили… А тут – обругал партократа давних совковых лет и размазывает рассказ об этом на многих страницах!» Никаких возражений. Всё так. Одна только закавыка… Вы действительно можете сегодня и в прессе, и в эфире подвергать самым жестоким разносам любых могущественных и власть имущих людей. Вот только попытайтесь туда прорваться… Ну, ладно, не удалось пробиться в эти самые, в самые свободные и независимые наши «масс медиа» (вот видите, овладевает старорежимный «совок» помаленьку словарём демократической эпохи), не беда – вы можете пройтись по улице вместе со своими единомышленниками, держа над головой плакаты, на которых начертано то же, что вы будете скандировать. Ну, к примеру: «Банду мэра (имярек) под суд!» Или даже «Замочим преступного президента (имярек) в сортире!» И вам за это ничего не будет! Ни-че-го! Ни зарплаты, ни пенсии, ни пособий по безработице, ни… Ну, ровным счётом ничего вам не будет. Шутки в сторону, однако… Вот вы всё-таки пробились на наш, самый голубой в мире экран или в радиостудию. Или – хоть на страницы районной газетки тиражом в полтыщи экземпляров. И на радостях вы не просто оппозиционному злословию предались, а что-либо поконкретней поведали вашей аудитории. Ну, к примеру… К примеру, вы расскажете о том, какими «маршрутами» движутся финансовые потоки в вашем районном городке – от кого, и к кому. Или – масштаб покрупней: вы продемонстрируете листочек бумаги с текстом, согласно которому глава вашей области обязуется «отстёгивать» главе вашей местной «братвы» определённую сумму ежемесячно… Или – совсем уж всерьёз: вы поведаете своим слушателям или читателям о том, на каком именно участке этого самого «маршрута» валютного и какой именно скромный банковский служащий направляет определённую сумму на зарубежный счёт другого скромного канцеляриста – из кремлёвской канцелярии… Цензуры у нас нет. Вашего цензора вы не увидите. Зато вас он увидит в тот же день. В оптическом прицеле. Уверяю вас. Да вы и сами это знаете. Так-то, господа-товарищи… Не к тому я это всё говорю, чтобы отдавать предпочтение мерзостям одной эпохи перед гнусностями другой. Вот моё убеждение: с тех давних лет уже позапрошлого века, когда русский гений в сердцах воскликнул «Бывали хуже времена, но не было подлей!» - с тех пор каждый живущий в России мог именно этими словами определять своё время. Имел право. …и право на то, чтобы звать своё время самым прекрасным мгновением вечности – тоже. М о ё время было и тем, и другим. Таким и остаётся). …Вспоминая тот злополучный день, вот чему более всего я дивлюсь – тому, что мне удалось вообще задержаться у микрофона, тому, что грозные служители литературного Олимпа вначале не сделали даже и малейшей попытки прервать мои словоизлияния, перебить меня и прогнать с трибуны. Ведь не раз бывало – сгоняли с неё и гораздо более маститых выступальщиков, и за гораздо более скромные ноты непослушания. А тут… Одним лишь это можно объяснить. Тем, что ведущий собрание «монстр», и его аппаратные сотоварищи, да и сам цекистский верховный идеолог – все они, попросту говоря, испытали небывалое ошеломление уже в первую минуту моего пребывания у микрофона. Настолько нежданными, непредвиденными, вообще невозможными для произнесения в этом зале оказались для них самые первые раскаты моего словесного грома. В первые несколько минут эти «насквозь пропахшие президиумом» люди, привыкшие к жёсткой субординации во всём, просто отказывались верить своим ушам, слыша мои ораторские всплески… Опять-таки значительно позже один из них, уже удалившийся на покой, так говорил мне, вспоминая те минуты: «Как ты пошёл громыхать, как с места в карьер начал этого мизерабля цекистского сечкой рубить – так я аж себя за руку ущипнул: да не снится ли мне это?! Да не может же, думаю, быть такого, чтоб Чудинцев, при всех его тараканах в голове, вдруг в камикадзе превратился!..» Можно понять тогдашнее состояние этих разного ранга писательских функционеров, аппаратчиков и чиновников. Ведь замахнулся «на святое», ведь противопоставил себя одному из ведущих жрецов партийного храма на Старой площади не какой-нибудь записной фрондёр, не «придворный оппозиционер», которому лишь бы прокукарекать, а там хоть не рассветай, и не кто-нибудь из окололитературных люмпенов без царя в голове, которые временами и тогда были готовы нести любой отчаянный бред, лишь бы привлечь к себе внимание «демократической общественности Запада», отнюдь нет. Вызов деятелю из высшей номенклатуры бросил их младший коллега, которого ещё несколько лет назад они прочили в ту же номенклатуру, не по разу пытались из него, учитывая многие его положительные качества, сделать «выдвиженца»… И – на тебе! …Можно их понять. Ведь никто из них не был сколь-либо близким мне товарищем или приятелем, душу свою я никому из них даже и не приоткрывал. …И, наконец, никто из них ведать не мог о тех душевных, духовных и физических мучениях, которые мне пришлось испытать в предшествующие года два-три, по нарастающей соприкасаясь с тем призрачно-химерным, и всё же очень реально в меня проникавшим миром, что получил в вульгарном речевом обиходе пренебрежительное имя «булгаковщины». С Тенью Мастера… Такое даже тем из них, кто обладал хорошим воображением, представить было невозможно! …Короче, за краткие доли мгновенья когда мои глаза обегали сидевших на сцене, суть произошедшего и происходящего до меня дошла. Хотя бы главной своей частью: мне стало ясно, на кого я «руку поднял»! Но остановиться я уже не мог: вот уж точно – скорее дал бы себя удушить у трибуны, чем покинуть её. И другое стало ясно при виде грозно взвившегося над залом и над президиумом председательствующего «серого кардинала», что вот сейчас он рявкнет на меня своим неслабым бас-баритоном, сейчас он обрушит на меня груду гневных обвинений в смертных грехах, сейчас он даст этим своим гневом сигнал и указ своим послушным и подобострастным «людям свиты», коих немало находилось в зале, сигнал к травле меня, к воплям «Позор!», «Вон с трибуны!», «Прекратить это безобразие!» - и мне не удастся перекричать этот вой! И в следующую долю секунды во мне сработало то, что можно назвать, конечно, и «привычкой к демагогии», но вернее было бы обозначить как умение держать удар. Умение, выработанное опытом участия в уже немалом числе литературных споров и ристалищ… И потому – наверное, опять-таки за малую долю мгновенья, до того, как председательствующий должен был разомкнуть стиснутые в гневе свои уста и обрушить на меня свой вовсе не показной гнев, - я, возвысив голос до самого верхнего предела и придав ему звучание набатной меди, возгласил: «Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев в своём недавнем выступлении указал на следующие явления нашей жизни, которые должны быть в центре внимания советской литературы…» Оборвать выступающего во время цитирования им высказываний генсека – такого себе «монстр» не мог позволить и вынужден был сесть. Я же, на ходу сочинив за бровеносного главу «ума, чести и совести нашей эпохи» его руководящие указания советским писателям, завершил этот пассаж так: «…а вот наш высокий гость по совершенно непонятным для нас причинам исказил, извратил, попросту переврал эти мудрые мысли руководителя нашей партии!» …а далее я продолжил свой разнос того, что целый час потрясало зал своими надругательствами над русской словесностью… И опять-таки на всякий случай краем глаза взглянул на объект своей филиппики, на высокопоставленного цекиста. И то, что я увидел, меня потрясло так, что если бы не моё непреодолимое желание выплеснуть в слова накипевшую, накопившуюся ярость, то, верно, я и сам бы бросился прочь с трибуны. И не куда-нибудь, и не к стойке бара, а – прямым маршем в туалет. Да, простите, в сортир, дабы нагнуться над соответствующим сосудом и выплеснуть туда из себя уже не ярость, а отвращение. «Идеолог» сидел от меня буквально в двух-трёх метрах, и мне отлично был виден его тщедушный и ничуть не начальственный облик. Свои устные послания залу я произносил уже, как говори- тся, «на автопилоте», слова уже сами слетали с языка, потому и возможно мне стало боковым зрением наблюдать за этим своим нежданным «оппонентом». А он слегка повернул голову в сторону от зала и в мою сторону, пригнул её и прикрыл одной ладонью рот. Другую же ладонь подставил плашмя к подбородку и что-то выплюнул в неё. Что-то белорозовое – и моего, уже не ястребиного зрения хватило на то, чтобы понять назначение этого предмета. То была искусственная челюсть ! «Он, сволочь, совсем, что ли, всех тут так презирает, что свои вставные зубы прилюдно вытаскивает изо рта?!» - скользнуло у меня в подсознании, а в груди и в горле запузырилась тошнота. Но останавливаться было нельзя, я продолжал и говорить, и краем глаза держать в поле зрения своего «оппонента», и через миг мне стало ясно, зачем ему потребовалось свершать столь непривлекательное и неаппетитное действо. Он вынул из кармана сверкающий баллончик и, опять-таки прикрывая рот ладонью, попшикал из этого баллончика себе в горло… Ах, вот в чём дело! Видно, за час напряжённого глаголания на трибуне у «идеолога» перетрудились и засвербили голосовые связки, вот он и решил их умаслить снадобьем, содержавшемся в том баллончике-пульверизаторе. А при наличии вставной челюсти во рту производить такую операцию было бы рискованно: можно и поперхнуться, и даже той же самой челюстью подавиться. И по-человечески-то все эти далёкие от привлекательности и малоэстетичные манипуляции можно было понять, и можно было бы даже посочувствовать высокопоставленному носителю вставных зубов, - но никакого сочувствия к нему я испытывать тогда, конечно, не мог. Да и сейчас не испытываю… Но вслед за «челюстно-горловыми» манипуляциями шеф цекистского идеологического отдела произвёл ещё одну, ошеломившую меня уже настолько, что я поневоле сделал паузу в своих бушующих словоизлияниях – всего лишь на секунду-другую, но всё-таки смолк. Ибо «идеолог» из другого кармана вытащил некий маленький предметик, о предназначении коего я, пожалуй, не смог бы догадаться, если б его владелец не вставил бы его себе в ухо. Это был слуховой аппарат! «…Стало быть, он даже и не слушал меня, он даже и не слышал ничего из того, что я тут на него извергал!» - внутренне ахнул я… …Этой секундной паузы хватило, чтобы ведущий собрание «серый кардинал», приподнявшись, подтянул к себе настольный микрофон и вновь, глядя на меня, грозно тряхнул седеющей гривой и «разночинной» бородой – несомненно, опять решил прервать меня и согнать с трибуны… Но тут на весь зал послышались слова, которые сидевший рядом с ним идеолог лишь ему и адресовал, но звучание-то их направилось в микрофон. И мы услыхали высокоруководящий глас, дикция которого была сильно искажена отсутствием вставной челюсти: «Нишево, нишево, пущь вышкажываетша, пущь он вышкажет, што он думает о поштановлении! Мы должны жначь, как мышлят нешоглашные с нами!» Значит, всё-таки понимает этот дундук, что я его не мёдом тут поливаю, подумалось мне, уже двигавшему свои «вышкажывания» прямо к финишу. Ну и чёрт с ним, чем хуже – тем лучше… А в зале, ошарашенном этим шамканьем (которое, вдобавок, прозвучало как некая издевательская пародия на давно уже вошедшую в анекдоты дикцию Брежнева), послышались и смешки, и глухой ропот. И, вдохновлённый ими, я «под занавес» не мог удержаться от совершенно хулиганской эскапады: «А в завершение своего выступления я всё-таки посоветовал бы нашему идеологическому руководителю почитать Булгакова. Поверьте, это будет для вас очень пользительное чтение! По крайней мере, тогда вы не будете столь неосмотрительно бросаться такими терминами, как «булгаковщина»… да и другими, оскорбляющими современную советскую литературу. Михаил Булгаков не принадлежит к числу моих любимых писателей, но кое-чему он меня научил. Научит и вас. Хотя бы тому, что к слову надо относиться с почтением. И к литературному, и к словам высоких партийных постановлений…» …Уж не знаю, последовал ли один из высших чиновников со Старой площади моему совету. Скорее всего, что нет – этим людям тогда было не до чтения художественных произведений… Но если бы я владел даром предвидения, то добавил бы к своему совету следующие – причём лично и глубоко выстраданные – слова: «…читайте его хотя бы для того, чтобы точно знать, что это за зверь такой – «булгаковщина»! Чтобы избежать столкновения и даже соприкосновения с ней. Не дай вам Бог с нею встретиться!..» Будь я провидцем – именно так предупредил бы высокопоставленного идеолога о грозящих ему опасностях. И его младшему братцу, тому самому «пришибееву» - тоже… Потому что тогда бы я знал о том, что произойдёт с этими людьми, с каждым по отдельности, в не столь отдалённом будущем. …о том, что буквально через год-полтора шеф цекистского отдела идеологии будет для начала изгнан из «номенклатуры» и отправлен на пенсию, а потом на него будет заведено уголовное дело – в рамках дела Щёлокова, бывшего в брежневские годы министром внутренних дел, а также другом и покровителем своего подчинённого, который в конце концов и «сел на идеологию» благодаря ему. Ну, никуда более и ни на какой срок мой бывший «оппонент» не сел, но прозябал до конца своих дней на ничтожной для его бывших должностей пенсии. И прозябал недолго: примерно в начале «разгула демократии» схватился за сердце, сидя в длиннющей очереди районной поликлиники на запись к врачу. К зубному… А вот его братца младшего, бывшего литературного зубодробителя, ждала несколько более долгая и уж гораздо более колоритная судьба. В горбачёвские времена он тихо исчез из писательского мира, а в первые ельцинские годы внезапно объявился в таком статусе и в таком «имидже», что даже его старинные знакомцы не могли признать в нём того, кто ещё недавно ходил в «пришибеевых». Куда там! – он стал вицепрезидентом одного из новоявленных столичных банков. Да не какого-нибудь мелкого, а одного из самых престижных и, конечно же, «самых надёжных». И уж не могу вспомнить, по какой причине, но именно туда ринулись сдавать валюту на хранение под крупнейшие проценты «лучшие люди» нашей интеллектуальной элиты – самые знаменитые артисты, режиссёры, дирижёры и так далее. Писателей, замечу, среди вкладчиков оказалось немного, - кто знает, почему; может, оттого что это сословие более иных обеднело в эпоху полной свободы слова, а, может, многие из них ещё помнили, кем прежде был вице-президент этого финансового учреждения. Однако я сам слышал от нескольких своих коллег по перу, открывших валютные счета в банке бывшего «пришибеева», слова, полные радужных надежд на то, что их сбережения вскоре обеспечат им самую роскошную жизнь до конца их дней! Обеспечили… О, поле чудес в стране дураков! – ещё примерно за год до первого «дефолта» этот банк в одночасье был объявлен банкротом, его глава успел улизнуть за рубеж, и до сих пор его разыскивает Интерпол. А бедные – вмиг ставшие таковыми в обоих смыслах – жрецы изящных искусств, доверившиеся «самому надёжному», ещё долго кляли себя и свою доверчивость самыми неизящными и простонародными глаголами: им не вернули не только ни цента, но даже и ни гроша… Вице-президент же этого банка наутро после объявления его банкротом был обнаружен в своём кабинете: подчинённым вначале подумалось, что он спит мертвецким пьяным сном, - на его огромном столе стояли две опорожненные бутылки дорогого французского коньяку. А на его шее синел тонкий след от удавки… Так завершил свой бесславный путь бывший литературный зубодробитель. И вы скажете, что всё это – не «булгаковщина»? не шутки «мессира»? Как бы не так… Но мне в тот день не дано было всего этого предвидеть. И другого тоже… Того, например, что самые крикливые «люди свиты», роившиеся с угодливыми лицами вокруг могучего во всех смыслах «монстра», самые ревностные защитники «руководящей линии», сидевшие тогда в президиуме, лет через пять-шесть станут самыми шумными «прорабами перестройки», чуть позже – «борцами за демократию», а потом и вовсе станут требовать уничтожения «проклятых коммуняк». Что певец «комиссаров в пыльных шлемах» заявит в печати о своём восторге от расстрела танками дворца парламента. И что сам «серый кардинал», уже бывший, не сможет пережить потрясения от целой лавины статеек, в которых те же, кто был в его «свите», поливали его грязью и требовали суда над ним… Это ли не шутки Воланда?! ………………………………………………………………….. …Но я всего этого не мог знать, завершив своё выступление и сходя с трибуны. Зато я твёрдо знал другое: «булгаковщина», чертовщина больше не властна надо мной… 8. Секс-оборотень. …Однако мир химер, фантасмагорий и всяческой нечисти, тем более во многом из литературы возникший мир – это одно, а действительность – совсем иное. И даже если на тебя, на твою жизнь и на твои дела и поступки впрямую и повелительно влияют самые что ни на есть потусторонние силы – живёшь-то ты по эту сторону, и отвечать перед людьми приходится тебе, лишь тебе самому, а не каким-то мифическим персонажам… Почти не помню, что происходило в первые минуты после того, как я завершил своё трибунное безумие. Вспоминается чувство невероятного опустошения, охватившее меня. Помнится – кто-то подходил ко мне, хлопал по плечу, а кто-то шарахался от меня… Потом – словно из какой-то призрачно-болотной мглы стали проступать… нет, не все из них я мог бы назвать лицами. Стали проступать, проявляться то постно-скорбные и осуждающие, то разъярённые физиономии, а то и просто хари, злорадные и пышущие звероватой ненавистью… Но не могу подобно одному гоголевскому персонажу заявить, что в те минуты видел вокруг себя одни свиные рыла, - нет, именно тогда почувствовал скорее нервами, сердцем, кровью, сколько доброго и ободряющего света исходит от многих лиц людей, казалось бы, вовсе не близких мне ни в чём, кроме причастности к «задорному цеху», как некогда окрестил Пушкин сообщество пахарей и сеятелей на ниве словесности. Именно этот добрый и тёплый свет, проникая в меня, стал возвращать мне чувство реальности, ясный и осознанный взгляд на то, что происходило и слышалось вокруг меня. …И я увидел трясущееся и не просто бледное, но вот уж точно – мертвенно-белое – лицо «серого кардинала». С него словно бы сняли маску начальственно-неколебимой бесстрастности: наш сановник обливался потом, мокрые пряди его седеющей гривы прилипали ко лбу, губы вздрагивали, а в глазах трепыхались вспышки какого-то совершенно детского непонимания того, что произошло. Но именно поэтому я, наверное, впервые за лет шесть-семь знакомства с «монстром» убедился в том, что у него есть ж и в о е лицо, естественное, пусть и не лучшими чувствами обуянное… И до меня стали доноситься его выкрики, полные всё того же непонимания, обиды, гнева и даже отчаяния. Он опять переходил в этих выкриках с «ты» на «вы», с почти уличной брани на казённо-официозные словеса угроз: «Ты понимаешь ли, … твою мать, что ты натворил?! И что теперь мне с тобой делать, раздолбай х…ев?! …Вы никуда не уйдёте от самого сурового наказания за эту злонамеренную провокацию! Мы вынуждены будем избавить наши ряды от вашего присутствия! …Ты же не только самоубийцей стал, - ты меня, меня! б…, под монастырь подвёл!..» …Кажется, именно при упоминании о монастыре к нам подошёл, стуча своей суковатой дубиной, Федот Викторский. Потому что, помнится, рявкнул он на гроссмейстера аппаратной закулисы примерно так: «Ну, что, Филя, безбожник записной, всё про святые обители толкуешь: сказывается поповское происхождение-то, а?! Го-гого!» - и дважды Герой, ас военного неба и бывший зек, не страшившийся, похоже, уже ничего, оглушительно и молодо захохотав, хлопнул по плечу литературного столоначальника, который окончательно растерялся от этих насмешливых напоминаний ветерана. А тот нежданно дёрнул меня за ухо и шлёпнул пониже спины совершенно по-отцовски, незлобно и покровительственно. «Держись, малец, от ответа не бегай, но и не дрейфь: мы и не из таких переплётов живыми выходили, хоть и без зубов… Звони, если эти (он кивнул на «монстра») тебя за ж… прихватят! А ты, Филя, не души парня, не дадим! В кои-то веки писатели его устами в свою защиту слово сказали… Сделай вид, что ему по мозгам врезал, ты ж это умеешь, но не души! А ты, малец, удивил меня: я думал поначалу, что ты из более послушных… Ну, держись, отвечать-то за это придётся!» И он ушёл, припадая на правую ногу и постукивая самодельной тяжёлой тростью… «Серый кардинал» посмотрел ему вслед, и в его взгляде мне явственно увиделась тоскливая зависть… Но всё же опытный функционер взял себя в руки и счёл нужным снова (ведь зал был ещё полон, и люди смотрели на нас) наброситься на меня: «Вы понимаете, что поставили на себе крест?!» …Ответ мой был нежданным для меня самого. Уж и сам сегодня не припомню, как мне пришло в голову ответить писательскому сановнику именно таким образом, но, услыхав его грозный риторический вопрос, я тут же засунул руку себе под рубашку и, вытащив её, разжал ладонь перед остолбеневшим от этого жеста «монстром»: «Я крест на себе не ставил, незачем: он на мне уже давно – вот он!» Это был мой крестильный крестик: маленький, старинного тёмного серебра. Семейная, даже родовая реликвия – по словам бабушки, он ей достался от её прародительницы. Став его владельцем восьми дней от роду, я носил его до того дня, когда мне повязали красный галстук: бабка мудро решила, что «так от греха подальше будет», сама сняла с меня крестик и положила его в одну из своих многочисленных шкатулок… Признаюсь: долгие годы я и не вспоминал о нём. Бабушки уже не было в живых, а я уже носил на Севере погоны офицера морской авиации, когда во время отпуска встретился в родном Талабске со своей крёстной, младшей сестрой отца. И она, сама к тому времени уже немало лет бывшая женой офицера-лётчика, положила мне этот крестик на ладонь и сказала: «Твоё дело – носить или нет. Но пусть он у тебя будет. Даст Бог – сохранит! Моего – хранит…» С тех пор я уже не расставался с ним. …А в том верховном постановлении, которое стало причиной вышеописанного собрания, и впрямь содержались такие грозовые требования к писателям сражаться против «опиума для народа», каких уже давно не слышалось: времена шли хоть и душномрачноватые, но по-своему и «вегетарианские» в чём-то. По крайней мере – к Церкви. Уже и дети крупных партийных и государственных бонз, не особенно стесняясь, хотя и не афишируя это, и венчались, и чад своих крестили – правда, нередко «на дому». Вот тут-то, пожалуй, и подходит к тем годам одиозное определение «застой». Ни туда, ни сюда… И вдруг – новый гром! Так что можно было понять остолбенение одного из главных руководителей писательского союза, когда он, смиренно склонив голову перед этим громом, вдруг увидел то, что увидел: меня, демонстрирующего ему свой нательный крестик. Да и не как-нибудь тайком, а прилюдно: вокруг нас толпилось немало и «людей свиты», и просто любопытствующих (после моего выступления он просто не мог не объявить перерыв). От волнения он даже стал заикаться, чего с ним почти никогда не случалось. Злые языки говорили так: он хочет доказать, что впадает в заикание реже, но с гораздо большим вкусом,, нежели другой крупный босс нашего «департамента», всесоюзный любимец детей и автор гимна – «дядя Стёпа»… «Т-ты по-по-ним-м-маешь, что по-по-ставил на с-себе к-ккрест к-ка-как на пи-пи-писателе?!» Грешно, конечно, смеяться над дефектами речи другого, тем более, когда с ним беседуешь. Но я, услыхав эту, искажённую заиканием, гневную фразу, не мог удержаться от хохота. Хотя и понимал, что, скорее всего, смеяться последним буду не я. Однако и находиться более рядом с «монстром» и вообще в писательском клубе, ещё недавно столь желанном для меня, сил у меня не было. И, пожалуй, впервые обращаясь к этому сановнику на «ты», я выдохнул: «Вот здесь ты прав. Абсолютно! В душу верно… Пи-пиписателем я не хочу быть и не буду». И ушёл. …Но не зря же наше литературное могучее ведомство, размещавшееся тогда в этом Доме и нескольких примыкавших к нему, звалось иногда «департаментом имени Воланда». Быстро и просто его стены от себя не отпускали… Я хотел поскорее выскользнуть на улицу, чтобы ни с кем более не разговаривать, чтобы не слышать ни сочувствия или даже восторгов от одних, чаще всего полушёпотом и с оглядкой высказывавшихся, ни наигранного – рассчитанного на то, чтоб «все услышали» - возмущения других. И потому побежал вниз не парадными лестницами и не к главному выходу, а всякими окольными лестничками, коридорчиками и лифтами, лишь немногим завсегдатаям этого огромного здания известными, устремляясь к чёрному ходу. Особенно же мне хотелось миновать различные «злачные» помещения писательского клуба, чтоб не пришлось отбиваться от искренних и горячих приглашений «отметить это дело». Знал: если не удержусь – чтото недоброе обязательно произойдёт. Так уж не раз бывало. Но недоброе произошло и без возлияний. У самого выхода в маленьком зальчике-прихожей, где обычно усаживали неприхотливых посетителей ресторана, когда его зал бывыл переполнен, стоял один накрытый столик. За ним сидел Альхен Щупальцев со своими «мальчиками». Кавычки тут не случайны. Этого Щупальцева в литературной среде все тогда звали Альхеном по аналогии с одним второстепенным, но колоритным героем «Двенадцати стульев». Помните – «голубой воришка Альхен»… Воровство Щупальцева так никто и не доказал, но «голубым» он являлся несомненно. Это тоже знали все… В своё время Альхена, о чьих литературных дарованиях никто не догадывался, чья-то вышестоящая воля усадила в кресло главного редактора одного из многочисленных в те годы тонких молодёжных журнальчиков. (Ходили слухи, что ему покровительствует то ли родственник, то ли просто некто, бывший тогда тем, что звалось «шишка на ровном месте», - но за достоверность этих слухов не берусь ручаться…) И в этом кресле новоиспечённый деятель журнального процесса преуспел так молниеносно и так мощно, как мало кому удавалось даже при наличии яркого писательского дарования и на гораздо более «хлебном» месте. Поистине: дайте мне казённого воробья, а уж я около него прокормлюсь… Альхен кормился просто блистательно! За несколько лет он стал автором двух поэтических книжек, сборника рассказов, очерковой брошюрки и превеликого множества статеек и заметок в литературной прессе. И сам он в той прессе стал удостаиваться громких похвал, и однажды сам (вы только подумайте - с а м ) Евтушенко назвал его «своей надеждой». Но вдруг разразился скандал! То был едва ли не самый мерзостный из всех скандалов, сотрясавших в «застойные», в «брежние» годы нашу литературную столичную общественность. По крайней мере – самый дурнопахнущий. …Сначала тонкими ручейками, а потом бурными потоками потекли в «главные инстанции» нашего писательского союза, в начальственные кабинеты нашего «департамента» гневно- слёзные родительские письма. Автор каждого из них сообщал примерно следующее: мой юный сын стал жертвой извращённых сексуальных домогательств Щупальцева, который лишь при условии сдачи ему на милость соглашается печатать стихи моего сына! Жалоб от родителей юных поэтесс не поступало. Ни единой… Впрочем, среди юных дарований, чьи отцы и матери горели жаждой мести за их поруганную честь, встречались нередко и начинающие прозаики, и переводчики, и очеркисты, и даже драматурги… По первости на эти письма никто не обращал внимания, но потом подобные письменные жалобы гуртами пошли к нашему руководству уже из милицейских и прочих правоохранительных органов: служители порядка и юстиции не хотели себе лишей головной боли и пересылали конверты, полные родительского ужаса и гнева, туда, где, как они считали, должен пребывать «виновник торжества». Обычное дело. А вслед за тем к различным литературным столоначальникам начали приходить и сами родители тех юношей, которым, как выяснилось, Альхен Щупальцев вместо ножа к горлу в качестве ультиматума произносил одну и ту же фразу: «Хочешь печататься – терпи!» Впрочем, кое-кто из начинающих художников слова, в основном обладавших уже и ярко выраженной мужской гордостью, и просто развитым чувством достоинства, сам, не тревожа своих родителей, заявлялся в тот или иной кабинет писательских сановников и начинал стучать кулаком по столу: дескать, что же у вас творится – чтобы напечататься, надо стать «опущенным», так что ли?!.. От одного из таких ребят и мне довелось однажды выслушать его исповедь о том, как он избежал любовных объятий Альхена. После этой исповеди дня два я страдал полным отсутствием аппетита… Словом, разгорелся скандал, создали комиссию, которая должна была разбираться со всеми этими письменными и устными жалобами. Попутно, кстати, выяснилось, что у многих юных дарований (вот тут уж точно не только мужеска пола) шефредактор тонкого молодёжного издания в качестве обязательной дани отбирал для своих книжек и публикаций в прессе самые хорошие и зрелые их творения… Но тут уж члены этой бедной комиссии взвыли: ещё не хватало и плагиатом заниматься, так мы вообще в дерьме утонем! И сосредоточились на самом очевидном. А вот очам-то этих членов (комиссии) ничего и не было видно, кроме письменных гневных и слёзных посланий. Никто, н и к т о из оскорблённых родителей и никто из их чад не соглашался, чтобы его имя фигурировало даже на самом закрытом судебном процессе. Позорище-то какой! Более того: не менее десятка из этих юных и, в основном, весьма «девочкообразно» выглядевших пиитов написали на имя «серого кардинала» коллективное письмо. В нём они дружно протестовали против кампании клеветы на талантливейшего писателя Щупальцева, который на своём посту не жалеет сил для взращивания достойной творческой смены. Моральный облик Альхена в этом послании был просто идеальным, он лучился только розовым цветом. Но не голубым… Кроме того, вскоре этот скандал стал достоянием сразу нескольких зарубежных «радиоголосов», чему наши тогдашние власти, не только литературные, конечно же, не обрадовались. Наконец, в Москву пришли телеграммы протеста от Всемирной лиги сексуальных реформ: там выражалось возмущение новыми нарушениями основных прав человека в «империи зла»… Не исключаю и того, что кто-то из покровительствовавших Альхену «шишек» приложил свою руку к тому, чтобы, перефразируя известного поэта, шум затих, но Альхен не вышел бы на подмостки в храме Фемиды. Короче – скандал замяли. Как, впрочем, и большинство ему подобных в те времена. Головной лишней боли и впрямь никому не хотелось… Щупальцев отделался всё-таки на редкость легко даже и по тем временам: его не лишили писательского удостоверения, его просто выгнали из журнала… Но он недолго находился в забвении. Вскоре опять-таки чья-то невидимая верховная воля устроила его в маленькую, но весьма влиятельную газетку. И он сразу же начал весьма искусно «прикладывать» на её страницах тех, кто имел хоть какое-то касательство к его изгнанию с поста главного редактора. И продолжал этим заниматься все последующие годы своей жизни. А я как раз имел! Хоть и очень слабое касательство, но всё же: двое моих товарищей по литературному поколению, члены той самой комиссии, уже на излёте её работы уговорили меня войти в неё. Надо признать, я долго от них отбрыкивался: «голубой воришка» вызывал у меня отвращение, но в те дни мне было не до подобных разборок – как раз тогда я переезжал в квартиру Романиста. Но ребята, что называется, добили меня, взывая к моему мужскому самолюбию – «Надо же врезать этому педику как следует, чтоб другой нечисти неповадно было!» Вот на «нечисть»-то я и не мог не отреагировать… И вышло так, что именно моя фамилия, моя подпись стояла первой под многостраничными выводами той комиссии. Первой – всего лишь потому, что я поспешил подписаться первым, дабы поскорей отделаться от всей этой зловонной мути. Спешка в очередной раз не принесла мне пользы. Альхен Щупальцев мне этого не забыл. Ни в те давние годы, ни в более поздние… Но здесь ни к чему упоминать даже самые крупные из пакостей которые он мне сотворил. Главное – в другом. В том, что в тот злополучный день и в тот миг, когда я покидал после собрания писательский клуб, «голубой Альхен» сидел у выхода за накрытым ресторанным столиком в окружении трёх или четырёх женоподобных юношей. Увидав меня, он вскочил, словно ужаленный. Но на его круглой лоснящейся физиономии не боль была запечатлена – на ней сияла радость. Тут даже слово «злорадство» не подходит» Да, эта его радость была смешана со злобой, причём с лютой, зверской, но – это была именно радость. И даже так можно сказать: Альхен весь сиял настоящим счастьем! Счастьем отмщения, он был счастлив местью, свершившейся над его заклятым врагом… Пусть и не его, Альхена, руками… При всём моём, в ту пору уже немалом жизненном опыте, пожалуй, впервые в тот миг довелось мне увидеть человека, который был совершенно счастлив оттого, что другой попал в беду. Мне сразу стало ясно, что Щупальцев знает о произошедшем на собрании. Я этому не удивился: подобные скандальные слухи обычно разносятся по Центральному дому литераторов быстрее молнии… Признаюсь – и, полагаю, вы меня поймёте – очень мне хотелось запечатлеть свой кулак на лоснящейся от счастья ряшке «голубого Альхена». И однако я решил: надо как можно скорее двигаться к выходу. Как говорила моя бабушка – от греха подальше… Но Альхен разинул рот, оскалил зубы и – нарочито тонким голосом, почти альтом, врастяжку – даже не произнёс, а почти пропел. Хотя можно сказать и так – проблеял: «Ну, что, Чудинцев, п е с е ц пришёл тебе, да?! Песец, песец! на мягких лапках к тебе подкрался!» Вот тут-то у меня в голове помутилось. Я взглянул на «мальчиков» Альхена, на этих длинноволосых, как на подбор, женоподобных юношей. Впрочем, скорее, их можно было назвать существами неопределённого возраста (да и пола), старший из них выглядел на все тридцать, даже и с гаком, но у каждого из них кожа лица была такой, словно к ней никогда не прикасалась бритва. Ни намёка на возможность существования усов или бороды на каждом из этих лиц не наблюдалось… Я почувствовал, что к горлу опять подкатывает комок тошноты. Что я опять возвращаюсь в то состояние, в каком пребывал, слушая двумя годами ранее исповедь паренька, не пожелавшего войти в литературу через «опущение» себя Альхеном. Вспомнились обрывки из его рассказа: «А он мне, гад, шепчет на ухо – ты потерпи немножко, ведь это даже и не больно, а потом тебе и самому сладко будет!..» И вот это существо торжествует надо мной! – пронеслось у меня в голове, - вот эта нечисть блеет, что мне «песец пришёл»! Не бывать этому! В то же мгновение я решил убить Альхена. Ни о каких последствиях тогда мне и не моглось размышлять. Лишь одна мысль, лишь одна решимость заполнила не только мою черепную коробку, но и всего меня: «Я сейчас должен убить его!» …И уже не первый раз говорю на этих страницах: о, если бы мне Господом была подарена способность к предвидению! Если б я мог предвидеть… Тогда бы знал, что по происшествии десяти с лишним лет Альхен Щупальцев станет не только одним из газетных «соловьёв российской демократии», пусть далеко и не первого разряда, и не только правой рукой, вернейшим помощником советников первого и пресс-секретарём «всенародно одного избранного» государства под названием «эрэф», из президента - он и сам станет президентом. Не шучу: стал! Не всем вам, видимо, известно о существовании Ассоциации журналистов с нетрадиционной сексуальной ориентацией, - да-да, в недавние девяностые годы была такая и очень шумно боролась за права человека. Прежде всего, человека всё того же, «нетрадиционного»… А также за права некоторых национальных меньшинств, проживающих в Москве и занимающихся, в основном, коммерцией. Что поделать – высокая политика, Восток – дело тонкое, не нам, «традиционным» русакам, под силу в таких делах разбираться… Правда, в самые последние годы, они же начальные нового века, что-то не стало слышно об этой «нетрадиционной» Ассоциации. Наверное, потому, что с политического горизонта, а также из поля зрения правоохранительных органов исчез её главный ходатай и заступник в Кремле – тот самый советник того самого, уже бывшего президента страны. Исчез невесть куда этот советник, чьим пресс-секретарём служил Альхен. Пропал куда-то этот суперинтеллектуальный моложавый господинчик с донельзя тонкими, словно у светской дамы былых времён, чертами лица. Ищут прохожие, ищет милиция… А вот бывшего президента этой самой Ассоциации «голубых» и «розовых» тружеников и тружениц второй древнейшей профессии – то есть, Альхена Щупальцева – никто не ищет. Это уже никому не нужно. Знать бы мне тогда… Альхен, в своём «президентском» качестве побывавший во многих странах мира, где в моде и в почёте «нетрадиционно-сексуальные права человека», возвращался с международного конгресса ассоциаций, подобных подведомственной ему. И зарулил по дороге домой в столицу одной, с недавних пор совершенно суверенной республики, что на брегах Балтики. И найден был в номере загородного уютного отельчика – в луже крови. Но – живым. Правда, с проломленным черепом. Да с таким проломом, что мозг евтушенковского давних лет любимца навсегда утратил две свои главные функции: мыслить и запоминать. Все остальные органы того, кто был «нетрадиционно-сексуальным» рыцарем плаща и пера, остались в целости и сохранности. Врачам и родственникам этот больной никаких серьёзных хлопот не доставляет: есть, пьёт и совершает естественные отправления без сопротивления и даже охотно… Преступника же, оборвавшего творческий путь Альхена, прибалтийские менты – хоть и не без помощи наших – нашли быстро. Этот зверюга оказался пухленьким юнцом с почти детскими кудряшками – и совершенно по-детски он рыдал, рассказывая следователю, что грохнул своего любимого старшего партнёра из ревности, да, из жгучей ревности разлюбленного: Альхен якобы объявил ему об их неизбежном грядущем разрыве… Но ещё сильнее зарыдал последний возлюбленный Щупальцева, когда при обыске дачи другого его «старшего партнёра» был обнаружен кейс с отпечатками пальцев Альхена. Было мальчику над чем слёзы лить: содержимое кейса составляли исключительно и одни лишь пачки заокеанской валюты. Не довёз, не доставил к одному ему ведомому месту назначения эту груду «зелени», полученную им на всемирном конгрессе геев и лесбиянок, бывший главный редактор тонкого комсомольскомолодёжного журнальчика и глава «нетрадиционных сексуалов» от журналистики. Но сам Альхен этого не знает и уже никогда не узнает. Он существует с блаженной улыбкой неведения, не сходящей с его лица. С этой улыбкой не расстаётся он и тогда, когда его перевозят – то из клиники под присмотр домочадцев, то обратно… …Знать бы мне, предвидеть бы всё это – скорее всего укоротил бы я тогда обуявшее меня до безумия желание прикончить Щупальцева. Мне казалось, что мне просто прострелили голову или пробили её какой-то раскалённой кочергой издевательские, по-кошачьи тонко, почти мурлыкающе произносимые слова этого любителя девочкообразных мальчиков: «Песец тебе? На мягких лапках!..» Мне оставалось только одно: прикончить его. Иначе бы, думается мне, у меня тогда, пожалуй, разорвалось бы сердце… «Это ты прав, голубой: мне – на мягких. А тебе – на твёрдых. Вот на этих!» И, сказав так, я схватился за две ножки столика, вокруг которого сидели Альхен и его «мальчики». Совершенно не могу понять: откуда у меня тогда взялось столько сил – чтобы не просто поднять за две ножки достаточно всё-таки увесистый ресторанный столик, но и, стряхнув с него на сидящих тарелки со снедью, стаканы и бутылки вместе со скатертью, взметнуть его над своею же головой. Непостижимо! Одно слово – экстремальная ситуация. Вроде той, когда моряк швыряет за борт упавшую на палубу и готовую взорваться мину – такую, что и два здоровяка-матроса вряд ли поднимут… Сегодня я, хоть ещё и не одряхлел плотью, смог бы лишь с превеликой натугой оторвать такой столик от пола на вершок, не более того. А тогда… Тогда я взметнул стол над своею головой и с размаху грохнул им Альхена Щупальцева. Но везучей всё-таки он сволочью был! Успел пригнуться – удар крышкой стола пришёлся ему не столько по голове, сколько по спине. Он остался жив и даже не покалечен. Забегая вперёд, скажу: и «телегу» на меня он почему-то тогда не стал писать. Месть его последовала позже, и была она неоднократной и изощрённой… Но шум и грохот я произвёл этим ударом немалый: через миг из ресторанного зала уже бежали сидевшие там труженики советской литературы, чтоб узнать, что стряслось. Один из них, незадолго до того слышавший меня на собрании, взглянув на место происшествия и мгновенно сообразив, что и по какой причине здесь произошло, схватился за голову и в ужасе, без всякого злорадства воскликнул: «Ну, знаешь ли! Будь я на твоём месте – застрелился бы!» «Это так, - ответил я, - Однако на своём месте я, а не ты». И вышел прочь… 9. Р а с п я т и е . Стреляться я, действительно, не собирался. Прежде всего – не из чего было бы… Однако, выйдя из «гадюшника», как в обиходе завсегдатаев писательского круга он нередко именовался, на свежий (относительно, разумеется – всё-таки Москва, мегаполис) воздух, я почувствовал, что задыхаюсь. И удушье это было в почти буквальном смысле убийственно. Меня душило одиночество – такое, какого не приходилось испытывать прежде, даже в самые одинокие и мрачные дни и часы года, прожитого в коммуналке. Смертельное, особого рода одиночество – когда в огромном городе, где у тебя есть ещё немало добрых приятелей и товарищей, ты никого не хочешь и не можешь из них видеть. Потому что знаешь: душа твоя не отойдёт от мрака и от тяжести даже в самом душевном разговоре с любым из них. А эти мрак и тяжесть уже нестерпимо сдавили её, они уже затягиваются у тебя на горле тугой намыленной петлёй… А те, рядом с кем я мог бы избавиться от этого чёрного и удушливого состояния – те были далеко. Или даже очень далеко. И на самый поздний поезд в Талабск, к отчему краю, к целебному свету родительского дома я уже не успевал, и те, кого я звал «корешами» - самые верные и самые надёжные друзья – жили кто в Сибири, кто на Севере, а кто и в горных южных краях. К ним надо было лететь, чтобы свидеться самое раннее лишь на следующий день. А я уже изнемогал под нарастающим грузом одиночества, оно уже расплющивало меня и сводило с ума своим космическим холодом! И лишь одна душа во всём этом громадном столичном городе могла тогда согреть мою душу – совсем юная, солнечно-светлая, трепетно дышавшая в тёплом тельце моей дочурки. В те дни – единственно родная мне душа во всей Москве… Я позвонил из уличного телефон-автомата. Телефон моей бывшей жены молчал. Я позвонил её родителям: они мне сказали, что она вместе с дочкой улетела на две недели в Болгарию, к давним друзьям их семьи. Перед глазами мгновенно возникло видение: моя девочка нежится в тёплых синих волнах и хохочет, кувыркаясь по золотому песку. И губы мои задрожали – впервые в тот день. …И я вновь оказался в бывших владениях профессора Спасского, он же – профессор Преображенский из «Собачьего сердца». Снова вошёл в бывшую операционную, что уже год с лишним служила мне жильём, взглянул на высоченный потолок с лепными пухлотелыми купидонами и пышногрудыми нимфами. И – вновь на меня нахлынуло утреннее удивление: эта огромная комната перестала давить на меня своей громадой, никакого морока и никакого наваждения я в ней больше не ощущал. И даже муравьём в огромном сундуке перестал себя чувствовать среди этих высоких старорежимных стен… Неужели проклятие изгнанного из этих стен колдуна от медицины утратило свою власть, свою магию – по крайней мере, надо мной? Или - только на время? и нежиль, витающая здесь всюду, в самом воздухе, вскоре снова станет мурыжить, морочить, мучать и «водить» меня? Так я спрашивал сам себя, устало рухнув на стул посередине комнаты и посреди бедлама книг, тетрадей, папок с бумагами и прочих фрагментов моего литературного хозяйства, разбросанных во время моих утренних сборов к несостоявшемуся в тот день отъезду… И чувство лютого, воющего, волчьего одиночества во мне понемногу уступало место не менее лютому и горькому. На меня наваливалось и цепенило меня леденяще-ясное осознание отчаянного тупика, в который я был загнан. Загнан и событиями минувшего дня, и всем тем годом, прожитым в коммуналке на улице имени великого русского артиста сцены… Ясно было: разбирательства ( словцо «разборки» здесь более подошло бы, но оно тогда ещё не воцарилось в нашей повседневной речи, как и вся нынешняя «феня» вообще ) грядут превеликие! По всей логике тогдашнего миропорядка не мог я избежать судилища за те словесные пощёчины и оплеухи, которыми щедро наградил цекистского «идеолога». И никакие одиночные заступники вроде бывшего аса-лётчика не смогут спасти меня от этого судилища, думалось мне. «Серый кардинал» со товарищи по руководству нашим «департаментом» просто обречены на то, чтобы его организовать и устроить: если они сами не «поставят вопрос», то за них это сделают другие… те, кто тут же заменит их в их начальственных кабинетах. И уж, конечно, в этих суровых партийно-литературных разбирательствах мне лыком в строку станет всё, припомнятся мне все мои прегрешения – и многочисленные «телеги», о которых кричал в утреннем телефонном разговоре писательский сановник, и в существовании которых сомневаться не приходилось, и несколько шумных инцидентов, случившихся в застольях под кровом нашего клуба, и, разумеется, как венец всех этих безобразий – изувеченный мною Альхен Щупальцев (а я покинул Дом литераторов в полном убеждении, что подарил «голубому» как минимум вторую группу инвалидности…) Всё, всё это станет весомым «приварком» к самому главному обвинению! Мне уже явственно слышался булькающий от избытка пафоса голос «пришибеева» (настоящего, а не его старшего братца), усиленный микрофоном и несколькими динамиками: «…его разнузданное аморальное поведение не могло не привести его и к полному идеологическому падению, которое выразилось в провокационном выступлении, где он оплевал самое святое…» И ещё раз говорю – не сами по себе громы-молнии конечного наказания, которое должно было неминуемо последовать, заставляли меня заранее скрипеть зубами. Я уже готов был ко всему – и к прощанию со всеми возможными «корочками», и к расставанию с цехом литераторов вообще – ну, на непредсказуемо долгие годы, и к доле изгоя в целом. Настолько устал от нечисти, пронизавшей и пропитавшей то, что действительно оставалось для меня самым святым… Да и не мог не видеть, что та моя жизнь, которую я вёл в Москве уже лет шесть-семь, измотала меня донельзя и не может более длиться – дальше только пропасть. Так что не кара, не наказания грядущие и неизбежные заставляли меня сжимать кулаки в бессильной ярости. Я сжимал их и скрипел зубами оттого, что явственно и в красках представлял себе, какое мутно-вонючее половодье лицемерия и лжи мне предстоит переплыть во время предстоящих разбирательств на всяческих собраниях и заседанок-перебранок. Меня заранее мутило, когда я думал о том, свидетелем каких пируэтов лицедейства и подлости мне придётся стать на бюро, комиссиях и прочих толковищах, которые будут посвящены моим неладам с этим миром. Причём – уж это-то я точно знал – пируэты сии, слова и жесты осуждения и негодования будут по большей части вынужденными, высказанными и свершёнными либо от безвыходности, от понимания того, что «не скажешь – самому врежут», либо от въевшейся в кровь и плоть привычки к повиновению, к тому, что звалось «партийной дисциплиной». У кого-то это и было оборотной стороной их действительно дисциплинированных натур – таких, на которых держалось всё в государстве, благодаря которым происходили и созидания, и победы… Но так – у одних, а другие шли на мелкие или крупные подлости под прессом различных посулов, подкупов. И я знал: тот, кто будет патетически восклицать что-нибудь наподобие – «Мы не можем мириться с тем, что в наших рядах находятся люди, чьи взгляды и поведение несовместимы с нашими убеждениями!» - тот или перед началом разбирательства пробормочет мне: «Старик, ты меня будешь презирать, но у меня нет другого выхода – у меня у самого уже два строгача!», или после завершения оного, покрытый потом и багровыми пятнами, выдавит из себя: «Ты меня должен понять: мне двухтомник обещали!..» Вот в ожидании и в предвидении чего у меня становилось черно в глазах. И пропадало желание жить… О, наша великая и славная действительность советских лет! Как же страшно, что мы тебя утратили невозвратно, как же страшно понимать, что лучшее в тебе – уничтожено навсегда… Но как же страшно становится порою, когда ты вспоминаешься во всех своих подробностях и гранях! Простите, Александр Сергеевич, но вы не правы: не всё мило из того, что прошло. …Хотя жить сегодня – ещё страшнее. А что, спросит читатель, неужели нельзя было плюнуть на все эти грядущие мерзости да махнуть из Москвы надолго? Можно, конечно, можно бы… Положение «лица свободной профессии» это позволяло. Кое-кто из моих коллег по перу, кому грозило возмездие за какие-то его серьёзные проступки или прегрешения, реальные либо начальству привидевшиеся, так и делал. Одни, кто помоложе, отыскивали себе причины для дальних длительных командировок, а кто-то просто в какуюнибудь геопартию записывался; люди постарше с помощью врачебных справок находили оправдание тому, что им с целью восстановления здоровья необходимо надолго покинуть столицу. Словом, тут много вариантов существовало, чтобы, нынешним жаргоном выражаясь, «откосить» от наказания, оттянуть его вступление в действие до тех пор, пока оно само собой не сойдёт на нет, не «рассосётся». По моим наблюдениям, так оно чаще всего и происходило. Но – это был путь не для меня. Нет, вовсе не потому я не мог последовать совету моего мурманского кореша и либо потрудиться полгода-год вместе с ним в северных морях, либо в отчем краю поучительствовать, что у меня отсутствовал инстинкт самосохранения. Днём раньше я так бы и сделал. Но после всего случившегося за минувший день это не годилось… И ни в какие иные дальние края, где жили мои верные и настоящие товарищи, тоже не смог бы уехать. И опятьтаки не потому, что уподоблялся кролику, лезущему в пасть удава, или, напротив, страдал неким комплексом «камикадзе». Всё обстояло проще. Просто я не так был воспитан. И просто с детства не та у меня была натура, чтобы удирать от какой бы то ни было опасности, вернее – от наказания за свершённое мною. Пусть это наказание казалось мне несправедливым – я должен был доказать, что прав, что оно несправедливо, но не драпать от него. Понятие «драпать», «удирать» для меня, как для многих ребят, парней, мужчин моего поколения с юных лет являлось символом и синонимом позора. А тем паче – убегать, зная, что на оставленном тобой поле несостоявшейся битвы твои недруги и их холуи будут торжествовать, заочно издеваться и гоготать над тобой, с презрением потрясая указующим перстом: «А-а! сбежал, струсил, значит – мы правы!» …Нет, сволочи, никогда вы не будете правы! …Понимая и то, что не смогу никуда удрать, и то, что не в силах буду вынести купание в реках грязи с берегами лицемерия, я сидел в своей огромной комнате при свете единственной лампочки, горевшей под потолком: все остальные вышли из строя уже давно. И от минуты к минуте желание жить – просто существовать, физически пребывать на этом свете – тоже перегорало во мне. Небывалая, тупая, всепоглощающая апатия поселилась и в душе, и в теле, и, казалось, она выдавила кровь из вен и артерий, заменив её собой. Я поднял голову и бессмысленно взглянул на стену, отделявшую бывшую операционную профессора Спасского от той, где некогда располагалась его лаборатория. Там уже многие годы жила старуха Петровна. И то, что я нежданно увидел на этой стене, заставило меня вздрогнуть и подняться… …То, что я разглядел, мне было до минувшего дня и невозможно бы разглядеть. Утром того дня мне во время сборов к несостоявшемуся отъезду пришлось с превеликим трудом и с огромной натугой (звать на подмогу было ведь некого) отодвинуть от стены фантастически громадный по советским временам шкаф. Эта громадина, по словам Петровны, стояла там ещё с довоенных лет, её не вывез с собой один из тогдашних кратковременных жильцов, ею владевший, и с тех пор шкафом пользовались все обитатели комнаты. Став таковым, я разместил в нём почти всё своё имущество. Однако, обжившись, стал забрасывать на его обширный верх то какую-нибудь исписанную общую тетрадь, то блокнот, то книгу, о которых точно знал, что они мне не понадобятся очень долго, если понадобятся вообще. А однажды, вернувшись из какой-то поездки, почему-то зашвырнул туда маленький кипятильник – из тех, без коих тогда в командировках делать было нечего… И кое-что из брошенных по неразумию на верх этого шкафа бумаг, книг и вещей оказалось для меня предметами первейшей необходимости, учитывая предполагавшееся длительное пребывание вдалеке от Москвы. Вот я и полез утром минувшего дня по могучей стремянке разбирать завалы на вершине этой платяной махины. Но оказалось, что шкаф надо было ещё и отодвигать от стены: он, как выяснилось, не вплотную, не «заподлицо» к ней стоял, между его задней стенкой и стеной было некоторое пространство, куда и падали кое-какие блокноты, книги и вещицы, швыряемые мною на шкаф с излишним размахом, чаще всего не в лучшем состоянии духа или во хмелю (а в иных статусах души и плоти я под кровом той коммуналки почти не бывал). Вот и пришлось мне, собравшись с силами – слава Богу, освежёнными за месяц трудов на Севере, - упираться спиной в стену и толкать от неё эту деревянную громаду. Но мне повезло: тут же выяснилось, что шкаф стоял на нескольких колёсиках, каким-то образом прикреплённых к его днищу – они были незримы со стороны, однако, когда я толкнул этот гигантский экспонат изо всех сил, он откатился довольно далеко от стены. Так, что даже встал к ней под большим углом. И мне открылось то, что он закрывал собой. А закрывало собой это могучее изделие старых краснодеревщиков кусок стены, в котором когда-то была дверь между операционной профессора Спасского и его лабораторией. Дверь немалых размеров, однако меньше той, что вела в комнату из прихожей, и неудивительно, что шкаф закрывал собой всю её. Закрывал-то он, собственно, уже бывшую дверь: её, видно, в годы полной «коммунализации» этой огромной квартиры, заколотили и оштукатурили сверху, однако её контуры зримо проступали из-под штукатурки. Когда утром того дня я отодвинул шкаф, моим глазам открылся и какой-то барельеф, находившийся над дверью – над тем местом, где она когда-то была. Я тогда взглянул на него лишь мельком и, конечно же, не стал его разглядывать в лихорадочной спешке сборов. Мне показалось, что барельеф над бывшей дверью сродни тем амурам и нимфам, которые недвижно резвились в центре потолка и по егь углам. Но, говорю, мне было в те минуты не до него, да и плотный слой пыльной многолетней паутины затягивал это гипсовое произведение искусства… …Но, увидев его вновь, я даже в тусклом свете единственной лампочки сразу же разглядел, присмотревшись пристальней – там находилось нечто совсем иное. Вот что удивило меня сразу же: этот барельеф был чётко и крупно обрамлён не кругом или полукружием гипсового обода, как нимфы и купидоны на потолке, а – треугольником! Большим равносторонним треугольником, внутри которого был изображён явно не малыш из античной мифологии. И не древнегреческая красотка. Там виднелось что-то другое, а что – я не мог разглядеть, сидя на стуле, издалека. Но даже издалека, снизу, разглядев лишь треугольную гипсовую раму этого барельефа, я почувствовал, что в моём сознании возникают мысли, очень далёкие от моих событий и переживаний того дня. Треугольник! …В общем-то, как я нынче считаю, человеку с гуманитарным, тем более университетским образованием, стыдно было бы даже и в те, советские времена не иметь определённых познаний в исторической символике. А уж мне-то, не раз бывавшему на брегах Невы в дворцах и особняках, изузоренных этой символикой, мне, не раз слушавшему лекции и рассказы её знатоков о бывших владельцах этих шедевров зодчества, а потом и самому проводившему экскурсии для иностранных туристов в их стенах – мне давно было ведомо, чьим сакральным знаком является треугольник. Кто, к а к и е силы, какие тайные или полузакрытые общества помещают внутри этого знака другие изображения символов своей веры. Видит Бог, никогда я не демонизировал понятие «масонство». Не был, по-нынешнему говоря, «зациклен» на нём. Не спешил, видя беды и несчастья своего народа и страны своей, голосить, что в них виноваты те или иные «масоны»… Однако мне прекрасно было известно, насколько всерьёз находилось под влиянием тех или иных масонских лож русское общество начала ХХ столетия. В том числе и многие их тех, кто привёл государство к сотрясениям Семнадцатого года. А также и кое-кто из людей, поначалу бывших влиятельнейшими фигурами в новом «пролетарском» государстве. …Но при всём этом я никак не мог понять, почему этот символ находится – да нет, почему он находился на стене операционной профессора Спасского. Почему? Да и открыто – ведь тогда тут никакого «славянского шкафа», закрывавшего собой этот барельеф, не стояло, тут находилась дверь, стало быть, все, кто бывал здесь, могли сей знак лицезреть. А ведь среди них было немало людей, отчётливо знавших значение подобных символов… Ладно, может быть, старуха Петровна слишком уж идеализировала своего бывшего хозяина, утверждая и божась, что он был «христьянином сущим», что и в «церкву» хаживал регулярно и что даже перед каждой операцией молился, Всевышнего в помощь призывая. Может быть, даже и скорее всего, что так… Но ни одна, ни единая строка печатных источников об этом светиле медицины не упоминает и даже не намекает хоть на малейшее его увлечение масонскими идеалами. И, наконец, если б автор «Собачьего сердца», неоднократно бывавший в этой квартире и, разумеется, в этой операционной (как врач он не мог её миновать – хотя бы из профессионального интереса), узрел бы этот гипсовый обод – он, я уверен, непременно «подарил» Преображенскому. Но бы в его повести своему профессору никаких гипсовых треугольников нет, как нет и микроскопических намёков на подобные конфессиональные пристрастия её героя… Так зачем же доктору Спасскому был необходим сей гипсовый мистический символ на стене его операционной, зачем ему надо было помещать его над дверью в лабораторию? И ведь не могло изображение масонского знака тайной магии появиться здесь без ведома и тем более не по воле хозяина квартиры: он к интерьеру своего жилища и своих рабочих помещений, как и подобает человеку с отменным вкусом, относился пристрастно и даже придирчиво, думалось мне… Так в чём же дело? Существовал ли этот барельеф здесь при Спасском? Я встал и, вооружившись шваброй с очень длинной ручкой, которой иногда (признаюсь, донельзя редко) очищал от паутины верхние углы комнаты, дотянулся до предмета моих новых неспокойных размышлений. Многослойная паутина обвила всю щётку швабры, словно серая тряпка, хотя остатки её ещё держались клочьями на этом настенном украшении. Но я уже мог достаточно ясно разглядеть то, что было заключено внутри треугольника. По крайней мере, главное – увидел. Со стены смотрела чья-то х а р я ! …Особенно жуткого или оскорбительного в этом слове я не нахожу – если оно, конечно, не относится к внешности конкретного живого человека. Ведь у него, у этого слова, есть изначальное, старинное, стало быть – основное – значение: м а с к а . Личина. Вроде двойного изображения Комедии и Трагедии, украшающего вход в любой театр. Но эта харя, смотревшая со стены, была и впрямь страшна. Тем более, что неизвестный скульптор вылепил почти нечеловеческую, сатанински-хохочущую харю. Да ещё и с высунутым языком, загнутым вверх! Вот это я мог разглядеть, стоя внизу… Воспользовавшись тою же строительной стремянкой (она с утра стояла рядом со шкафом), через несколько мгновений я стоял на её ступеньке, касаясь головой потолка. И, когда смёл и снял с изображения остатки паутины и слой пыли, и когда, наконец, с максимально близкого расстояния взглянул на барельеф, на то, что мне открылось в треугольной лепной раме, то мне… Стыдно и сегодня признаться, но мне пришлось схватиться за верхний угол отодвинутого шкафа – ибо меня просто о т ш а т н у л о от стены! Хотя этот барельефный «портрет», если позволительно его так назвать, запомнился мне во всех своих чертах, мне и сегодня остаётся непонятным: кого же хотел изобразить неизвестный скульптор? Какое существо? …Сегодня мне представляется, что автор изначально решил пойти по пути других лепщиков, украшавших эту комнату: объектом (как тут скажешь точнее – натурой, героем?) его изображения тоже стал персонаж античной мифологии. А именно - с а т и р . Да, из тех кого можно увидеть и на полотнах Рубенса, и у Босха – козлоподобное, плотоядно-сладострастное и, с нынешней точки зрения, нечистоплотное, нечистое существо: обросший, лохматый двуногий зверь. Словом, пышногрудым и полуголым нимфам, красовавшимся на потолке моей комнаты, наверное, не очень хотелось посматривать на стену и встречаться взглядами с хищно-распалённым «сатирическим» взором их бывшего опекуна. (Правда, согласно иным античным сказаниям, эти резвушки бывали довольны таким опекунством и даже рожали детей от сатиров; что ж, ещё раз скажем – велика тайна женской натуры!) Но это у них, там, на тёплых средиземноморских берегах… Для меня же изначальным и основополагающим определением внешности сатира стали слова моей бабушки, услышанные мною в детстве. Эта старая сельская женщина, увидав в одной из моих книжек рисунок, изображавший сатира, всплеснула руками, перекрестилась и заахала, и заохала: «Ахти, царица небесная! – во какая рожа бесстыжая! Смотреть на неё – и то срамно… И вот этакими-то распутными харями теперь детей воспитуют!» …На меня со стены смотрело лепное изображение действительно бесстыжей хари. И по-настоящему распутной рожи. Иначе, лучше, точнее не скажешь, права была моя прародительница, - но именно таким и должен быть сатир! Он нагло хохотал мне прямо в лицо… Однако неизвестный лепщик, создавая этот барельеф, решил, видно, не ограничиваться классическим, общеизвестным обликом этого мифологического персонажа. Так сказать, обновил, осовременил его, внёс разнообразие в творимый им лепной портрет. Этот сатир был безбородым – но усатым! Причём усы его получились совершенно кошачьими: ну, такими, какие рисуют котам, скажем в мультфильмах – торчащими во все стороны… Далее: рога у этого сатира под рукой лепщика вышли короткими, толстыми и острыми – почти треугольными, такими, что их можно было принять за кошачьи уши. Наконец, из оскалённой в хохоте пасти сатира сверху и снизу высовывались по два острых кривых клыка! Словом, не персонаж античных мифов смотрел на меня, нагло, издевательски, бесовски хохоча – такая «натура» лишь в ХХ веке могла появиться. И не столько под рукой лепщика, сколько в жизни. И, помнится, даже не я сам сказал – что-то во мне произнесло – что-то из глуби моего существа послало мне на язык слово, заставив меня произнести его совершенно автоматически, не задумываясь: « Б е г е м о т!» Это был несомненно он. Или, скажем так – он прежде всего. Повторяю, неясен для меня остался замысел автора этого барельефа на стене бывшей операционной профессора Спасского, но в моём восприятии, в том понимании, которое мне было дано моей судьбой, изобразил он прежде всего булгаковского кота. Во всех его ликах, мне представавших. Это был и тот раскормленный котяра, что резко изменил мою судьбу в самой ранней моей юности, встретившись мне в старом московском особняке, тот, что был подарен его хозяйке вдовой Булгакова. Он нагло, по-прежнему с выражением полной своей безнаказанности, смеялся надо мной. Это же делал один из его двойников, написанный на холсте, который тоже был подарен Еленой Сергеевной – только уже Романисту, - и он сатанински хохотал мне в лицо из глуби барельефа, заключённого в треугольник… И, конечно же, тот Бегемот, что сошёл в мир со страниц главного булгаковского романа… Но не только этого сатаноида в кошачьем образе ухитрился изобразить неведомый скульптор. Стоя на ступеньке стремянки, вцепившись одной рукой в её металлический верх, а другой в верхнюю кромку шкафа, я с каждым новым мгновением открывал для себя в этом жутком лепном портрете иные, новые и многие ипостаси, черты и образы всего того, что в жизни для меня означалось единым словом – нечисть! Не только та многоликая нечисть гоготала надо мной, которая была увидена Мастером в окружавшем его мире и запечатлена им на бумаге, не только, скажем, клыки Фагота увиделись мне торчащими из кошачьей пасти сатира, не только ухмылки прочих слуг и прислужников Князя Тьмы… Нет, из выпуклостей и впадин этого барельефа слышался мне издевательский хохот той нечисти, которая и мою судьбу пронизывала, корёжа и топча лучшее во мне. Оголтелое ржание множества «бесстыжих рож» и глумливых харь беззвучно нарастало в ночной тиши огромной комнаты и молотило мои барабанные перепонки. И в чертах сатира проступили охваченные благородным негодованием против отступника и высокоидейные черты окололитературных «унтеров Пришибеевых» и зубодробителей. И гневно брызгал на меня слюной из оскалённой кошачьей пасти Гена-сейф, хранитель комсомольско-цекистского общака. И тоже ржал надо мной: ну, что, допрыгался, писака!.. А из скошенных, бесовских – и почему-то тоже треугольных глазищ этой настенной хари полыхнул в меня взор его подчинённой функционерки и старой девы – она торжествовала, взгляд её полыхал радостью отмщения и за себя, и за своего папашу-палача, за того, кого Мастер назвал критиком Латунским… И явственно распознавался в этой лепнине слюнявый и «нетрадиционно-сексуальный» облик Альхена Щупальцева, и я слышал его хихиканье, в котором тоже сладострастно звучала радость отмщения! Вся, в с я многообразная нежиль и нечисть, встречавшаяся мне в этой жизни, воплотилась в этом изваянном рогатом коте, в этом клыкастом усатом сатире – и её победно-глумливый хохот звучал мне приговором! А ещё эта тварь показывала мне длинный язык… Я отшатнулся и едва не грохнулся на пол вместе с огромной стремянкой. И кто знает, как бы дальше сложилась моя жизнь, если б грохнулся… Но – я почему-то ухватился за высунутый и загнутый концом вверх язык этой хари. Верней, за то, что считал языком. И – вдруг обнаружил, что эта штуковина вовсе не была им, она не могла считаться частью барельефа. Это был здоровенный металлический штырь. Настолько здоровенный и столь глубоко вбитый в стену, что выдержал мой вес, когда я ухватился за него. Разве что грязно-серый слой старой покраски, штукатурки и многолетней окаменевшей пыли почти весь осыпался от встряски… Загадкой для меня осталось, кто вбил этот штырь: сам ли художник лепнины, для большей выразительности решивший увенчать своё творение таким новаторским приёмом, деталью из «подручных» материалов (что сомнительно вообще-то: создатели барельефов – люди консервативные), или – кто-то из множества сменявших друг друга жильцов, которому понадобился на этом месте крюк или что-то вроде кронштейна. Но даже если жилец – он сделал это очень удачно, вбив штырь ровно в оскаленную хохочущую пасть, но не повредив лепки, а лишь усилив сатанинское страхолюдство изображения…Ещё бы – бесстыдно-зверская харя непонятного существа не только разинула клыкастую пасть, зайдясь в гоготе, но ещё и длинный загнутый язык высунула! Можно было понять и тех жильцов, которые закрыли этот кошмар в треугольном обрамлении громадным шкафом: лицезреть такое ежедневно даже человеку без предрассудков и с очень крепкими нервами было бы тяжеловато… …Я же ещё раз опробовал «язык» на прочность, нажав на него рукой и привалившись плечом. Штырь – не шелохнулся. Я ещё раз глянул в гипсовые, но поистине сверкавшие торжеством победы надо мной глазищи этой твари. И сказал вслух: «Ну, что ж, Бегемот, благодарствую за подсказку…» Все дальнейшие свои действия, как помнится, я совершал почти автоматически, так, словно их уже не раз детально репетировал. Заминка в них произошла лишь одна: сначала я связал меж собою несколько простыней, когда-то уложенных в тюк для сдачи в прачечную, но так и не отнесённых туда. Однако, уже соорудив из них длинный жгут, вдруг подумал: как же так? Меня о б н а р у ж а т в этих несвежих, нестиранных простынях – ох, как будет нехорошо!.. сегодня и самому с трудом верится, что человеку, совершающему приготовления к добровольному уходу из жизни, может прийти в голову такая мысль – но вот пришла же! точно помню. Пришла и заставила меня вытащить из «славянского шкафа» кипу свежих простыней и вязать жгут из них, что оказалось более трудным делом: они хрустели крахмалом, и скручивать их, и связывать было и неудобно, и утомительно. Я просто весь взмок, углубившись в этот трудоёмкий процесс, и немало непечатных словечек произнёс вслух и про себя, кляля себя за неуклюжесть. И, помнится, мелькнуло в голове: Ох, как же я недостойно себя веду перед этим! …О,Господи!.. Господа-товарищи, если вам доведётся читать эти мои странички, сделайте из них должные выводы. И, если судьба загонит вас в подобный переплёт, заранее запаситесь крепкой верёвкой. А ещё лучше – плюньте на судьбу и, помолясь Богу, попробуйте изо всех сил пробить стену, выросшую перед вами. Хоть головой! …И ещё помнится: уже стою на табурете и никак не могу сообразить – каким движением ноги надо его отбросить… ………………………………………………………………………… Сознание возвратилось ко мне, судя по всему, в считанные доли мгновенья. Видимо, оно и не покидало меня более, чем на долю мига: удушья почти и не ощутил… В сознание стал приходить от трёх ударов разной силы, доставшихся мне почти одновременно: ещё падая, почувствовал, как больно врезал мне по плечу сзади выломившийся из стены штырь-«язык», а по макушке стукнуло что-то более увесистое, но менее твёрдое. Наконец, самый сильный удар – от падения на пол почти плашмя. Как мне удалось, грохнувшись о паркет всем телом, не только ничего не сломать и не вывихнуть, но и не разбить лицо, а отделаться всего лишь несколькими синяками – до сих пор не пойму! Одно лишь могу предположить: в теле, в существе моём, несмотря ни на что, сработал рефлекс, выработанный ещё в давние, юношеские годы, когда я почти ежедневно гарцевал на ипподроме, и когда умению падать с лошади надобно было обучаться с тем же тщанием, что и умению сидеть на ней, держаться в седле. А потом этот рефлекс укрепился, въелся в кровь и в плоть под куполом парашюта… И вот он, видимо, ожил во мне, сработал! Ну, словом, одно можно сказать – Бог миловал. И если б только от неудачного падения!.. …Но самым кардинальным образом вернули меня к действительности, к чувству реальности крики, вопли и проклятия, раздавшиеся почти одновременно по всем комнатам огромной коммуналки. Да и как было им не раздаться! – такого грохота, могучего и громового, до слуха соседей из моей комнаты не доносилось, пожалуй, за весь минувший год. Сначала квартира огласилась гневными стонами «труженицы музыкального производства»: «Боже ж ты мой, когда этому бардаку придёт конец?! Целый месяц отсыпалась!!! Нет, снова началось! Не успел заявиться – таки обратно цыганские свадьбы пошёл устраивать! Да что ты там, с потолка, что ли, свалился?!» Так стенала Дора Мироновна, даже и не догадываясь, насколько она была близка к истине, выкрикивая свой риторический вопрос, - ведь падал я действительно из-под потолка… Но её стенания были перекрыты хрипло-визгливыми воплями старухи Петровны, раздавшимися в бывшей лаборатории профессора Спасского: «Лакоголик проклятый! Чтоб ты сгорел в гигиене огненной! Дашь ты нам спокою, аль нет?! Ох, согрешили мы все – за что ж нам паскудство такое в наказанье? Ох, чтоб те анчутка привиделся!..» А вот издававшая эти проклятия бывшая домработница бывшего хозяина квартиры была вдвойне близка к истине, более того – выражала её сермяжную суть (хотя тоже об этом не догадывалась). Первое её пожелание, полагаю, ещё сбудется – куда ж мы все от геенны огненной денемся? Ибо и впрямь – грешны мы все! А вот анчутку, то есть – «нечистого», лукавого – я к тому времени встречал уже не раз. Именно он тою ночью подцепил меня на свой железный язык – да Всевышний меня миловал… Однако и эти, и прочие вопли соседок были заглушены гортанным и возмущённым рычанием, донёсшимся из комнаты, где проживала одна из двух тружениц общепита. Судя по акценту, её гостем в ту ночь стал приезжий горец с Тишинского рынка. Его рычание переросло в горестно-гневный рёв, после чего послышались его тоже горестные, но по-прежнему гортанно- громовые упрёки в адрес невидимого и незнакомого ему нарушителя тишины – то есть, в мой адрес: «Паслушай, дарагой, нэлзя же так! На самом интэрэсном мэстэ! Ти мине весь кайф паламал! Аткуда ти там упал – нэ знаю, а он – у минэ упал! Какой шайтан надо быть, чтоб чэлавэку на самом интэрэсном мэстэ памишать!» И этот вопль, исторгнутый даже не горлом, а самим оскорблённым темпераментом южного мужчины, тоже в точку попал! Без шайтана тут не обошлось!.. Понимаю: трудно поверить в то, что человек, шею которого минутой ранее сжимала им самим надетая петля, может сидеть на полу и улыбаться. А то и хохотать почти взахлёб, хотя и беззвучно. Но это было именно так. Долетевшие до моего слуха возмущённые крики из соседских комнат вызвали у меня какойто нутряной, утробный приступ хохота – только что произошедшему со мной их смысл, словно отражение в кривом зеркале, соответствовал причудливо и уродливо. Но смеяться у меня не было никаких сил. Я просто сидел на полу и, понемногу приходя в себя, чувствовал, что мускулы моего лица сдвигаются и сходятся то ли в улыбке, то ли в усмешке. Не жалею, что сам своё лицо я не мог видеть в те мгновения… Потом, постанывая (всё-таки крепко приложился о неровные паркетины), поднялся, сел на стул, огляделся. Увидел, что и сам с ног до головы, и всё вокруг меня усыпано белой и грязноватосерой пылью, мелкой и крупной крошкой гипса, алебастра и штукатурки, и разнокалиберные куски тех же расцветок лежали на полу – всё, что осталось от барельефа с изображением чудовища, обрамлённого треугольником. Я глянул на верхнюю часть стены, где оно находилось четвертью часа ранее – там чернело прямоугольное отверстие. Не без труда, со стонами и кряхтением, но уже без всяких недобрых чувств и мыслей, ещё недавно терзавших меня, движимый одним лишь любопытством, я влез по стремянке к этому отверстию и глянул в него. Обнаружил небольшую нишу – но в ней ничего не находилось, кроме пыли. И тут мне вспомнилось, что во время падения меня по голове стукнул какой-то предмет, увесистый, но не твёрдый – шишку мне он не набил. И ещё сверху глядя, я этот предмет увидал, он закатился под стол. …Это был свёрток, да и не маленький: в одной руке он не помещался. Мешочек из какой-то прочной ткани очень давнего производства: я даже не могу сказать, как она называлась – то ли очень прочный дерматин, то ли прорезиненная «чёртова кожа». Так ли это важно? Разрезав бечёвки, опутывавшие свёрток, а потом разрезав и эту прочную ткань, обнаружил внутри ещё одно покрытие, из прочной восковой бумаги, а уж затем добрался и до содержимого… То, что мною было обнаружено, дало мне ответы на несколько вопросов, томивших меня в те дни и недели, когда мне уже стало известно сложное и трагедийное прошлое этой коммунальной квартиры. По крайней мере, кое-что для меня прояснилось. Прежде всего и главное: профессор Спасский не мог быть заказчиком обрамлённого треугольником барельефа с изображением сатира, он же Бегемот, он же и вся прочая нечисть, имя ей легион. Потому что этот барельеф был создан только после того, как в нишу, находящуюся за ним, упрятали увесистый свёрток. Лепной портрет чудища был сотворён лишь с одной целью: стать своего рода «печатью» на этой нише. Или – лепной пломбой, закрывающей вход в неё. Вот что именно убедило меня в этом: Основное содержимое найденного мною пакета составляли деньги. Точней – бумажные купюры. Их много там было, этих купюр. Почему я их не пересчитывал – узнаете через несколько строк. Они лежали в плотных пачках, перевязанных нитками. И каждая пачка была довольно-таки аккуратно завёрнута в кусок газеты. На первом же куске газеты я увидел портрет Сергея Мироновича Кирова в траурной рамке. 1 декабря 1934 года… И прочие фрагменты газетных страниц несли своим потускневшим шрифтом свидетельства примерно того же времени. Помнится заголовок: «Уничтожить троцкистско- зиновьевскую банду!» В пакете лежали деньги тридцатых годов, самой их середины. В основном это были тридцатирублёвые купюры, хотя встречались и пачки с сотенными. Но все они уже много десятилетий не стоили той бумаги, на которой их напечатали… А главное: великий трансплантолог никак не мог жить в то время в этой квартире – его уже изгнали «швондеры». Вот кто-то из них, скорее всего – в предвидении своего ареста – и забил этот пакет деньгами, и спрятал его в тайнике под потолком, и залепил этот тайник барельефным медальоном с изображением нечисти, помещённым в знак «великого архитектора мира»… К тому же, вспомним: булгаковский профессор терпеть не мог большевистских газет и дома их не держал. Уверен, что и его прообраз придерживался тех же взглядов на прессу. Тайник не был делом рук профессора Спасского. И ещё… Мне стало ясно, что железный штырь с загнутым вверх концом, штырь, многие годы игравший роль языка в изображении сатира-Бегемота на этом барельефе, вбил не тот жилец, который соорудил этот тайник. Тот знал бы: загоняя вглубь стены остроконечную железяку, он повредит своё сокровище. Что и произошло – свёрток был пробит насквозь, этой же участи подверглись многие пачки с купюрами. Но не только они… Ознакомившись с содержимым «швондеровского» схрона, я уже хотел было уложить его и выкинуть в мусоропровод. Но вдруг мне показалось странным, что пакет, забитый только лишь бумагой, пусть она и деньгами когда-то звалась, был довольнотаки тяжеловат. Брезгливо откинув несколько повреждённых штырём пачек, я увидел отверстие в плотной ткани упаковки. Под нею мой палец нащупал что-то металлическое. Оказалось, к внутренней стороне ткани был подшит мешочек меньшего размера, нечто вроде потайного кармана. И, когда я надорвал его, расширив когда-то пробитое штырём отверстие, в глаза мне брызнули красновато-жёлтые молнии! Ровно семь маленьких продолговатых пакетиков, сшитых из редкостно тонкой и прочной кожи, лежали в том внутреннем кармане мешка. Кожа, замечу, отличалась отменной выделкой: от неё исходил еле слышный, дразнящий, экзотический аромат. Но мне некогда было выяснять, какому редкостному животному принадлежала когда-то эта кожа… Думаю, вы меня поймёте. Из двух повреждённых кожаных цилиндриков стали сыпаться монеты. Каждая – достоинством в десять рублей. В каждом маленьком кожаном мешочке лежало по десять таких монет. Но на тридцати из них были отчеканены царские орлы и лицо последнего российского самодержца. Эти червонцы империя выпустила к трёхсотлетию династии Романовых – и за четыре года до её краха. А на других сорока красовался уже первый герб советской республики, и могучий пролетарий молотом разбивал цепи. Те самые, кроме которых ему было нечего терять. Золотые… Самая первая твёрдая валюта большевистского государства. Кажется, и последняя… «Мне ли червонцев не знать!» - нежданно сам для себя вслух произнёс я одиозную фразу булгаковской Аннушки и, взглянув на обломки барельефа, добавил уже от себя: «Ну, мессир, это мне, что ли, гонорар от вас за мои мучения? И что же мне дальше с ним делать? Не сдавать – рано или поздно наше заботливое государство про них пронюхает: а семьдесят золотых червонцев – это, наверное, статья, немалым сроком грозящая… А сдам – так мало того, что стану всеобщим посмешищем за свою кристальную честность посреди повального воровства, но ведь, боюсь, и вы, мессир, меня накажете за такое неразумное обращение с вашим даром, а? А, может быть, - продолжал я разговаривать сам с собой, глядя в огромные окна комнаты: даже сквозь их давно немытые стёкла пробивался рассвет, - может быть, не мессир знает ответ, а его литературный изобретатель? Ну, подскажите мне, любезнейший Михаил Афанасьевич, что мне делать теперь. И с этими «рыжиками», как зовут их криминальные элементы, и вообще… С собой?» И словно откликаясь на мой требовательный зов, в прихожей зазвонил телефон. «Слушаю вас, Мастер!» - сказал я, взяв трубку и чувствуя, что начинаю свихиваться. «Я не мастер!» - зазвучал резкий, жёсткий и чеканный голос в трубке (из тех, что в те поры справедливо звались «командирскими» - нынче-то они почти повывелись…) – «Это звонит майор особого отдела Министерства обороны Стакатный! С кем я говорю?» И, с удовлетворением узнав, что разговаривает он именно с тем, кто ему нужен, майор Стакатный уже окончательно вернул меня к действительности. Причём к самой суровой, к советской действительности, напоминаю, начала восьмидесятых лет минувшего века. Для начала майор Стакатный спросил меня, знаю ли я, что офицеры моей военно-учётно-стратегической специальности могут, согласно воинскому закону (он чётко назвал статью), в случае крайней необходимости призываться из запаса в действующие ряды Вооружённых Сил без предварительного письменного оповещения, а в течение двадцати четырёх часов по устному вызову. Я ответил, что да… в общих чертах… Тогда майор Стакатный конкретизировал эти общие черты, сообщив мне, что именно такая крайняя необходимость имеет место быть, и что мне следует сегодня не позднее такого-то времени прибыть по такому-то адресу. И добавил чуть менее жёстким тоном: «Что взять, вы сами знаете, служили уже, но в обязательном порядке рекомендую комплект белья, одежды и обуви для жаркого климата…» Услыхав о жарком климате, я уже готов был с вопросительной интонацией назвать имя сопредельной зарубежной страны, где месяц от месяца климат для множества наших воинов становился всё более жарким в переносном смысле. Но – офицерское прошлое мгновенно проснулось во мне, и я произнёс клише, которое тогда уже у всех стало звучать на устах: «Что ли, для выполнения интернационального долга?» «Вы всё правильно поняли!» - удовлетворённо отчеканил в ответ майор Стакатный. И упредил меня, чтобы я не волновался за свои «служебные дела»: «Телеграммы в ваше ведомство уже ушли!» Я положил трубку и, тут же сняв её, стал набирать междугородний номер, чтоб сообщить моим родителям о нежданной, но во всех отношениях приятной и полезной для меня командировке в самую дальнюю и глухую долину, затерявшуюся на самом верху Памирских гор. Там, фантазировал я вслух почти автоматически, живёт почти что Гомер горского разлива, и мне надобно будет переводить на русский его эпопею… Уверенность и правдивое звучание моих устных фантазий, предназначенных для родительского слуха, между прочим, вырастали из того, что это была «как бы» и правда… ну, неполная: ведь именно в памирские дали мне предстояло отбыть. Только зарубежные… (И, вдобавок, как выяснилось несколько позже, в моих словах содержалось и предвидение настоящей правды. А именно: в одном афганском кишлаке мне предстояло познакомиться с пожилым слепым песнопевцем и действительно переложить несколько его сладкогласных напевов на русский…) К стыду своему должен признаться, что то был уже далеко не первый случай, когда я вводил в заблуждение моих родителей относительно своих дел. Но никогда ещё, как тем ранним утром, не чувствовал я абсолютную необходимость такого обмана… «Сыночек, а это надолго?» - дрожал в трубке голос мамы. «Ну… не знаю, мамуля, быстро с такой громадиной не управиться. Наверно, полгодика это отнимет… Да ты не волнуйся, я же там уже столько раз бывал, ничего со мной не случится!» «Полгода! – ахнула мама. – Да как же не волноваться, там же рядом этот… Афган!» Я ещё минуты две успокаивал моих родителей, чувствуя, что голос у меня с каждым мигом теряет уверенность. Однако же завершил на шутливой ноте: «Ты ведь меня просила, если в тех краях снова буду, гребней тебе деревянных привезти, из грецкого ореха. Вот и привезу!» Это обещание я сдержал. Забегая несколько вперёд, скажу, что вернулся я в пределы Отечества даже раньше, чем через полгода. Хотя предполагал, что «командировка» моя займёт как минимум вдвое больший срок. Но – располагает всё-таки Всевышний. А не «мессир»… Хотя и врагу своему не могу пожелать того, что стало причиной моего преждевременного, досрочного возвращения. Чудом уцелевшая, сожжённая почти до кости правая нога до сих пор схватывается огнём при резких переменах погоды. …Но, как только я положил трубку после звонка в Талабск, телефон взорвался новыми трелями, да гораздо более мощными, чем обычно. Голос в трубке, однако, звучал прерывисто, временами просто был еле слышен. И всё-таки этот голос я распознал бы среди миллионов других голосов… «Здравствуй, папочка! – кричала моя дочка. – Мы с мамой на Златних Пясцах. А они никакие не золотые, просто жёлтые. Здесь уже очень жарко! А я по тебе очень соскучилась! А ты меня не узнаешь, я приеду просто чёрная, так тут загорю!..» Я отвечал дочурке, что уезжаю в командировку и тоже вернусь очень загоревшим. Ребёнка я не обманул: вернулся просто обугленным. …И с каждым новым мгновением этого разговора я всё сильнее, просто физически, всем существом чувствовал, что прилетающий из дальней дали голос моей малышки вливает в меня то, чего я давно уже в себе не находил. То, что, казалось бы, утрачено было мною навсегда в борениях с многоликой и разномастной нечистью – жажду жизни. Мне было ради чего жить. Я вошёл в свою комнату и впервые увидел её залитой солнцем. Кто знает, почему впервые… Может быть, оттого, что почти никогда не просыпался в бывшей операционной профессора Спасского столь ранним утром, а если и просыпался, то – или утро было пасмурным, или в голове, в душе и в глазах стояла мутная непогодь. Но и впрямь солнце так мощно стучалось лучами в окна, что сами лучи, казалось, стирают и смывают пыль и грязь с оконных громадных стёкол, заполняя солнцем моё жильё. Я взглянул на грязно-серые обломки, лежавшие на полу, и сказал – вслух, но уже не сомневаясь в себе и в истинности своих слов: «Прощайте, господин Воланд! Прощай, многоуважаемая Тень Мастера!» После чего, взяв совок и швабру, стал подметать свою комнату… 10. Повести Белькиной… Моё повествование здесь можно было бы и завершить. То, что можно рассказать о моей дальнейшей жизни, о том, как сложилась она, уже не имеет никакого отношения к сути, к заглавному предмету этих моих исповеданий. Верней сказать так: Тень Мастера оставила мою судьбу, перестала в неё вторгаться… А происходило в ней, в судьбе, после этого расставания, пожалуй, всё, что у человека с мятущейся русской душой могло происходить в последние лет десять-пятнадцать минувшего, совершенно обезумевшего к своему финалу века. Упомянуть стоит лишь то, что в бывших владениях профессора Спасского мне довелось прожить ещё лет пять или около того… Впрочем, «прожить» - это сказано с большой долей условности: в основном эти годы прошли у меня не в столице, а или в родном Талабске и его окрестных сёлах, или на дальних «югах» с их суровыми горами и сладостными долинами и на дальних же «северах» с их студёными фантасмагорическими морями, - словом, там, где жили мои, ещё многочисленные в те времена товарищи по трудам и праздненствам… Возвращаясь же ненадолго в Москву и оказываясь в своей комнате, видел: она просторна и светла, и мне в ней даже уютно. Никакой нежили, никакой затхлости, никаких мороков и наваждений… А потом я простился с коммуналкой и переселился в новое, отдельное жильё – такое, что какая бы то ни было «чертовщинка», или нечисть, или бесовщина в его стенах не смогли бы угнездиться просто по определению. За все прожитые мною там годы всяческая нечисть проявлялась только с «голубого» и всё более голубеющего экрана. Ну, пожалуй, ещё и в качестве налоговых инспекторов… Поэтому, если вас что-то интересует в дальнейшей судьбе героя-рассказчика – вы легко сможете при даже небольшом воображении домыслить сами буквально всё. В том числе и то, как всё-таки распорядился он содержимым находки, обнаруженной им в тайнике бывшей операционной профессора Спасского. Поверьте, ничего интересного… Ну, по крайней мере, ничего, что имело бы касательство к ведомству господина Воланда. Или к приключенческому жанру вообще. Так что, говорю, здесь можно бы и окончательную точку поставить. Однако вы сами знаете: если что-то началось всерьёз, если, как любил выражаться бывший генсек-президент, «процесс пошёл» то остановить сей процесс бывает очень трудно. Вы его стопорите – а он уже сам собой идёт. То нарастая, как снежный ком, то затихая, подобно эху, но всё ещё звуча… Вот так, по затухающей, всё-таки продолжала жить своеобразная магия моей комнаты в коммуналке… В эту комнату после моего выезда из неё вселилась молодая писательница, но уже известная журналистка Ляля Белькина. …Как, вы не знаете Лялю Белькину? Да не может же быть такого, чтобы вы не знали Лялю Белькину?! Ах, да, годы идут, новые времена, новые имена… Но уж вы-то, читатель постарше, уже взрослым ставший к началу «катастройки», вы-то должны помнить, кто такая Ляля Белькина. Вспомнили? – то-то же… Одно из самых «золотых перьев» столичной журналистики восьмидесятых лет. Газеты, где печатались её очерки и статьи, шли буквально нарасхват. Её язвительного и остроумного пера многие начальствующие персоны страшились не только пуще огня, но и пуще партийных строгачей. Ляля Белькина вникала в суть любого материала с дотошной женской скрупулёзностью, въедливо разбиралась и в производственных конфликтах, и в щекотливых «морально-нравственных» коллизиях – никто не мог опровергнуть ни единого её слова. Ещё до начала «эпохи перемен» ей удавалось пробивать в центральной прессе такие материалы, что становились тут же предметами обсуждения на самых высокоруководящих этажах власти… А уж когда толькотолько заплясала та эпоха с её поначалу многими воспринятой всерьёз «гласностью» - о, тут наступил звёздный час журналистки Белькиной! Один лишь факт вам напомню. Бывший свердловский секретарь обкома, ставший партийным хозяином Москвы и ещё не только не помышлявший о президентской карьере, но и в опалу не попавший, завоёвывал симпатии многих простодушных москвичей своими поездками на трамваях в качестве «простого пассажира» - а Ляля Белькина с присущей ей проницательностью уже иронизировала над его «хождениями в народ» в одной из своих статей. И ведь это с её лёгкой руки в обиход вошло словцо «популизм» (помнится, помнится мне вопрос одного не обременённого эрудицией читателя: «…а кому это они её лижут?») Само собой разумеется, Лялю далеко не все обожали. Боссы газетного мира её признавали, но всяческими премиями и прочими лаврами обходили, держали в «рядовых». Но Белькина не шибко огорчалась: она не была «карьерной» журналисткой. И, главное, самые глубинные и заветные её помыслы и мечты к другой словесности относились – к художественной. Она мечтала стать известной писательницей. …Однако в дни нашего с ней начального знакомства писательницей она была ещё… не столь интересной, как журналистка Белькина. Я помню её тогдашние рассказы, печатавшиеся в молодёжных журналах и уже тоненькой книжкой вышедшие: Ляля шла по стопам Вики Токаревой и ещё кое-кого из мастериц типично «женской прозы» тех лет. В сущности, почти во всех её новеллах и маленьких повестях изображалась одна и та же главная героиня – молодая интеллигентная женщина, занятая поисками личного счастья, борьбой с консервативным и косным начальством, а также борьбой со множеством бытовых проблем. Личного счастья этой героине – или героиням – найти никак не удавалось, семейного – тем более, мужчины все как на подбор оказывались мелки для этих высокодуховных натур. Ну, в иных вариантах – либо очень робки и нерешительны, либо, напротив – им «только одного надо было»… И в общем-то, когда я с Лялей Белькиной чуть ближе познакомился, то понял: иными эти её лирические героини и не могли быть. Все они являлись вариациями личности автора. А Лялю я сразу же про себя назвал, перефразировав строчку пушкинского романа, «тётей самых честных правил». Ну, разумеется, ещё очень молодой тётей: ей тогда было ещё тридцать. Но она действительно являла собой редкостный уже и в те, ещё не совсем «раскованные» годы тип весьма строгой и даже несколько жестковато-суровой молодой женщины (сейчас, помоему, «расковались» уже все…) с высокими нравственными требованиями к близким ей людям. Такой была и внешне: этакая «классная дама» в очках с толстой оправой… Впрочем, облик Ляли отличался своеобразной привлекательностью, и поклонников у неё водилось немало. Но, повторяю, со всеми из них она держалась очень строго. И к моменту нашего с ней знакомства она уже успела развестись с двумя мужьями: оба не выдержали заглядывал её высоких критериев. Один слишком часто в рюмку, второй отличался большой любвеобильностью, и Ляля устала от его адюльтеров… Вот с этим-то вторым разведясь, известная журналистка и молодая писательница выбила себе в нашем литературном ведомстве ту жилищную площадь, которую я только что освободил. И вселилась она в бывшую операционную профессора Спасского не одна, а с грудным дитём – делить и разменивать квартиру с бывшим мужем было ниже её нравственных принципов… Нет, что ни говори, а Ляля Белькина заслуживала уважения! В сущности, мы и познакомились-то по-настоящему именно на этой, «жилищной» почве: мне надо было передать Ляле ключи, квартирную книжку и ещё кое-какие аксессуары обитателя злосчастной коммуналки. К тому же я счёл своим долгом предупредить её о том малоприятном своеобразии, каким отличались отношения соседок меж собой в этой квартире, и с каким ей ещё предстояло встретиться вплотную… Однако Ляля отнеслась к моим предупреждениям без особого внимания, даже как-то, на мой взгляд, легкомысленно – мол, ничего страшного. «Ляля, - патетически воскликнул я – у вас маленький ребёнок, будьте осторожны, они вас тут заедят, поверьте, заедят!» Но она отмахнулась с иронической усмешкой: «Подавятся!» И тогда, не на шутку опасаясь за благополучие и здоровье этой достойной молодой дамы и её малютки-дочки, я решил настроить её на серьёзный лад и предупредить о других опасностях, которые могут ожидать её в этой комнате с купидонами и нимфами на потолке. И вкратце, не вдаваясь в подробности, поведал ей самые красноречивые и драматические эпизоды из давней и недавней истории этой коммунальной квартиры. Упомянул и о проклятии, прозвучавшем из уст великого доктора перед дверьми его бывшей операционной, и о последствиях сего проклятия. Наконец, опять-таки не доходя до полной откровенности, рассказал новой жилице и о том, какие сотрясения испытала в этих стенах моя психика на первом году моего здесь обитания… Но моя коллега по трудам на ниве литературы осталась равнодушной ко всем моим предупреждениям. «Я – прагматик и материалист, во всяческую мистику не верю!» - отрезала она. И добавила: «А вам надо было поменьше… с Бахусом дружить да побольше внимания уделять чистоте жилья, подметать, стёкла мыть в окнах, вот тогда и не преследовали бы вас никакие наваждения и призраки!» Быть может, в последнем замечании Ляли Белькиной доля истины и содержалась, однако я-то не прошлым был озабочен: меня тревожило всерьёз, как на этой одарённой и незаурядной моей коллеге, вдобавок – кормящей матери, да и материодиночки, может отразиться во всех смыслах тяжкая атмосфера этой старой квартиры, и не подвергнется ли Ляля воздействию той недоброй «ауры», которая так мучала меня в первый год моего обитания под лепными купидонами и нимфами… Но время рассудило нас довольно-таки быстро и справедливо. Оно вскоре доказало, что каждый из нас двоих в чём-то прав: Ляля – в одном, я – в другом. Прошло чуть более полугода, и мне снова довелось оказаться в бывшем своём жилье. Его новая обитательница попросила меня принести ей «вожжи» для её малышки, которая уже начала становиться на ножки – это такая миниатюрная сбруя из мягкой кожи: надев ремни малышу подмышки и держа помочи, его очень быстро можно научить ходить. Поскольку моя дочка уже давно не просто сама, но и в школу ходила, я отвёз её «вожжи» Ляле Белькиной. И, как только я снова увидал эту коммуналку, меня просто потрясла её никогда мною прежде не виданная чистота. На кухне, в прихожей, в ванной, в туалете – всюду всё просто сверкало и сияло, всё было прибрано, вымыто, подметено и выскоблено. Я не переставал ахать: даже в кладовке, ещё недавно бывшей хранилищем пыли и мусора, оконные стёкла просто лучились и казались незримыми! И весь этот небывалый марафет, и весь этот идеальный порядок были наведены не кем-нибудь, а самими жильцами, точней – жилицами, моими бывшими соседками! Да – теми самыми, что на моей памяти грызлись меж собой чуть не до кровушки, спихивая одна на другую обязанность раз в месяц подмести пол в прихожей. Теми самыми, которые предпочитали тонуть в кухонных отбросах, но не очищать от них кухню, хотя до мусоропровода был один шаг. И вот теперь эти же самые сварливые неряхи превратили бывшие владения профессора Спасского в храм чистоты! …Добавлю только одно: они это сделали под командованием, под руководством и под суровым надзором Ляли Белькиной. Уверен: ни одному, даже самому свирепому армейскому сержанту былых лет с огромным опытом превращения юных раздолбаев в подтянутых и дисциплинированных воинов не удалось бы вымуштровать моих бывших соседок и привести их к порядку – какое там! они бы его действительно съели. Может быть, и живьём… А вот Ляля Белькина сделала это блистательно и в кратчайший срок! Узнав о моём приходе, все соседки (дело происходило к вечеру) высыпали на кухню и окружили меня с такой радостью, будто к ним заявился долгожданнейший и желаннейший гость. Будто это не мне когда-то одна из них, более молодая общепитовская труженица, взбешённая моим нежеланием провести с ней хмельную ночку, подсыпала в кастрюльку с бульоном английскую соль. Словно это и не я когда-то, уже в более позднюю, трезвую пору своего обитания здесь, вынужден был жёсткими физическими методами утихомиривать разбушевавшегося ночного кавалера второй из этих путан, да так, что в «ментовку» вместе с ним загремела и она сама. Но будто бы это и не я на первом году своего жительства в этих стенах тоже доставлял им немало беспокойств своим шумным образом бытия… Нет, всё забылось, и они все мне были искренне рады – и одряхлевшая, утратившая боевой пыл старуха Петровна, и «любовница Берии», которая, как выяснилось, теперь уже раза два в год отправлялась в спецбольницу месяца на три и почему-то почти перестала вспоминать о своём могущественном покровителе давних лет… И мне тут же пришлось убедиться (а потом и ещё не раз убеждаться, навещая по разным делам свою коллегу), что все они просто б л а г о г о в е л и перед Лялей Белькиной. Ей-богу, тут никакие слова не будут слишком громкими и выспренними: все они ходили перед ней по струнке и на цыпочках, все до единой! Она стала для них чем-то средним между матерью-командиршей и матерью-игуменьей… Они чуть не ссорились меж собой, споря, кому из них помогать новой жилице спускать по пролётам лестницы детскую коляску, а потом поднимать её, когда Ляля отправлялась прогуливать свою малышку. Все они просто не могли надышаться на Лялину дочурку, она росла несколько лет в этой коммуналке всеобщей любимицей. Правда, известная и многих влиятельных знакомых имевшая журналистка тоже опекала благополучие своих соседок. Так, её радением к старухе Петровне стала регулярно приходить прикреплённая к ней медицинская сестра. Но ещё большее заступничество было ею оказано младшей из двух работниц общепита – той грозило увольнение. А грозило вот почему: её начальник, директор большой столовой, решил отделаться от неё, от официантки, забеременевшей от него… Ляля Белькина провела беседу с общепитовским коварным ловеласом в его кабинете, при нём сделала звонок одному из его высокоруководящих шефов – нет, совсем по другому поводу. В результате эта соседка вместо того, чтобы стать безработной, стала невестой: буквально за день до моего первого визита к Ляле в квартиру внёсся взмыленный директор столовой с огромным букетом роз – он сделал своей подчинённой предложение… Ну, как же было моим бывшим соседкам не обожествлять новую жилицу коммуналки! …Потом я не раз допытывался у своей преемницы по жительству в бывшей операционной, как, каким таким путём удалось ей не просто приструнить и вымушровать сварливобуйную ватагу этих неуправляемых дам, но и покорить их сердца, добиться их обожания. В ответ она пожимала плечами и с лёгкой улыбкой говорила: «Ты же знаешь ( мы к тому времени уже перешли на «ты»), я – женщина суровая, рука у меня твёрдая!» Но это всё-таки мне ничего не объясняло. Видимо, у «золотого пера» столичной журналистки был и ещё один, неразгаданный талант… Даже Дора Мироновна, вообще, казалось бы, не способная хорошо относиться к женщинам, обожала Лялю Белькину. Правда, она уже не в коммуналке жила, а по преимуществу на даче отставного адмирала, став женой этого атлетически сложенного старого морского волка. Однако из комнатки своей выписываться почему-то пока не торопилась, хранила в ней какие-то вещи и примерно раз в десять дней наведывалась на улицу Качалова. И каждый раз вызывала завистливые вздохи соседок, вдохновенно повествуя о том, как её новый муж носит её на руках. (Что и в буквальном смысле не являлось большим преувеличением: старому богатырю это было ещё по силам. Ну, по крайней мере, везде и всюду он возил её на своём «москвиче», лишив наш общественный транспорт одной пассажирской единицы…) Так вот: эта уроженка ростовской окраины нежданно прониклась к Ляле Белькиной таким обожанием и таким уважением, что доверила ей (просто умолила принять) ключ от своей комнаты, с тем, чтобы Ляля могла бы там работать, колотить по клавишам пишущей машинки, не будя спящую малышку… Признаюсь, узнав сию новость, я просто закачался от восторга и изумления! …Но высшим знаком признания неколебимого авторитета Ляли со стороны «коренных» жительниц коммуналки лично для меня стало откровение, слетевшее с уст Петровны. Это откровение прозвучало именно тогда, когда я в первый раз наведался туда уже в качестве гостя и помогал своей коллеге в её кухонных приготовлениях к нашему дружескому ужину. Стоя среди других соседок, высыпавших на кухню в честь моего прихода, глядя на новую жилицу слезящимися от обожания и преклонения глазами и изредка, робко пытаясь погладить её своей старческой, уже дрожащей рукой, Петровна продребезжала в мою сторону: «Вот если бы б а р и н у нашему такое сокровишшо досталося! Вот ежели б у него, у милостивца нашего, такая золотая хозяйка была бы! А то, как овдовел, так бобылём и вековал, бедный… А потому как ровни ему не находилося – ить могучего харахтеру мушшина был хозяин-то наш! А вот она, вот Лялечка наша – вот живи она тогда, ему как раз и пришлась бы ровней! И не согнали б его тогда с фатеры выбл…ки те обрезанные, не укоротили б ему век…» Да-а… Такое признание из уст бывшей домработницы бывшего хозяина этой квартиры подняло в моих глазах новую жительницу его операционной комнаты на недосягаемую высоту! «Что поделать – не суждено мне стать супругой профессора Спасского, или… как там, в «Собачьем сердце», Преображенского… Ах, не люблю я что-то этого вашего Булгакова, не приемлю его творческого почерка!» - так, и с иронией, и категорично, с прямотой советской журналистики говорила мне Ляля Белькина, когда мы ужинали под завистливыми взорами пышногрудых лепных нимф… Невооружённым взглядом можно было заметить, что она несколько похорошела за минувшие полгода с лишним, живя с дочуркой в этой комнате – то есть, живя в положенном ей длительном отпуске, в некотором отрыве от напряжённых журналистско-газетных скачек с препятствиями. И, главное, живя более или менее спокойной жизнью, отдельно от бывшего её супруга, почти каждый день клявшегося ей, что «эта измена – последняя». Вдобавок, в прежнюю Лялину квартиру регулярно наведывался её первый муж – то плакался, что совсем обнищал и просил взаймы, то, напротив, заявлялся с бутылками, закусками и воплями «Бояре, а мы к вам пришли!», кидался на колени к ногам Ляли, умолял о прощении, она его гнала взашей, но, если дома находился второй муж, то он не отпускал своего предшественника, вёл его на кухню, и оттуда до утра доносилось их пение «Любо, братцы, любо!» и слышались их слёзно-пьяные взаимные исповеди… Вот от такой-то нескучной жизни она и отдыхала теперь. Кроме того, она послушалась, наконец, своих добрых и сведущих приятельниц – по-нынешнему говоря, несколько изменила «имидж». Очки с толстенной старомодной оправой сменились на более лёгкие, которые выигрышно подчёркивали овал её лица. И – по её признанию – впервые за последние лет десять побывала в парикмахерской. Словом, теперь мне с Лялей Белькиной было разговаривать проще и естественней: когда говорю с хорошей, доброй и тем более незаурядной, но внешне некрасивой дамой, то мучаюсь состраданием к ней и порой начинаю говорить с ней не совсем своим голосом… Вдобавок, после всех сногшибательных открытий в столь хорошо знакомой мне квартире, произошедших тем вечером, я находился в благодушно-светлом состоянии. Действительно был рад тому, что мои опасения не сбылись, что всё произошло «с точностью наоборот». Признаюсь, это доброе состояние во многом было усилено и очень вкусным ужином. Меня всякими гастрономическо-кулинарными изысками удивить трудно, однако новая хозяйка моей бывшей комнаты доказала, что даже на коммунальной кухне она может творить чудеса. Я же взял на себя свою излюбленную миссию – заварил чай по одному из своих заветных рецептов, и он получился, смею заверить, очень бодрящим, именно таким, чтобы, испив его, не впасть в сонливость после обильного ужина, но почуять в себе новый прилив вдохновения для душевной беседы… И, конечно же, я и вспоминать не мог о каких-то химерных, оккультно- фантасмагорических явлениях, некогда морочивших меня в этой самой комнате. Мне было, повторяю, хорошо и светло, и потому очень по-доброму и живо говорилось мне с моей умной и похорошевшей собеседницей. И вдруг она сама напомнила мне о том, от чего я уже напрочь отрешился. Ляля Белькина, в очередной раз похвалив мой чай, поставила чашку на блюдечко и смолкла. И молчание это затянулось минуты на две. И я, глядя на неё, почувствовал: она хочет мне поведать нечто важное, но что-то мешает ей это сделать. Наконец, она сняла очки, взглянула мне прямо в глаза, и я увидел, что щёки её зарозовели, но явно уже не от чая, а то ли от смущения, то ли от волнения. И, вперив в меня взор своих действительно сильных, властных, больших глаз, она произнесла: «А знаешь, Чудинцев, ты был прав!» «В чём прав, сударыня?» «Да в том… О чём меня предупреждал…» «Так ведь всё в порядке – соседки у твоих ног!» «Я о другом… Всё-таки о н о тут есть!» «Что – оно? Не томи, Ляль, говори прямо!» «Оно! Ну, н а в а ж д е н и е …» Последнее слово хозяйка бывшей операционной произнесла тихо, почти опасливо, с придыханием. Я встревоженно спросил её, что именно случилось, и каким образом действует на неё это наваждение. Ляля поспешила меня успокоить: «Да не волнуйся – ничего плохого не произошло. Просто… Понимаешь, до того, как сюда переехала, почти год ни строчки для души не писала. Ни даже каких-нибудь набросков, миниатюр – ну, ничего из себя выжать не могла, так измоталась… Только очеркушки газетные могла, ну, эссеюшечки там небольшие. И всё! Часом думалось – не будет уже никогда никакой прозаини Белькиной…» «А тут, что, начала творить и вытворять?» «Вот именно – вытворять!» От волнения Ляля Белькина встала и продолжала рассказывать, расхаживая по комнате, резко поворачиваясь и жестикулируя. «Представь себе: в самый первый день, как тут обосновалась, ещё даже не все ящики и чемоданы распаковала, только кроватку дочкину успела поставить – и вечером, чувствую, меня будто ктото за руку хватает и заставляет авторучкой по бумаге водить. И – понеслось, ну, просто как с цепи сорвалась! И с тех пор, представляешь, каждый день – то тетрадку исписываю, то на пишмашинке страниц по десять-пятнадцать намолачиваю! И рассказы, и повести, и вот тут роман почти уже до половины довела… Самой не верится: не бывало со мной такого никогда! Ну, Болдинская осень какая-то… на улице Качалова…» «Так это ж ведь прекрасно, Лялечка! Но при чём тут наваждение? При чём тут эта комната? Неужели сама не понимаешь – это просто накопилось в тебе за время молчания, вот и вырвалось из-под спуда теперь, и дай Бог, чтоб долго ещё вырывалось… И не наваждение это никакое, а – вдохновение! А когда оно накатывает, так очень часто кажется, будто кто-то или рукой твоей водит или тебе в ухо что-то нашёптывает. Это же общеизвестная вещь, подруга! Не при чём тут наваждение – это просто тебе в мозги запало, о чём я тебе тогда говорил, вот тебе и кажется, что наваждение. Сам уже жалею теперь, что тогда тебя запугал. Но не ждал, что ты такая впечатлительная натура, ты же ведь сама говорила, заявляла – мол, мистики всякой не признаю!» «Да, не признаю! – вздохнула Белькина. – Но что ж тут поделать, если сама вижу: совсем не то, понимаешь, не т о , и совсем не т а к , как раньше, теперь пишу. Ну, абсолютно другое, будто из какой-то совершенно другой вселенной моя проза теперь идёт…» «И какая же это проза теперь?» Ляля опять села напротив меня в лёгкое креслице и снова взглянула мне прямо в глаза. И я впервые увидел, что щёки её не просто розовеют, а – краснеют! Поневоле почувствуешь в себе некоторое напряжение, если видишь, как перед тобой заливается краской зрелая женщина, в том уже статусе жизненном находящаяся, когда вроде бы и краснеть уже и не из-за чего. Я ободряюще улыбнулся: «Ну что ты, Ляля? Вроде бы мы уже доверяем друг другу?» «А смеяться надо мной не будешь?» «Обижаешь, начальница!» «Ну, ладно… Учти, тебе первому говорю: такую стала выдавать словесность, такие тексты – сама их потом читать стесняюсь…» «Не томи, Ляля, какие?» «Такие… Э р о т и ч е с к и е ! вот какие! Можно даже сказать - с е к с у а л ь н ы е ! Понял?!» Это моя собеседница тоже произнесла полушёпотом и с придыханием. (…Вновь предвижу иронические улыбки нынешних читателей: мол, и в самом деле, что тут странного? ну, пишет взрослая дама эротические вещи – из-за чего сыр-бор, краснетьто из-за чего? Это верно, сегодня – да, пожалуй, что и не из-за чего: с утра до вечера всевозможная порнуха и разнокалиберная непристойщина лавиной обрушиваются и на взрослых, и на малышей с телеэкрана, похабель под видом не только анекдотов печатается в массовых газетах и журналах – ею полны и опусы, называемые художественными произведениями в прозе, стихах и в иных жанрах. Краснеть нет причин! Но я напомню вам лишь одно: этот разговор происходил именно в том году, когда на весь мир, отвечая на вопрос американского журналиста, простодушная россиянка заявила: «В СССР секса нет!» Секса не было. А цензура была. Сегодня, правда, уже многие вчерашние сторонники полной свободы начинают поскуливать: надо бы её, проклятую, слегка восстановить, а то ведь уже до маразма дошли… Но это уже другой разговор. А тогда изображение любовных соитий и в литературе, и в кино допускалось лишь в самых исключительных случаях и, как правило, чисто символически… Так что ничего странного не было тогда в том, что молодой литератор, даже неважно, какого пола, до того работавший в почти пуританской, по-советски целомудренной манере, смущался тем, что вдруг начал писать эротические вещи…) «Да брось ты, Белькина! – восхитился я. – Ты – и вдруг эротику стала писать. Неужели?» «А что?! – вскинулась Ляля. – Думаешь, если я… ну, ладно, мымрой я себя не считаю, но… думаешь, если я не сексапильна, то не могу, как ты выразился, творить и вытворять в этой струе?!» «Ну что ты, Лялечка! – начал я её успокаивать. – Всё как раз наоборот. Сегодня – так ты очень… секс-обильна. И сексмобильна, по-моему. Секс-опилок в тебе более чем достаточно, чтобы поклонники за тобой толпами бегали, да их, как я знаю, у тебя и прежде хватало, кавалеров-то…» «Но нет любви хорошей у ме-еня-а!» - дурачась и подхватывая мой шутливый тон, пропела хозяйка. «Будет, сударыня, всё у тебя ещё… спереди. Нет, Ляля, без шуток: ты теперь так привлекательна, что… вот ей-Богу, запросто я мог бы в тебя влюбиться, если бы… если б не узнал сегодня, что из всех русских женщин этого столетия только ты одна могла бы стать женой профессора Спасского. Куда мне с такими гигантами тягаться?!» «Ах, Чудинцев, старый ты сердцеед… А я вот тоже могла бы тобой увлечься, не будь ты пиитом. Это счастье я уже имела, хватит… Да и жена у тебя такая, что я ей не соперница…Ладно, как вы, мужики, говорите: ближе к телу, - главное-то в чём? в том, что это и вправду из-за наваждения! Из-за этой комнаты!» «Почему ты в этом уверена?» «Да потому… Говорю тебе: с первого же дня здесь такое пошла клепать, что и самой бывает читать щёкотно – уж не порнографию ли откровенную сочиняю? Вот, а уехала к подруге на дачу, дней пять там с дочкой лесом дышали – и что ты думаешь? – как отрезало. Ни единой строчечки… Вернулись сюда – с ходу пошло то же самое, даже ещё круче! А как молоко кончилось, поехала с Полинкой в дом творчества, в Малеевку, на десять дней. И – та же самая история: очеркушки пишутся, а более ничто. И опять, как только в этой комнате оказалась, чувствую: кто-то меня за стол толкает. И знаешь, как называется повестушка, которую я тут же дня за три нацарапала? Ни за что не догадаешься!» «Ну?» - я уже начинал понемногу проникаться убеждённостью Ляли. «Вирус по имени Эрос», во как! – звонко воскликнула будущая звезда «раскованной» литературы. – Не знаю, чем тебе клясться, но поверь: никогда бы я такого названия не придумала. Пишу, потом задремала, прилегла, и вдруг слышу: кто-то шепчет мне – «Вирус по имени Эрос», «Вирус по имени Эрос», представляешь?» «И про что этот вирус?» «Про что, про что… сама не могу объяснить! – Ляля развела руками. – Одно могу сказать: там совокупляются почти на каждой странице!» «Что им, героям и героиням твоим, подложить больше нечего было, кроме страниц? – попытался я пошутить, впадая в некоторую растерянность. – Бумага, насколько я знаю из своего скромного опыта – не лучшее ложе любви». «Ой, да что ты! – замахала на меня руками Белькина. Увлечённая своей исповедью, она не поняла моей иронии. – Конечно, на чём угодно: и на стопках книг, и на медвежьих шкурах, и на траве, и на полу…» «Ни хрена себе! – не выдержал я. – Слушай, коллега, я всё понимаю: все мы пишем, не только на наш личный опыт полагаясь, но и на воображение. На то, что от других услыхали, на прочитанное, в кино увиденное, в конце-то концов… И всё равно, как говорил Станиславский – не верю! Не верю, и всё тут! Ладно, допускаю, что у тебя даже гораздо больший эротический опыт, чем он может быть у женщины, два раза выходившей замуж и… ну, пусть даже пять-шесть, не обижайся, поклонников обнажённых у тебя было… Допускаю. И всё равно – не верю! Откуда это у тебя? Не хватит тебе для такого рода творений ни твоего личного опыта, ни воображения. Если б оно у тебя было богатым, то… опять-таки прошу, не обижайся, оно бы и в прежних твоих вещах проявилось. А в твоей книжечке, извини, его ещё меньше, чем у Вики Токаревой…» «Так про что я тебе и говорю! – взвилась моя собеседница, вскочила и снова стала так резко курсировать по простору комнаты, что я едва успевал поворачивать голову вслед ей. – Я про что и говорю тебе, а ты не веришь. На – важ – де – ни – е ! Нет у меня никакого воображения вообще, это я отлично сознаю. Не переедь я сюда, была бы обречена на прежнее унылое бытописательство…» Ляля Белькина перевела дух, снова плюхнулась в кресло, налила себе уже остывшего чаю, отхлебнула и уже более спокойно, временами грустно усмехаясь, продолжала: «Ах, дружок, какой там у меня опыт… Поверь, несмотря на двух мужей, почти никакого. Горько это бабе говорить, когда уже тридцать – да что поделаешь?.. Нет, ты пойми: всё дело – в этой комнате! Она, она мне сама! или что-то в ней, может, и кто-то в ней, невидимый или в самом воздухе растворённый, мне всё это диктует. А, кто его знает, может, и вот эти мальчишки-девчушки, - женщина подняла глаза на купидонов и нимф. – Или эти стены… Но я действительно каждый день здесь чувствую: кто-то моей рукой водит. И кто-то мне все эти мои новые страницы нашёптывает…» «Лялечка, скажи мне… только тоже откровенно, - неожиданно для самого себя произнёс я, - ты и вправду про всё это мне первому рассказываешь? Может, с кем-то ещё делилась… учитывая твою тягу к здравому смыслу?» «Да чего уж там, не стесняйся, руби прямо – к психиатру обращалась?!» - и моя новая приятельница засмеялась, почти захохотала горько-саркастическим смехом. Но всё же опять-таки чуть зарозовела и немножко засмущалась. Помолчав, сказала: «Извини, не сердись, я вовсе тебя не хотела обманывать… Но это всё равно, что никому. Этот психотерапевт – могила, не из новых, которые или проболтаться могут, или настучать «куда следует». Он меня с моих девчачьих лет знает. Правда, ни в чём другом совершенно ни фига не рубит. Кажется, кроме Чехова, никого не читает, и того несёт почти матом. Мол, с медицинской точки зрения это всё у него клюква…» «Ну, и что тебе это светило сказало?» «Ай, да что они понимают в творческих людях, эти эскулапы… эскалопы! Они ж нынче зациклены на своём психоанализе, кипятком шпарят себе ножки от счастья, что Фрейд (я оценил эрудицию Ляли: она произнесла это знаменитое зарубежное имя по-немецки – Фройд) и Юнг нонеча не под запретом, вот и молятся на них!» «Я даже могу предположить, какой он тебе диагноз поставил». «Да? Интересно, и что же он, по-твоему, мне впаял?» «Сублимация либидо! Или я неправ?!» «Ну, ты гений! – расхохоталась моя собеседница. – Как говорит «охужэтасовременная молодёжь» - зеркально! Именно это он мне инкриминировал,.. чудак на букву «м», - она не без удовольствия ввернула входивший тогда в моду среди интеллектуальных дам «светский» заменитель грубого словца. – Знаешь, я так на него обозлилась, потом даже извиняться пришлось. Рявкнула на него: уж руби правду… в матку! чего прямо не скажешь, мол, баба давно уже не… нетоптанная, мужика настоящего и постоянного у неё нет, вот и выплёскивает она свою сексуальную неудовлетворённость в словесные эротические фантазмы!» «Видишь ли, подруга, с его, с сугубо медицинской, психофизиологической точки зрения он совершенно прав. Только с этой точки зрения факт возникновения искусства – любого – вообще не объяснить…» «Или так они объясняют, что плеваться хочется, - прервала меня Ляля. – Знаешь, я когда того же Фрейда прочитала, про Леонардо, мне в голову пришло: если б да Винчи это всё сам прочёл – он бы от омерзения не смог бы кисть в руки взять, в купцы бы подался!» «Ах, Лялечка, - вздохнул я, - вот в чём беда-то твоя, если не главная, то одна из главных: начитанная ты просто до безобразия. Ну, на кой тебе надо было этим опусом про Леонардо себе серое вещество пудрить, что, тебе Фрёйд понимания жизни добавил, что-то новое в душе человеческой открыл?» «Ну, положим, наши родные, советские критики-аналитики ещё во сто раз дурней истолковывают, - резонно отпарировала моя собеседница. – На мою первую книжку аж целых пять рецензюшек было напечатано, читаю их одну за другой, думаю – вот сейчас мне скажут самое главное, объяснят хоть что-то, ну, хоть изругают, да глаза на себя родимую откроют, - нет! Вижу: это про кого-то другого пишут, не про меня. Всё по Антону Павловичу: «это они образованность свою хочут показать и всё время говорят о непонятном»… Нет уж, пусть лучше над моими нетленками господа фрейдисты изгаляются, всё интереснее…» «Напишут, куда они денутся с подводной лодки!» - шутливо заверил я Лялю Белькину (даже и не подозревая, что и её ироническое пожелание, и мои шуточные обещания сбудутся уже через несколько лет), после чего вернулся к главному предмету нашей с ней дружеской беседы: «А теперь-то, коль скоро ты и сама на себе испытала прелесть этой комнаты, на своей нежной шкурке почуяла то, что «мистикой» звала прежде с таким презрением – теперь-то ты можешь себе представить, какие м н е тут мучения на долю выпали?! Ведь сам сегодня дивлюсь: какая же крепкая у меня от природы психика, если я тогда не шизанулся… А ты, помнишь, со своей комсомольской категоричностью: пить надо было меньше! никаких наваждений не бывает! Теперь-то понимаешь, сестра по… уж не знаю, по несчастью или по счастью, а?» «Начинаю понимать…» - тихо отвечала мне начинающая мастерица эротической прозы. И спросила: «А ты тогда к врачебной помощи не пытался прибегнуть?» «Я? К врачам? Да о чём ты говоришь? Вспомни, что тогда творилось на этом фронте, на «психушечном»! И какая у меня тогда была ситуация в нашем литературном департаменте. Меня же от выгонки отовсюду только Афган и спас… И попробуй я тогда какому угодно врачу, хоть в нашей поликлинике, в писательской, психотерапевту, хоть какому «левому» психиатру расскажи: мол, нечисть меня в моей коммуналке одолевает, господин Воланд со мной шутки шутит – на следующий же день уже сидел бы в психушке! И неизвестно, когда бы вышел и в каком состоянии…» «Если б вообще вышел…» - заметила Ляля. «Вот именно! Ведь примерно в том же году Серёжка Лихарь, мой кореш по службе на Северах и верный собутыльник, как раз таким путём и загремел – сначала в Кащенко, потом в институт Сербского, а там и по дальнейшим этапам, и затравили его уколами да «колёсами» до деревянного бушлата… Ты ведь Сергея должна была знать, должна помнить: твой собрат по «второй древнейшей»; ведь в том их Обществе духовного просвещения половина из журналистов состояла. Да и каких! – кое-кто даже из «Комсомолки» и другой прессы этого уровня. Сначала-то, помнишь, их не трогали, чем-то вроде клуба самодеятельной песни сочли, а после почуяли, что там православием пахнет, и начали клюкву давить. Вот тогда-то Серёга Лихарь и загремел под фанфары!» «Ещё бы мне его не помнить! – вздохнула Ляля Белькина. – Я ведь из-за Сергея тогда единственный раз в жизни во что-то политическое влипла, хоть и не знала, что это политическое: ну, просто подписала письмо к руководству нашего журналистского союза, чтобы жену и ребёнка Сергея не выселяли из Москвы – они же в «малосемейке» жили, вроде как в общаге. А подписей под тем письмом чуть не двести было: чего, думаю, свою не добавить! Ну, а потом сразу мне та подпись аукаться начала – никуда в штат не брали, так на договорах и поныне работаю…» «А Сергей тогда ни к каким врачам даже и не обращался: просто профилактику в поликлинике проходил. И, видно, невропатолог уже подготовлен был к его приёму, стал его раскручивать – мол, нет ли у вас тяжких сновидений, а если есть, то какие? Лихарь и ляпни ему: снится мне, что я на кресте распят, а крест на Красной площади, и вокруг толпа, как на демонстрации.. Вот – а на другой день уже в Кащенко сидел! Так что я тогда со своими печалями к врачам не совался». «Ой, а мне ведь тогда не только сверху по тыковке щёлкнули, взволнованно сказала Ляля, - мне и от кой-кого из братьев и сестёр журналюг досталось за ту подпись. Представляешь, упрекали, ворчали: за кого ты вступилась – ведь это махровый русофил, православный замшелый ретроград, антисемит и так далее! Господи, когда же этот шабаш у нас кончится, а?» «Вот здесь ты в самую точку попала, подруга! Шабаш! Понимаешь, ведь когда я тебе говорил о нечисти – не только всяческих там булгаковских, вообще литературных «нечистиков» имел в виду, а вот всё это… То, о чём Бунин ещё лет за пять до революции говорил, оглядывая окружающее его «интеллектуальное» общество – «Это ли не Вальпургиева ночь!» А сейчас шабаш у нас, по-моему, с новой силой разгорается, есть у меня такое предчувствие…» «Ой, не дай Бог! – поёжилась моя приятельница. – Мне бы всётаки очень хотелось эту мою новую прозу до ума довести и напечатать. Хотя, честно говоря, с другой стороны – боязно!» «А чего боишься-то – что заклеймят тебя как «жрицу любви»? Зато читатель сразу валом повалит на твои эротические экзерзисы! В таких случаях элемент скандала – вещь необходимая». «Не знаю, как-то не по мне всякая скандальозность, без неё как-то обойтись бы… А боюсь – как бы и вправду мне это наваждение психику не разрушило. Поверь, в последний раз, когда опять поняла, что только в этих аппартаментах у меня чтото необычное пишется – просто в мозгах защекотало: да неужели я теперь от этих коммунальных стен зависеть должна? Не хочу я впадать в такую зависимость, понимаешь, это ведь рабство какоето!» «Что поделать, сударыня – наше с тобой дело и есть своего рода рабство. Всегда так было…А что произошло-то в последний раз?» «Да меня Дора Мироновна и её адмирал на свою дачу зазвали. Давно уже обещала, но за Полинку опасалась, она что-то покашливала, а дорога неблизкая. Ну, приехали, всё чудесно, угощенья-объеденья все четыре для подряд, Мироновна с мужем нас в разные роскошные пледы и пончо кутали… И для работы мне кабинетик отвели. А я, знаешь ли, туда и не без тайного авторского умысла поехала: у меня половина повести была нашкрябана, там молодая влюблённая пара, а во второй половине – по контрасту – тоже влюблённые, только пожилые. Вот я и задумала там их как бы с натуры срисовать – ну, словечки их всякие, жесты, взгляды друг на друга, это же всё хоть немного повидать надо, а я таких пожилых молодожёнов ещё никогда в жизни не видала. А уж какая у них страсть кипучая, это ты раньше меня имел возможность узреть, они мне говорили – ты у них на свадьбе чуть не тамадой был…» «Нет, не тамадой, но тостов немало возглашал, и вообще художественное звучание торжества обеспечил, - с улыбкой отвечал я. – Так в чём же дело, опять, что ли, ничего написать не смогла вне этих стен?» «Хуже! – почти с ужасом воскликнула хозяйка комнаты. – Хуже некуда… Почти до финала там довела я эту повестушку. Стала перечитывать: Господи! челюсти от тоски у самой сводит, ещё скучней написано, чем то, что я в прежние времена выдавала, тягомотина какая-то, сочинение старой девы, через полвека после Смольного института узнавшей, откуда дети берутся… Всё порвала в мелкие клочки! Дора увидала, сколько я извела бумаги, чуть не заплакала: Лялечка, шлемазочка вы моя, и зачем-таки вы себя так измучиваете!.. А что такое «шлемазочка», ты не знаешь, по какому это?» «По-ростовски, - ответил я. – А ещё по-одесски, по-жмерински и по-житомирски. Шолом-Алейхема надо читать, сударыня, чтобы считаться сегодня настоящей российской интеллектуалкой. Несчастненькой тебя Мироновна назвала! Она б навзрыд зарыдала, если б узнала, что ей не суждено войти в мировую литературу в образе одной из твоих героинь…» «Вошла, вошла! – с чисто женским ехидством возразила мне Ляля. – Вместе с адмиралом, в неразрывном любовном единении! Но, если они когда-либо это прочтут, то себя не узнают… Прежняя история: как только я сюда вернулась, так всё заново написала. Таких сцен чувственного огня меж людьми, которым за шестьдесят, по-моему, в русской литературе ещё не было!» «Ладно, ладно, мадам, лет через тридцать вы на эти свои сценки и на их действующих лиц иными глазами глянете», язвительно заметил я. «Ой, столько не проживу! – почти жалобно сказала она. – Боюсь, убьют меня эти стены и потолки громадные, не выдержат мои нервы этого давления. Серьёзно тебе говорю: тяжеловато на душе бывает от этого чувства – что будто бы под диктовку пишу… И даже не за себя боюсь, а за Полинку мою, - вдруг да и на неё это наваждение каким-нибудь образом подействует? Не дай Бог!» «Знаешь, милая Ляля, - нежданно вырвалось у меня, - чтобы Бог тебе что-то дал, надо, по-крайней мере, хоть какую-то веру в Его существование и могущество иметь в себе. Прости за жёсткость, но тут уж не могу не вспомнить известное присловье про рыбку, которую очень хочется съесть, испытав после этого и наслаждение иного рода… Понимаю, выбор очень трудный, но ты от него никуда не уйдёшь: или будешь молиться, чтобы тебя Всевышний от бесовских чар избавил, или – будешь творить и вытворять как бы под диктовку витающих в этой комнатухе наваждений. Одно из двух, дорогая, одно из двух.Вот уж тот самый случай, когда третьего не дано!» Я перевёл дух и вытер платком лоб: меня даже в жар бросило от нежданно охватившего меня волнения. Моя новая приятельница слушала меня, сжав побелевшие пальцы рук до хруста, широко раскрыв свои карие глаза, без очков оказавшиеся не только большими, но и очень выразительными. Казалось, она не просто слушала меня, но глотала мои слова глазами… «…Пойми, подруга, я ведь тебе только потому это всё излагаю, что в этом твоём нынешнем жилище такое перенёс – худшему ворогу не пожелаю! Своё я здесь отстрадал, по самое некуда и даже выше… Ты девка упёртая, человек самостоятельный, знаю, и не мыслю поэтому, чтоб тебя сагитировать на что-то, а всё равно – прислушайся. Одно точно знаю: если ты второй путь изберёшь, если превратишься в… во что-то вроде звукозаписывающего аппарата для всяких «нечистиков», которые тебя тут незримо осаждают, если, словом, станешь посредником, этаким «медиумом» между голосами всяких призраков, духов и химер, которые тебе тут что-то нашёптывают, и между листом бумаги писчей, то… Я не исключаю, что, может быть, эти твои новые тексты обречены на успех. Причём неважно, куда они дальше пойдут – эротические, мистические, морально-сентиментальные или политические, найдутся люди, которые их на щит поднимут и лавров на тебя навешают… до конца дней тебе лаврушку в магазине покупать не надо будет… А вот за твоё психическое здоровье в таком случае, за светлое состояние твоей души, да и столь обожаемого твоими поклонниками тела – не ручаюсь! Более того скажу, хоть и не хочется тебя пугать, ты ведь и сама уже начинаешь эту опасность чуять, - вполне допускаю, что и тяжкие последствия тебя ждут вместе с успехом и славой… Прости, Лялечка, но я не мог тебе этого не сказать!» …Ляля Белькина слушала меня уже спокойно, лицо её стало чуть отрешённым, задумчивым, и – как ни странно – от этого ещё более привлекательным. …И я поймал себя на удивительно непривычном, вряд ли когда прежде посещавшем меня ощущении. Вот сижу я в бывшей моей комнате, которая теперь стала жильём женщины, ещё недавно бывшей для меня лишь одной из множества знакомых мне тружениц литературно-журналистской нивы. Причём ведь и не сказать, что она была доброй моей знакомой, нет, мы просто здоровались. Да, я её читал, я её считал достойной и одарённой служительницей пера. Но к моему миру она не принадлежала… И дело вовсе не в том, что она стала обитательницей жилища, с которым у меня связано столько переживаний. И уж вовсе не в том, что из… ладно, пусть не из «мымры», но действительно из суховато-строгой «тёти самых честных правил» она превратилась в весьма симпатичную даму: она всё-равно не стала женщиной моего вкуса, способной вызвать у меня сколь-либо страстные мужские эмоции, нет… И всё равно: вот я сижу рядом с ней и говорю ей самые жёсткие и, может быть, жестокие вещи, и после такого разговора она, наверное, пожалеет о своей откровенности, прекратит наше, едва начавшееся приятельство, и это будет естественно, и у меня не будет ни прав, ни оснований для обиды. И тем не менее: эта женщина в чём-то очень заветном и заповедном за такое короткое время стала мне родственной. Близкой. Стала частью моей жизни. И уже останется такою, что бы там ни случилось дальше… Боже, как всё непредвиденно и непредсказуемо в мире, созданном Тобой… И как же мало в нём зависит от нас! На Тебя уповаем… «Спасибо тебе, дружок, за этот холодный душ!» - с тихой и грустной улыбкой сказала мне Ляля Белькина после некоторого молчания. «Только ты один и мог меня им обдать. Ты действительно выстрадал право на это…» «Ну, как же я рад, что ты не обиделась!» - выдохнул я и вмиг почувствовал, что прежнее, доброе и радостное состояние, в каком я пребывал во время нашего дружеского ужина, возвращается ко мне. «Какие там обиды! Не держи ты меня за дуру, а?» «Мадам! – воскликнул я, вновь обретя способность к светским и даже чересчур озорным шуткам. – Мне неведомо, какую именно из прелестных частей вашей нежнейшей плоти вы величаете «дурой», но мне известно то, что, к сожалению, я вас за неё не держу!» Мы расхохотались, и я вновь с удивлением увидел, что маститая журналистка не утратила способность слегка пунцоветь от фривольных шуток. И, чтобы утишить её смущение, мне пришлось объяснять ей, что я терпеть не могу так называемого «одесского» жаргона. «Это у тебя от общения с Дорой Мироновной!» - ехидно заметил я. «Юдофоб несчастный, шовинист и русофил, вот ты кто за это!» - сказала Ляля и показала мне язык. И добавила: «Да ещё и коварный мужчина, растревожил сердце даме, и тут же в кусты, в дебри своей филологии!» А через миг она опять посерьёзнела и вздохнула: «Вообще-то Дора права: я, наверное, и вправду, эта самая… как её… шлемаза». «С чего ты это взяла?» «Да с того… Ты верно меня заклеймил как… вроде как я машинисткой для этого становлюсь. Но и ты меня пойми…» Она набрала в грудь воздуха, как перед прыжком в воду, и твёрдым голосом произнесла: «Видимо, я тоже должна о т с т р а д а т ь своё». «Как понимать прикажешь эту заяву?» «А так, что ты прав – спастись от всей этой чертовщины можно только молитвой. А это – не для меня. По крайней мере – пока, сейчас. Ну, не дозрела я ещё для этого… Пойми, советская я девушка, другой быть не могу. У тебя вот своя судьба, ты среди многих религиозных людей рос, ты вообще русским вырос, а я – не знаю вообще, какая и кто. Советская – вот и всё. Ты скажешь: а я, что, антисоветский? Нет, ты тоже советский, но ты сначала русский, как мне видится, а потом уже советский… А я – дитя асфальта и бетона! Столичное дитя советской счастливой эпохи. Так меня вырастили: боженька и прочее – бабушкины сказки, тёмное прошлое…» «Ляль, что ты в открытые двери ломишься? Будто бы я тебя, как те ксендзы Козлевича, «охмуряю» в пользу церковности, обратить хочу! Да Боже упаси, и не моё это дело, и ты не тот человек, и вообще… Я просто обозначил два пути, которые, помоему, перед тобой сейчас предстали, вот и всё… ну, а ты, девица-богатырка, мошет, и найдёшь способ избежать мук адовых, может, и третий какой путь найдёшь. С тебя станется!» «Ага! – усмехнулась Белькина. – Направо пойдёшь – костей не соберёшь, и так далее… Картина передвижника Чудинцева: «Девица-богатырка на распутном пути»! Брось ты, какая из меня богатырка!» «Ну, скажем так – сильная женщина, сильная личность, в этом-то я убеждён, да и далеко не я один…» «Да-да, - ещё более язвительно ответила моя собеседница, - из железных ледей!.. Ладно… Главное, думаю, ты понял: не по мне сейчас ни в церковь пойти, ни даже вот здесь иконку повесить… Даже тут, в комнате, не на глазах людских, наедине с собой… и то было бы что-то вроде лицемерия – перед иконкой, на колени и о чём-то просить того, кто на ней изображён: потому что нет у меня ни понимания этого, ни внутренней убеждённости. А если так, то зачем? А уж тем более в церкви… Ты же видишь, в последнее время уже многие туда ходят без всякой опаски, но я по своим подружкам-приятельницам сужу – у доброй половины из них это показное, театральное…» «О, Ляля, как в песне поётся – то ли ещё будет! Знаешь, тога пророка – не самая моя любимая одежда, но поверь моему слову: теперь, после того, как Горбачёв с Патриархом встретился, в храм повалят и самые отъявленные атеисты! Ты можешь себе представить: в повестке дня завтрашнего заседания нашего парткома один из главных пунктов – «Подготовка писательской организации к празднованию тысячелетия Крещения Руси». Каково?! Нет, само по себе-то это замечательно, только вот вопрос – ведь в большинстве своём эти же самые люди года два назад Солоухина из своих рядов исключали, до костей его обгрызли за его православно-монархические высказывания!» «Мне ли это не помнить! – всплеснула руками Ляля Белькина. – У меня же тогда интервью с Владимиром Алексеевичем должно было пойти в «Неделе» - так уже в типографии всё было, печатникам машины пришлось останавливать, прямо из номера изъяли, во до чего!» «…А где они все были, когда пишущих православных людей душили, а то и убивали, - продолжал я, - тут ведь и отец Дмитрий Дудко, и наш с тобой общий приятель Серёжа Лихарь, царство ему небесное, не единственные примеры. За диссидентоватеистов, тех, скажем, кто вокруг Сахарова клубился – за них, пусть шепотком и редко, но что-то вякали в защиту. А за тех, кто хоть слегка к вере предков склонялся – никогда! Теперь другим ветром повеяло, и пожалуйста – славный юбилей готовимся встретить! А где ж они раньше были?!» «Что ты риторические вопросы сыплешь, - успокаивающе сказала мне моя приятельница, - Ведь сам же знаешь, где, и там же, кстати, где и сослуживцы отца Дмитрия, священники, и Патриарх. Молчали! Может, и правильно делали: не все ж такие сумасшедшие и удачники, как ты, чтоб в омут головой вниз кидаться и почти без потерь выкарабкиваться…» «Ну, скажем, со слегка мокрыми штанишками…» - заметил я не без мрачноватой иронии в голосе. «Короче, не хочу я этой фальши… Поэтому, наверное, и мне придётся из-за пребывания в этой обширно-объёмной комнатке тоже отстрадать своё. Скорей-то всего по-иному, чем тебе пришлось, но, чувствую, вряд ли этого избегу… Ах, не столько за себя, говорю, боязно, сколько за Полинку!» …Вот и не верь в таинство единения матери и ребёнка: едва только Ляля Белькина успела произнести имя своей малышки, как та подала свой невероятно громкий для полуторагодовалой девочки голос из-за стены. Из-за той самой стены, в которую когда-то не раз летели и грохались мои сапоги и туфли, швыряемые моей буйно-хмельной десницей и вызывавшие своим грохотом праведный гнев и негодование средь ночи Доры Мироновны… Теперь в стенах коммуналки царила тишина: прекратились кухонные и прочие перебранки и конфликты, не слышно стало гортанно-оргастических и матерных воплей в комнатах двух общепитовских тружениц. Теперь только стрекотание пишущей машинки да голос ребёнка нарушали эту тишь… Там, в полупустой комнате Доры Мироновны, находившейся под приглядом Ляли Белькиной, и почивала малышка: мать накормила и уложила её перед началом наших дружеских посиделок. Я глянул на часы и удивился: ужиная и чаёвничая, а потом просто беседуя, мы провели не меньше трёх часов. Удивился и тому, что девочка так долго и крепко спала: моя дочка в этом возрасте просыпалась каждые полчаса. Значит – Лялина малышка была здорова… Но другому ещё более удивился: мне было трудно припомнить, когда в последний раз мне доводилось вести с дамами столь длительные разговоры. Но – и собеседница моя того заслуживала, и не могла наша встреча в тот день обойтись без этого долгого, временами трудного и непростого, а всё-таки живого и очень дружеского разговора… Ляля принесла разрумянившуюся от сна малышку, и мы с ней немного поиграли, пытаясь примерить и обновить её «вожжи». Но Полинка то ли слишком разнежилась во сне, то ли ей в тот вечер просто не хотелось обучаться в ходьбе и больше нравилось пребывать в объятиях мамы, - словом, обновка ей не шибко глянулась… А мне уже настало время уходить. Хозяйка моего бывшего жилья, держа дочку на руках, чмокнула меня в щёку. На миг я ощутил и магнитное тепло сильного женского тела, и ту первозданную, молочно-тёплую нежность, которая всегда исходит от чистого и ухоженного младенца… Ляля принадлежала к тому, не столь уж часто встречающемуся типу женщин, которых материнство не просто красит (оно, по-моему, всем женщинам идёт), но у которых дитя на их руках подчёркивает, возвышает, а то и удваивает их прелести, и их душевные достоинства… Что удивительного, если в тот миг мне подумалось: жаль, что эта моя новая приятельница – не из тех, от кого я могу возгораться всерьёз и надолго. Странная мысль, не совсем естественное ощущение – а вот же, на долю мгновенья, да посетили они меня. И потому я был просто поражён послышавшимися в тот же миг словами начинающей художницы эротической прозы: « Что ж, Чудинцев, должна тебе на прощанье признаться со вздохом: жаль, что ты – мужчина не моего романа!» И, не дожидаясь, пока я приду в себя и найду слова для какого-нибудь галантного ответа, она с выражением твёрдой решимости на лице сказала: «Зато ты для меня гораздо более редкое и более ценное явление. Ты сегодня – может быть, единственный, кто может и меня понять, и… и вот это…» Она подошла к письменному столу и, левой рукой прижав к себе дочурку, правой двинула один из ящиков и вынула из него красивую и довольно-таки объёмистую папку. «Вот… Второй экземпляр, он ещё лучше первого читается… Ты – первый, кому я это хочу дать почитать. И прошу… Ещё сегодня днём не думала, не гадала, что именно ты первым читателем э т о г о будешь. А сейчас – просто иного выхода не вижу…» …Придя домой, я положил эту папку на стол, решив приняться за исследование её содержимого на следующий день.Но всё-таки раскрыл её и увидел заглавие первой повести – «Вирус по имени Эрос». Открыл эту вещь на первой попавшейся странице (почему-то запомнилось – на тридцать третьей) и прочитал: «Он вышел из меня, оставив во мне просто чудовищное количество мужского семени. Впервые в жизни я ощутила, что оно может не только обжигать сильнее кипятка, но и, подобно расплавленному металлу, прожигать – до сердца». Потом я задержал взгляд на одной из финальных страниц этой повести. В глаза сразу же бросился следующий пассаж: «Прильнув ко мне сзади, он так легко проник в меня, что в первую секунду я этого почти и не заметила. Зато через миг поняла другое: у меня появился новый позвоночник. Верней, так – мой позвоночник превратился в то, что в меня вонзилось…» Я решил не откладывать на завтра то, чем можно было прожечь себя до сердца сегодня, и, сварив крепкий кофе, уселся знакомиться с новыми страницами творчества Ляли Белькиной… Нет, поверьте, отнюдь не потому, что прочитанные наугад строки бросили меня в жар, зажгли во мне желание как можно скорее открыть для себя новый, прежде совершенно неведомый мне и столь притягательный, будоражащий мир словесности, обращённый к интимным взаимоотношениям мужчин и женщин. Ничего подобного! Ничего нового, неведомого и тем более будоражащего для меня там быть не могло. Ещё студентом, избравшим своей специальностью зарубежную литературу, ухитрялся всеми правдами и неправдами добывать и читать такие её образцы, о которых подавляющее большинство читателей нашей страны тогда просто и ведать не могло. А потом наступили времена работы с иностранными коллегами и командировок в разные заграничные края, - сами понимаете, простор для утоления читательской жажды открывался немалый. Разумеется, тому открывался, кто такую тягу имел, кто хотел везти домой книги, а не одни лишь чеки для отоваривания в «Берёзках»… Так что не будет преувеличением сказать, что основные страницы зарубежного – и западного, и восточного – литературного Эроса стали мне известны ещё в мои молодые годы. Да и такие страницы, что в сравнении с ними, скажем, книги одиозно известных Генри Миллера или Харолда Роббинса казались достаточно сдержанными в изображении плотски-чувственных сцен… И, кстати, могу откровенно сказать, что и в жаркой моей молодости читал такие вещи без особой дрожи. Краснеть довелось гораздо позже, через многие годы – когда такого рода образцы словесности стали появляться на прилавках наших книжных магазинов – краснеть поневоле за их переводчиков, за халтурщиков, которые превращают внятные иноязычные тексты в собачью бредятину на языке, к русскому имеющем троюродное отношение… Но - виноват, отвлёкся! Главное же состояло в том, что я заранее знал: никакими самыми отчаянными эротическими откровениями новые рассказы и повести Ляли Белькиной меня не только что «прожечь до сердца» не смогут, но даже и слегка пощекотать. К тому же – будем откровенны! – какими словесами можно ввести в смущение сорокалетнего мужчину с кое-каким багажом «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»… Короче, не тот попался читатель! Совсем другое заставило меня приступить к чтению, не мешкая, не откладывая на следующий день. Мне не терпелось узнать и понять: ч т о , что же могла услышать моя приятельница в бывшей операционной профессора Спасского от по-прежнему обитающих там запредельных сил, что именно могло нашептать, надиктовать и внедрить в её подсознание то, что мы оба с ней условно звали «наваждением»? Чем оборачивается для молодой советской писательницы встреча с Тенью Мастера? …………………………………………………………………………. Могу признаться: я не был разочарован. То есть – не пришлось мне жалеть о том, что взял у новой обитательницы моей бывшей комнаты эту папку. Её содержание действительно ничем не поразило меня само по себе, не принесло мне никаких открытий в чисто художественном плане. Разве что одно я для себя открыл, одно мне стало совершенно ясным: впервые в жизни я читал книгу (пусть ещё и в рукописи, но это была уже именно книга) по-настоящему эротической прозы, написанную моей современницей и соотечественницей. В самый первый раз! Причём это была книга, созданная настоящей писательницей. Сами понимаете – ощущение серьёзное и неповторимое. Читал я с предельным вниманием. …И, закрыв эту папку, неколебимо понял самое главное: Ляля Белькина сама, с а м а п о с е б е никогда бы не смогла написать эти повести и рассказы. Ни – ко – гда ! При всём своём даровании, пусть и не Бог весть каком могучем, однако и не худосочном, не выморочном, а истинном, настоящем, природном. Не смогла бы… Не под силу было бы ей сотворить, измыслить, напридумывать и нарисовать словами такое разнообразие состояний распалённой плоти, такие джунгли сексуальных ристалищ меж представителями двух полов, такое изобилие движений души и тела, охваченных любовно-чувственной горячкой. Не смогла бы без… Не встреться я с Лялей в тот день и не проведи с ней несколько часов в приятельском, донельзя откровенном и непростом разговоре, так бы сказал, прочитав её новые творения: не смогла бы без самой конкретной, постоянной и кропотливо-скрупулёзной помощи со стороны какого-либо житейско-литературного наставника, соавтора или консультанта, имеющего немалый опыт как в труде прозаика, так и в эротической сфере жизни… Ну, дав простор воображению, ещё такой вывод мог бы сделать: ей на помощь пришло какое-то невероятное, совершенно фантастическое озарение, которое одарило её немыслимым буйством художественного полёта, способностью к богатейшему вымыслу! Однако озарение и есть озарение, оно – как вспышка молнии, надолго не посещает. А, главное – в тот день я услышал исповедь Ляли Белькиной. И у меня не было никаких оснований сомневаться в её полнейшей искрености. Моей преемнице по обитанию в комнате с двумя громадными окнами и гигантскими мраморными подоконниками не было никаких причин морочить меня, придумывать некую «легенду» таинственного происхождения её новой прозы. Она рассказала мне сущую правду. В этом я окончательно убедился, прочитав рукопись её новой книги. Только то, что мы с ней оба звали «наваждением», только одна из тех незримых запредельных и чародействующих то к злу, то к добру сил, что витали в бывшем жилище великого медика, наложившего заклятие на его стены и на грядущих жильцов – только она могла подсказать, «надиктовать», нашептать и внушить прагматически настроенной и не верящей ни в какую мистику советской труженице пера содержание её новых повестей и рассказов. Причём – во всех подробностях, деталях и штрихах. …Другое дело – и ясное дело: от самого автора зависело, к а к, в какой форме и какими словами излагать весь тот «поток сознания», что внедрялся в её творческое существо витающим в комнате духом заклятья. Но – Ляля Белькина была к тому времени уже достаточно зрелой служительницей словесности, журналистика приучила её к изощрённости пера, и уже в первой, не очень самостоятельной книжке стиль её отличался и лёгкостью, и меткостью… А получилось, говорю, то, что получилось – первая книга эротической прозы, созданная советской писательницей. …Ни к чему хотя бы вкратце знакомить вас с её содержанием: кого предыдущие страницы заинтересовали, тот может сам или в библиотеке взять, или, как нынче водится, в «виртуальной паутине» найти две книги Ляли Белькиной. А то, если повезёт, купить на каком-либо книжном развале, - переизданий этих книг, многократно выходивших в конце восьмидесятых и начале девяностых лет минувшего века, я давно уже не видел. Название первой вам уже известно – «Вирус по имени Эрос», вторая называется, по-моему, гораздо менее удачно, несколько неуклюже – «Свет в конце темницы лона». (Чуть ниже объясню, откуда взялась такая словесная фиоритура..) Надо признать, что Ляля, сказав о своих новых творениях «…там совокупляются почти на каждой странице», не сильно преувеличила. Ну, на большинстве страниц – несомненно происходит именно это. Соитие – главное занятие героинь её двух главных книг. А вообще-то эти героини новой прозы моей прятельницы были продолжением прежних – правда, сильно модифициронным, весьма усовершенстванным продолжением. В отличие от своих предшественниц из ранних повестей и рассказов Белькиной, скромных и не очень удачливых интеллектуалок, эти дамы шагали по жизни уверенной поступью. И брали от неё, от жизни, всё, что считали нужным! И, опятьтаки, в отличие от предшественниц, с начальством сражались грозно, агрессивно, без всяческих интелигентских рефлексий, сомнений и колебаний. И всегда выходили из этих битв победительницами. Да вдобавок ещё и ущемив (нередко в буквальном смысле) мужское достоинство поверженного тирана и деспота. Точно так же они поступали и с теми мизераблями мужского пола, которые пытались претендовать на их роскошные (о, эта роскошь описана так, что и сам мэтр Рабле позвидовал бы!) женские прелести, не имея на то никаких оснований. Ни моральных, ни физических. Или имея лишь физические, - вот тутто и проявлялся интеллектуализм новых героинь Ляли Белькиной: каждая из них желала, чтобы достойный её избранник услаждал бы её не только физическими, но и нравственными ласками. Чтоб в перерывах между соитиями с ним можно было бы от души потолковать либо о химерах Нотр-Дама, либо о каналах Роттердама и о предсказаниях Нострадамуса. Дамы с более патриотическим настроением, проэкзаменовав претендентов на их руку и сердце по линии сексуальной стойкости, проверяли их на знания родословной Годунова, творчества Глазунова (кажется, живописца) и стихов Кузнецова (не помню, какого из носящих эту фамилию). Впрочем, эстетический диапазон этих бесед «до и после, и между» отличался, помнится немалой широтой: от философии Конфуция до теории перманентной революции, от постановок «Дон Кихота» и «Идиота» до трактовок «Дон Жуана» и «Тихого Дона»… Но, напомню, если этим претендентам на прелести и достоинства новых героинь Белькиной, как говорилось в прежних её вещах, «только одного и надо было» - то расправу над ними эти дамы вершили такую, что те жалели о своём появлении на белый свет. А то и не успевали пожалеть… Правда, для совершения таких расправ героини вынуждены были отдаваться этим самцам и наглецам, иногда и не по разу, но тут уж ничего не поделаешь, - зато месть получалась неотвратимой и лишающей мерзавцев какой бы то ни было возможности продолжать род и вообще вести мужскую жизнь – во всех её смыслах! Эти соития, постельные поединки и прочие «скрещенья рук, скрещенья ног» происходили в прочитанных мною той ночью повестях и рассказах с почти уникальным, немыслимым разнообразием, если не сказать – тысячеобразно… Мне, ещё в молодые годы не только познакомившемуся с «Кама Сутрой», этой библией восточного эроса, но налюбовавшемуся в Индии на превеликое множество статуй богов и богинь, украшавших храмы бога любви Камы, сплетавших и переплетавших свои каменные тела друг с другом в таких позах, какие даже виртуозам художественной гимнастики представить невозможно, - мне стало очевидно: эти изваяния, иллюстрировавшие собой «Кама Сутру», порой могли бы позавидовать главным действующим лицам произведений Белькиной по части той самой виртуозности! Но и другое стало очевидно: вот уж такието описания и сценки Ляля точно могла изобразить только «под диктовку». Ибо при всём нашем с ней недолгом знакомстве я точно знал: с литературно-художественными памятниками индийской эротики она была незнакома… Однако справедливость требует признать, что всё вышеупомянутое было создано языком, лишённым какой бы то ни было словесной грязи. Вот это меня удивило – ведь в ту пору речевая непристойщина и «ненормативная» лексика уже начали прорываться сквозь редакторско-цензорские рогатки в печатные стихи и прозу, на журнальные страницы и в книги. И уже не только мужеска, но и женского пола авторы заставляли своих героев и героинь лихо щеголять заборными словечками – якобы «ради колориту». И мне помнится – всё тот же наш ЦДЛ, всё то же наше начало «эпохи перемен», и некая молодая поэтесса, в шумной компании отмечающая выход своей книжки, громогласно хвастается: «Во у меня что прошло – «Ах ты, сука, ах ты, б…!» А что, надо правду писать в стихах, так народ говорит!» Что ж, дорогие коллеги, вы добились своего – теперь и впрямь народ так заговорил даже устами своих младенцев… Ничего подобного даже на самых «раскованных» страницах будущей Лялиной книги я не нашёл. Собственно то, что зовётся словесной нечистью, там отсутствовало. В авторской речи вообще не наблюдалось никаких сколь-дибо неприличных глаголов… Герои и героини – те -… да, изредка у них вырывались бранные словечки, но уж действительно лишь тогда, когда читателю становилось ясным: в такой ситуации человек любого пола просто не может удержаться без крепкого выражения. Так, всё в том же «Вирусе…» одну даму, от лица коей там ведётся повествование, довёл до гневного приступа своей никчемностью некий тип, старавшийся казаться «плейбоем» - спортивный вид, ухарские манеры, - но к своим тридцати пяти годам он не женат, живёт на родительские деньги, любовник никакой, и к тому же влиятельный папа в своё время добыл ему «белый билет», освобождение от воинской службы. Так права она была или нет, заорав на него: «Вот про таких, как ты, и говорят – ни в п…ду, ни в Красную армию!» Мне кажется – права, тем более, что непристойное словцо означено многоточием. Вообще же моя приятельница (сама по себе, своим авторским почерком, стилем, вне связи со всякими «наваждениями») сумела доказать в этой своей новой прозе, что она может строить ход и психологию произведений не только на действии, на сюжете, на поступках действующих лиц, и даже не только на их словах – но на оттенках этих слов: самое, по-моему, знаменательное именно в русском настоящем писателе любых времён качество… Вот беру первую попавшуюся, может, и не самую выигрышную, но подходящую для подтверждения сказанного страницу одной её маленькой повести – даже, скорей, рассказа: мне думается, в нём каким-то причудливым путём отразилась история разгульной соседки-официантки, которую хотел уволить её директорловелас. Героиня этой повестушки тоже заманивает к себе в комнату коммуналки (!) своего властолюбивого и сластолюбивого шефа – правда, не столовского директора, а главного редактора газеты, который спешит найти повод, чтобы изгнать неугодную ему журналистку. Заманивает, само собой, побещав ему если не «египетскую ночь», то вечер с таким же сладостным содержанием. Забегая вперёд, скажу, что усилиями героини у развратного чинуши в этот вечер пропадает партбилет, а также он оставляет у своей подчинённой папку с секретными циркулярами «из компетентных органов» - и таким образом у героини появляется большой простор для интриг и издевательств над ним. Но издеваться она начинает уже в тот же вечер – как женщина: «…Он был уже доведён и до кипения, и до белого каления. Его залитые шампанским и выполосканные мной брюки сушились на кухне над плитой, сам он сидел в чёрных сатиновых трусах, что особенно поразило меня («И это человек, который регулярно ездит за рубеж, - думала я. – Что же, он и там, по пляжу Копакобаны, к примеру, тоже в этой сатиновой позорной тряпке разгуливает?!»). А он уже дрожал от нетерпения, покрывавшие его лысину редкие пряди взмокли, и струйка слюны потекла на дрожащую нижнюю челюсть. Наконец, он почти взвыл, пытаясь улыбаться: - Ну, когда же мы будем… это? - Что именно «это», Аркадий Сегментович? – с невинной улыбкой спросила я. - Ну, это… - осклабился он. – Как вы, молодые, любите в редакции это называть, когда мы с вами, наконец, «перейдём в горизонталь»? - Вы же знаете, Аркадий Сегментович, я далека от всех этих редакционных потрепушек и пустой болтовни, в жаргоне поэтому не сведуща. Скажите прямо, по-мужски, что вы имеете в виду? - Как что?! – тут уж он действительно взвыл, только в его вое послышались ноты гнева. – Вы зачем-то ведь меня сюда к себе позвали, так? Второй час тут сижу, а толку нет! Ладно, прямо, так прямо: трахаться-то мы будем?! - Ах, тра-а-ахаться! – я почти пропела этот, по-моему совершенно ублюдочный глагол. - Ну, если вы, дорогой Аркадий Сегментович, называете «траханьем» близость мужчины с женщиной, то пожальте в другой ресторан, как говорится. Со мной не трахаются, запомните это! - Ну, ладно, Томочка милая, что вы придираетесь к словам? Ведь вы же сами мне обещали, что эта наша встреча будет полна интимной сладости! Ведь так? Какая разница, как это называется? Что вы из себя… ломаете… какую-то… пуристку?! Вы же видите, я мужчина и я уже не могу! Я глянула на чёрный сатин, над которым нависало его жирное брюшко – и не увидела того, что он определил как «не могу!» Никакого, даже самого микроскопического намёка на «не могу!» там не наблюдалось. Это придало мне уверенности для нового витка моих филологических изысков: - Есть разница, и огромная! – заговорила я сразу и оскорблённым, и наставническо-патетическим тоном. – Да, вы мужчина, мой уважаемый главный редактор, и я полагала даже, что вы настоящий мужчина, джентльмен, потому и пригласила вас сюда. А я – женщина, а не девочка для дивана в вашем кабинете! Будь иначе, я и «трахалась» бы с вами на том замусоленном вашими девочками ложе… Но я женщина, для обращения с которой, в том числе и для обращения в самой сокровенной сфере, нужны соответствующие слова, а не та собачатина, которая с вашего языка тут слетает! Найдите же такие слова, Аркадий Сегментович, приведите меня ими в такое состояние, чтобы я отдалась вам с желанием. Неужели у вас, у мастера газетного слова, столь бедна слов мастерская? …Глядя на шефа, я радовалась тому, что не обедала: лицезреть его можно было только на пустой желудок, к горлу у меня подкатывал комок тошноты, но в то же время я почти не в силах была сдерживать смех – до того схож был в эти мгновенья мой гость со старым, облезлым и разжиревшим на кормах сердобольных хозяев кобелём, в котором вдруг проснулся давно уже им забытый инстинкт продолжения рода, и вот он помчался за молодой быстролапой особью, а она его мучает, носится зигзагами, то подпустит к себе, то снова удирает – и вот он загнан, в мыле, уже ничего не соображает, а инстинкт сжигает его изнутри уже до припадка, и сидит кобель, и трясётся, истекая слюной и потом… Тошнотворное зрелище! Наконец, его озарило, и он протянул ко мне пухлые дрожащие руки: - Милая Томочка! – заблеял он, из последних сил пытаясь соблюдать светский тон, - Когда же мы с вами предадимся любви? - Любви?! – Мне пришлось сделать над собой немалое усилие, чтобы вскинуть брови. – О какой любви может идти речь? Я чтото не слышала от вас признаний в любви. И сама, насколько помню, таких признаний вам не делала. - А-а-а! – вдруг истошно заорал он и задёргался, - Буду я тебя тереть или не-е-ет?! Услыхав это «тереть», я уже не могла удержаться и зашлась в приступе дикого хохота. Но тут же вынуждена была его оборвать, увидев, что шеф не преувеличивал насчёт своего «не могу!» Его «не могу!», видимо, стыдливо зажатое им между ног, вырвалось на волю, вздыбило передок его сатиновых трусов – но уже через миг стало опадать в конвульсиях, изнутри окрашивая чёрный сатин в серовато-студенистый цвет… - А-а-а! О-оо!! – продолжал он блажить, колотясь одновременно и в припадке самопроизвольного выплеска своей дряблой половой энергии, и в припадке бессильной ярости: ведь его брюки висели на кухне, и без них, тем более в таком срамном виде он деваться никуда не мог, а против меня был теперь во всех смыслах безоружен… Странно, но, слушая утробные вопли поверженного ненавистника, я не испытывала никакого торжества: зато в холодной голове сложился ясный план дальнейших моих действий…» …Это, говорю, не самый типичный и не самый «раскалённый» образец той прозы Ляли Белькиной, что составила основу её двух книг, принесших ей сумасшедший успех – но всё же и характерный для её почерка образец. Кстати, особо любопытствующим, тем, кого предыдущие странички, мной процитированные, заинтриговали, могу кое-что сообщить в дополнение. Тем же вечером к героине этого рассказа приходит тот, к кому она благоволит и душой, и телом – спортивный обозреватель, в том же самом органе прессы служащий и тоже страдающий от притеснений тупоумного шефа, - настоящий мужчина, экс- и вице-чемпион по биатлону и многоборью, вдобавок он свободно на нескольких языках пишет, да вот нет ему ходу и возможности для служебного роста. И они вдвоём до утра совершают марафонские забеги и марш-броски по садам Венеры, а, отдыхая меж ними, беседуют о романах Германа Гессе, о баховской «Мессе» и о леоновском «Русском лесе». А заодно окончательно решают, как низвергнуть им вдвоём начальствующего самодура… И в связи с этим скажу ещё об одной важной черте, которой Ляля Белькина наградила многих героинь своей тогдашней новой прозы. Если не каждая, то, по крайней мере, две из трёх этих интеллектуальных Брунгильд в конце концов, что называется, находили своё счастье. Сливались в экстазе любви и страсти с достойными их духовных и физических прелестей избранниками. Надо признать, крепких мужиков удавалось лепить словами моей «сменщице» по жительству в коммуналке на улице Качалова, сильных ребят образы… Тут уж я точно могу предположить, что кое с кем из таких людей Ляле доводилось водить знакомство – хотя бы как журналистке: именно в те годы они начали выходить на первый план жизни. Одни из них становились не просто первыми, но самыми рисковыми из первых кооператоров. Некоторые до статуса олигархов дорастали. Иные – до уровня начальников их охраны. Ну… кое-кто и в откровенный криминал уходил, но тоже не в его пешки. Словом, у них тогда всё было «спереди» и в шутку, и всерьёз, и героини Лялиной прозы могли без всяких колебаний отдавать себя в полное распоряжение этих настоящих мужчин. Колебания – но иного рода – начинались чуть позже и сотрясали всё на метры вокруг сливающихся в любовно-чувственных пиршествах главных действующих лиц в этих повестях и рассказах. Тут-то и достигало своего апогея Лялино искусство изображения эротической эквилибристики! Но – не только оно… В ту ночь, когда я впервые знакомился с будущей первой эротической книгой советских лет, мне не раз вспоминался роскошный ужин, которым угостила меня хозяйка моей бывшей комнаты вечером минувшего дня. И, вчитываясь в те страницы, где бывшие «тёти самых честных правил», ставшие «крутыми» дамами, уже вкушают блаженство любви и даже семейного счастья, я начал понимать – тут тоже далеко не всё «наваждением» подсказано. И потому ещё раз про себя обозвал идиотами и кретинами двух бывших Лялиных мужей: такое редкостное везение! такое уникальное совпадение стольких и столь разных положительных качеств в одной женщине – и псу под хвост кинули, чёрт-те на что променяли! (Но тут же самокритично одёргивал себя: мало кто из нас, мужиков, особенно смолоду, разумно ведёт себя в семейной жизни…) Дело в том, что первая советская мастерица эротической словесности была – в чём я позже, бывая в гостях у Ляли Белькиной и один, и с женой, не раз убеждался с превеликим наслаждением – и мастерицей гастрономическо-кулинарного искусства. Можно сказать так: она действительно могла сварить вкуснейший суп из топора. А уж из куска обычного мяса или из самой простецкой речной рыбёшки вообще могла чудо сотворить, настоящие «именины желудка»! И всеми этими кухонными уменьями она щедро делилась с главными своими героинями, почти каждую из них наделяя мастерством в приготовлении того или иного, а то и многих блюд. И какой только вкуснятины не встречалось на страницах её двух больших книг, завоевавших громадную читательскую аудиторию в нашей стране и далеко за её пределами! Ещё читая далеко не полную рукопись первой из них, я в ту ночь не раз ловил себя вот на какой мысли: «Да, с таким-то питанием можно совершать тринадцатый подвиг Геракла регулярно и качественно каждый день и еженочно!» И с чисто художественно- психологической точки зрения столь обильные, детальные и красочные описания различных трапез, чаще всего в жанре «ужин на двоих», были вполне оправданны. Без них сугубо сексуальные и самые сокровенно-интимные пассажи и сцены были бы вот уж точно «голыми» в обоих смыслах, «повисали» бы. А так – происходила полная гармония во взаимодействии между рассудком, сердцем, желудком и органами внутренней секреции. В самом деле, как было не понять изображённого в одном из этих произведений молодого одинокого мужчину, с детства обожающего рыбные блюда, которому вовсе не нравящаяся ему поначалу сослуживица (просто забежал к ней на пять минут по делу, чуть задержался, да и голоден был… во всех смыслах) предлагает вкусить форель, приготовленную лишь одной ей, хозяйке, известным способом, и он от этой форели приходит в состояние совершенного умиления и уже смотрит на свою коллегу более пристально, и замечает, что она весьма недурна собой, и уже сам напрашивается к ней в гости, и на следующий раз она встречает его уже во всеоружии, угощает сначала налимьей ухой, потом фаршированным судаком, таким, что и лучшие еврейские повара всего мира не смогли бы соперничать с нею в приготовлении этого национального блюда; наконец, его просто в счастливую дрожь кидает от рыбного заливного – оно сразу из нескольких видов обитателей рек и озёр, оно пропитано тончайшими восточными специями… он млеет! И всё это сдабривается пусть и не дорогими, но качественными белыми и красными винами… И вот он, сидя в интимном полумраке, уже светится – и от фосфора, которым, как известно, богата рыба, и от внезапно вспыхнувшего в нём, в его сердце, уме и плоти понимания, что перед ним – самая прекрасная и самая желанная ему в мире женщина! Тут-то искусница рыбных блюд и показывает ему себя ещё более изощрённой искусницей любовных объятий, обжигающих поцелуев и с ума сводящих ласк. Он же, вдохновлённый вкушением своих излюбленных и колдовски приготовленных яств, в свою очередь многократно доказывает своей избраннице, что по гибкости тела он не уступает самым гибким рыбам, а по прыгучести – дельфинам. В общем – парадиз истинный, как говаривали наши предки! Реалистично, правдиво? – по-моему, на мой взгляд не просто читателя, но и умудрённого жизнью мужчины – более, чем реалистично и сверхправдиво… А впрочем, вам самим судить. Если, конечно, вы прочитаете или перечитаете эти две книги Ляли Белькиной… Ясное дело, сегодня они, подобно многим ярким явлениям литературной жизни конца восьмидесятых и начала девяностых, забыты, отодвинуты в тень, накрыты в нашем сознании кроваво-громовой лавиной событий действительности, а из книжного восприятия выбиты тоже нередко кровавой лавиной «чернухи» и «порнухи». Куда там таким книгам против «триллеров» и «секс-боевиков»?! Куда там тягаться даже самым «раскованным» страницам того же «Вируса…» со, скажем, вот этими строками суперавангардной поэтессы, которые несколько лет подряд и страницы прессы собой украшали, и в ночном телеэфире звучали не раз: От Чёрного моря до Балты – где только меня не е… л ты! Лихо?! То-то же! Сравнится ли с такими бурными всплесками некогда непечатной лексики какая-то там «эротическая» проза… …Словом, Лялины героини потчевали своих рыцарей столь роскошным разнообразием яств, что оно вполне могло соперничать с разнообразием любовной акробатики, полыхавшим чувственной радугой на страницах её прозы. Словно бы эти предприимчивые дамы не просто варили, жарили, пекли, тушили, не просто солили, мариновали, делали различные консервированные «закатки» и прочие вкусности, - нет, они стряпали что-то вроде «приворотного» брашна или зелья, они готовили некие волшебно-наркотические блюда и напитки, чтобы накрепко привораживать, примагничивать к себе своих избранников. И – преуспевали в этом! И не раз, и в ту ночь, и потом уже вышедшие Лялины книги читая, вот о чём я задумывался почти всерьёз: что, если моя приятельница напишет и выпустит что-то наподобие поваренной книги. Мне думалось – такая книга будет пользоваться успехом среди покупателей даже сугубо художественных изданий, не говоря уже о тех, кто хотел постичь тайны поварского искусства. Я делился с Белькиной этой идеей, но она, смеясь, лишь отмахивалась: «Да ну тебя! Придумаешь тоже!» Нет, не наделила природа эту вроде бы деловую и прагматическую женщину коммерческой жилкой. Надо признать: она была немножко не от мира сего – как, впрочем, и почти все художественные натуры… Хотя – почему я говорю «была»? – Ляля, слава Богу, жива и поныне, просто мы уже очень давно не виделись, живя вдалеке друг от друга… Однако вскоре выяснилось, что эта идея не мне одному приходила в голову. Вот уж эти-то книги, верней – книжечки и брошюрки – вы, читатели, а особенно читательницы зрелых поколений, просто не можете не помнить, одна из них зовётся «Кулинарные рецепты из книг Ляли Белькиной», а другая ещё проще – «Секреты кухни от Ляли Белькиной». Вышли они в ту пору, когда никому не надо было объяснять, кто такая Ляля Белькина – шло время зенита её славы. А, с другой стороны, именно в ту пору на книжные прилавки попёр безудержный поток различных «самопальных» и просто пиратских изданий. Вот кто-то из тех пиратов-издателей, оставшийся неизвестным, и решил поживиться за счёт писательницы, чьи «Вирус по имени Эрос» и «Свет в конце темницы лона» пользовались тогда бешеной, небывалой, безумной популярностью, вот и сделал он своего рода кулинарные «вытяжки» из этих её художественных творений. И поживились крупно эти сообразительные ребята, очень крупно!.. Если издававшиеся громадными по тем временам тиражами моей приятельницы продавались самодеятельными уже расплодившимися книготорговцами и втридорога, и по более высоким ценам, то очереди желающих купить брошюрки и книжечки с тайнами кухонного мастерства её героинь могли по длине сравниваться даже с очередями за водкой в пору горбачёвской «битвы за трезвость»… Не я один – многие приятели и товарищи по перу предлагали Белькиной наказать распоясавшихся полуподпольных самопальщиков через суд – тогда находить таких пиратов было ещё нетрудно, они сами не особо прятались. «Ты же огромные деньги теряешь!» - увещевали её доброжелатели. Но Ляля опятьтаки лишь отмахивалась: ей казалось мелочным бороться за свои авторские права и с кем-то судиться. Нет, повторяю, эта цепкая и хваткая журналистка, которую многие справедливо звали «акулой пера», в качестве писательницы показала себя женщиной неделовой. Во-многом – не от мира сего. …Но, уверен, лишь мне одному было и остаётся известно, от к а к о г о именно мира, из каких его потусторонних источников она черпала силы и энергию для своей новой прозы. И однако же, зная это всё из первых уст, от неё самой, я не смог бы окончательно и неколебимо увериться в том, что все её новые творения именно ею написаны – пусть даже и с помощью некоего незримого «консультанта» и подсказчика – если б не одно решающее обстоятельство. Если бы большинство главных эротических сцен и сценок, любовно-чувственных поединков и прочих сексуальных пиршеств и ристалищ на страницах её повестей, рассказов и даже одного небольшого романа не происходили бы по её авторской воле в одном и том же помещении. А именно – в бывшей операционной профессора Спасского! Да, в той самой… В той, где мне довелось прожить не самый лучший отрезок моей жизни, где лишь чудо спасло меня от сведения счётов с жизнью. В той огромной комнате, в которой и все мои предшественники по обитанию в ней на себе чувствовали проклятие великого медика. В той комнате, самой последней обитательницей которой стала Ляля Белькина. Вот стены, пол и потолок этого уникального помещения и стали своеобразной рамой, в которую она помещала одну за другой картины самых сокровенных сторон жизни своих героинь. Но как же это возможно? – спросите вы. - Ведь их много, этих столь же интеллектуальных, сколь и могучих по характеру дам, неужто все они в одной и той же комнате жили, неужели писательница каждую из них поселяла в столь единообразные жилищные декорации? Отвечаю: никак нет! Тут-то и вступало в права и в действие яркое Лялино воображение. Ну, многие из её главных героинь действительно начинали свой «путь наверх», живя в комнате коммуналки. Эти коммунальные квартиры в описаниях автора не имели или ничего или почти ничего общего с бывшими владениями профессора Спасского и с их известными вам обитателями. Там было всё поиному… Другие согласно авторскому замыслу поначалу жили в однокомнатных квартирах. Третьи – как правило, разведясь с мужьями (вот тут Белькина кое-какие краски собственно «от себя добавляла») или иные семейные трения, тернии и трудности претерпевая, либо получали комнату в коммуналке после размена, либо вынуждены были снимать таковое жильё. Всё донельзя жизненно… Иным же из главных действующих лиц Лялиной прозы приходилось в такие ситуации со своими возлюбленными попадать, когда не было иного выхода, кроме как забежать к доброму другу или подруге с просьбой… сами понимаете, какой. Наконец, и сами возлюбленные, избранники и рыцари этих дам тоже иногда поселялись автором в коммуналку или однокомнатную квартиру и лишь к финалу действия своим кипучим трудом и прочими подвигами добивались достойного их, просторного и комфортабельного жилья, не говоря уже о машинах и дачах… Так что помещения, в которых происходили самые захватывающие события произведений моей приятельницы, очень, порой разительным образом отличались одно от другого. Но каждому из них воображение автора дарило какие-либо черты облика, интерьера и внутреннего убранства бывшей операционной великого трансплантолога. Тут уж я ошибаться не мог… Но меня просто поразила цепкость Лялиного взгляда, её памятливость на мельчайшие подробности – такие, к примеру, как дощечка в одном из узоров старого паркета: когда она вылетала, распадался весь узор. Я это видел тысячу раз, но моя память этого совершенно не сохранила. В одном рассказе избранник главной героини, живущий в комнате коммуналки, использует в качестве ложа любви гигантский мраморный подоконник старинного окна: вся остальная громадная кубатура помещения забита книгами и техническими новшествами, которые он изобретает. И во время сладостного соития женщина замечает, что на мраморе чья-то варварская рука выцарапала странный узор – два глаза, пониже усы наподобие кошачьих, и всё это окаймлено треугольником. И вся сладость любовного слияния изчезает для неё: ей почему-то жутко и холодно становится от этого изображения… Прочитав эту страницу, я хлопнул себя по лбу: ведь чуть не каждый день мне на глаза попадалось это нелепое «графитти», которое могло быть процарапано на мраморном подоконнике одного из двух окон моей бывшей комнаты только лишь какимто большим и острым металлическим предметом, чем-то вроде штыка или финского ножа. Но даже и после той страшной ночи, когда со стены мне прямо в глаза смотрела лепная морда сатираБегемота, помещённая в треугольник неведомым ваятелем – даже и после неё мне не приходило в голову задуматься над смыслом пакости, нацарапанной на мраморе подоконника… Вот что значит разница меж мужским взглядом и женским! …А в одной из повестей её героиня-рассказчица никак не может достичь высшей точки наслаждения в объятиях своего возлюбленного, хотя он старается изо всех своих немалых сил. И вдруг взгляд её падает на лепных гологрудых нимф, теснящихся вперемешку с купидонами вокруг люстры на потолке, и она замечает, что у одной из этих античных красоток отсутствует одна грудь, причём именно правая – видно, то ли во время бомбёжки лепнина падала, то ли, просто обветшав, отпал кусочек лепного плафона. И женщина чувствует в правой груди непреодолимую боль, и немедленно требует от сжимающего её в объятиях мужчины, чтобы он поцеловал ей эту грудь – да нет! чтобы просто кусил её, крепко сжал зубами сосок! И после этого действия сразу же наступает желанный экстаз! Да-а… думалось мне, когда я читал подобные страницы, даа… много чего, конечно, повидала операционная профессора Спасского за десятилетия после его изгнания из квартиры. Но всё, что происходило в ней наяву, даже и самой бледной тенью того, что в ней происходило на страницах творений Белькиной, не может быть названо… Полагаю, общепитовские непрофессиональные путаны сгорели бы от зависти, узнай они о том, какие игрища и забавы вершатся в самой большой комнате их коммуналки – пусть всего лишь воображаемые, созданные художественным пером их новой соседки. Слово сильней факта!.. …………………………………………………………………………. …Нет, я не пожалел о том, что взял у Ляли Белькиной папку с её новыми творениями. Закрыл эту папку в полной убеждённости, что моя преемница по жительству в коммуналке на улице Качалова – настоящая и по-настоящему талантливая писательница. И в то же время… Как-то жутковато и холодновато мне стало. Вспомнились Лялины слова, сказанные ею минувшим вечером: «Не люблю я что-то этого вашего Булгакова!» А вот же – прочитав её новые повести и рассказы, ощутил, что побывал на балу у Воланда. Тень Мастера лежала на всех этих страницах. И точно помнится: без всякой связи с прочитанным мне почему-то вдруг впервые подумалось той ночью, что ждут нас всех очень недобрые времена. И уж сам от себя совершенно я не ждал, что вслух произнесу те же самые слова, какие когда-то – тоже в печальных думах о грядущем – молвила простая старая русская женщина: «Нечистым духом на нас несёт! Нечистью тут пахнет!» 11. Ночь на Лысой Горе. Кто видел зрелыми глазами события второй половины и конца восьмидесятых лет – тот помнит: они катились, летели и неслись нарастающей лавиной. То, что было запретным ещё вчера, сегодня становилось и возможным, и даже обязательным. И наоборот: осмеянию и анафеме стали предаваться вчерашние ценности и святыни… Не прошло и года, как в одном из первых кооперативных издательств вышла книга Ляли Белькиной «Вирус по имени Эрос». А вскоре, в дополненном виде – ещё в одном. А через год уже и не было в стране такого сколь-либо уважающего себя (и, главным образом, желающего хорошую прибыль получить) издательского дома, который не выпустил бы эту книгу. Она быстро превращалась в солидный, увесистый том – к новым изданиям автором добавлялись всё новые и новые рассказы и повести… Лишь несколько самых консервативных, остававшихся на «партийных позициях» издательств пребывали некоторое время в стороне от этого бума, связанного с именем и творчеством ещё вчера малоизвестной писательницы. Но вот со Старой площади повеяло ещё более «свежими ветрами», но вот прогрессивный генсек, почесав своё знаменитое, похожее на изображение обеих Америк родимое пятно, изрёк несколько ещё более прогрессивных слов – и эти замшелые книгопроизводящие крепости тоже сдались на милость моды и демократии. И в каждом из них (правда, с ведома автора, под разными названиями) вышло по толстому, но изящно и роскошно оформленному тому первой в нашей советской державе эротической прозы. И слетали эти кирпичики с книжных прилавков подобно осенней листве с деревьев под ураганным вихрем! Слава, громовая, невиданная и неслыханная, буквально обрушилась на Лялю Белькину. Года три подряд не было у нас в стране – ну, за микроскопическими исключениями – такого журнала и такой газеты, даже далёких художественности, где почти в каждом номере не появлялось бы её внезапно прославившееся имя – либо какое-то её новое произведение или хотя бы его фрагмент, либо размышления над её прозой, от кратких рецензий до пространных статей. По крайней мере – упоминание, как правило, хлёсткое и эмоциональное… Помнится: аршинными буквами радостный вопль на первой странице столичной «молодёжки», спешно прощавшейся со своим комсомольским прошлым – «В СССР СЕКС ЕСТЬ!!!» Но были и достаточно толковые эссе-раздумья… Однако и крепкие нервы потребовались моей приятельнице пуще прежнего: кусали, облаивали , а то и просто грязью поливали ретивые критики её книгу просто с людоедским сладострастием. До смешного доходило: в одном и том же номере центральной газеты на одной странице – журналистское расследование Ляли Белькиной на жгуче-злободневную тему, а на другой полосе – зубодробительный памфлет под названием «ЖРИЦЫ ЛЮБВИ любят пожрать…» - сами понимаете, над какими мотивами творчества новой литературной звезды критик издевался.Что ж, слава есть слава, ей не только мёд сопутствует – у завистников дёготь вместо крови… Впрочем, фанфары грянули и за рубежом – книги Белькиной в переводах на десятки языков вышли почти во всех европейских странах, и за океаном, и на Востоке. Причём я оказался пророком, хотя, как помните, пророчествовал в шутку: на щит её подняли прежде всего заголовок критики-фрейдисты одного и постфрейдисты. Вот литературно-психоаналитического исследования, напечатанного в Австрии – «Архетип эрогенного подсознания современной русской женщины в прозе Ляли Белькиной», - а, неслабо?! А в общем для краткости можно сказать так: в литературной судьбе моей преемницы по жизни в бывшей операционной произошло всё или почти всё то, что сопутствует поистине бешеному успеху. Волна приглашений на радио и телевидение, просьбы об инсценировках и киносценариях, предложения читать лекции или просто выступать перед студентами в наших и зарубежных вузах. Фурор, одним словом! «…а также фураж, фургон и фуршет!» - язвительно усмехалась моя приятельница, когда я, изредка видясь с ней в те её новые времена, искренне радовался за её фантастические удачи и вместе с тем давал ей кое-какие предостерегающие советы – если, конечно, она сама о том просила. Советы человека, лучше, чем она, знакомого с нравами и психологией литературной среды, «клубка взасос целующихся змей». Но, к её чести и к моему удивлению, она многое видела и понимала сама. «Думаешь, мне в кайф эта шумиха? как бы не так! – говорила она. – Новая сказка о Золушке, только для самой Золушки… Да ято не Золушка и знаю: скоро полночь, и карета станет тыквой. По этой тыкве я и получу… если это всерьёз буду воспринимать, а не как спектакль!» Да, слава, рухнувшая лавиной на Лялю Белькину, не погребла её под собой. Ляля повела себя абсолютно не «по правилам», приличествующим творческому человеку, к которому фортуна повернулась сияющим лицом. Особенно – не по правилам тех «перестроечных» лет. Очень многие пишущие люди, причём даже и добрые приятели и приятельницы новой знаменитости настолько не понимали её, с их точки зрения, странное и просто нелепое поведение, что даже возмущались. Жар-птица на ладонь бабе села, а той даже единое пёрышко лень выдернуть!.. Белькина действительно не сделала ровным счётом ничего, чтобы на костре своего успеха, применив своё кулинарное мастерство, приготовить из этой Жар-птицы аппетитное жаркое – да и впрок, на года вперёд, как делали почти все восходящие литературные звёзды тех лет. Она ничего не сделала для того, чтобы на крыльях своей славы взлететь не только на вершину Парнаса, но и к высям Олимпа, чтобы занять достойное и хлебное местечко в иерархии общества, которое в те годы «перестраивалось» день ото дня всё бесстыднее. И в его «элиту», в «князи» всё чаще поднимались уже не просто из грязи, но – из кровавой грязи. Ляля напрочь не желала эксплуатировать свою славу. В журналы – и то не во все – свои новые рассказы и повести отдавала, но и только. Поначалу появлялась и на телеэкране, и на радиоволнах, а потом стала отказываться. «Осатанели вконец мои соратники-журналюги, - жаловалась мне она, - им вообще до литературы нет дела. Берут у меня интервью, я их и так, и этак направляю, подталкиваю, чтоб хоть немного о моих нетленках поспрашивали – не! «А как вы относитесь к нынешнему этапу перестройки? А что вы думаете о многопартийности! А в каких переменах, на ваш взгляд, нуждается наше общество?» Вот и все их вопросы. Тьфу!» И расплевалась… И даже когда в «Литгазете», которая в те дни, на самом излёте восьмидесятых, окончательно перестала быть литературной, в качестве исключения («всё-таки секстематика, читателей привлечёт!») было решено провести «круглый стол» с участием нескольких пишущих дам, целью которого являлось обсуждение прозы Белькиной, первая советская эротическая писательница закатила скандал главному редактору и потребовала, чтобы он своей властью «зарубил» эту дамскую дискуссию. «Это не стол никакой, - наседала она с несвойственной ей агрессивностью на Теодора Бурлезского, которого «меченый» генсек только что усадил руководить «ЛГ», это бабий трёп в прихожей абортария!».. Вообще-то Лялин гнев можно было понять. Эти пишущие дамы – как сейчас помню их славные имена: Нателла Ивановер, Татьяна Толстоевская и Людмила Потрошидзе – решили сделать «гвоздём» своей дискуссии следующую проблему: можно ли и нужно ли в наши дни вершить любовное соитие на подоконнике – и насколько полезно это будет для судеб нашей нарождающейся демократии?.. Прочитав стенограмму этого «круглого стола», Ляля начертала на ней свою резолюцию: «ВЫ ОБОРЗЕЛИ, БАБЫ!!!», после чего и понеслась к главному редактору. Так и не появилась эта содержательная дискуссия на страницах «форпоста перестройки»… А мне по телефону её несостоявшаяся героиня со вздохом призналась: «Всё более чувствую себя кретинкой!» (…Я же узнав об этом скандале, подумал: времена и впрямь переменяются. Примерно десятью годами ранее на страницах той же «Литгазеты», тогда ещё вполне партийно-советской, хоть и с дозволенными уклонами, наши доблестные и мудрые критики год с лишним вели оживлённую беседу о творчестве одного пиита, который всех тогда изумлял своими эпатажными метафорами. Главной же темой той дискуссии стал следующий исторический и эпохальный вопрос: можно ли пить мочу из черепа своего отца или нет, и как решение этой проблемы отразится на нравственности советского читателя?.. Меня вот уж точно нечистый – а было то как раз в первые дни моего жительства в «проклятой» комнате – дёрнул ввязаться в ту газетную беседу, и я тут же высказался примерно в духе будущего Лялиного всплеска эмоций: мол, вам что, ребята, больше в нашей современной литературе нечего обсуждать, других проблем вы не видите?! И что же? да ничего: мои оппоненты заявили, что я, несмотря на мою относительную молодость, отстал от прогресса и от требований эпохи. Герой этой дискуссии, решив прочно войти в роль обиженного и непонятого гения, прыгнул вниз головой со второго этажа, но не разбился, а рассмеялся, возненавидел меня навеки и до сих пор пишет стихи – правда, уже без метафор и без образов. А дискуссия о моче и черепе длилась ещё год…) Неразумно, очень неразумно вела себя Ляля Белькина по отношению к своей Жар-птице. Времена, как вы помните, шли день ото дня всё раскалённее, всё политизированнее и митинговее. Каждый, кто сколь-либо находился на виду, куда-нибудь и во что-нибудь вступал. (Это уж гораздо позже вступившим в разные «станы» и «лагеря» становилось ясно, что все вступили в одно и то же…). Или, напротив – выходил откуда-нибудь, но отнюдь не по-английски, а так, чтоб все слышали, как громко он хлопает дверью. А уж представители художественного мира просто попёрли во всякие, как грибы в те дни выраставшие и множившиеся «фронты», комитеты, союзы, а потом уже и партии. И – не все, конечно, но кто посмышлённее – неплохие купоны с этого стригли… Белькина же никуда не вступала! Ни к чему и ни к кому не примыкала! Ни к «правым», ни к «левым». Ни к «демократам», ни к их противникам. Она отказывалась от предложений выдвинуться в депутаты, она отвергала призывы выступить за баснословный гонорар на престижном «ток-шоу» в пользу того или иного очередного спасителя Отечества. Она не поддавалась на уговоры покрасоваться в президиуме какого бы то ни было съезда. Ни в какую! (…Помнится такой с ней разговор. «Всё понимаю, - говорила она, - но, видно, доля моя такая: быть той самой кошкой, которая гуляет сама по себе…» И, видя, что я и не думаю с ней спорить или агитировать её, вдруг с грустной интонацией дополнила своё признание: «Вот только б не оказаться такой кошкой, которую бы Бегемот оприходовал!..» «Что с тобой, подруга?! – удивлённо воскликнул я. – Ты же ведь сколько раз мне заявляла, что Булгакова не любишь, а что-то у тебя всё чаще на языке булгаковские реминисценции мелькают!» «Не люблю, даже не то слово – всем моим нутром не приемлю! – твёрдо, даже с каким-то по-женски яростным фанатизмом отвечала мне моя приятельница. – Однако – знаю его насквозь, и силу его жуткую знаю, и страшно всегда боялась под его влияние подпасть… Нет, не то, что ты думаешь, не та «аура», которая в коммуналке нашей, которая от «Собачьего сердца» идёт, и вообще… То – литература, хотя, мо-моему, самое страшное, когда литература в жизнь перерастает, и не поймёшь, где что и где одно, а где другое… Вот, а сейчас повсюду, куда ни глянь – такое смешение: никому уже наша словесность изящная не интересна, все в политику, в митинговщину ушли, а на деле – в сплошную литературщину, да и дурную какую-то. В сплошное «что делать?», «кто виноват?», «куда ты несёшься, Русь?» да ещё вот в это – «Аннушка уже разлила масло», «квартирный вопрос их испортил» и «зрительская масса требует объяснения!» Вот и всё, что на митингах и в газетах нынче громыхает, только другими словами… Литературщина!» - заключила Ляля Белькина. «Ну, подруга, ты и выдала текст!» - восхитился я. «Ты бы всё это в виде статеечки изобразила – любая газета тебе бы золотом заплатила, хоть «Правда», хоть «Московские новости», хоть «Огонёк» имени Коротича…» «Опять ты со своими предложениями», - отмахнулась она, а потом вдруг сразу же перевела беседу на другие рельсы: «А знаешь вообще-то, за что я не люблю Булгакова?» «Ну? Чем он тебе досадил?» «Да тем, что мужик он дерьмовый!» «Что-о-а?» - не поверил я своим ушам. «Уж не хочешь ли ты, сударыня, меня уверить в том, что ты в неких параллельных мирах пересекалась с Михаилом Афанасьевичем именно как с мужчиной? Как бы в компенсацию за то, что не стала супругой профессора Спасского?» «Бог миловал! – засмеялась она. – Хотя, если твоим идеям завиральным верить, то именно он, получается, меня в качестве диктофона использует, надиктовывает мне шедеврики мои… Ох, Чудинцев, если честно, то мне уже давно самой в эту твою «Тень Мастера» верится!.. Но я не о том. Ты лет десять назад в «Комсомолке» не читал мою очеркушку про первую жену Булгакова?» «Что-то припоминаю, - ответил я, морща лоб. – Но как-то уже подзабылось, не серчай». «Ладно, как-нибудь тебе дам почитать… Я тогда в Туапсе дней пять была, передышку себе решила дать… как раз между первым и вторым мужьями моими, не к ночи будь оба помянуты! Вот, и познакомилась случайно с этой старушкой, с Татьяной Николаевной. И почему-то излила ей душу… А она мне в ответ – про себя. То есть – про Булгакова, представляешь!» «И что, крупно нажаловалась на неверного супруга?» «Что ты, вот то-то меня и потрясло, что всё наоборот, никаких жалоб. Она его все годы просто боготворила после их развода… Но – ты сам подумай: они вместе самые страшные годы прожили, когда он сельским врачом был в глуши, во время революции. Помнишь его рассказ «Морфий»? Так ведь это сплошная автобиография, это ведь он о себе, это она его, Татьяна спасала, когда он морфинистом стал, наркоманом… А потом, в гражданскую, все ужасы на Кавказе вместе перенесли, потом в Москве чёрт-те как жили, впроголодь, вплоть до нэпа. Это ведь он при ней, рядом с ней начал писать что-то стоящее…» «А-а, вот сейчас кое-что вспоминается, - прервал я её. – Да, Ляля, это я в твоём очерке тогда только и мог прочесть: они… в какой-то каморке жили, он по ночам «Белую гвардию» писал, у него руки мёрзли, а она, хоть ей утром на службу, ночами не спала, руки ему отогревала, так? А как только фортуна ему начала улыбаться, он стал левака давать, всяких престижных подруг себе искать, а потом и вообще на БелосельскойБелозерской женился… И что, у этой его первой жены всю жизнь из-за этого на него обида в сердце жила?» «Вот ваша мужицкая психология!» - почти гневно и возмущённо рявкнула на меня моя милая собеседница. «Да ничего подобного! Это-то она, умнейшая женщина, вполне могла понять, а, раз понять, значит, и простить: ну, встретил другую, влюбился, натура художественная, а у той другой мало того, что грудь повыше и попа ширше, так ещё и светский блеск, и вообще… из бывших, с дворянским титулом…» «Княгиня Белорусско-Балтийская! так, кажется, её Ильф с Петровым в своём романе прозвали, да?» «Вот-вот! – кивнула она. – За другое Татьяна Николаевна на него не то, чтобы с обидой жила, а… с болью в душе. Ведь он, когда «Белую гвардию» напечатали, в журнале, не помню, в каком…» «В «России», - подсказал я. – Тот номер, кстати, последним оказался: прихлопнули журнал в том же двадцать пятом году… Так и что?» «А то! – голос Ляли уже звенел от возмущения, настолько неподдельного, как будто всё, ею рассказанное, с нею и случилось; и молнии из её глаз, усиленные линзами её новых, дорогих очков, летели прямо в меня, как будто это я был повинен в несчастьях первой жены Булгакова. – А то, что он ей принёс этот журнал в подарок, джентльмен хренов! Она смотрит – а там посвящение этой «Любочке», этой Белорусско-Балтийской княгине! Представляешь: ведь не будь Татьяны с ним рядом, не было бы никакой «Белой гвардии»! И никаких там «акации гроздьев душистых»… А вместо благодарности – посвящение другой жене. И ещё наглость поимел с этим посвящением журнал ей принести: вот мол, смотри, дорогая, я тебя не забыл, я тебе дарю… Ну, не дерьмовый ли мужик?!» Я ответил не сразу, несколько мгновений молча смотрел на мою приятельницу. Нет, не рухнувшая на неё лавина славы внесла в её облик и манеру разговора столь резкие коррективы: несколько лет назад, во время нашего первого с ней дружеского ужина она с таким воодушевлением и с такой жёсткостью изъясняться не могла просто по сущности своей тогдашней. Впервые я увидел теперь на её лице явственную печать того, о чём она сама сказала мне в том давнем разговоре – «Мне своё отстрадать придётся!».. «Знаешь, Лялечка, - тихо сказал я, - тебя я понимаю: ты прониклась судьбой этой женщины, болью её. Но, мне кажется, не нам судить тех людей, и Булгакова, и вообще людей того времени. И тем более осуждать. Не наше это дело… Нам в своих нынешних делах хоть немного разобраться, что в приватных, что в иных-прочих державных…» «Ай, перестань! – проворчала она. – Все вы, мужики, одинаковы, и во все века. Вот и ты готов твоего Мастера оправдывать – а ведь я знаю, что тоже не очень-то его обожаешь. Просто – вы оба мужчины, вот и всё!» «Вот спасибо, подружка! – я от души расхохотался. – Не думал и не гадал я, что доживу до такого: что Михаила Афанасьевича мне в кореша запишут, и что я его мужские грешки буду покрывать… Анекдот прямо!» Мы немного помолчали. Потом я вернул Белькину к началу нашего нынешнего разговора: «Ладно, может, это и хорошо, что ты всех этих политических и общественно-писательских тусовок сторонишься. Каждый спасает свою душу, как может, и потому-то я тебе и говорю: не надо никого осуждать. Тем более ты права для себя хотя бы потому, что ребёнок у тебя, а на его отца надежды никакой… А всё-таки, Ляля, совсем уж начисто тебе не удастся в келье, в затворничестве век отсиживаться. Не те времена… Как-то хоть ты будущее своё просматриваешь? Ведь сама же знаешь – ещё немного, и, похоже, нашему богохранимому государству никакие писатели не нужны будут…» «Угу! – охотно, хоть и не без иронии ответила она, Просматриваю! Ещё как! Но только в одном плане: мужа бы мне хорошего да надёжного, такого, чтоб не только меня любил, но и Полинке смог бы отчимом стать настоящим, а ещё лучше – просто отцом. Вот и весь мой просмотр перспективы… Мне вот такого мужичка, как ты, Чудинцев, только… чтоб не такой зануда был, как ты, а ещё чтоб не писатель. Ну, и , наверное, чтобы поспокойней тебя характером… а то ты, бывает, заспоришь со мной о чём-нибудь, мне аж зябко становится: вот, думаю, сейчас пристукнет!» «Ну и запросы у тебя, Белькина! – искренне возмутился я. – Такой твой гипотетический супруг со мной вообще ровным счётом ничего общего не должен будет иметь!» «Так я ж про что и говорю!» - расхохоталась Ляля. …Вот она, женская логика! …Однако с мужиками в нашей державе становилось год от году всё хуже). Нет, очень неразумно обращалась моя приятельница со своей фантастической славой, очень! Что ж удивляться тому, что постепенно на неё стали махать рукой те, от кого зависели не только выпуск и тиражи книг, и не только судьба литературноиздательской индустрии вообще в стране, но и судьбы самой страны. Те, прямо скажем, людишки, которые сначала штурмовали твердыни власти и рушили их, а потом и сами стали властью. И воцарились везде и всюду – от Кремля и той же Старой площади до всяческих ведомств и департаментов. В том числе и в нашем… Ляля Белькина не посчитала возможным для себя вписываться в новые «тусовки», клубившиеся в хороводах лести и славословий вокруг новых «хозяев жизни». И постепенно её имя стало выпадать из «обоймы» модных и звёздных имён. Но сама она о том нимало не сожалела! Однако, ещё будучи на пике и в зените своей славы, она ещё более неразумно, просто на редкость не по-деловому и непрактично вела себя, что называется, в материальных вопросах. Тут уж многие за голову схватились! Ляля Белькина, став по тем временам действительно очень богатой, по-крупному состоятельной женщиной, не сделала ничего из того, что тогда делали почти все без исключения люди из художественной среды, на головы которых падали большие деньги… Она не приобрела шикарную загородную виллу с личной конюшней. Не вошла со своим паем в число директоров или сопреседателей правлений какого-нибудь банка либо коммерческой фирмы, которые тогда открывались и множились чуть не ежедневно. И, что уж совсем удивительно, не приобрела ни отечественную легковушку, ни иномарку, хотя это в те поры стало делом несложным, были б деньги, а водить она умела неплохо. Но… «Предпочитаю кататься на такси, доверяя свою жизнь профессионалам, а не рисковать ею и, главное, жизнью дочки, доверяясь своему дилетанству» - так объясняла это она сама… Единственным её крупным приобретением стала хорошая квартира: она купила её в могучем доме, тоже на Пресне, с видом из одних окон на Москву-реку, а из других – на белоснежный дворец российского парламента, который именно в те дни получил американский псевдоним – «Белый дом». Она сделала в этой квартире грандиозный ремонт, фактически заново построила ей изнутри, великолепно её меблировала, и долго, в несколько приёмов, созывая в гости то одних своих друзей-приятелей, то других, праздновала новоселье – после чего… продолжала жить по преимуществу всё в той же комнате коммуналки. По крайней мере – там расположила свой компьютер: вот этого-то сверхполезного электронно-технического новшества обладательницей она стала одной из первых среди столичных пишущих людей. А также обзавелась своим адресом электронной почты и прочими прибамбасами, свидетельствующими о её принадлежности к творческой элите. Вот тут она действительно показала себя «продвинутой» - редкий случай в её биографии… И не раз выручала меня моя «упакованная» приятельница, когда мне надо было срочно отправить какое-либо сообщение за рубеж: её факс и «емелька», как звала она свой Е-mail, всегда были к моим услугам… «А мне ещё что-то слышится! Тише и уже не так внятно, как раньше, но всё равно – слышится. Хоть ты-то можешь меня понять: я должна весь этот бред до конца услышать и обработать!» - так объясняла мне Ляля невозможность для себя расстаться с бывшей операционной булгаковского героя… Я не мог ей не верить, хотя… чем больше лет проходило после того, как я перестал в «проклятой» комнате ощущать силы проклятия, тем нереальней, мифичней и призрачней для меня становилось всё то, что я звал в своей жизни Тенью Мастера. Можно сказать – чем-то не существовавшим становилось. …И, как ни странно, может быть, именно потому, что вся окружающая действительность день ото дня всё более напоминала о нарастающей власти «мессира»… А вот зарубежными приглашениями Белькина пользовалась не очень часто и охотно. Объясняла это без всякого наигрыша: «С дочкой ездить трудно, а оставлять её тёткам (Ляля давно уже была сиротой, обходилась без бабушек) надолго – душа всё время трепыхается: как там Полинка без меня?» Впрочем, в дни своей самой бешеной популярности много где побывала, - почти отовсюду привозила груды книг, множество всяких экзотических вещиц, коими щедро одаривала своих друзей-приятелей; но привозила также почти отовсюду и дипломы различных премий, и договоры на издания своих книг… Однако, получая и гранты, и приглашения поработать за рубежом, никуда надолго уезжать не горела желанием. Примеру тех же Татьяны Толстоевской и Нателлы Ивановер, коптивших не6еса над заокеанскими университетами до тех пор, пока ректоры этих вузов не выпроваживали их чуть не силком, - их примеру звезда нашей эротической прозы следовать не собиралась… Иногда плакалась мне в жилетку: «Там всё хорошо и гладко, но тоска зелёная, а здесь, в родных пенатах, такой бардак, что и тошно, и страшно, куда деваться, скажи, дружок, а? И, главное, никуда не хочу я деваться: здесь хоть кто-то читать будет, а там мы вообще никому не интересны – ну, сами по себе, по сути, я же вижу: пока нас ещё поглаживают по головке да воспринимают как каких-то зверей диковинных, а скоро и это пройдёт…» Лишь однажды ( и то, по-моему, это лишь задним числом мне вспомнилось гораздо позже ), вернувшись из Канады, она удивила не только оживлённостью всего меня её какой-то необычно облика, небывалым улыбчивой для неё искромётным блеском глаз. Говорила, что встретила в стране Кленового Листа целую, по её выражению, «толпу своих читателей», и русских, и белорусов, и украинцев, причём все они уже тамошние аборигены, дети, внуки, а то и правнуки наших эмигрантов, но – хранят и веру свою, и язык, и тягу к родной словесности… Я про себя хмыкнул скептически, - мне как-то трудно было представить себе канадского «старого русского», законсервировавшего в себе обычаи и нравственность россиян девятнадцатого века (мне таких не раз доводилось видать) – и взасос читающего эксцентрическую прозу Ляли. Впрочем, подумал я, чего не бывает… И всё же по общему мнению Белькина капиталы свои не берегла и преумножить их не старалась. Она, к примеру, за свои деньги заказала капитальный ремонт в подмосковном детском доме, который находился неподалёку от дачи Доры Мироновны и её отставного адмирала. Из развалюхи сделала особняк для детишек. Хотя, как выяснилось через несколько лет, эти её благотворительные усилия пошли прахом: детей районная администрация из особняка выселила, и туда вселился некий «сервис-центр» по оказанию услуг состоятельным отдыхающим. Каких услуг – я не стал выяснять… Ляля в буквальном смысле помогла подняться на ноги этой пожилой паре – старому морскому офицеру и нашей бывшей соседке: стариков подкосила гайдаровская «либерализация цен», их немалые сбережения превратились в копейки, и друг за другом они угодили в больницу с инсультами. Моя приятельница истратила кучу денег на их лечение, и они ожили, - после чего решили продать адмиральскую квартиру и завершать свой век на даче. Но Ляля не позволила им этого делать, вселила в ту квартиру надёжных съёмщиков-иностранцев, своих добрых знакомцев, и пожилая чета была таким образом спасена и от нищеты, и от потери городского жилья. К тому же Ляля и дачу им преобразила, нашпиговав её всеми городскими удобствами… А ещё раньше она взяла на себя все похоронные расходы, когда в мир иной отошла девяностолетняя Петровна. Больше, как выяснилось, некому было позаботиться о последних проводах бывшей прислуги профессора Спасского. И об ограде, и о надгробии… А потом то же самое повторилось с похоронами старухи, которую все звали не по имени-отчеству, а – любовницей Берия. Наконец, Ляля взяла под свою опеку старшую из двух соседок, трудившихся прежде в советском общепите (о младшей заботиться уже не было надобности, она пребывала в устойчивом замужестве и забыла напрочь о своём бурном прошлом). Эту постаревшую, утратившую свои былые прелести и очень одинокую даму хотели облапошить «фирмачи», расселявшие жильцов моего бывшего дома по новым квартирам. Они хотели загнать несообразительную жиличку в каморку «хрущобы», да ещё и в таком доме, откуда тогда был только один путь – на улицу. Белькина мобилизовала свои журналистские связи, добралась до префекта округа и, по её словам, «имела его в непродолжительном, но результативном разговоре». В результате бывшей общепитовской труженице можно уже было въезжать в отдельную квартирку – правда, тоже крохотную, тоже «хрущобку», и невероятно далеко от центра, где жили все её родичи и знакомые и где она могла найти «хоть какую-нибудь работёнку», чтоб не прозябать на мизерной пенсии… И вот тутто Ляля в очередной раз потрясла меня своей способностью к поступкам настолько добрым, что они могли казаться просто нелепыми. Она нашла каких-то не то маклеров, не то «риэлторов» или «дилеров» (плохо разбираюсь в значениях этих неологизмов на нынешнем русском языке, точно одно помню – не киллеров), они провели какие-то посреднические операции, моя приятельница вложила в них свои немалые средства – и вскоре бывшая наша соседка и бывшая любвеобильная общепитовская гетера стала хозяйкой уютной квартиры в самом центре, неподалёку от нашего прежнего дома, да и с обширным холлом, и с большой кухней… Зачем всё это надо было Ляле Белькиной? Кто были для неё все эти люди? – ведь всего лишь соседки по коммунальному бытию, да и, прямо скажем, люди не с самыми приятными характерами, женщины не самых высоких нравственных качеств. Но они для неё были – люди. Человеки. Которых нельзя растаптывать «р-революционными реформами», которых нельзя выбрасывать на улицу, которых нельзя зарывать куда и как попало, словно собак, когда они завершают земной путь. Может, и права была Петровна: родись Ляля Белькина где-то в конце девятнадцатого века – стала бы достойной спутницей жизни могучего профессора Спасского… …Но ещё раньше произошло событие, которое можно считать настоящей, истинной точкой моего повествования, а не его пунктуациональным финальным знаком. Понимаю: на предыдущих страницах вы встретили немало историй, которые могли вам показаться маловероятными. Но, если вы им поверили, то поверьте и этой, последней. …Я знал, что Лялина дочка стала прихварывать, что по временам её мучают приступы почти астматического кашля. И, после большого перерыва в нашем общении вновь услыхав в телефонной трубке голос моей приятельницы, сразу же спросил её, как здоровье Полинки. «Да вроде лучше, - ответила она мне, - мы недели три с ней на Алтае жили. Вот где жить надо: через два дня у неё там кашель прошёл… А у меня к тебе просьба, но… такая, что… словом, я прошу тебя не удивляться. Можешь звать меня хоть святошей, хоть как, но не отказывай!» «Ляль, к чему эти слова, ты же знаешь – что я могу для тебя, то сделаю». «Попроси батюшку этого… отца Дмитрия, чтобы он пришёл и окрестил Полинку. Пока она здорова…» Я не стал спрашивать её, почему она не хочет, чтобы её дочь прошла обряд крещения в церкви – значит, по-прежнему не могла преодолеть свой личный «материализм». Спросил только, куда прийти – на новую квартиру или в коммуналку. «В новой у меня сейчас табор – мои приятели из Канады, сразу две семьи индейцев-сиу, представляешь! Они тут наших цыганских артистов своим танцам-песням обучают, я их поселила на время своего отсутствия, они ещё только через неделю уедут. Поэтому мы здесь, на Качалова…» «И что, получается цыган у них обучать?» «Получается… что-то между «семь-сорок» и гопаком! Так попросишь отца Дмитрия, а? Пойми, чувствую – необходимо! Впервые это понимаю…» …Старый добрый пастырь, православный поэт-священник, отец Дмитрий Дудко уже давно духовно окормлял литераторов, ставших или становивших православными, и неплохо знал писательскую среду. Знал он и Лялю Белькину. И, конечно же, был, мягко говоря, не в восторге от её произведений. Но, прошедший и лагеря, и тюрьмы, он никого не осуждал – и потому откликнулся на мою просьбу, коммунальную квартиру булгаковского профессора где и пришёл когда-то Преображенского. в ту жил И самую прототип вместе с молодым служкой свершил обряд крещения над дочкой Ляли. Однако перед этим он окропил святой водой бывшую операционную профессора Спасского. …Примерно через месяц я снова встретился с Лялей, и она мне сказала, что больше не слышит никаких «голосов». Тень Мастера прекратила своё существование, и в коммунальной квартире на улице имени великого артиста, которая как раз в те дни вновь стала Малой Никитской, и в судьбе первой советской эротической писательницы . «А как же ты теперь пишешь?» - спросил я Лялю. «А никак! – отрезала она. – И, наверное, не буду больше. И не надо об этом, прошу тебя! Ты мне лучше вот что подскажи: у меня новая книга должна выйти, а названия для неё не могу найти, есть одно, но, как говорится, зело препохабельное… Знаешь, что-то, наверное, со мной стряслось после того, как Полинку крестили. Не хочется мне даже и думать об этом своём… так называемом творчестве. Но издателя-то подводить не хочу. Да и деньги уже получила. Подскажи, а?» «А какое у тебя было-то название?» «В темнице лона моего», говорю тебе, препохабное. Так там одна повестушка называется…» «Ох, не знаю, подруга, ничего мне в голову не приходит… Ошарашила ты меня этой новостью! Неужели и впрямь в этой – «нашей с тобой» - комнатухе никаких наваждений, никаких нечистых сил больше не будет водиться?!» «Одно могу тебе сказать, - вздохнула Ляля, - у меня такое ощущение, словно… свет какой-то у меня впереди забрезжил. Полина не кашляет. Ты же знаешь, что она для меня значит…» «Вот и назови – «Свет в конце туннеля», - нежданно вырвалось у меня. – А что, железное, нержавеющее названьице! А то мне как-то, при всём напряге моего воображения, очень трудно представить свет в темнице твоего лона, эротическая ты моя!» «Иди, пасись! Не буди во мне зверя, а то я, женщина беззащитная, тебя сейчас соблазнять буду! Завари-ка лучше чаю своего, а, дружочек…» …И всё-таки не зря Ляля Белькина славилась своей настырностью. Справедливо упрекая меня в занудстве, она сама была – по крайней мере, тогда – большой занудой. Она всё-таки сделала по-своему: создала «гибрид» из своего прежнего и предложенного мной названий. Потому-то её новая – и последняя – книга озаглавлена была хоть и броско, но по-моему, несколько громоздко: «Свет в конце темницы лона», Ох, грехи наши тяжкие… …………………………………………………………………………. «Ты жив?! Ты – живой?! Ну, слава Богу!» …Этот крик Ляли Белькиной в телефонной трубке я услыхал примерно через месяца полтора после страшных и кровавых событий на Красной Пресне в октябре 93-го года. «Жив, Ляля, жив! Живее всех живых! А ты откуда звонишь? У тебя телефон молчит мёртво, и никто не знает, куда ты подевалась..» «Не удивляйся – я из Канады звоню, из Онтарио. А тебя я утром четвёртого октября в бинокль разглядела у Белого дома из своего окна. Ошибиться не могла – это ты был. Перед самым штурмом… Вот и не знала, жив ты или нет. Слава Богу!» …Ляля солнечным октябрьским днём поехала навестить «адмиральскую» дачу, привезла туда продукты – и вернулась тем же вечером, чтобы взять дочку и увезти её под опеку бывшей соседки и её мужа, оклемавшихся после своих тяжких хворей. Живя в доме рядом с Российским Домом Советов, с Белым домом, она видела всё, происходившее в те дни: и разгон демонстраций, и блокаду здания парламента, и «спираль Бруно» вокруг него, и строящиеся баррикады. Понимала – надо увозить дочку подальше от возможной бойни. Но опоздала – утром начался обстрел и штурм. Она смотрела сквозь стёкла полевого бинокля, доставшегося ей от отца-офицера, на людей, готовых к гибели. Потом грянули танковые залпы. К Ляле подошла дочка, очень расстроенная тем, что уже неделю не ходит в школу, и схватила её за руку: «Мамочка, страшно, отойди от окна!» А в следующее мгновение сразу несколько пуль пробили стёкла окна, у которого стояли мать и дочь. Одна пуля просадила нежное тело девочки… …Полинку удалось спасти, рана оказалась не опасной. Но, как только девочка вновь обрела возможность передвигаться, Ляля воспользовалась приглашением своих друзей из Канады. «Конечно, когда-нибудь вернусь! – кричала мне из-за океана по телефону моя приятельница. – Но сейчас я знаю одно: моему ребёнку надо пожить подальше, как можно дальше от того места, где её чуть не убили! Ты ведь меня не осуждаешь?» «Когда я тебя осуждал, подруга?!» «Ты действительно один из, может быть, двух-трёх людей, кто меня никогда не осуждал, кто мне ни в чём не завидовал, кто меня (пусть и по воле судьбы, но это неважно) всегда и во всём понимал. А, может, и единственный. И потому я тебе всё это первому сообщаю…» Это – из письма Ляли Белькиной, которое я получил от неё годом позже. Она написала, что вышла замуж – за одного из тех самых «старых русских». Она говорила мне в письме, что впервые в жизни полюбила по-настоящему. Думаю, что это действительно так: Ляля в последующие годы родила от своего возлюбленного мужа троих детей – двойняшек-мальчиков и ещё одну дочурку. Ляля со своим мужем-фермером и детьми живёт в огромном сельском доме, который очень похож внешне (она присылала мне снимки) на могучую северную избу прежних времён, - с верхним «теремом», с «гульбищами», весь в узорочье резьбы. Есть в нём даже и русская печь… Но есть и всё то, что зовётся «цивилизацией». Лялин муж, хоть и старообрядец, но человек понимающий, в каком он веке живёт… А вокруг – пейзажи, которые, по словам Ляли, уже и в России-то трудно увидеть, настолько они девственны, классичны, «тургеневским духом дышат». А в посёлке, что за две мили от их дома – русская деревянная церковь, православный храм старого обряда. Но, что удивительно, захаживают туда местные индейцы: им очень по душе русские церковные распевы… А ещё – школа, в которой Ляля учит детей. Учит быть русскими по душе, по языку и по вере… Понимаю – матери четверых детей, один из которых ещё совсем кроха, не до литературного творчества. И всё-таки, радуясь за сегодняшнюю жизнь Ляли Белькиной, жалею, что она не пишет больше ни рассказы, ни повести. Надеюсь, что это временно. Потому что она – настоящая писательница. Вне зависимости от всяких «наваждений»… А в том доме на Малой Никитской улице, где я когда-то жил в коммунальной квартире и где после меня жила Ляля Белькина – больше никто не живёт. Даже клопы и тараканы, терзавшие когда-то жильцов. Донельзя преображённый, сверкающий, этот дом теперь стал зданием банка. Разумеется, очень престижного и очень надёжного. Там теперь не живут. Там делают деньги. Там нет жизни. Вот и всё… 12.Последняя встреча. И последнее. Это повествование было уже завершено, и точка в нём поставлена. Однако буквально на днях произошло событие, нежданно напомнившее мне о самой первой встрече с Тенью Мастера. Мой приятель-художник пригласил меня на открытие своей выставки, которая состоялась в одном из стариннейших, великолепных и недавно отреставрированных дворцов на Пречистенке. После открытия и, естественно, после обязательного в таких случаях фуршета я вышел на улицу, которая ещё недавно звалась Кропоткинской. Наверное, дух великого анархиста, недаром же бывшего потомком древнего княжеского рода, всё ещё бунтует на этой белоколонной улице, где когда-то обитала высшая дворянская знать, всё ещё будоражит прохожих, вселяя кое в кого из них жажду вольности и толкая их на непредвиденные поступки. Вот, видимо, и меня он коснулся: я пошагал почему-то не в сторону бульваров, не к ближайшему метро, а совершенно в противоположном направлении. Что называется, ноги сами понесли меня, а куда и зачем – сие и самому мне оставалось неведомым. Просто шёл, ни о чём таком особо серьёзном не думая, шёл, да и всё тут. Редко бывают у меня такие минуты в Москве… И вдруг взгляд мой упал на большую, судя по всему, недавно установленную, красивую табличку на стене углового дома. Это была даже, скорее , памятная доска, а не табличка: узорчатый шрифт гравировки сообщал название переулка, который здесь начинался и вёл от Пречистенки к Остоженке, а также объясняла эта гравировка, почему переулок так назван. Я вздрогнул: это был тот самый переулочек, в котором когдато мне впервые в жизни довелось стать хоть и кратковременным, но всё же столичным жителем. Именно в этом переулочке отставная актриса, бывшая пассия моего учителя словесности, дала мне приют в полуподвале своего частного владения. Именно в том её особнячке мне встретился огромный раскормленный кот, который был подарен хозяйке её подругой, последней женой Михаила Булгакова; он-то, со всей неизбежностью своей личной кошачьей судьбы и судеб русской литературы получивший кличку Бегемот, и сыграл роковую роль в судьбе юного парнишки из древнего Талабска… А вздрогнул я оттого, что до меня вдруг дошло: ведь в этом переулке мне с тех пор бывать не доводилось! Ровно сорок лет – это ж надо! – говорил я про себя, глядя на доску с названием и протирая глаза. И ведь из этих сорока лет более половины именно в Москве я и прожил, а вот же – ни разу здесь не был. Вокруг – на Остоженке, на Пречистенке – многократно, а здесь – никогда! И ведь не потому, что какие-то тяжкие воспоминания сюда не пускали или просто инстинктивно избегал тут появляться – нет, какое там! – бывали годы, когда мне не вспоминались ни тот особнячок, ни его обитатели, не до того было. А просто – никаких тут дел не находилось, никакие мои друзья-приятели не жили здесь, вот и всё… Что странного: в каменно-бетонно-асфальтовой вселенной по имени Москва есть множество других переулков, улиц и даже проспектов, по которым я никогда не ходил и ни разу не проезжал, а теперь уж, видно, и не придётся. И всё равно – удивился. И пошёл по этому переулку. Особнячок, в котором некогда жили Адель Харитоновна и её оставшийся для меня безымянным супруг, я узнал сразу. Быть может, потому, что судьба у этого домика оказалась гораздо более удачной, чем у некоторых других старых строений этого переулка. Справа от жилища отставной актрисы, помнится, стояли два очень красивых дома, один – «ампирный», другой – теремок в псевдорусском стиле, а теперь их не было, на их месте высилась башня явно брежневской поры, в четырнадцать этажей. А стоявший слева неузнаваемости: особняк одетый в был перестроен бетон, просто до превратившийся в «среднесоветское» чиновное здание, он лишился всего своего очарования… Особнячку же, ставшему когда-то моим первым московским жильём, повезло – он остался цел и невредим. Конечно, веяния новых времён и его коснулись: чувствовалось, что изнутри он переделан начисто, крыша его сверкала тем же серебристым отливом, что и большинство «новорусских» крыш в нынешней столице, в окнах, чьи рамы прежде имели по нескольку створок и закрывались ставнями, теперь сияли стеклопакеты, не было и прежнего, высокого каменного крыльца с деревянной крышей и столбиками колонн – его заменило нечто помпезно- ультрамодное, со ступеньками, покрытыми ковровой дорожкой. Заметил я и отсутствие даже намёка на существование полуподвала в этом доме: он был как бы замурован теперь вместе со своими окошечками и вместе с тем ступенчатым спуском в него со двора, возле которого я когда-то смертельно оскорбил Бегемота, поддев его ногой. Потому что и уровень самого двора стал выше примерно на полметра, его почву облицовывала голландская керамическая плитка, похожая на старинный паркет, и уже не росло во дворике ни деревьев, ни сиреней – на плитках стояли кадки с пальмами и ещё с какими-то экзотическими растениями. В общем, всё то же, что мы можем видеть в наши «коммерческие» дни на подступах к любому деловому зданию, как маленькому, так и большому… И всё-таки – это был тот же самый особнячок, он, слава Богу, сохранил главные черты своей стародавней прелести. Вот и три полуколонны на фасаде, вот и барельеф с дворянским родовым гербом, два скрещённых меча, лавровые листья, инициалы… Всё это я не разглядел бы, находись особнячок за прежним, высоким дощатым забором. Но тот забор давно исчез, и я стоял у строгой, но лёгкой и даже довольно изящной металлической ограды. В ней, как и положено ныне, находилась калитка с «телеглазом», домофоном и звонком. Я нажал на кнопку звонка. …Сам не понимаю и не помню – что я хотел узнать, войдя в этот двор памятного мне особнячка. Путаные мысли и желания роились тогда во мне… Одно-то желание было определённым: хотелось взглянуть поближе на барельеф с гербом, разглядеть буквы инициалов. Тогда я получил бы возможность – с помощью знатоков геральдики да с помощью «Бархатной Книги» - узнать «родословную» этого дома, выяснить, представители какой дворянской фамилии, запечатлевшие свой герб на его фасаде, были его первыми владельцами, а, может, заодно узнать, принадлежала ли к этой фамилии жившая здесь когда-то эксактриса – или особняк ей во владение каким-то другим путём достался… Но, конечно, не только это влекло меня во дворик старинного, хоть и обновлённого москворецкого особнячка – но что? – я и сам в те минуты точно не мог определить словами. Ну, из чистого любопытства хотелось узнать, что же теперь, какое учреждение помещается в этом доме – деловое, коммерческое, иное? ведь ни самый маленький банк, ни посольство самой микроскопической страны в таком небольшом строении помещаться не могут, а на ограде и на стенах – никакой вывески, так что же тут нынче? А в общем – меня просто влекло хоть немного побыть в этом дворике, рядом с домом, ставшем одной из первых важных вех моей судьбы. Но, когда я нажал на кнопку звонка, «телеглаз» не загорелся, в домофоне не раздалось: «Кто, по какому вопросу?» Зато из двери особняка мгновенно выскочил высокий и крепко сбитый молодой человек, одетый в тёмно-серую униформу, похожую на милицейскую – такую теперь носят охранники почти всех солидных фирм и учреждений ( в тех, что рангом пониже и силой пожиже, эти ребята облачаются в камуфляжную «зелёнку»). Он в один прыжок соскочил с крыльца и через миг уже стоял с той стороны калитки, держа в руке «демократизатор», дубинку новейшего типа, которой можно не просто бить – она снабжена ещё и «шокером», электроразрядником, способным на расстоянии поражать человека током… Бросив на меня короткий профессиональный взгляд и, разумеется, сразу же убедившись по моему «не-фирменному» виду, что я не принадлежу к той или иной деловой элите, этот парень с весёлой нагловатой небрежностью гаркнул: «Ну, чё те надо, дед?!» …Видит Бог – я не обиделся! Никогда не обижаюсь, если незнакомые молодые люди, обращаясь ко мне, зовут меня дедом. На что обижаться-то?.. Было дело – когда-то, в уже давние времена, долго не мог притерпеться к тому, что стал слышать в свой адрес «эй, отец!» или «как житуха, батя?!» Но теперь-то, когда уже два внука у меня растут, обижаться на молодого парня, который кличет дедом действительно очень не молодого человека – просто грешно! Я не обиделся. Со мной произошло в тот миг другое. Меня словно молния пробила. Молния горестного озарения. Молния, в свете которой человек видит то, что он и так должен бы понимать – да и умом-то вроде бы понял уже, однако сердцем, душой, сущностью своей человеческой ещё не ощутил этого… Как же т а к ! - хотелось закричать мне. Как же так, ребята?! Ведь я стою на том же самом месте, где стоял юнцом, ведь это было, можно сказать, ещё вчера, я же всё помню до мельчайших подробностей, ведь я такой же… ну, почти такой же, почти тот же самый, каким был тогда… Как же так, сестричкибратишки, господа-товарищи, как же так, девушки-подружки?! Ведь нет почти никакой разницы между мной нынешним и между тем пареньком, который вот в этом дворике так лихо поддел ногой хозяйского кота и подкинул его, словно футбольный мяч! Так про что вы? ах, сорок лет прошло, ну и что? ведь я-то тот же самый… Так почему вы меня зовёте , словно какого-то ветхого старика – дедом? …Жизнь, да неужели ты прошла-а-а?!!! …Я почувствовал, что мои глаза стали влажными. Надо отдать должное тому парню-охраннику: он понял по моему лицу, что со мной творится что-то неладное. И, опустив дубинку, спросил меня уже с участливостью в голосе: «Что с вами?» И добавил слово, по его разумению (и вполне справедливому) приличествовавшее этому тону «…товарищ». Я стал путанно, сбивчиво, волнуясь и перескакивая с одной мысли на другую, объяснять ему причину своего появления у этого дома. Вот… жил тут когда-то, мальчишкой, много воспоминаний у меня с этим домом связано… сорок лет тут не был, хотелось бы взглянуть на эти стены поближе, а ещё… может, вы или ещё кто-то из работающих в курсе, когда умерли те хозяева этого особняка, где похоронены, кто этот дом унаследовал, или, может быть, вы знаете каких-нибудь старожилов , которые сведущи в истории этого дома и помнят тех его владельцев, при которых мне тут жить довелось… Молодой охранник, выслушав мои объяснения, вздохнул, покачал головой и сказал: «Не, я вам тут ничем помочь не смогу, я здесь без году неделя как работаю, да и в Москве недавно живу… А вот напарник мой – он, да, он в этом переулке и родился, и вырос, всех тут знает, кто с прежних времён ещё жив остался. Ща, мы его нарисуем!» И, немного отойдя от калитки к дому, парень своим зычным, без всякого сомнения армейской службой поставленным голосом позвал своего напарника. И первое произнесённое им слово этого зова снова ударило меня подобно молнии: « Б е г е м о т !» …Если б этот охранник мог в тот миг видеть моё лицо, он, полагаю, решил бы, что тот, кого он назвал, «дедом», близок к обмороку. Я и впрямь остолбенел, услышав это слово! Я ушам своим не верил… Но парень в униформе повторил ещё громче: «Бегемот! Вали сюда! Дело есть!» Ещё издалека увидав того, кого этот парень назвал Бегемотом, я понял, что, в отличие от своего напарника, этот охранник быстротой движений не отличается. Его огромная туша не просто вышла – выплыла из дверей. Медленно, лениво, вразвалку он двинулся вниз по ступеням крыльца. И, когда я смог разглядеть его приближающийся облик, меня вначале кинуло в жар, а потом в ледяной – потусторонний! – холод. Это был о н ! Это был именно Бегемот! Тот самый… … Нет, разумеется, ко мне двигался человек. Достаточно ещё молодой, хотя и постарше первого, охранник. И он тоже держал в руке «демократизатор»… Однако я тоже не мог ошибаться: всё в нём, буквально всё было знакомо. С тех самых дней знакомо, когда я жил в полуподвале этого особнячка. И ещё не раз в самых разных вариациях появлялось передо мной за многие годы моей жизни это существо. Таких нередко зовут «качками». Но у качков их чудовищно громадные мускулы играют и перекатываются даже под свободно сидящей на них одеждой. А этот… он был громаден, но всё в нём уже оплыло жиром. Можно сказать так: ко мне лениво и медленно двигался боров с кошачьей головой и с физиономией кота. Но отчасти – с физиономией сатира. И он тоже смотрел на меня так, как смотрят только на давно знакомых людей. И я увидел его сверкающие сатанинским счастьем зеленоваторыжие глаза. И топорщились его усы, и двигались острые уши, казавшиеся маленькими на его огромной, круглой, коротко стриженой голове. И он скалился, глядя на меня, он всё сильнее оскаливался, и его оскал сверкал счастьем – счастьем свершившейся мести. «Что-о-а?! Жизнь прошла?!» - блеяли и мяукали его рыжезеленоватые треугольные глазищи. И мне не привиделись – нет! мне увиделись два его огромных острых клыка. И мне показалось – вот тут уж точно показалось – что он движется ко мне в треугольном сверкающем ореоле… Но он остановился шагах в двух от меня и вопросительно глянул на своего более молодого напарника. «Тебе… типа… чё надо? О чём базар?» Молодой охранник начал было объяснять Бегемоту, почему я здесь появился и чем Бегемот может быть мне полезен. Но я прервал его, поблагодарив за участие. Кивнул ему, пробормотал что-то вроде «извините, некогда, в следующий раз» - и пошёл прочь от этого особняка. Я уже не в том возрасте, когда можно позволить себе вновь испытывать судьбу. С Воландом шутки плохи… 2003, Москва - Псков.